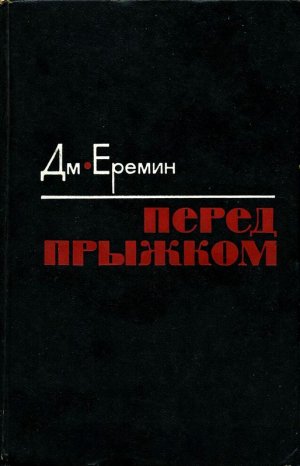
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
— Тупицы!
Но в этом коротком слове было столько разящей силы, оно прозвучало так хлестко, что чуткий к душевному состоянию Ленина Феликс Эдмундович сразу внутренне подобрался, с горечью и досадой подумал, что вот опять какой-то «самовлюбленный Нарцисс» (так в подобных случаях выражается Ленин) вывел Владимира Ильича из равновесия. Для него, взявшего прежде всего на себя тяжесть борьбы с оппозиционными группировками перед Десятым партийным съездом, донельзя уставшего за эту зиму, занятого множеством неотложных дел, такие встряски не проходят даром. Не удивительно, — жестковато подумал Дзержинский, — что в такие минуты Ильич посылает в разные адреса записки с гневными распоряжениями: «Расследовать… Строго наказать… Исполнение доложить немедленно!» Нечто такое пошлет, наверное, и теперь.
Между тем, легко поднявшись со своего рабочего полукресла, Владимир Ильич резким, как бы отталкивающим движением руки указал на лежавшие перед ним бумаги:
— Вот полюбуйтесь!
И хорошо знакомым Дзержинскому по таким минутам глуховато звенящим голосом сказал:
— Кажется, дискуссии в печати и на собраниях должны были ясно показать нашим профсоюзным «рабочелюбцам» вздорность и вредность подмены руководящей роли партии властью «производителей» на местах. Так нет же!
Почти сорвав со стола одну из бумаг, он протянул ее Дзержинскому:
— Прочтите-ка это любопытнейшее и архивздорное художество очередных сторонников «рабочелюбивой» оппозиции Шляпникова…
То, что Дзержинский прочитал в злополучной бумаге, и не могло вызвать иных чувств, кроме раздражения.
Совсем недавно в его присутствии, — он это помнил хорошо, — Совет Труда и Обороны принял по предложению Ленина решение об отправке на несколько месяцев в Сибирь специального эшелона рабочих подмосковного завода сельскохозяйственных машин, который на четвертом году революции все еще принадлежал «Международной компании жатвенных машин в России» американских миллионеров Мак-Кормиков. Рабочие отремонтируют там в крестьянских хозяйствах сельхозинвентарь, помогут убрать урожай, а заработанный таким образом хлеб отправят в Москву.
Москва голодала не первый год. Не лучше было и в других промышленных центрах России. Над только что освобожденным от белых югом и над западом страны все еще нависала как туча угроза войны. Используя лживый предлог о якобы нежелании большевиков пойти на справедливый раздел имущества, которое при царизме принадлежало совместно Польше и России и которое теперь, когда Польша получила государственную самостоятельность, подлежит разделу, — главари Антанты всячески убеждали воинственного пана Пилсудского решить этот вопрос, при их поддержке силой, путем войны.
Значит, надежд получить украинский или кубанский хлеб в необходимом количестве — пока не было. Поволжье год за годом выедала засуха. Самой хлебной оставалась Западная Сибирь. Даже теперь в ее плодородных краях запасов хлеба еще немало: там он годами скапливался необмолоченным в хорошо укрытых кладях. Конечно, зерно в них не первой свежести, но все же…
И если специальный эшелон рабочих послать туда, скажем, в мае — июне, да еще выговорить у американской администрации завода вагона два запасных частей к жаткам и молотилкам, тогда за июнь и начало июля рабочие успеют до жатвы наладить ремонт машин, обмолотить хлеб, который сохранился в кладях, потом убрать урожай. Не менее важно здесь и другое: установление непосредственной трудовой смычки рабочих центра с сибирским крестьянством…
После всестороннего изучения вопроса и было вынесено правительственное решение об отправке рабочих завода Мак-Кормиков в помощь сибирским крестьянам. В свою очередь, Президиум Всероссийского Совета Народного Хозяйства направил подробно обоснованное предложение в ЦК профсоюза металлистов, а копию — заводскому комитету.
И вот теперь, в ответ на эти решения, пришло откровенно шкурническое, полуграмотное «заявление» председателя завкома с отказом выполнить постановление СТО.
«Профсоюзный исполнительный комитет завода, — говорилось в заявлении, — доводит до вашего сведения, что нам, стоящим ближе к производству и зная, что предприятие, изготовляющее уборочные машины, имеет громадное значение для существования Республики, ясно видно, что закрытие завода на более продолжительный срок, как две недели (на отпуск рабочих) и отъезд рабочих на уборку полей невозможен по многим причинам: 1) Желающих рабочих поехать на уборку урожая совершенно не находится, мотивируют они это тем, что исполнением посевного заказа ВСНХ все рабочие теперь крайне утомлены и законный двухнедельный отпуск желают использовать для поправления своего здоровья поездкой в деревню к своему семейству, а те, у которых деревни нет, желают поехать на эти две недели в хлебородные губернии, где могли бы получше пожить и привезти с собой те два пуда, которые привозят все рабочие согласно постановлению Центральной власти. 2) Так как среди рабочих есть способные для работы в Центральных организациях, то многие постараются поступить в таковые, а за период с 1 января по сие число послано в Центр более 10 человек, которые работают там и в настоящее время. 3) Кроме того, есть полупролетарии, то есть связанные до некоторой степени с крестьянством, которые также постараются разъехаться, так что все лучшие, имеющие навык в производстве работники распыляются и по прошествии одного, а тем более двух-трех месяцев, возобновить работы на заводе совершенно не представляется возможным, а потому Завком, как орган, стоящий всецело в интересах страны, считает своим долгом обратить внимание на вышеуказанные факты, почерпнутые из наблюдений за производством и настроениями рабочих, и предоставить рабочим завода самим решить, как использовать разрешенный отпуск с поездкой по их надобности.
Председатель Ф. Драченов.
Секретарь К. Головин».
Все время, пока Дзержинский внимательно читал «заявление» Драченова, а затем приписку председателя ЦК профсоюза металлистов Шляпникова — «Считаю доводы завкома убедительными», Ленин то нетерпеливо вышагивал вдоль кабинета от стола к двери, ведущей в зал заседаний, и от этой двери обратно к столу, то, заложив руки за спину, останавливался у окна, нервно постукивая пальцами другой руки по освещенному февральским солнцем подоконнику, за которым виднелась усыпанная снегом площадь перед Боровицкими воротами, то наконец подходил к простенку, на котором висел термометр, и придирчиво всматривался в ртутный столбик.
Высокой температуры в своем кабинете он не любил: пять часов ночного сна начинали к середине дня сказываться все нарастающей вялостью. Тепло расслабляло, а дел было много, и Владимир Ильич строго требовал, чтобы печь в его кабинете топили умеренно. Шестнадцать градусов выше нуля — вполне достаточно. Особенно если учесть общую нехватку топлива в стране и необходимость жесточайшей экономии на этот счет…
Единственное, что он попросил сделать для утепления, это положить перед рабочим стулом-полукреслом кусок толстого войлока, чтобы не очень уж мерзли ноги, А что касается остального, то нет лучшего средства, чтобы согреться, как встать и так вот пройтись вдоль внешней стены кабинета, мимо окошек, в которые все ярче косо бьет полдневное солнце.
Всего три дня назад Ленин подстригся, побритую шею еще холодило, кожу на затылке, когда проведешь ладонью от шеи до лысины, так приятно щекочут ершистые, упрямые волосы. И Владимир Ильич, останавливаясь возле окна, время от времени поглаживал затылок рукой. Потом опять начинал привычно мерить кабинет небольшими, твердыми шажками, не переставая поглядывать на склонившегося над листом бумаги, зябко поводящего острыми плечами Дзержинского: что-то скажет Феликс Эдмундович по поводу неприятного документа?
Впрочем, дело не столько в глупой бумажке, сколько в положении на том заводе вообще, — раздумывал он. — По нынешним временам — завод уникальный: едва ли не единственное в Советской России предприятие, оставленное в частном владении не какого-нибудь российского фабриканта, а мощной американской компании!
Сколько было думано, считано, говорено, прежде чем в начале 1918 года, в Питере, был заключен с компанией договор о продлении ее прав на этот завод еще на пять лет, да еще под самым боком Москвы.
Сколько было яростных споров, упреков в оппортунизме, сползании вправо, едких вопросов, а также и терпеливых, подробнейших, многократных ответов и разъяснений в Совнаркоме, на заседаниях Политбюро, на рабочих собраниях, в беседах с рабочими-ходоками…
Историю этого завода Ленин знал хорошо. С того самого года, когда предприимчивый австриец Карл Вейхельд купил в пятнадцати верстах от Москвы у местных крестьян непригодную для посевов песчаную землю, поставил на пустыре два небольших цеха, чтобы начать производство паровых двигателей для набиравшей силу российской промышленности. Едва заводчик успел кое- как наладить работу в цехах-времянках, как разразился хотя и не очень сильный, но для него вполне ощутимый экономический кризис. Герр Вейхельд не выдержал испытания и в 1902 году продал недостроенное предприятие более решительному американскому дельцу Томасу Пурдэ.
Тот прежде всего изменил промышленный профиль завода. Пурдэ показалось, что вместо громоздких паровых двигателей выгоднее производить более ходовые товары: уличные фонари для городов России, тормоза для трамваев и паровозов. На тормоза был спрос: продолжалось улучшение Транссибирской магистрали, расширялось железнодорожное сообщение на других дорогах России.
Однако не сладилось дело и у Пурдэ: гроза первой русской революции перепугала его. В марте 1905 года на заводе было арестовано несколько членов подпольной организации Российской социал-демократической партии, а в декабре избежавшие ареста большевики во главе с рабочим Веритеевым создали боевую дружину, примкнули к восставшим в Москве, и только силами батальона Семеновского полка удалось подавить восстание в поселке.
Потрясенный всем этим, мистер Пурдэ счел за благо не рисковать. В результате завод перешел в собственность американца же, перекупщика Томаса Костерса, который не без выгоды перепродал его международной компании Мак-Кормиков.
Мак-Кормикам повезло: столыпинская реформа 1912 года с ее опорой на кулака открыла новые рынки для сбыта сельскохозяйственных машин в России, и прежде всего в Сибири. Компания и до этого поставляла сюда из Америки около 85 тысяч жаток, сноповязалок, сенокосилок и конных граблей. Теперь стало выгодным иметь собственное производство прямо в России. И, в расчете на новые перспективы в отсталой крестьянской стране, чикагские миллионеры вложили в коренную перестройку завода крупные средства. Была заново перепланирована прежняя территория. Рядом, с ней прикуплен еще изрядный кусок земли, и на нем возведены четырехквартирные коттеджи для инженерно-технического персонала- Несколько в стороне от них появилась уютная вилла с башенкой наверху в стиле русских подмосковных дач, в которую вселился директор завода Николас Круминг, тогда еще совсем молодой инженер, латыш по происхождению, охотно принявший лестное предложение американских хозяев. Ближе к цехам, рядом с конторой заводоуправления, вырос просторный клуб для приехавших из Америки инженеров и их семей. За клубом — больница. За проходную, на улицу, вынесена кирпичная баня с двумя разрядами: общим — для всех и номерным — для господ.
Вкладывая средства в перестройку завода, Мак-Кормики учитывали все: удобные квартиры — это постоянные инженерно-технические кадры; просторный клуб с театральной сценой и кинобудкой — это возможность для развлечений здесь же под боком; своя больница и баня — забота о здоровье и быте людей. Остается одно: работать.
Вскоре только на этом заводе компания стала ежегодно выпускать до 65 тысяч машин разных наименований на общую сумму в семь с половиной миллионов рублей.
К началу первой мировой войны основной капитал компании составил здесь немногим меньше 78 миллионов. А за годы войны, когда завод стал выполнять также и военные заказы царского военного ведомства, его прибыли увеличились чуть не вдвое.
Революция круто изменила положение дел. Еще в марте 1917 года на заводе был создан фабрично-заводской комитет во главе с большевиком Веритеевым, объявивший о рабочем контроле над производством. А незадолго до Октября Иван Веритеев сформировал боевой отряд, сыгравший решающую роль в установлении Советской власти в местной округе.
Все это испугало и «обидело» новых хозяев завода. Не желая иметь дело с большевистской рабочей властью, они отозвали из мятежной России своего представителя Мак-Алистера, вывезли в Америку весь инженерно-технический персонал завода, поручив преданно служившему им адвокату Воскобойникову защищать завод от посягательств большевиков при посредстве любезно согласившегося на это генерального консульства Норвежского королевства в Москве, и стали нетерпеливо ждать, когда силы контрреволюции свергнут Советскую власть.
В том, что это произойдет, в Чикаго не сомневались. Ну, две или три недели. Ну, месяц. Ну, два-три месяца в крайнем случае…
Однако Советская власть почему-то держалась. Она не только не рушилась под ударами соединенных сил внутренней контрреволюции, кайзеровской Германии и панской Польши, но с каждым месяцем крепла и делалась все сильнее. Она уже проводила национализацию не только банков и других финансово-промышленных организаций, но также заводов и фабрик.
Потерять завод, в который вложены миллионы, Мак-Кормикам, естественно, не хотелось.
И в самом начале 1918 года, в надежде на то, что долго Советская власть не продержится, падет наконец, если не в результате усилий извне, то в результате разрухи, — расчетливые Мак-Кормики направили все того же Мак-Алистера к Ленину в Петроград. На переговорах в Смольном принял участие и директор завода Николас Круминг.
На голодную, уставшую, разоренную войной Советскую Россию опять надвигались и вот-вот должны были обрушиться новые военные испытания. Фабрики и заводы стояли без топлива и сырья. Страна истекала кровью, из последних сил отбиваясь от многочисленных врагов на больших и малых фронтах. И тем не менее, вернее, — именно поэтому, Ленин заключил с компанией соглашение, оставлявшее на пять лет открытым вопрос о национализации завода.
Со своей стороны компания взяла на себя обязательства: снова укомплектовать завод знающими дело специалистами, бесперебойно снабжать его из Америки необходимыми полуфабрикатами и сырьем, сдавать продукцию Советскому государству с минимальным процентом прибыли.
Хорошо осведомленные о том, что страны Антанты вкупе с Америкой уже готовы к «крестовому» походу на русский Дальний Восток, в результате которого, конечно, произойдут коренные перемены и во всей России, — Мак-Кормики, подумав, пошли и на эти обязательства.
Правда, большинство специалистов, которые знали производство сельскохозяйственных машин системы Диринга и Мак-Кормика и которые в 1917 году уехали домой, поверив измышлениям о «страшных большевиках», не захотели вернуться в Россию. Ведавшему на заводе организационно-техническими делами мистеру Гартхену пришлось при помощи новых агентов искать им замену в странах Европы и в большевистской Москве — из числа тех, кто не нашел или не захотел найти прочное место во взбудораженной Октябрем стране и теперь готов был пойти на службу к американцам. Крупных специалистов необходимого профиля среди них оказалось мало, но все же к концу 1918 года инженерно-технические и управленческие кадры завода были укомплектованы, явив собою картину удивительной пестроты: в конторе и в цехах слышалась речь англичан, французов, итальянцев, голландцев, поляков, немцев — старых и молодых. Они вселились в пустующие квартиры на первом и втором заводских дворах за высокой стеной, отгородившей их от поселка, постепенно стали вникать в дела, главным образом благодаря опытным русским мастерам и рабочим — литейщикам по цветным металлам и чугуну, кузнецам, модельщикам, инструментальщикам, сборщикам, сохранившимся на заводе, — и производство в конце концов опять пошло своим чередом.
Директор Николас Круминг оказался деловым, добросовестным человеком, и вот уже в течение трех лет компания более или менее точно выполняет свои обязательства. Завод работает. Пусть не на всю мощность…
«Да и откуда ей быть теперь, этой мощности? — как бы споря, сердито спрашивал незримого оппонента Владимир Ильич. — Однако даже в самый разгар гражданской войны завод выпускал необходимые нам машины! Большинство российских фабрик и заводов стояло. Стоят и теперь без топлива и сырья. А этот — работал! Через занятую Колчаком и интервентами Сибирь, как по мановению волшебной палочки, из Америки продолжали бесперебойно приходить в красную Москву вагоны с запасными частями и сырьем. Самые отъявленные враги Советской России боялись мешать такому важному и богатому господину, как мистер Ванс Мак-Кормик, председатель „Военно-торгового совета“ США, сын Сайруса Мак-Кормика, однокашника и друга президента Вильсона. Попробовал было однажды атаман Семенов задержать в Забайкалье состав из сорока вагонов с деталями для завода, как из Вашингтона тотчас последовал строгий окрик, и атаману пришлось отправить все грузы в полнейшей целости в красную Москву.
Такой работающий в условиях разрухи завод необходим был все эти годы не только для выпуска машин. Не менее важно, что благодаря ему тысяча с лишним рабочих Подмосковья продолжала трудиться в целостном коллективе, возле станков, была при деле, не превратилась в еще один отряд зажигалочников и мешочников, а ближайший к Москве уезд — в зону безработицы и разорения. Вокруг завода все же кормились люди, сохранялась относительно нормальная жизнь многих сотен трудовых семей…
Тем более необходимы такие заводы теперь, — невольно вернулся Ленин к вопросам, которые вскоре предстояло решать на партийном съезде и которые все эти дни не выходили из головы. — Переход от политики „военного коммунизма“ к новым формам хозяйствования потребует максимума энергии, инициативы, деловитости. Надо двигать в практику план ГОЭЛРО, закупать для гидростанций турбины и другую технику, врубовые машины для Донбасса, восстанавливать паровозный парк, иметь свои нефтеналивные суда, покупать подшипники, электроплуги… Вместо кучи хилых и безнадежных фабрик — строить крупные предприятия, учиться хозяйствовать. А чтобы учиться и учить, Москва должна иметь по одному экземпляру всех машин из новейших, знать все о развитии европейской и американской техники.
Да-а, предстоит огромнейшая работа. И от нас потребуется не свертывание, а наоборот, — всемерное расширение деловых сношений с иностранным капиталом. Без использования его средств, более развитой индустрии и опыта нечего думать о быстром движении вперед, не говоря уже о прочной закладке фундамента нового социального строя».
Он усмехнулся: такова диалектика истории! Феодализм помог своими богатствами вырасти капиталу, капитал, сам того не желая, поможет своей техникой интересам социализма! Значит, надо не чураться, как полагают некоторые «умники», а всячески привлекать, в том числе путем концессий, наиболее лояльные деловые круги Америки и Европы. Они тоже заинтересованы в нашем сырье. И те, кто уже сейчас, накануне съезда, кричит о том, будто новая экономическая политика партии означает сползание ленинцев вправо, в объятия капитала, тот ничегошеньки не смыслит в вопросах большой политики. Драчка с такими «теоретиками» предстоит на съезде серьезная, без нее не обойтись…
Ленин иронически хмыкнул:
— Гм… до некоторых весьма ответственных товарищей даже и сейчас не всегда доходят, к сожалению, самые простейшие истины!
И живо повернулся к Дзержинскому:
— Ну как? Не правда ли, весьма любопытный документ? Вот вам нагляднейший образец того, что на деле представлял бы собою российский анархо-синдикализм, получи он широкое распространение в стране! Каждый завод по тупоумию таких вот мудрецов, — Ленин движением аккуратно подстриженной рыжеватой бородки презрительно указал на лежавшую перед Дзержинским бумагу, — делал бы, что хотел. При этом «рабочелюбцы» клялись бы в том, что действуют «всецело в интересах страны», на деле же считались бы только с местными настроениями рабочих… вернее — полурабочих. В результате одни из этих полупролетариев отправились бы, когда им это заблагорассудится, в «хлебные губернии», другие — в деревню к родственникам, третьи — вообще «по их надобностям», как пишет этот… как его? — недотепа Драченов…
Ленин еще раз, теперь уже пальцем, ткнул в сторону стола:
— Каждый завод решал бы сам за себя, что ему делать. И вот такую организацию… вернее, дезорганизацию промышленности и государства «рабочелюбцы» выдвигают в качестве альтернативы централизованной власти?! Чем иначе, как не подрывом коренных интересов пролетарской диктатуры, назовешь эту квазирабочелюбивую абракадабру, если иметь в виду, что именно партия является авангардом рабочего класса в осуществлении его революционной диктатуры?
Было видно, что в нем еще не улеглось раздражение против тех, кто постыдно опускается до настроений наиболее отсталой части рабочих в едва ли не самый трудный для Родины час, поддерживает эти отсталые, местнические настроения.
— А кстати, — после минутной паузы заметил он недовольно, — чем занимаются и о чем думают некоторые наши ответственные товарищи из ВЦСПС, Цека металлистов, Мосгубсовпрофа? Через их головы кто-то пишет или поддерживает вот такие глупейшие «заявления», продолжается обывательская возня разного рода групп и группочек, а они об этом не знают и ведать не ведают! Может быть, положение рабочих на американском заводе и в самом деле совсем уж из рук вон плохое? Отсюда и недовольство?
Он приоткрыл дверь в аппаратную, попросил дежурную телефонистку соединить его с председателем Комиссии по рабочему снабжению Халатовым. И пока та занималась своим делом, а Ленин в ожидании предстоящего разговора привычно вышагивал по свободной стороне кабинета вдоль окон от аппаратной до двери в приемную, Дзержинский молча следил за ним, хорошо понимая, как неприятны для Владимира Ильича такого рода минуты.
«Момент для страны чудовищно трудный, — сочувственно думал Дзержинский. — И сколько же дел ежедневно обрушивается на Ильича. Ни минуты покоя. А тут еще этот болван Драченов…»
Между тем Ленин снова взял телефонную трубку и суховато спросил:
— Товарищ Халатов, есть ли у вас сведения о том, когда, сколько и какого именно продовольствия было отправлено в ударном порядке рабочим завода Мак-Кормиков, пока они работали на посевную? И как они снабжаются теперь? Ага… Хорошо, подожду.
Дзержинский мысленно представил себе Халатова — двадцатичетырехлетнего крепыша, отпустившего для солидности черную как смоль бородку. Что-то он скажет Владимиру Ильичу? Да и что утешительного он может сказать?
— Так, так! — перебил его мысли Ленин. — Понятно, товарищ Халатов. Значит, централизованное снабжение по группе «А» прекращено и завод переведен на обычную норму? Иного выхода нет, это верно. К тому же завком отказался выполнить наше решение об отправке их эшелона в Сибирь. А положение с продовольствием вам известно. Боюсь, что к лету оно обострится до предела: прогнозы неутешительные. Снабжать надо в первую голову тех, без кого производство встанет совсем. И если люберецкий завком примется за дело с надлежащей энергией, дополнительные возможности у них в поселке найдутся. Я тоже так думаю. Пока все, до свидания…
Аккуратно положив телефонную трубку на рычажок, отходя от стола, Владимир Ильич раздумчиво протянул:
— Гм, да-а. Нам вообще одним заводом не обойтись. Я имею в виду заготовку хлеба в Сибири. Один эшелон положения не изменит, Необходимо через маршрутное бюро ВЦСПС формировать такие отряды во всех больших городах. Что значит направление из Центра какой- нибудь тысячи рабочих для такой громадины, как Сибирь? — Он повернулся к Дзержинскому. — Капля в море! Только в Омскую губернию, к примеру, на время жатвы нужно послать не меньше, чем тысячи две. А в остальные края Сибири? К примеру, Алтай? Он один в состоянии разместить в крестьянских хозяйствах несколько таких эшелонов!
Взгляд его упал на злополучную бумажку, положенную Дзержинским после прочтения на стол.
— Ну-с, а как вам нравятся эти доморощенные политики? В отличие от нас, грешных, витающих, видите ли, в эмпиреях, — саркастически заметил Владимир Ильич, возвращаясь к столу, — они в своем полудеревенском поселке «ближе стоят к производству»… «всецело стоят за интересы страны», а поэтому-де лучше нас знают, в чем заключаются сейчас кровные интересы рабочих. Но каких рабочих? — перебил он себя. — Рабочих по профессии, а не по классовому сознанию! Я тут попросил дать справку. — Он взял с этажерки-вертушки синюю папку. — Оказывается, за два последние года на этом заводе было в общей сложности четырнадцать массовых мобилизаций в армию и на разные работы. Ушло более половины коренного рабочего состава! Только этой зимой на заготовку топлива, подавление мятежей и в заградительные отряды взято еще двадцать пять процентов членов партии и наиболее сознательных пролетариев! На их место пришли люди из деревни без политической и трудовой закалки, полупролетарии. И в этих условиях «рабочелюбцы» из Цека металлистов считают доводы завкома убедительными! Таких «деятелей» надо исключать из партии!
Он опять прошелся от стола к окну, легко неся свою крепко сбитую фигуру. Но едва лишь взглянув на голубое, уже почти по-весеннему просвеченное солнцем небо, резко повернулся на каблуках, привычным движением сунул большие пальцы рук за проймы жилета, качнулся с каблуков на носки, с носков на каблуки, смешливо взглянул на Дзержинского:
— А ведь это они метят и в вас, Феликс Эдмундович, как в будущего наркома по транспорту. Обратили внимание? Так и написано: рабочие полупролетарии (а их, заметьте, не одна сотня!) намерены ринуться в качестве мешочников в хлебородные губернии! Вот вам с товарищем Фоминым и еще одно пополнение тех, от кого дышащий на ладан железнодорожный транспорт окончательно развалится!
Последнюю фразу Ленин произнес уже без улыбки, почти с ожесточением, быстро вернулся к столу, взял лежавшее перед Дзержинским заявление Драченова, нашел необходимый абзац, нахмурился:
— А это вот целиком по моей части. Оказывается, десять человек по рекомендации того завкома уже работают у нас в центральном аппарате. Каково? Теперь Драченов собирается направить нам еще одну группу в десять — пятнадцать человек. Но что это за люди? С какими настроениями и целями они идут в центральный аппарат? Боюсь, что именно из таких драченовских полупролетариев и получаются самые отъявленные бюрократы, если не хуже. Не песок ли это в подшипники вместо смазки? Да-с, любопытно…
Он склонился к блокноту, сделал еще одну короткую запись.
— Что же касается отказа завкома подчиниться решению СТО и ВСНХ, то на этот счет мы примем самые строгие меры. Надо будет через губком направить туда надежного, хорошо знающего эту публику партийца для разъяснительной работы и наведения порядка в коммунистической ячейке. Не удивлюсь, если при этом выяснится, что лидеры тамошних полупролетариев идут на поводу не только у отсталых рабочих, но и у враждебной нам части заводской администрации…
— Весьма вероятно, — согласился Дзержинский. — Их главный администратор Гартхен даже и не скрывает своей ненависти к нам, — добавил он с той внешне спокойной, почти ледяной холодностью, которая у него означала крайнюю форму отрицания и презрения. — За три года этот субъект сумел пригреть возле себя довольно пеструю компанию всякого рода «бывших». Не исключено, что кое-кто из них занимается и прямым шпионажем…
— Гм… да, возможно. Даже наверняка. Но думаю, что Круминг к этому не причастен. Он, конечно, типичный буржуазный специалист с присущими этой касте предрассудками. Но как латыш — не может не видеть коренной разницы в отношениях к его стране со стороны царизма и теперь — со стороны Советской власти, которая в первый же день своего существования объявила о праве наций на самоопределение. Хотя бы даже поэтому Круминг не может не симпатизировать нам, не быть лояльным и даже по-своему дружелюбным.
— Не знать о враждебных по отношению к нам делах Гартхена он, я полагаю, не может, — отозвался Дзержинский. — Но заниматься тем же, чем Гартхен… Думаю, вряд ли. Его главное дело все же завод.
— Я именно это имел в виду…
Ленин обогнул широко раскинувшую возле стола перистые ветви пальму, сделал несколько быстрых шагов по залитому февральским солнцем полу, раздумчиво, как бы про себя сказал:
— В прошлом году осенью, после неудачной охоты под Бронницами, мы с Яном Эрнестовичем по дороге домой заезжали к Крумингу на завод — выпить чаю. У него настоящий, крепчайший чай! Такая редкая прелесть… Круминг — земляк Рудзутака, тоже страстный охотник, не раз приглашал нас с Яном Эрнестовичем поохотиться в тех местах. Так вот, по моим впечатлениям — это вполне порядочный человек. Конечно, далекий от нас человек, но думаю, неспособный на грязные заговоры. Не только у меня, но и у товарища Рудзутака сложилось именно такое мнение, а он знает Круминга чуть ли не с детства. Вы знаете, — добавил Ленин с подкупающей, почти ребяческой искренностью, — о человеке судишь не только по его собственному поведению, но и по атмосфере в семье. А у Круминга — очень милая, по-настоящему интеллигентная семья. Хрупкая, болезненная жена, знает несколько языков, отличная музыкантша. И две девочки. Прелестные существа! В такой семье дурное не вырастает…
— Я верю, — спокойно сказал Дзержинский, любуясь чуть порозовевшим от доброго волнения лицом дорогого ему человека. — Именно такие сведения имеются и у нас.
— Ох уж эти глаза и уши Чека! — с улыбкой заметил Владимир Ильич. — Все им известно!
— К сожалению, далеко не все.
— Гм… да, конечно. Но кое-что все-таки есть?
Став серьезным и снова привычно зашагав по кабинету, Ленин вернулся к прежнему разговору:
— В тот день, во время чаепития, не помню уж, в какой связи, Круминг довольно нелестно обмолвился по поводу каких-то неблаговидных действий мистера Гартхена. Мне даже показалось, что этим он как бы предупреждал нас с Рудзутаком. Давал нам понять, что на заводе не все в порядке в смысле отношения к советским законам. Может быть, и в самом деле Гартхен шпионит? Или связан с белым подпольем? Кстати, кроме Гартхена он называл еще каких-то Бублеева и Верхайло. Что это за господа?
— Точно еще не выяснено. Если не ошибаюсь, первый из них — сбежавший откуда-то полицейский или жандармский чин. Знакомый адвоката Мак-Кормиков Воскобойникова.
— Правдоподобно! Иначе с чего бы Гартхен приблизил к себе русского и украинца? У него, как известно, все более или менее ответственные должности занимают лишь американцы, немцы, французы и прочая, прочая…
— Из русских есть еще потомок князей Урусовых, супруг бывшей фрейлины Пламенецкой.
— А этот в какой же роли?
— Начальник транспортной службы.
Ленин неудержимо расхохотался:
— Князь стал специалистом по заводскому гужевому транспорту? Ну и как?
— Кроме лошадей, — с улыбкой пояснил Дзержинский, — в его ведении состоят еще две грузовые машины и директорский лимузин.
— И он со всем этим справляется? Гм, гм… любопытно! — Ленин вновь рассмеялся. — Наконец-то сиятельный князь нашел себе хоть какое-то полезное дело! Как хотите, но русский аристократ в роли конюшенного у американцев — это забавно!
Все еще улыбаясь, Владимир Ильич некоторое время молча шагал по кабинету, потом вдруг живо повернулся к Дзержинскому:
— А что, если так? — В карих глазах его мелькнули веселые огоньки. — Не съездить ли нам с Яном Эрнестовичем к его земляку еще раз? Круминг совсем недавно опять приглашал поохотиться в тех местах. С егерем Лихачевым, рабочим его завода, приятелем моего сменного шофера Плешкова, я в прошлом охотился дважды, и, помнится, этот егерь тоже отзывался о Круминге хорошо. «Свойский господин», говорит. Так вот, почему бы мне, — совсем уж серьезно, хотя веселые лукавинки еще поблескивали в его глазах, как бы вслух подумал Ленин, — почему бы не согласиться и не провести одно из воскресений с господином Крумингом? Поохотиться и кстати в самой непринужденной обстановке побеседовать с этим «свойским» господином насчет отправки «его» рабочих в Сибирь?.. Ей-ей не плохо! Оставить их с Рудзутаком с глазу на глаз, пусть побеседуют… а? Вы как полагаете?
Владимир Ильич впервые встретился с Крумингом еще в самом начале 1918 года, когда шли переговоры об оставлении завода в руках Мак-Кормиков. Но это была встреча с буржуазным специалистом, с американцем латышского происхождения, приехавшим тогда в революционную Россию с группой доверенных лиц чикагской компании, настроенной отнюдь не доброжелательно по отношению к большевикам. И несмотря на то, что лично Круминг произвел на Владимира Ильича впечатление порядочного человека, желания узнать его поближе, естественно, не возникло. Будет добросовестно выполнять условия договора — хорошо, а сам по себе — интереса не вызывает.
Договор был подписан, Круминг уехал из Петрограда в Москву, на завод, и вскоре забылся. Лишь два года спустя он опять оказался в поле зрения Владимира Ильича, когда кое-кем в партийных кругах Москвы, в том числе и ЦК, вновь был поднят вопрос о недопустимости существования в самом центре страны такого крупного частного предприятия.
«Зачем, в таком случае, принят закон о национализации всех предприятий, имеющих свыше десяти наемных рабочих? — спорили с Лениным „левые“ товарищи из ВСНХ. — В других случаях национализировались маломощные фабрички, а тут оставлен в частных руках, да еще в руках американских миллионеров, завод с двумя тысячами рабочих? И, главное, в то время, когда американские войска находятся на нашем Дальнем Востоке? Если при этом учесть, что один из Мак-Кормиков, возглавляя „Нэйшнл сити бэнк“ и русское отделение „Военно-торгового совета“ США, активно помогал финансированию предпринятой Вильсоном интервенции, то оставление в их руках завода попросту непонятно!»
Тогда же Президиум Всероссийского Совета Народного Хозяйства специальным решением обязал Отдел металла и члена Президиума Рудзутака подготовить вопрос о национализации завода и об аннулировании договоров, заключенных заводской дирекцией с кооперативными товариществами и частными лицами.
Ленин вполне понимал чувства сторонников национализации в тогдашних условиях. Но отчетливо видел и то, что в таких щекотливых делах нельзя поддаваться чувству. Здесь более, чем где-либо, нужен расчет, холодный и трезвый разум. Да — интервенция. Да — монополисты. Да — чувства противятся сохранению завода в руках врагов революции, которые к тому же участвовали и, в сущности, продолжают участвовать в интервенции на российском Востоке, а теперь и в голодной блокаде страны.
Однако это — работающий завод! Производящий машины, позарез необходимые разоренному войной крестьянству. Так что же? Поддаться эмоции, святому и справедливому чувству возмущения бесчеловечностью противника, и в итоге остаться ни с чем? Чувство будет удовлетворено, да. А революция лишится еще одной важной опоры…
— Настроение, революционный инстинкт, разумеется, немаловажная сторона человеческого существования, в том числе и в политике, — говорил он уже не впервые занятому вопросом о национализации завода Рудзутаку, которого высоко ценил за спокойную, умную рассудительность, за несокрушимую преданность делу партии и которого сам предложил назначить членом Президиума ВСНХ, а на Девятом съезде партии рекомендовал избрать одним из девятнадцати членов ЦК. — Все это так. Но первое, что необходимо сознательному марксисту, это ясная, опирающаяся на точное знание фактов мысль. Не самоуслаждение чувством и фразой, а именно волевая мысль, опирающаяся на факты, как бы жестоки и ужасающе безжалостны они ни были. К сожалению, часто приходится наблюдать иное: многие вполне удовлетворяются «благородным» негодованием. Нет, нет и нет! Прежде всего — деловые соображения в интересах революционного развития, а не стихия чувств, как бы благородны сами по себе они ни были, — вот что требуется от каждого из нас! Конечно, завод можно национализировать хоть завтра на вполне законном основании: условия договора требуют неучастия сторон в военных и политических акциях друг против друга. Мак-Кормики нарушили этот договор… ну и что? Закроем? Как любил говорить один знакомый нашей семьи в Симбирске: «Тяп-ляп, есть колесо. Сел да поехал, как хорошо! Оглянулся назад — одни палки лежат…»
Во время одного из таких разговоров он предложил:
— Не согласитесь ли вы, Ян Эрнестович, доложить этот вопрос на заседаниях СТО и Политбюро? Директор завода ваш земляк, поэтому неплохо бы встретиться и с ним, поговорить напрямик. Я бы даже сказал, в известной мере посоветоваться. Во время нашей встречи в Петрограде Круминг показался мне человеком вполне лояльным, здравым…
И встреча Рудзутака с Крумингом состоялась. В кабинете заместителя председателя ВСНХ Богданова они вначале присматривались друг к другу. Потом стали все чаще ловить себя на том, что в голосе, в общем облике собеседника, — с одной стороны, холеного и вместе с тем не кичливого иностранца, с другой, кое-как одетого русского комиссара, — чудится что-то давно забытое, но знакомое, что-то даже по-своему дорогое. Наконец Рудзутак, не выдержав, осторожно спросил:
— Простите, пожалуйста… вы не родственник Крумингов с хутора из-под Риги?
— А вы не Ян… извините, забыл фамилию? — вопросом на вопрос с улыбкой ответил тот.
— Рудзутак.
— Бывший работник с хутора господина Цуани?
— А вы тот самый, простите, Николас?
— Именно я! Тот самый! — весело откликнулся Круминг. — Я вас, пожалуй, сразу узнал…
И, к удивлению Богданова, вместо продолжения деловых переговоров из уст обоих хлынули как волна расспросы, ответы, веселые шутки, воспоминания.
Оказалось, что Круминг родился и провел детство на отцовском хуторе недалеко от Риги, рядом с хутором Цуани, где Ян Рудзутак с детства батрачил вместе с отцом и откуда он, избитый хозяином «за нерадивость», шестнадцатилетним парнем пешком ушел в Ригу — искать счастливую долю. Не раз в юные годы они встречались в поле между хуторами и на усадьбе Николаса, которому было скучно летом без сверстников. Теперь эти встречи вспомнились, и Богданов с невольной улыбкой прислушивался к тому, как всегда невозмутимый, несколько мешковатый Ян Эрнестович и элегантно одетый директор американского предприятия Николас Круминг с необычной для латышей горячностью, смеясь, нередко перебивая друг друга, вновь и вновь вспоминали свою хуторскую жизнь.
Круминг помнил и случай с отбившейся от стада коровой, из-за которой хозяин Цуани избил юного Яна, а тот после этого на другой же день ушел в город: такие события в скудной новостями замкнутой хуторской жизни помнились долго, тем более что в то лето скучавший от безделья студент Николас лишился умного собеседника…
Жизнь развела их по разным дорогам. Юношу Рудзутака в Риге встретили безработица, полуголодное и бездомное прозябание. К счастью, в конце концов удалось поступить на инструментальный завод одной из частных рижских компаний. Здесь он нашел таких же, как сам, бедных, но сильных духом людей, приобщился к индустриальному труду, испытал великую силу классового единства в год первой русской революции, стал коммунистом.
Иначе сложилась судьба Николаса Круминга. К тому времени, когда Ян покинул хутор Цуани, Николас учился в Петербургском технологическом институте. А два года спустя, исключенный из института за то, что под влиянием минутного порыва примкнул к студенческой демонстрации протеста против расстрела рабочих-манифестантов, уехал по совету отца заканчивать образование в Германию. Отец вскоре умер, хозяином хутора стал старший брат Лаурис, и Николас — молодой инженер, полный надежд и сил, решил искать свое счастье в Америке.
Оно далось ему в руки не сразу. Пришлось ловить его и в засыпанном угольной пылью Питтсбурге, и на фабрике Ларкина в Буффало, и у Форда в Детройте, в других городах. В конце концов он нашел свой «шанс» на заводе сельскохозяйственных машин Мак-Кормика и Диринга. Начал он здесь простым рабочим. Потом занял должность сменного инженера. И уж затем — стал помощником главного технолога.
Немалую роль во всем этом сыграли сдержанно-почтительные манеры, приятная внешность рослого голубоглазого блондина, энергия знающего дело специалиста. Мак-Кормик выделил его среди других инженеров, и не удивительно, что именно на Круминге остановился хозяйский выбор, когда завод был куплен «Международной компанией жатвенных машин в России» и потребовался квалифицированный, знающий русский язык и российские условия жизни руководитель предприятия, на прибыль от которого компания возлагала большие надежды.
К жизни в России он постепенно привык. Две его девочки учились в местной поселковой школе. Жена с удовольствием занималась музыкой с детьми служащих и рабочих завода, нередко выступала в клубе в серьезных концертах. И, сравнивая эту новую разоренную войнами Россию с богатой, самодовольной Америкой, где сильные мира сего предпочитают лишь говорить о христианских заповедях добра и мира, а делать совсем иное, — Круминг все чаще ловил себя на том, что в красной России, увлеченной, может быть, утопической, но великой и благородной идеей «свободы, равенства и братства», ему и его семье в нравственном отношении лучше, чем в Чикаго. И хотя дальше таких вот общих «крамольных» мыслей он не шел, все же не без удовольствия думал о том, что, если бы он изъявил желание перейти на службу к большевикам, ему охотно дали бы здесь вполне достойную должность на любом предприятии, пусть работающем пока кое-как, но все говорит за то, что деятельные большевики выйдут в конце концов победителями из разрухи. Выдвинута же Лениным идея электрификации всей страны? Только выскажи желание, только согласись, и ты сможешь, начав с нуля, своими руками довести производство на каком-нибудь крупном заводе до уровня… да, вполне возможно, что и до уровня американской промышленности!
Но одно дело думать об этом, другое — реальность жизни, забота о комфорте, о европейском образовании для девочек, о длительном и квалифицированном лечении больной туберкулезом жены. Наконец, о своей карьере в этом трагически неустойчивом мире, чреватом самыми неожиданными катаклизмами, включая новую войну.
А запахом пороха все еще тянет в Россию со всех сторон…
Встреча с Рудзутаком вдруг заново всколыхнула все эти мысли. Круминг искренно, как другу, обрадовался Яну Эрнестовичу: что-то родное, казалось, всплыло оттуда, из далей прошедших годов, событий и расстояний, тронуло сердце. Круминг в первую минуту готов был даже обнять сидящего перед ним мешковатого крепыша в пенсне, но не обнял, а только слегка прихватил за плечи и отпустил. Тогда-то и начался у них бестолковый, но добрый, дружеский разговор.
— Подумать только, как все изменилось с тех пор! — со вздохом закончил Круминг, когда теплая волна воспоминаний схлынула. — И как причудливо складываются людские судьбы! Я всю жизнь был занят тем, чтобы сделать карьеру. И что же? В сущности, стал слугой богатых господ. А вы? При всех сложностях в разоренной России вы теперь и есть настоящие господа!
— Надеюсь, вы тоже не теряли в Америке времени даром? — Рудзутак сказал это шутливо, но и не без иронии. — Сознайтесь, что какой-нибудь «хуторок» там у вас есть?
— Есть, есть! — в тон собеседнику охотно ответил Круминг и рассмеялся. — Будь жив отец, похвалил бы. Мое американское ранчо и больше и рентабельнее, чем бывший наш старый хутор под Ригой. Иначе нельзя, — серьезно добавил он. — Годы уходят… кризисы… Надо твердо стоять на ногах, быть готовым к самому худшему.
— Ну, вам-то беспокоиться нечего: Мак-Кормики ценят вас.
— Дело совсем не в этом. Можно ценить, но бывают обстоятельства… Я скажу откровенно: хозяева компании все еще надеются на крах большевистской власти в России, ждут его…
— И даже содействуют этому, — подсказал Рудзутак. — Экспедиционный корпус генерала Гревса и морская пехота адмирала Найта на русском Дальнем Востоке — красноречивое тому свидетельство.
— Безусловно. И тем не менее, строго между нами, я постепенно склоняюсь к тому, что надежды компании на скорое подавление революции у вас… а может быть, и не совсем скорое… даже, пожалуй, именно так, судя по многим признакам, — вряд ли оправдаются. Значит, через год, через два… думаю, что не позже, нам — я имею в виду себя и других иностранцев из заводской администрации — вновь придется, не солоно хлебавши, как говорят здесь, возвращаться туда! — Он указал рукой за окно, как бы приглашая собеседника мысленно проделать этот будущий путь из Москвы до Чикаго. — И боюсь, не придет ли в голову господам Мак-Кормикам мысль избавиться от директора-неудачника? Человеку, увы, свойственно искать утешение от своих неприятностей в унижении тех, кто имел к этим неприятностям хоть какое-то касательство и кто, следовательно, может напомнить о них хотя бы просто своим присутствием…
После паузы он добавил:
— Признаки подстерегающих меня испытаний я чувствую все определеннее. Удовлетворение завода сырьем и запасными частями, без чего мы не сможем выполнять соглашение о производстве машин для вашего правительства, с каждым месяцем ухудшается…
— И что же дальше?
— Не поверь Мак-Кормики в крах вашей власти, а теперь особенно, когда интервенция явно провалилась и ваша армия теснит противника к Тихому океану, не поддайся они общему озлоблению — все еще могло бы быть иначе. Дальше, мне кажется, лишь одно: неизбежный отказ компании от надежд. А мне, в связи с этим, увы, предстоит печальная перспектива бесславного возвращения в Чикаго…
Тогда же, в конце разговора, прощаясь, Круминг впервые пригласил Рудзутака в ближние от завода места на охоту.
— А если он согласится, — добавил при этом Круминг, — то, пожалуйста, пригласите от моего имени и премьера Ульянова-Ленина. Он, насколько я знаю, тоже любит это мужское занятие. У меня хорошая псарня, собаки разных пород, — не удержался он от удовольствия похвастаться. — А здешние места богаты дичью…
…И вот теперь, после беседы с Дзержинским, в ближайшее из воскресений, сговорившись обо всем еще накануне, Ленин тихонько, чтобы не разбудить Надежду Константиновну и сестру, прошел коридором в свой кабинет и позвонил Рудзутаку, а затем Крыленко:
— Ну, я готов. Выходите…
Вскоре старенький, громоздкий «делоне-бельвиль» выкатился из ворот Кремля и понесся по безлюдным улицам в сторону Рязанского шоссе.
Ленин был в аккуратно подшитых валенках, в черной жеребковой куртке. Внимательно оглядев его, Круминг распорядился принести из заводской больницы чистый белый халат.
— Лиса, как вы знаете, очень хитра, — сказал он, старательно выговаривая по-русски каждое слово. — Темная одежда отпугнет ее. А надо и самому быть хитрым!
— И не только на охоте? — как бы вызывая на более значительный разговор, полувопросительной шуткой ответил Ленин.
— Тем более в жизни, конечно! — охотно откликнулся Круминг.
— Особенно если тебя обкладывают со всех сторон. При этом черными пиратскими флажками!
— О, это, разумеется, так!
— И даже выходной прогалины не оставляют, как это делают при обкладе лисы! — добавил Ленин, смеясь.
— Верно, и даже прогалины не дают.
— Тогда, мне кажется, надо делать просто: хорошо рассчитав, смело перепрыгнуть через пиратский обклад!
Круминг понимающе усмехнулся:
— Насколько я помню, один знакомый мне «Лис» всего год назад на глазах у множества вооруженных «охотников» делал это не раз…
— Значит, теперь у него имеется драгоценный опыт в отношении ко всякого рода охотникам до чужого! — в тон полушутливого разговора заметил Владимир Ильич, беря из рук директорской прислуги, миловидной девушки в чистом фартуке, белый маскировочный халат и надевая его поверх черной куртки. — Тем успешнее и решительнее он будет перепрыгивать через обклады в дальнейшем.
Во время завтрака они с Крумингом уже успели довольно подробно и откровенно, как это умел и любил делать Ленин, поговорить — о благоприятных перспективах завода в том случае, если новый президент США мистер Гардинг снимет экономическую блокаду России, и о том, что делать, если блокада не будет снята, завод останется без сырья, будет закрыт и в итоге — национализирован.
Поговорили они и о том, как насущно необходима сейчас разоренной стране поездка заводских рабочих в Сибирь для помощи тамошним крестьянам в уборке урожая, в ремонте уборочных машин и обеспечения голодающей Москвы хлебом. Поэтому теперь, во время всегда волнующих сборов на охоту, между ними шел, конечно, тоже имеющий значение, но уже скорее шутливый, чем серьезный, разговор перед тем, как сесть, наконец, в директорские санки и отправиться в поле — к природе, что само по себе было для Ленина великим благом.
И вот сытая заводская лошадь легко вынесла директорские двухместные санки из распахнутых ворот заводского двора. В них, укрыв медвежьей полостью колени, сидели Круминг и Ленин. Следом за санками верхом на лошади выехал егерь Никита Лихачев. Его помощник по сегодняшней охоте рабочий кремлевского гаража Плешков и Ян Рудзутак с Крыленко, приехавшие из Москвы вместе с Лениным, еще раньше были отправлены к месту охоты на других санях.
Охотники пересекли по деревянному настилу пристанционные пути, миновали засыпанное снегом кладбище и двинулись к небольшому сосновому лесу, где размещался поселок местной службы московских полей орошения, а за поселком лежали разбитые на квадраты «карты» этих полей.
Еще накануне егерь вместе с Плешковым, частым спутником Владимира Ильича в такого рода поездках, выследили и обложили флажками лису, ходившую мышковать на жирные перегнойные «карты» полей, где из года в год плодилось множество полевок. Между «картами» щетинились заросли кустарника и бурьяна. За полями тянулось покрытое льдом и тоже заросшее кое- где кустарником и камышом мелкое Зенинское озеро. За ним кустарник был гуще, выше, постепенно переходил в небольшой лесок, а дальше, на противоположном берегу реки Чернавки, виднелся сосновый бор с темными пятнами мощных елей.
Как почетного гостя Ленина поставили на первый «номер» — возле прогала между флажками: именно здесь — наибольшая вероятность подстрелить лису, которая, спасаясь от преследующих ее гонщиков, конечно, захочет юркнуть в свободный проход.
Было пасмурно, тихо. Легкий снежок вспархивал и кружился над мирной белизной безлюдного поля. В кустарнике за обкладом, перелетая с ветки на ветку, хлопотливо попискивали синицы. За правым краем снежного поля, сидя на вершине высокой сосны и всякий раз низко кланяясь, время от времени каркала ворона, не то приветствуя, не то предупреждая кого-то…
Владимир Ильич умел находить неповторимую прелесть во всякой погоде. И теперь, оставшись один, с улыбкой поглядывал на синиц и ворону, на всю эту мирную зимнюю белизну, на мутное, но не мрачное, а спокойное небо, в котором рождались узорчатые снежинки, на голые кусты в кружевной бахроме инея, на алые язычки флажков, трепещущие на ветру и как бы ловящие своими острыми кончиками вспархивающие над ними снежинки. Под веревкой обклада снег был грубо измят валенками егерей, вмятины следов шли от кола к колу, от куста к кусту, пока не пропадали за новым кустом и мир вокруг не становился опять нетронутым и прекрасным.
Охоту Ленин любил. Не раз и в эти, и в прежние годы бывал он на вальдшнепной тяге в еще залитом вешней водой лесу. Прятался в шалашах и кустах во время утиных перелетов осенью и весной. Таился на тетеревиных и глухариных токах. Бродил по мелколесью в пору бабьего лета, когда заматеревшие тетеревиные выводки с треском вылетают почти из-под ног каменеющих от напряжения собак. Охотился и на лис. Тем не менее любая из этих охот всякий раз как бы заново волновала его, человека горячего, всей натурой своей легко отдающегося азарту.
Волновался он и теперь, хотя мысли о главном, что оставлено, не до конца еще додумано, не доделано им в Москве, не покидали и здесь. Эти мысли шли своим чередом, а рядом с ними, то отталкиваясь, то сливаясь, счастливо текли другие, навеянные этим тихим зимним деньком.
Стоя на своем «номере» за невысоким, но плотным кустом, он с невольной улыбкой радости и покоя оглядывал не очень уж привлекательный, даже, пожалуй, скучный, однообразный и все же милый пейзаж, окружавший его, и легко представлял себе, заранее предвкушая такое радостное удовольствие, когда из-за тех вон кустов за обкладом неслышно выскочит вспугнутая гонщиками лиса — ярко-рыжая, даже почти оранжевая, с темно-бурой вуалькой вдоль всей спины, с чудесным, похожим на хорошо пропеченный парижский long pain, «длинный хлеб», пышным хвостом, который как руль помогает ей преодолевать все встречные повороты и препятствия на пути…
Как этого не хватает там, в городе, в напряженной кипени множества неотложных дел и забот. И как хорошо, что хоть изредка, но удается вырваться на природу, побыть с ней наедине, постоять вот так, среди безлюдного поля, почти по колено в снегу, одновременно держа неотложное в памяти и не переставая, однако, вслушиваться в нестройные голоса идущих сюда вдоль обклада гонщиков.
Минувшая осень была для него изнурительной до предела. На всех фронтах — на западе и востоке, на севере и юге — все еще шли бои, хотя Красная Армия вместе с партизанскими соединениями продолжала теснить войска интервентов и белогвардейской контрреволюции. А там, где в голодной и нищей стране начинали налаживать мирную жизнь, вспыхивали офицерские и кулацкие мятежи, взрывались и горели заводские цехи, воинские склады, сеяли смуту в умах людей эсеры и меньшевики.
Борьба со всем этим требовала нечеловеческого напряжения сил, и Ленин работал почти без сна, день за днем, месяц за месяцем, пока предельная усталость и острейшие головные боли не заставили остановиться. По настоянию врачей он только что почти весь январь провел в Горках, в просторном и светлом доме среди старинного парка, в целительной тишине.
Но даже и там настоящего отдыха не было. Да и быть не могло. Страстная, деятельная натура Владимира Ильича не терпела покоя, а время требовало работы. И он продолжал поездки в Москву на неотложные заседания. Связки книг сменяли в Горках одна другую. Перо с утра бежало по листам бумаги, и стопки этих листов, исписанных беглым, слегка наклонным красивым почерком, с каждым днем все заметнее скапливались на столе в небольшой, уютной комнате на втором этаже, из окна которой такими чистыми и прекрасными кажутся засыпанные снегом сосны и ели парка. Смотреть на них из окна — одно наслаждение.
И все-таки, все-таки лучше стоять вот так за кустом, в безлюдье и тишине, нетерпеливо ожидая минуту, когда шагах в сорока от тебя на снегу вдруг покажется длинное оранжевое пятно…
«Впрочем, терпение, дорогой товарищ, терпение! — шутливо останавливал он себя. — Эта минута еще впереди. И когда она кончится, то, увы, кончится и очарование этого дня, ибо нужно будет спешить в Москву, к неотложным своим делам.
Впереди съезд партии. Провести его нужно во всеоружии, хорошо подготовленным для борьбы. Народные массы устали. Меньшевистское охвостье все громче вопит, будто большевики завели Россию в тупик и выход только один: отказаться от „преждевременного эксперимента“. Раз-де мировой революции не произошло, надо подождать до лучших времен и добровольно сдаться на милость мировой реакции…».
Невольно он бросил внимательный взгляд на трепещущие за кустом флажки обклада.
«Гм… как измученной гонщиками лисе покорно выползти в прогал прямо под пулю охотника? Раз-де „эксперимент“ оказался „преждевременным“, как полагают меньшевики, то иного выхода нет. Вот-вот на этот счет открыто выступит и Троцкий. Пока он играет эффектную роль крайнего „левого“, требует „завинчивания гаек“. Но крайности, как известно, сходятся. Самовлюбленный Нарцисс, так и не понявший сути революционного марксизма, он, как и ему подобные, не видит, что неизбежные на определенном этапе методы „военного коммунизма“ сейчас ничего, кроме вреда, принести не могут. В сущности, „левизна“ — это все та же дорожка к гибели.
Впрочем, не лучше и кажущиеся антиподами Троцкого новоявленные анархо-синдикалисты с их вздорной идеей замены руководящей государственной роли партии и Советов объединениями „производителей“ на местах. Они даже не видят, что этим помогают, в сущности, самым заветным планам господ капиталистов — добиться возвращения в России старых порядков.
Гм… да-а… Семь лет войны унесли в могилу едва ли не наиболее стойкие рабочие и партийные кадры. А тут разруха, влияние мелкобуржуазной стихии. На поверхность всплывают размагниченные группы и группочки. Прирост новых сил идет медленно: когда стоят фабрики и заводы — ослаблен, распылен, обессилен пролетариат, это естественно. И все же новые силы есть! На предстоящем съезде обязательно надо добиться избрания в состав ЦК этих стойких рабочих-партийцев. Именно они сейчас смогли бы придать устойчивость самому ЦК, наладить работу над обновлением и улучшением госаппарата…»
Снежок между тем легонько кружился и падал. Богатырский бор за рекой виднелся сквозь него, как сквозь тонкую кисею. Под облачным небом день казался каким-то придавленным, мутным. И все равно было так хорошо, что хотелось продлить это скучное, одинокое и вместе с тем такое раскованное стояние за кустом, чтобы еще и еще раз подумать о том, о чем уже думалось много раз и что, тем не менее, снова и снова требовало напряженной работы мысли.
«Взять хотя бы вопрос о всемерном развитии экономических связей с главными странами Запада, в особенности с Америкой. Да-да, именно с теми, кто лишь недавно участвовал в интервенции против нас и сейчас еще поддерживает недобитых генералов и внутреннюю контрреволюцию. Вот именно с ними-то, с этими, и придется вступать в деловую связь, использовать их технику для развития нашей промышленности…
Да, многое нужно сделать, чтобы поднять страну. Ради этого не жалко отдать все силы, хотя усталость не оставляет, а возможности даже для кратковременного отдыха минимальны. И нет лучшего лекарства от дьявольской усталости, чем вот этот чистый снежок, эти чудеснейшие минуты азартного ожидания и та волнующая минута, когда вдруг оттуда, из-за куста…»
Из-за темневшего справа куста и в самом деле вдруг показалась вначале узкая лисья мордочка с черными точками глаз и носа, потом и весь зверь осторожно вышел… не вышел, а как-то выскользнул, выплыл на почти целиком открытую взгляду прогалину за флажками.
Лиса была удивительно хороша. Отлично сформированная природой, как бы вытянутая для стремительного бега и непрерывного поиска, она, видимо, давно уже неслышно пробиралась между оголенными кустарниками в поисках выхода из обклада и теперь наконец-то выскочила к нему — в яркой пушистой шкурке, с той радующей взгляд искристой краснинкой, которая так хороша у лис в зимнее время, когда зверь уже полностью выкунился перед брачными играми и стал той самой ловкой кумой Патрикеевной, о которой говорится в народных сказках.
Перед самым прогалом она напряженно дрогнула и замерла. Неширокий разрыв между флажками пугал ее и притягивал: «Ты только рванись — и будешь свободной! Только рванись…»
Не торопясь, Ленин бесшумно поднял ружье. Мушка двустволки остановилась вначале около черного, остро поблескивающего глаза лисы. Потом опустилась к лопатке, и теперь, поводя прищуренным глазом, он разглядел ее всю: красновато-рыжий пушистый бок… настороженное ухо… округлый, широко раскинувшийся на белом снегу длинный хвост.
Лиса не двигалась, как бы сама отдаваясь смерти.
Так длилось всего мгновение. Но оно было столь впечатляющим, сильным, что Ленин заволновался и, боясь этого волнения, снял палец с гашетки: стрелять в такую красавицу показалось убийством, не по-людски.
Будто почуяв это, лиса оглянулась, поймала ушами уже довольно громкие шумы преследующих ее людей, привстала было, готовясь к прыжку, но… не рискнула, а только внимательным, долгим взглядом как бы ощупала узкий прогал, ведущий на волю, такой притягательный и такой подозрительно чистый рядом с присыпанными снежком человеческими следами.
Было видно, что она и хочет, и не может довериться этой близкой свободе. Трепещущие на ветру красные язычки флажков пугали ее, и Ленин мысленно подтолкнул:
— Торопись! Потом будет поздно…
Он довольно резко опустил ружье, и это не ускользнуло от напряженного взгляда лисы. Она стремительно прыгнула в сторону, оранжевой искрой блеснула за ближним кустом, бесшумно мелькнула дальше — и скрылась.
Несколько минут спустя над тем же кустом, из-за которого совсем недавно вышла к прогалу лиса, показазалась лохматая шапка Плешкова, а потом он вышел и весь — потный, с длинной палкой в руке. Увидев Ленина и почти рядом с прогалом четкую строчку лисьего следа, он удивленно остановился:
— Неужто ушла?
— Ушла…
— А что же вы не стреляли? Рядом же шла!
— Как-то замешкался. — Ленин сказал это очень легко, почти весело. — А потом уж и не успел…
Плешков осуждающе крякнул:
— Э-эх-ма!
Он не впервые был с Лениным на охоте, знал эту слабость Владимира Ильича, но так и не смог к ней привыкнуть: «Как это так? Разве может настоящий охотник позволить дичи уйти из-под верного выстрела? Лиса еще ладно, зачем она Владимиру Ильичу? Так нет же, бывало, он и не всякого зайца бил. Не во всякого косача стрелял. А в наше голодное время оно бы как хорошо: заяц или косач это уже не просто пища, а „деликатес“, как говорит разумница Марья Ильинична, когда внесешь, бывало, зайчишку в ихнюю кухню. Ну, что из еды взял с собой товарищ Ленин хотя бы нынче на охоту? Три ломтика хлеба с маслом да свою постоянную жестяную коробочку с мелко наколотым сахаром — на весь день! Да еще норовит угостить других. А если бы дичь?.. Да что говорить! Пускай лиса не еда, уж раз приехали, раз зверь пошел на тебя, стреляй! Не то, выходит, зазря тут по снегу лазил, за тем кустом цельный час по колено в снегу стоял? Эх, Владимир Ильич, Владимир Ильич… Как же вы так, ей-богу!»
Еще раз огорченно крякнув, Плешков отошел к кустам, внимательно оглядел оставленный зверем след и, когда все охотники собрались, обрадованно крикнул:
— Из обклада она не вышла! Сейчас мы ее еще раз нагоним. Давай, Никита Степаныч! А уж вы, Владимир Ильич, — обратился он к Ленину, — теперь постарайтесь. Приедем пустые — чего мы скажем в Москве? Над нами смеяться станут: опять, мол, проездили зря? В гараже у нас мужики надсмешники — спасу нет!
Красное, обветренное лицо Плешкова выражало такое глубокое огорчение, что Ленину стало жаль его. Он сказал со смущенной, почти виноватой улыбкой:
— Не хотелось в нее стрелять, уж очень была красива…
Из мутного неба по-прежнему сыпался легкий снежок, все было как бы опущено в тишину, когда нетерпеливые гонщики и охотники вернулись на свои исходные позиции. Но прежнего волнения Ленин уже не испытывал. Теперь он твердо решил, что стрелять не будет. Зачем губить красивого зверя? В этих местах лиса никому не мешает и не приносит вреда. Повсюду крохотные двоеточия мышиных следов, пусть зверь мышкует себе на здоровье!
И когда почти совершенно так же, как в первый раз, но уже усталая, потерявшая блеск лиса показалась из- за куста перед самым прогалом и прежде всего, утоляя жажду, рывком прихватила зубами снег, Владимир Ильич даже не потянулся к ружью, положенному на упругие ивовые ветки. Он просто стоял и любовался ею, теперь уже не столько красивой, сколько жалкой, затравленной, неспокойной.
В конце февраля у лис гон, весной — родятся лисята. Здесь корма им хватает. И, может быть, той зимой, если снова удастся сюда приехать…
«Сегодня тебе повезло, да ну же! — мысленно уговаривал он лису, досадуя на ее ненужную сейчас осторожность. — Воспользуйся этим и уходи. А то слышишь?»
Взглядом, как будто лиса могла это видеть, он указал туда, откуда все сильнее докатывались людские голоса.
Но и на этот раз инстинкт не позволил лисе рискнуть. То ли она не смогла забыть еле приметный, но испугавший ее блеск ружейного ствола за кустом в тот первый заход, то ли порывом ветра к ней донесло вдруг запах железа и человека, только она, почти волоча по снегу пушистое брюхо, опять миновала прогал и скрылась.
Не успел огорченный Владимир Ильич несколько раз переступить с ноги на ногу и размяться, как слева от него раздался не очень сильный, но весьма красноречивый — единственный — выстрел.
Стрелял, по всей видимости, не Рудзутак. «Близорукий Ян Эрнестович с его вечно запотевшими окулярами, — решил Владимир Ильич, — одним выстрелом, конечно, не обошелся бы: пока увидит зверя, пока торопливо протрет свои стеклышки… Лису уложил, разумеется, Круминг. Так-с… значит, переосторожничала, побоялась прыгнуть через флажки. А жаль, могла бы уйти…»
…Год спустя в «Заметках публициста», осуждая себя за якобы излишнюю осторожность во время критики меньшевистствующих итальянских «левых», Ленин вспомнит эту охоту и эту лису.
Он напишет об этом так:
«Говорят, самым надежным способом охоты на лис является следующий: прослеженных лис окружают на известном расстоянии веревкой с красными флажками на небольшой высоте от снегу; боясь явно искусственного, „человеческого“ сооружения, лиса выходит только тогда и только там, где эта „ограда“ из флажков приоткрывается; а там ее и ждет охотник. Казалось бы, осторожность для такого зверя, которого все травят, качество самое положительное. Но и тут „продолжение достоинства“ оказывается недостатком. Лису ловят именно на ее чрезмерной осторожности».
И тут же добавит:
«Политические уроки даже из наблюдения такой тривиальной вещи, как охота на лис, оказываются небесполезными: с одной стороны, чрезмерная осторожность приводит к ошибкам. С другой, нельзя забывать, что если заменить трезвый учет обстановки одним „настроением“ или маханьем красными флажками, то можно сделать ошибку уже непоправимую; можно погибнуть при таких условиях, когда хоть трудности и велики, но гибель ничуть, ни чуточки еще не обязательна».
Это будет сказано и о том, что на небывало трудном пути от разрухи к победе социализма, в окруженной врагами стране, большевики Советской России, приняв решение о временном отступлении в связи с переходом к нэпу, не поддались ни отчаянию, толкающему на безрассудства, ни сковывающей волю робости, смогли и смогут трезво учесть в дальнейшем, «где, когда и насколько надо отступить (чтобы сильнее прыгнуть)…»
Наспех позавтракав, секретарь Московского уездного комитета партии Иван Николаевич Веритеев лишь на несколько минут заглянул в свой рабочий кабинет — скудно обставленную небольшую комнату в трехэтажном здании на спуске от Садово-Сухаревской к Самотеке, — чтобы напомнить своей помощнице, комсомолке Тоне, о некоторых неотложных делах, за которыми необходимо проследить в его отсутствие. И сразу же отправился на Казанский вокзал: надо было срочно ехать на завод Мак-Кормиков, где началась очередная «буза», затеянная не без подначки председателя заводского комитета Драченова.
Вчера митинговали, позавчера митинговали, сегодня, судя по всему, тоже будут митинговать. Секретарь заводской партийной ячейки Платон Головин — мужик серьезный, да не вовремя заболел. А тут и здоровому не очень-то просто справиться с митинговщинами. Партийная прослойка на заводе едва дотягивает до трех процентов от общего числа рабочих. А их — больше всего деревенских, полу крестьян. Тех, кто не нюхал пороха на фронтах, не получил боевой пролетарской закалки, не разбирается в обстановке. Оттого и «бузят» они постоянно. Теперь вон жалуются на то, что сняли их с «ударного» пайка. А что поделаешь? Всем не сладко.
С осени и до конца зимы завод выполнял заказ Совнаркома по выпуску сеялок и плугов для посевной наступившего двадцать первого года. И пока этот план выполнялся, рабочим шел ударный паек: 45 фунтов серой муки, 15 фунтов квашеных и мороженых овощей, фунт соли, четверть фунта мыла и две коробки серных спичек в месяц. Теперь, как и следует по закону, перевели опять на обычный паек. Потерпеть бы… Ан нет! Этим сразу же и воспользовались говоруны вроде председателя завкома Драченова.
Тот мнит себя чуть ли не вожаком, а собственного «бога» в голове нет и не было. Да и откуда ему быть у недавнего торгаша — «картофельника» из деревеньки Панки? — сердито спрашивал себя Веритеев. — Вот и стал сторонником модной сейчас «рабочей оппозиции», в теоретиках которой гордо ходит председатель ЦК профсоюза металлистов Шляпников…
В тот день, когда выбирали завком, Веритеева в Москве не было. С очередной партийной мобилизации он вернулся позднее. «Однако знали же коммунисты завода, а тем более Платон Головин, что представляет собой этот Драченов? Постоянно вертелся на всякого рода митингах, которыми сейчас увлекаются такие субчики под видом необходимости „выявить правду в свободном споре“. А если взять этого молодца за главную жилу, то вся его „правда“ в несогласии с правдой ЦК! Вон оказался в „рабочелюбцах“, как окрестил их товарищ Ленин. Пустил по заводу слух, будто добьется для „своих“ рабочих присылки продуктов и носильных вещей прямо из Америки: сам мистер Гартхен дал-де ему такое обещание!
Хорош, ничего не скажешь. На этой дури и въехал в завком, выдумкой и купил голоса рабочих во время выборов. А бюро во главе с Платоном не сумело тогда же „раздеть“ болтуна. Прошляпили шляпниковца. Вот и спеши теперь на дачный поезд, проводи совместное заседание партбюро и драченовского завкома, увещевай митинговщиков, усмиряй их бузу…»
Раздумывая об этом, худой длинноногий Веритеев продвигался размеренным солдатским шагом по скользким тропинкам среди сугробов, заваливших в ту зиму Москву, мимо наполовину растащенных на дрова пустующих магазинчиков и ларьков совсем недавно буйной, а теперь вот уже два месяца как прикрытой спекулянтской Сухаревки. Среди уныло сгорбившихся, засыпанных снегом ларьков то тут, то там еще воровато шмыгали какие-то личности, предлагая товары из-под полы «дамам и господам», закутанным в шали и дорогие, но уже потерявшие прежний вид меховые шубы.
Но это — остатки. Старая Сухаревка с декабря прикрыта, кончилась. Грузная Сухарева башня возвышалась теперь над горбатыми крышами пустых магазинчиков и ларьков, как севший на мель и покинутый командой дредноут. Из-под нее, сквозь широкий арочный проезд, со стороны Сретенки в сторону Мещанской или от Мещанской в сторону Сретенки, время от времени выскакивали заморенные извозчичьи рысаки, впряженные в некогда дорогие, как и те шубы на господах, а теперь обшарпанные и все же фигурные санки. Торопливо семенили по извилистым, узким тропкам, пробитым в снегу, кое-как одетые пешеходы.
Ясное солнечное утро лишь подчеркивало убожество привычной картины, и Веритеев старался больше глядеть себе под ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть.
Плата за проезд в трамвае, за жилье и другие городские услуги еще только предусматривалась в решениях Моссовета, каждый свободно ездил на чем и куда хотел. Поэтому нечего было и думать втиснуться в переполненный трамвай, чтобы добраться до привокзальной Каланчевской площади. Привычнее и проще дошагать туда на своих двоих. Тем более что после недавних метелей установились погожие теплые дни. Идти в такое утро — одно удовольствие. И если бы не спешка, не эта необходимость попасть на ближайший поезд, шел бы да шел себе, грелся бы на ходу после холодной ночи в нетопленной комнатенке.
Миновав ограду Шереметьевского странноприимного дома (несколько лет спустя он станет центральной станцией медицинской помощи им. Склифосовского), а затем и высокую стену Спасских казарм, густо исклеванную пулями еще в Октябрьские дни да так и не замазанную с тех пор, он вышел на кривую Домниковку с ее воровскими и прочими притонами, возле которых даже и днем бывает небезопасно, спустился к проходу под насыпью окружной железной дороги к вокзалу и вскоре уже размашисто, как всегда, шагал по деревянной платформе к вот-вот готовому отойти пригородному поезду.
Поездки по партячейкам «своего» уезда (одного из пятнадцати, на которые в те годы была разделена Московская губерния) зимой не доставляли Веритееву удовольствия. За ночь нетопленные вагоны промерзали до последнего шурупчика, пар от дыхания пассажиров клубился в них с утра как дым, оседал на окна и стенки льдистой игольчатой изморозью. К исходу зимы здесь нарастали бугристые снежные шубы, и только там, где люди пытались протаять на окнах круглые смотровые глазки, чтобы не пропустить свою остановку, посверкивало солнце. Да и то лишь когда еле-еле ползущий поезд останавливался у открытых свету дачных платформ. Потом он натужливо трогался, с боков опять надвигались высокие заслоны сосен, состав двигался между ними, как в темной траншее, и все за окнами снова уныло меркло.
Веритеев к такому движению уже привык за те шесть с лишним лет — вначале германской, потом гражданской войны, и особенно за последние три года, когда приходилось по поручению партии мотаться на поездах, в том числе на товарных, то на фронты и подавление мятежей, то на заготовку дров и хлеба для голодной, мерзнущей Москвы, а теперь вот и в подмосковные партячейки. Он даже научился использовать неизбежный и нудный час пути для обдумывания предстоящих дел, чаще всего очередного доклада о международном положении. А выступать с такими докладами теперь приходилось еженедельно по пятницам.
На этот раз медлительность поезда показалась ему особенно тяжкой. С трудом дозвонившись вчера на завод, назначив на утро совместное заседание завкома и бюро партячейки, он теперь нетерпеливо поглядывал в «глазок» затянутого снежной шубой окна и злился не столько на медлительность поезда, сколько на себя и на Платона Головина.
Прошляпили шляпниковца! Упустили из виду возможность такого самостийного поступка, как отказ пред- завкома Драченова выполнить важное решение Совнаркома и ВСНХ! Вот и пожинай теперь лебеду вместо ржи… «Фу, черт! Ну тяни же, тяни! — перебивая тревожный ход мыслей, подбадривал он натужливо постанывающий от усталости вагон, за окнами которого вместе с дымом проносились черно-красные хлопья угасающих на ветру искр. — Всю душу мне вымотал, нету сил!»
Поезд наконец подполз к знакомой станции.
Почти одновременно с ним, всего тремя — пятью минутами раньше, на соседний путь был принят прикативший издалека состав из теплушек.
Веритеев хорошо знал эти длинные теплушечные поезда: именно на таком два месяца назад он в последний раз вернулся в Москву, проехав шестьсот с лишним верст за две недели…
О том, что это идет состав из приспособленных для перевозки людей товарных вагонов, можно было только догадываться по астматически пыхающему из трубы жидкому дыму, казалось, вот-вот готового развалиться паровоза. Все остальное скрывалось под бугристой, судорожно шевелящейся массой людей с мешками, корзинами и узлами — сотен людей, облеплявших крыши, тормозные площадки, буфера и стяжки между вагонами. Издали такой поезд казался телом гигантской доисторической сороконожки, мечущейся в предсмертной агонии по мерзлой земле, а бугристая сыпь людей и мешков на ней — разбухшими от тифозной крови скопищами неистребимо плодящихся насекомых. Лязгая всеми суставами, «сороконожка» еле ползла по рельсам, а впереди ее поджидали новые толпы голодных, неистово деятельных людей, называемых в те годы позорным и горестным именем: «мешочники». Одни сваливались с крыш и площадок, из люков и с буферов на землю и разбредались по ближним селениям, другие лезли на их места, дрались за каждый вершок в вагоне или на крыше, втискивались в любую щель между уже прижившимися здесь другими людьми. И все это с неистовой руганью, с плачем и криками или молча — с железно сцепленными зубами.
Не в силах идти, но и не в силах стоять, паровоз исступленно взвизгивал, долго тыкался взад и вперед, выбрасывая из поднятого к небу горла клубы искр и дыма, пока наконец не трогался с места и не оттаскивал многочленное тело состава от станционного здания.
Оберегая Москву от эпидемии холеры и тифа, такие составы в столицу не пропускали: здесь, в пятнадцати верстах от Москвы, его поставят на запасный путь, выскоблят, промоют карболкой и только тогда перегонят на Сортировочную, чтобы некоторое время спустя снова отправить на юг, на запад и на восток. А пока с его крыш, с тормозных площадок, из широких дверей теплушек грузно вываливались люди. Скопище тех, кто колесил день и ночь по стране в поисках хлеба.
Несмотря на привычку к таким картинам, Веритеев со смешанным чувством осуждения и сочувствия некоторое время вглядывался в толпу приехавших с этим поездом, прежде чем спрыгнуть с площадки пригородного вагона. Толпа валила к вокзалу прямо по путям, чтобы отсидеться в тепле, дождаться дачного поезда, следующего в Москву. И только местные двигались вдоль путей, за станционную водокачку, в поселок — к знакомым или домой.
Один из идущих в поселок показался Веритееву знакомым: складный, размашистый паренек. И явно в Платоновой шапке, из-под которой торчат светлые, соломенного цвета, почти белые волосы. «Антошка? Ну так и есть: младший Платонов сын. Ишь ты как ловко проталкивается сквозь толпу. Спешит скорее выбраться за водокачку, Откуда-то домой вернулся. А мешок за спиной — пустой. Похоже, что зря проехал, вернулся домой ни с чем…»
Когда пригородный поезд задергался, чтобы следовать дальше, Веритеев спрыгнул с площадки на истоптанные пути и медленно поднялся по скользким ступенькам на переходный мостик. Отсюда он любил прежде всего поглядеть в ту сторону, где негусто, но все же постоянно дымила труба «его», «родного» завода.
Там он был избран в семнадцатом году председателем первого заводского комитета, стал начальником боевого рабочего отряда, принимал участие в захвате этой железнодорожной станции, а также почты и телеграфа в поселке. Был председателем партийной ячейки, вел борьбу за соблюдение американцами советских условий труда в цехах. Как потом ни пытался злопамятный мистер Гартхен освободиться от него под разными предлогами, как ни старались спихнуть его и разные горлопаны из меньшевиков и эсеров — ничего у них не получилось: Веритеев продолжал работать как один из опытнейших инструментальщиков завода и одновременно стоять во главе небольшой, но сплоченной большевистской ячейки, пока не пришлось, как и многим другим, отправляться на фронт, потом — раз за разом — по неотложным партийным мобилизациям и делам. Когда в конце двадцатого года вернулся в Москву, губком распорядился по-своему; вначале избрали членом, а затем и секретарем Московского уездного комитета. Теперь — в который уж раз? — по указанию губкома приехал сюда, в родные места, расхлебывать заваренную Драченовым кашу…
Когда он спустился с мостика вниз, на привокзальную поселковую площадь, кто-то внезапно толкнул его в бок.
— Дядька Веритеев, ты?!
Растянув в улыбке широкий лягушечий рот с дыркой вместо одного из передних зубов и будто ожидая за свой толчок по меньшей мере награду, перед Веритеевым стоял приятель Антошки Головина, помощник пекаря в заводской пекарне Филька Тимохин. В давно изношенном самодельном пальтишке из солдатского сукна, в давно отслужившей свой век солдатской же серой шапке, с тощим мешком за спиной, Филька был явно из тех, кто только что приехал в теплушечной «сороконожке».
Веритеев хорошо знал отца паренька, Сергея Тимохина, много лет работавшего в заводской литейной, недавно убитого бандитами. Знал и Фильку — суматошного, с дурашливыми ухватками… а что с него взять? С раннего детства — бедность да темнота, война за войной. Отец вернулся с германской еле живой, теперь — совсем без отца, с больной матерью. За короткую жизнь всего нахватался, и доброго и дурного. Считает себя грозой буржуев и «спекуляг», а при случае сам не прочь схватить, что «плохо лежит». Стихия…
Веритеев подумал об этом привычно, мельком, но встрече невольно обрадовался: что ни говори, а тоже заводский, свой.
— Откуда? — спросил он, здороваясь.
— Откуда и все! — Обернувшись в сторону состава, где еще толпились люди с торбами и мешками, Филька безнадежно взмахнул изодранной варежкой: — Ездили с Подсолнухом за хлебом.
— С каким подсолнухом? — не сразу понял Веритеев..
— С Антошкой Головиным. Хотели на Урал… ан я и до Волги не добрался. Сошел по дороге…
— С чего же так?
— А с того, что какой-то бандюга ночью меня обокрал. Менять стало не на что: все подчистую выкрал! Искал я его по дороге и вот наконец нашел! «Отдай», — говорю. А он ни в какую, талдычит свое: «Не брал». А как не брал, если носом чую, что взял: пахнет моим мешком на версту! Ну, я хотел было силой, а он мне хрясь под дыхало… гляди вот.
Филька стал было расстегивать старое, замызганное пальтишко, но Веритеев остановил:
— Не надо…
— И верно, — легко согласился парень. — Как даст, я сразу с катушек долой! Пока очухался, босяка уж и след простыл. — Филька ожесточенно сплюнул. — Пришлось самому у раззявы бабы вот этот мешок спереть.
Он сильно дернулся всей спиной. Висевший на веревочных лямках мешок тряхнуло, что-то в нем звякнуло, вскинулось и затихло.
— А что в том мешке? — протянул он уныло. — Одни слезы. Лучше бы и не ездить…
— Да-а, видно, не очень-то у тебя получилось. И бедную бабу оставил без ничего, — недовольно сказал Веритеев. — Выходит, ты сам не лучше того бандюги.
— Так я же с голоду бы подох! — обиделся Филька. — Выхода не было. Да и что я у бабы взял? Тоже мне — прибыль! — Он снова встряхнул мешок, безнадежно махнул рукой.
— А что у Антошки? — спросил Веритеев.
— Не знаю. Наверно, дальше поехал. К уральским казакам. Оттуда уж, думаю, привезет! — не скрывая зависти к удачливому приятелю, добавил Филька и даже вздохнул.
— Не привезет. Только что видел его с каким-то лохматым мужиком. Пошли, как видно, домой. Похоже, совсем пустой.
— Да уж… где там — без ремешка! — с огорчением сказал Филька. — Кабы тот ремешок…
Он снова толкнул Веритеева в бок.
— И с чего это, ты скажи, мне всегда не везет? И вроде здорово приготовлюсь и все учту, и вроде самого ловкого ловкача смогу обойти, да так, что тот не заметит, а то и спасибо скажет. А как подойдет к расчету, так, глянь ты, всегда меня будто палкой по лбу: обязательно мне же и недостача! Вот видишь зуб? — Он ткнул грязным пальцем в раздувшуюся верхнюю губу. — Один спекуляга хряснул вчерась. Я его на станции в Коломне на базарчике уличил как самого злостного спеку- лягу: все у него за круглые миллионы! «Сухаревский контрик ты», — говорю. А он мне как даст…
— Борец ты, я вижу! — не удержался от улыбки Веритеев.
— А как же? — искренне возмутился Филька. — Если этих спекуляг да охмурял не выявлять наружу, они весь народ оберут!
— А это что за синяк? — Веритеев указал на левое подглазье парня. — Опять с кем-нибудь из «спекуляг» подрался?
Филька смутился.
— Это не спекуляга… а так… еще до поездки.
— Знатный синячище. Кто же так постарался?
Филька насупился. Потом ухмыльнулся. И наконец совсем расплылся в полувиноватой ухмылке, будто история с синяком была лишь забавным, неогорчительным приключением:
— Это у нас в заводской пекарне. Ну понимаешь, дядя Коля, все там таскают. Мука-то, чай, под руками! Как фунта два тайком не унесть? Пекаря во главе с Капитонычем каждый день по мешочку уносят, а я чем хуже? Из той американской крупчатки мамка такое дома сварганит… Ну сшил я тоже мешочек, да, видно, перестарался, длины его не учел. Подвесил под фартук и ношу. День ношу, два ношу. А на третий, когда мы тесто разделывали, похоже, зря наклонился. Мешок-то сзади, где фартука нету, стало видно. Наш завпекарней Иван Сергеич… строг он бывает! Как увидел, да как отхватил меня от ларя, да как поднял мой фартук, да как вгорячах подвесил мне под глаз, да как выставил из пекарни… на цельный месяц уволил. «Посиди, говорит, подумай».
Веритеев хотел было тоже обругать и пристыдить баловного парня: таскать муку, когда голодают в поселке дети… Но Филькино простодушие было таким обезоруживающим, что Веритеев только спросил:
— Ну и как ты, подумал?
— Подумал. В пекарне брать теперь заказал, ни-ни!
— А в других местах?
— В других-то?
Филька задумался и промолчал.
— Бьют тебя там и тут, а впрок не идет, — сказал Веритеев. И, усмехнувшись, добавил: — Какое, я забыл, прозвище у тебя в поселке?
— Прозвище-то? — Филька пренебрежительно хмыкнул. — Тоже мне прозвище. «Битый»…
— A-а, вспомнил: «Битый». Я бы еще одно дал… Видел в Художественном постановку про вишневый сад?
— Видел! — с удовольствием подтвердил Филька. — Нам раз вместо хлебного пайка билеты туда выдали. Ходили смотреть всем кагалом!
— Помнишь, там есть один, называется Епиходов?
— Ха! Как мне не помнить, если наши дураки после того спектакля так меня и зовут? Мало им «Битого», теперь еще «Епиходыч»…
Веритеев с минуту смотрел на шагавшего рядом парня. Едва ли минуло семнадцать лет, а уж всего навидался и нахватался. И навидался, и нахватался, а в ум пока не идет…
— Все-то ты, Филька, дуришь, — сказал он сердито. — А ведь пора бы и в ум войти. Кончай свое баловство. Время нынче знаешь какое? Тут надо каждому комсомольцу примером быть! А ты вместо этого…
Разговаривая, они прошли на пустырь возле станции. На небольшом, но все время, как муравейник, находящемся в движении поселковом базарчике толкались плохо одетые люди. Бездомные собаки сновали вокруг. Над укрытыми снегом крышами одноэтажных домов из высокой заводской трубы, торчавшей далеко за ними, поднимался не очень густой, но все же сразу бросающийся в глаза рыжеватый дым. Ветер с налету как бы обламывал его у самого жерла трубы, сваливал вбок и вниз, в сторону вокзала. Сзади, на станционных путях, немощно посвистывал маневровый паровоз: видимо, шло формирование очередного состава.
— А ты к нам зачем прикатил? — уже прощаясь, поинтересовался Филька.
Веритеев нахмурился. Тревожные мысли о неприятностях на заводе, которые вот уже не один день не давали ему покоя, вдруг снова хлынули в душу, казалось, вместе с пахнувшим оттуда ветерком, донесшим сюда струю знакомой заводской гари.
— Очередная буза у вас на заводе. Так что, брат, прощевай! — и ускоренным шагом двинулся в сторону завода.
На крыше одного из вагонов теплушечного состава, только что принятого на запасный путь, подручный заводского слесаря Антошка Головин вернулся из неудачной поездки за хлебом в предуральские степи.
В дороге он пробыл пятнадцать дней, голодный и злой. Люто мерз по ночам — без сна, вцепившись немеющими от напряжения пальцами в железную печную трубу единственного в этом составе пассажирского вагона.
И не в том беда, что ехал на крыше, мерз и не спал: все вокруг не спали и мерзли. На то и зима. На крыше даже удобнее: можно не только сесть, но и лечь. А каково во вьюжную ночь тем, кто теснится на буферах, едет не сидя, а стоя, с риском свалиться, если задремлет на ходу?
Главное в том, что поверил приятелю Фильке, хотя всем ребятам в поселке известно, что Филька врун: сам что-нибудь невозможное выдумает и сам же первый себе поверит. Невольно поверишь ему и ты…
А началось все с того, что в их обнищавшем за эти трудные годы рабочем поселке кто-то из вернувшихся после разгрома Колчака домой пустил заманчивый слух, будто вслед за Колчаком бежали в Сибирь из своих богатых станиц чуть ли не все приуральские казаки. Бежали поспешно, взяв с собой лишь то, что смогли захватить из домашнего барахла. А хлеб в сусеках и на полях остался. Теперь кто первый туда прорвется, тот кум королю: греби первейшей пшенички хоть сотню мешков, только бы до Урала доехать!
Филька рассказывал об этом как очевидец, захлебываясь, округло вытаращив разные глаза — один зеленоватого, другой грязновато-сизого цвета. Настырно ввинчивая их переменчивый взгляд в лицо приятеля, все время размахивая руками, он то доходил в своем увлечении до крика, то спускался до еле слышного заговорщического шепота, при этом время от времени предостерегающе хмыкал и оглядывался по сторонам, давая понять Антошке, что дело это секретное, надо держать его при себе, не то узнают о том другие, ринутся скопом к заветным местам, тогда не видать казачьего хлеба, как ушей своих.
— Давай, Подсолнух, договорись на заводе с дядькой Егором и нынче же собирайся! — говорил он, досадуя на приятеля за то, что тот, похоже, не верит в уральский хлеб, все еще сомневается, когда сомневаться тут нечего, люди зря говорить не будут. — В цеху тебе все равно делать нечего. А на Урале… Уж там чего-ничего, а возьмем! Сам посуди: что казакам оставалось делать, если не драпать в Сибирь? Помогали они белякам? Помогали…
— Не все же, — слабо упирался Антон, хотя и ему хотелось поверить в эти добрые слухи.
Филька по-бабьи всплескивал несоразмеримо длинными руками:
— Вот чудодей ты, право! И пусть убежали не все. А те, которые с Колчаком? Их сколько, по-твоему, было? Казак, он не то что мы, пролетарии всех стран! Ему, брат, другого выхода не оставалось, если против нас воевал. Это, брат, раз. А второе: что возьмешь при таком побеге? Ни хлеб, ни скотину с собой не утащишь. Вот и смотри.
Почти со сладострастным выражением на узеньком, лисьем, всегда почему-то немытом лице он торопливо загибал ногтистые пальцы, вел счет:
— Слыхано, кто-то уже вернулся, еле довез. И опять поехал туда же. Богатые там места, говорю тебе! Значит, сколько-нисколько, а хлебушка привезем. Удастся, так и барашка… целого. Это, брат, два. Засолим его, увяжем покрепче… озёра там, слыхано, когда высохнут, чистая соль. А она — дороже барана! Значит, и соли с собой привезем! Это три. Голодным сидеть, по-твоему, лучше? Что ты подсобником у дядьки Егора за две-три недели получишь от наших американцев? Сухую селедку. Зато, когда привезешь…
— А если никто из казаков не убежал и надо будет меняться? Чего мы дадим в обмен? — С безнадежным видом Антон оглядел свою рваную, запачканную сажей куртку и истертые до дыр штаны. — Что есть, в том весь. Тут ничего не наменяешь.
В одну из таких минут Филька неожиданно замолчал, долго грыз ноготь на указательном пальце, потом раздумчиво сплюнул, хмыкнул и вдруг, засмеявшись, махнул рукой:
— Черт с тобой, так и быть. Решил было это дело держать при себе, один поживиться, да ладно уж. отдаю, раз такой несогласный!
Склонившись к Антону и время от времени больно дергая шершавыми пальцами его прихваченное морозцем ухо, он возбужденно забормотал:
— Ух, брат, какое я придумал дельце! Захочем, так сто пудов запросто привезем без всяких казаков! А чего? Раз он буржуй да, может, еще и скрытая контра… кто их знает, этих господ? С ним цацкаться, что ли, будем? Буржуев надо давить до конца! Что было ваше, то будет наше! Пролетарию нечего терять, если можно взять! — добавил он с обезоруживающей ухмылкой на плутоватом лице.
Зная не только склонность приятеля к преувеличениям и вранью, но и удачливую пронырливость его во всякого рода проделках, Антон с недоверчивой усмешкой спросил:
— Какое еще там дельце?
— А вот какое! Видел ремень в синеме у Новикова? Из того ремнища можно запросто нарезать с полсотни подметок. Сам вон, видал, в чем хожу? — Филька круто вывернул левую ногу, чтобы виднее было дырявую, полуоторванную подметку рыжего сапога с лопнувшими по швам голенищами. — Эно, брат, в чем хожу! Да и ты не больно обут. Твои тоже вон каши просят. А тот ремешок..
— Хватит тебе вертеться! Какой ремешок?
— Говорю тебе: который надет на машину в электротеатре буржуя Новикова! — уже сердясь на непонятливость Антона, выкрикнул Филька. — Ремень на маховом колесе видал? А кто такой Новиков, знаешь? В семнадцатом их прижали, а нынче опять он лезет. При черной «гаврилке», в шляпе. А мы с тобой без штанов и подметок ходим. За хлебом вон собрались с пустыми руками… а может, и верно — задаром не отдадут? Да и на что нам менять? На мои сапоги да твои опорки? — Он сильно толкнул Антошку в плечо. — Мы с тобой, значит, с голодным пузом да босиком, а Новиков при «гаврилке» и хоть бы хны? Картины за деньги трудящихся крутит, полтыщи за билет. Ремень отколь-то достал! Прятал небось от нашей рабочей власти, а теперь достал тот ремень — и крутит!..
Все время, пока «Епиходыч» возбужденно топтался перед Антошкой, толкал его то в плечо, то в бок локтем, — Антон растерянно думал.
И в самом деле: хорош приводной ремень в машинном сарае хозяина поселкового электротеатра Новикова. Невиданной толщины и ширины. Маховое колесо крутит так, что только рокот да свист идет, когда машина в работе. «Так-так-такает» на весь поселок во время сеансов. Колесо сверкает надраенной сталью, ремень бежит бесконечной лентой. Еле успеваешь следить за ним, когда глядишь издали в освещенную утробу сарайчика. И всегда удивительно думать, что вот так, от этого колеса, от ремня — и рождается электричество. Отсюда оно бежит к механику в будку, тот крутит фильму, и в то же самое время в сколоченном из тесин зрительном зале люди видят картину — то про любовь, то про разных животных, а то про богатую жизнь. И до этого дня никому даже в голову не пришло подумать о ремне иначе как о ремне для машины. «Битый» первый сообразил, как хорош ремешок на подметки и что хозяйчик Новиков ходит при галстуке, в шляпе, за каждый сеанс сдирает с трудящихся масс большущие деньги…
— Вчерась я близехонько поглядел да подергал: можно открыть вполне! — между тем уже совсем деловито рассказывал Филька. — Правда, на дверях сарайчика этот Новиков намалевал, видишь ли, хитрый лозунг: «НЕ ТРУДИСЬ, ТОВАРИЩ ВОР-ГРОМИЛА, РЕМЕНЬ УБРАН!» А я заглянул в окошко, ремень-то совсем и не убран! И тут у буржуев обман, — с торжествующим видом ожесточенно воскликнул Филька. — И тут хотят охмурить рабочего человека! Пишет, что убран, а оставляет его в машине. Дурочек из нас строит. Ну в дверь действительно не пройдешь: она на замке. А дужка замка толщиной пальца в два, никакими клещами не перекусишь. Зато в окошко… Оно хоть и с частыми переплетами, курица еле пролезет в такую дыру, а я проверил — можно высадить целиком, окошко держится на соплях. И железину подходящую подыскал. Можно хоть нынче ночью реквизнуть тот ремень…
— Как же мы реквизнем? Мы не милиция, — упирался Антошка. — Вот если бы взять у товарища Дылева мандат…
— Ха! Даст тебе председатель нашей Чека мандат, как же! — Филька сердито и безнадежно махнул рукой. — А если и даст, поскольку мы тоже ему не чужие, то уж распределит ремень на подошвы совсем не нам: милиция тоже в таких вот ходит! — Он вновь укоризненно оглядел свои и Антошкины сапоги. — Тут уж, брат, другого выхода нет, если хочешь поехать за хлебом в обмен. Сами его реквизнем, сами и распределим…
Помолчав, Антон наконец угрюмо сказал:
— Чай, мы с тобой в комсомоле…
— И что? — вскинулся Филька. — Буржуйский он, тот ремень!
— Мало ли… Надо все по закону.
— Ха, по закону! Ну и сушня ты, Подсолнух! Семнадцатый год пошел, взрослый мужик, а дурак дураком, ей-богу! Только и держишься за закон! Буржуйчик, думаешь, так все и делает по закону? Как бы не так! Помнишь, что намедни докладчик нам говорил про ихнее воровство? Ну, в тот вечер, когда мы обыск у самогонщиков делали… помнишь? Завскладом самого Совета Народного Хозяйства в Москве спер да продал партию двухручных пил за пятьдесят миллиончиков! А другой ловкий дядька взял в каком-то месте аванс под дрова и в то же самое место, им же, и продал эти дрова в пять раз дороже… это тебе что? Новиков тоже небось охмуряет наши законы на каждом шагу. И живет в своей прежней квартире, и деньги гребет. А где он взял тот ремень, еще неизвестно. Свистнул небось на каком совецком заводе. А ты — «давай по закону»! Вот ведь балда! Просто, я вижу, струсил. Боишься рученьки замарать…
В душе Антошка со многими Филькиными доводами готов был согласиться. Но что-то все же мешало ему согласиться совсем. И чем горячее убеждал его Филька, тем это мешающее становилось сильнее, тем все убежденнее он напирал на закон. Кончилось тем, что они разругались и разошлись.
А день спустя Филька под каким-то пустым предлогом зашел к Антошке домой, благо жили они рядом на главной улице поселка, и с наигранно-постным видом сказал:
— Ну ладно, раз ты такой, отпросись у дядьки Егора, поедем и без ремня. Пусть мать наскребет тебе какого- нибудь барахла на обмен. Менять так менять…
И только в пути, уже за Рузаевкой, он признался Антону, что все-таки взял тот ремень и везет его в заплечном мешке. Не весь, половину, а все-таки от того, от «новиковского» ремня.
— Не мог я от этого отказаться! — отчаянно оправдывался Филька. — Уж больно хорош ремешок. А одному такое дело не сладить. Ну, взял я в помощницы Кланьку. Сеструхе пятнадцать лет, а лихая да сметливая, беда! Не то что ты… Ночью выставили с ней в сарае Новикова окно, сняли ремень с колеса… нелегкое было дело! Такой тяжеленный, дьявол! — счастливым шепотом рассказывал парень, сидя на мешке с разрезанной на подметки частью ремня в набитой людьми теплушке по дороге в заветную предуральскую степь. — Пока волокли его — ух и упарились! Будто в бане. Цельный час тащили его задами. Ан все сошло благополучно. Часть Кланьке оставил, а часть с собой. Вот он, родимый… воняет — страсть!
Тощим задом Филька с удовольствием поерзал по жесткому, пропахшему пряным машинным маслом мешку.
— Теперь только дай нам с тобой до казачьего хлеба добраться. Мы такого там натворим…
Антон сердился и упрекал товарища за воровство, но дело сделано, переделать нельзя. Постепенно и в нем — вначале где-то в глубине сознания, потом определеннее — возникло и оформилось оправдание решимости Фильки. «В самом деле, ремень-то буржуйский. Еще неизвестно, где добыл его Новиков. Не украл ли? Да и что бы я получил в обмен у казаков за те два мамкиных платья и за другую одежду, какую она наскребла для меня в сундуке? Что они по сравнению с этим ремнем? Хочешь не хочешь, а есть-то надо…»
Однако им с «Битым» не повезло и с ремнем. К тому времени, когда оправдание Филькиного проступка не только определилось, но даже стало переходить почти в восхищение, их предприятие неожиданно рухнуло: на одной из ночных остановок, в кромешной морозной тьме, когда выдирающиеся наружу и втискивающиеся с бранью в вагон шагают прямо по людям, кто-то неслышно вытянул из-под спавшего Фильки мешок и скрылся.
— Я знаю, кто взял! — потрясенный случившимся, вскрикивал и грозил кулаками Филька. — Рыжий такой. Босяк. Когда я тебе рассказывал про ремень, он слушал. Сильно так слушал. Мне, дураку, потихоньку бы, а я нарочно, на выхвалку, чтобы знали, каков я, Филька Тимохин!.. Ну я его, босяка, настигну! Где-нигде, а найду! Ремень, он такой: не спрячешь, по запаху выдаст. На той остановке сойду — и сразу назад, искать босяка…
На первой же остановке Филька и в самом деле выпрыгнул из теплушки, помахал Антону рукой и ринулся к составу, идущему с востока на запад, в Москву.
Антон остался один.
Ехать в одиночку дальше? Что наменяешь на те обноски, которые мать наскребла ему в дорогу? К тому же есть-пить еще надо. А что наменяешь, то и проешь. Значит, резон — податься назад.
И, проехав еще один перегон, он тоже выпрыгнул из вагона.
Недалеко от обшарпанного, побитого пулями вокзальчика закутанные в шали розовощекие бабы продавали еду: картофельные котлеты, квашеную капусту, моченые яблоки, даже ломтики сала. Соблазнительный, сладкий дух напирал оттуда, бил через ноздри, казалось, вовнутрь затылка. И парень не выдержал: на зашитые в подкладке ватного пиджака обесцененные тысячи он купил и, почти не жуя, проглотил котлету, потом два моченых яблока и еще картофельную котлету. А часа через два откуда-то из-за Волги притащился состав — точь-в-точь такой, на каком Антошка ехал сюда. Даже показалось, что это вернулся тот самый. Только и было в нем нового, что зеленый вагон с дорожным начальством.
Куда бы Антон ни тыкался, всюду торчали, ругались, не пускали в свою тесноту усталые, злые люди. И лишь в последний момент, когда паровоз уже начал дергаться и шипеть, ему кое-как удалось зацепиться за поручень зеленого вагона, а потом благодаря хорошему мужику, который через головы и спины сердито гудящих мешочников протянул ему руку, забраться на крышу, к струившей едкий дым трубе.
Мужик оказался сибиряком. Засаленный полушубок из черной овчины не доставал ему до колен. Длинные ноги, обутые в лопнувшие на сгибах пимы, далеко вылезали наружу. Короткими были и рукава. Только серая солдатская шапка из бумажной мерлушки пришлась как раз по кудлатой большой голове. Худое лицо мужика с сине-голубыми глазами густо заросло рыжевато-белой колкой щетиной.
Эти-то голубые глаза сразу и расположили к себе Антошку.
Облепленный мешочниками состав медленно тащился к Москве по заснеженным зимним полям, сквозь еще неживые леса, мимо темных, прижатых к земле деревень. Часами стоял на каждом разъезде. А они, лежа на крыше рядом, день и ночь мерзли, спали по очереди, страхуя друг друга, хотя Антон по совету Савелия Бегунка (так назвался мужик при первом же разговоре) привязал себя вместе с мешком веревкой к трубе.
Все время, пока они ехали так вот на крыше, между ними тянулся немногословный, но важный для каждого разговор. Савелий расспрашивал о Москве, Антон — о Сибири. Мужик рассказывал о себе обстоятельно и охотно.
Едет он из Сибири, хотя сам — орловский, из безземельных переселенцев. Из тех, кто тридцать лет назад, поверив посулам царского земельного министерства, снялся с родимых мест и двинулся вместе с тысячами таких же голодных, нищих людей в Киргизский край (так тогда называли теперешний северный Казахстан). Ехать туда было страшно. Не было сил расставаться с неурожайными, а все же родными местами. Но — обещанные пятнадцать десятин на душу… но — подъемные в сорок рублей… А тут еще беспримерный даже и для их нечерноземной полосы страшный неурожай и повальны голод 1891 года…
По благодушным заверениям генерал-губернатора Киргизского края Казнакова, заселение Западной Сибири должно было осуществляться не только «без стеснения кочевого населения», но и с гуманной целью «приобщения кочевников-киргизов к ведению оседлого образа жизни», а следовательно, и для более продуктивного освоения пустующих земель. Это, по доводам генерал- губернатора, «поведет за собою дружеское общение русского населения с киргизами» и даст последним «наглядный пример более удобной жизни».
На деле все получилось иначе. В вербовочных листках говорилось, что переселенцам дается право выбрать землю в Сибири по своему усмотрению, где кто хочет. На обзаведение и покупку скота выдавались деньги. На первые десять лет хозяйствования предоставлялись разные льготы. Но когда эти тысячи семей перевалили через Урал…
Савелий даже и сейчас не мог без боли вспоминать о том, какое «вавилонское столпотворение» началось с первых же дней прибытия людей в «телячьих» вагонах на узловые станции и полустанки достраивавшейся Транссибирской железной дороги. Голодные и бездомные, они неделями спали вповалку на спекшейся словно камень земле возле наспех сколоченных вокзалов. Свои «десятины» каждому пришлось брать у местного населения с бою. Спасаясь от голода и предстоящей зимы, многие хлынули в города. Многие пытались бежать обратно к отцовским местам, в Россию. Но их вылавливали, хлестали нагайками, водворяли на земли «инородцев» силком, понуждая тем самым к насилию и вражде.
Савелию Бесхлебнову, позднее прозванному Бегунком, было уже за двадцать, когда его отец со своей семьей снялся с нищенского надела в Орловщине и вслед за другими двинулся по «чугунке» в неведомую Сибирь. Выданные на обзаведение деньги, из которых власти уже успели вычесть за провоз по три гроша с души за каждую версту (а этих верст от Орла до Омска оказалось немало сотен), были проедены до последней копейки еще в первую зиму. Выделенная Парфентию Бесхлебнову земля (тут ему повезло: другим семьям в тот год не дали совсем ничего, надо было ждать до весны) лежала в плоской степи за разъездом Каракуга среди соленых озер, заросла от края до края колючкой, горькой полынью, караджузаком.
На этой сухосолончаковой земле нечего было и думать о сытой жизни.
— Пропадем мы тут… пропадем! — с тоской повторял отощавший, лохматый, страшный в своем отчаянии отец, оглядывая воспаленными глазами ржавую, закаменевшую степь. — Надо, Савёл, бежать. Спасаться отсель нам надо…
И после слез ребятишек и горестных вздохов матери, после безрадостных прикидок отца: «Куда же теперь? Как же теперь? Живы мы тут не будем!» — семья Бесхлебновых решила «пойти в бега».
Но и в бегах не нашла она счастья. Вначале умерли «от жидкого пуза» две младшие сестры Савелия. Потом слегла мать. Отца засекли в волостном правлении стражники «за непокорство» («Отец был начальству мужик поперечный!» — пояснил Бегунок), и Савелий, оставшись один и тоже «мужик поперечный», снова «пошел в бега».
— Сколь пришлось пережить, — говорил он теперь Антошке, — сколь перемучиться, сколь проклясть, об том и подумать страшно! К счастью, забрили в солдаты и в одном из боев той русской-японской войны сильно ранило. Оказался я в лазарете вместе с нашим орловским, тоже переселенцем, Иваном Братищевым. То да се… уговорил он меня сесть наконец на добрую землю рядом с ним, в селе Мануйлове, на берегу длиннющего озера Коянсу, где раньше еще осела часть тоже орловских. Эти оказались умнее: прежде, чем ехать всем, послали из России в Сибирь разведку. Те походили, поездили, вернулись шкелеты шкелетами, а все же место нашли хорошее… Урожайное место. Так я после войны рядом с Иваном и прилепился в Мануйловке…
Савелий закашлялся, похрипел, тяжело подышал.
— Женился, семья своя получилась. А тут и опять война. И Колчак… ну чего уж?
Он вновь замолчал, на этот раз еще тяжелее, надолго. Потом взглянул на Антошку, тесно прижавшегося к трубе, на его пустой заплечный мешок, на посиневшее от холодного ветра еще безусое лицо, обнадеживающе добавил:
— У нас, в Сибири, слава те, с хлебом пока добро. Вестимо, у тех, кто с хозяйством. Хлеб у этих — не считан. Годами клади в поле необмолоченные стоят. А каждая — с десяток сажен в длину да чуть мене кверху. Вот куда бы тебе в самый раз: без одежки-то там ныне ух как поизносились. За тую твою одежку, — он указал на тощий мешок Антошки, — крепко бы, парень, съестного дали. А если бы тот ремень, с коим вы с Филькой ехали, то и сказать тебе не могу…
— А как туда доберешься? И до Урала вон не доехал..
— Оно, парень, так. Сам третий месяц оттеля еду. С голодухи пупок к хребтине прирос. Двадцать дён в одном лишь Челябинском провалялся: дых заложило. Кашель страшимо бил. И ныне вон, слышь, хрипит? Перекатывается в грудях: хырлы да хырлы. Однако же еду? Вот так бы и ты доехал…
— Сибирь уж, конечно…
Савелий затянулся цигаркой, вдруг резко мотнул головой, судорога прошла по задубевшему на морозе лицу, в горле заклокотало.
— Не отстает хвороба, так ее перетак с маком! — почти с виноватой улыбкой заметил он, отдышавшись. — Да и то: страшимо много было всего при белых. Кого из нас к большому побоищу присуждали, кого прямо так: стрéлят — и в яму. До тех, кто богаче, не достигали, хоть православный, хоть из кыргызов. А нас, что из бедных, куды там! Я как волчище голодный бегал. Кинусь от беляков вот туды — они там, кинусь обратно — опять они.
И при батюшке Николае без роду без племени был, мотался по всей Сибири. Оттого и прозванье мне — Бегунок. А уж при тех беляках, перетак их с маком, сказать тебе не могу!
Савелий вздохнул, помолчал.
— Оттого черно в грудях мужика содеялось в эти лета. Сильно черно! Позри на меня: кулашник был в молодых первейший, хоть без порток. Парень в полном прыску. А что от того осталось? Износ, он всему приходит. Особо таким, как я. Беляк, офицер один, когда бабу мою измяли, а я в защиту полез, драл меня шомполом своеручно. Всю спину, от головы до сиделки, люто искровенил. Хошь покажу? Не хошь? И то: мне одежонку снимать на морозе не к ладу…
Встречный ветер подхватил остаток цигарки, унес за глухо гудящую трубу вагона.
— Когда сильно дерут, — досказал мужик, — во рту тот вкус остается. От шомполу — будто гвоздь сосешь. От розги — березой тянет. Да-а, было у нас беды со слезами. Все извели до края. Евдоху мою до смерти измяли, детишков — в огонь. А меня — шомполами до бесчуствия сил. Болел после этого чуть не год. Вся спина изгнила. Не думал, что жив останусь. Ан выжил…
Савелий помолчал, опять полез за кисетом.
— У нас круг Мануйлова кроме нашего Коянсу — топких озер полно. Кугой с краев заросли. Войдет кто незнамо, заплутается — и конец. Зимой куга, когда высохнет, чистый порох! Не дай бог! Колчаки, бывало, им пользовались, жгли партизан. Раз рядом с Мануйловом такой пожог сотворили, перетак их с маком, что все округ огнем обнялось! Я тогда, как — не помню, один и спасся. Видал?
Савелий снял рваную варежку, задрал рукав полушубка. От кисти до локтя тянулось лишенное кожи алое мясо.
— Так-то вот, парень. Люто было в Сибири. А надо бы ей добра. Нам, тоись людям. За то и я, как отудобил, к партизанам подался. Народ, он ведь что? Как волна океанска: плеснет — дак горы все набок! Так же вот, брат, и мы. Отлилось белякам, когда Колчака сказнили, а иностранных — под зад ногой во всей сибирской земле!
Он с хрипом втянул в себя иссеченный сухими снежинками воздух, закашлялся, с трудом отдышался.
— Однако добра пока нету. Вернулся я в наш Мануйлов, глянь — снова не мы, а кто побогаче, на самом верху. Опять Мартемьян Лукьяныч всему голова. Масло бьет — пахту не знает куда девать. Кабаны его — и те пахту не жрут, перетак их с маком. А бедным, как я, отдать, скажем, жалко. Скупой. И те, кто чуток справнее меня, не больно довольны: Износков всю власть в свои руки взял. Потому — обижены на Москву. Тогда и решил я, парень, правду искать. Где только не был у нас в Сибири, с кем не встречался! Такая чудимость на меня нашла: самому ту правду найти. Руками потрогать. Тут как раз один человек в городе Омском… слыхал про такой? Комиссар, что ли? Из бывших посельных, которые были против царя и за то их в Сибирь сселили, — так он мне про Ленина рассказал. В башку и вошло: поехать! Сколько-нисколько, хоть цельный год, а туда, значит, в эту Москву. За ней, той правдой, и еду. К нему самому. Значит, к Ленину. Ни к кому другому…
Целую неделю они ехали так — на холодной покатой крыше, на пронизывающем до костей ветру, сквозь слепые ночные метели, пока наконец перегруженный, обессилевший состав кое-как не дополз до станции, возле которой раскинулся заводской поселок, где жил Антон.
— Вот мы и дома! — со счастливым вздохом сказал Антошка, когда их вагон, один из первых в составе, остановился против с детства знакомого приземистого вокзала. — И чтобы я теперь поехал за хлебом еще хоть когда-нибудь?! Лучше подохнуть с голоду, чем так вот ездить!
— Дома чего уж! — устало подтвердил Савелий и тише добавил: — Лишь бы он был, этот дом-от…
После тяжкой дороги поселок показался Антону особенно милым. Не был всего три недели, а стало в поселке вроде светлее. Неказисты дома, а что-то в них новое все же есть. Может, то, что подходит март, сосульки висят-блестят? Солнце совсем по-весеннему шпарит! Не то что там, — Антон мысленно махнул рукой в сторону неведомой ему Сибири. У Савелия в Мануйловке небось холодина сейчас дай бог! Там о весне и подумать дивно. А тут — она как наддаст, как засветит…
Он искоса поглядел на мужика, шагавшего сбоку. Молчит мужик, а ишь как цепко поглядывает вокруг! Еще бы: вот-вот и Москва. Ему не кого-нибудь, а товарища Ленина подавай. Будто Ленину и делов, что только в нем, в мужике…
— Ну как, дядя? — с веселой усмешкой спросил Антошка. — Согрелся?
— Согрелся.
— Это тебе не Сибирь. На крыше-то ух как нас прохватывало! А тут, гляди ты, чуть не весна. Это и есть наш заводской поселок. Видишь трубу? — Антошка указал на рыжеватый хвост дыма, косо клубящийся в безоблачном синем небе. — Там и завод. Тех самых Мак-Кормиков, которые еще при царе делали здесь машины для твоей Сибири. Конечно, для богатеев, — добавил он, заметив невольное движение протеста на лице мужика. — Теперь те машины мы делаем для трудящих крестьян…
Савелий промолчал. Про себя он с растущим разочарованием (в который уж раз!) все больше удивлялся тому, как, оказывается, бедно тут, в центре России. В Мануйлове думалось, что место, где делают справные жатки да молотилки, должно быть особенным и красивым. Дома непременно кирпичные. Улицы — одна красивше другой. Оказалось — совсем не то. «Базар вон… рази с нашим сравнишь? — думал мужик. — Кучка того да кучка сего… и каждая в миллион! Одеты все кто во что. Больше во рвань. Вот тебе и московские возглавляльщики всей России. Вот тебе и гегемоны, как говорил о рабочих посельщик Емельян. Но если уж тут, в Москве, сами эти гегемоны так худо живут, то где по-другому? Может, крестьянам ладнее думать самим по себе? Без всякого гегемона? И то: городских-то заморышей да оборвышей рази сравнишь по силе с теми, как наш Мартемьян Износков? Наши сибирские богатеи мордасты да сыты… истинно власть! Будто навеки округ уселись. И не столкнешь. С ими не совладать таким гегемонам. Никак!»
На душе его с каждым шагом делалось все мутнее. «Видно, зря сюда ехал. Какая уж тут особая правда? На пустое-то брюхо? Рабочий — он, может, и гегемон, но тоже ведь человек. Жрать охота, брюхо набить чем- ничем. А как набьешь за те совецкие миллионы? Да-а… однако же и с другой стороны, — боясь поддаваться горестным выводам, которые всю дорогу, пока добирался сюда целых три месяца на буферах да на крышах, мучали, не давали заснуть, опять оспорил себе мужик. — Может, зря тороплюсь? Не Москва еще. К нему теперь надо, к главному. Уж если не он, если не у него, то куда тогда подаваться? Только в разбой? Колотить направо-налево. Шайку собрать и айда куролесить по всей проклятой Расее…»
Антошка между тем бойко шагал впереди и все веселее поглядывал по сторонам.
«И то: чай, домой вернулся! — с искренней симпатией к хорошему парню отмечал про себя Савелий, и на сердце почему-то становилось все-таки легче. — Где дом, там все нипочем…»
Так они миновали базарчик, затем кирпичную баню, от которой вдруг так пахнуло на них парным березовым духом, что спина и бока мужика затомились и зачесались — раздеться бы догола да за веник! А сразу за баней открылись взгляду сбитые из толстых тесин въездные заводские ворота. За ними — еще ворота с калиткой и сторожем возле будки. Над будкой — стеклянно вспыхнули крыши цехов. Потянуло оттуда гарью. Глухой и сильный утробный гул надавил на уши.
Так и гудело и ухало все время, пока они шли вдоль высокого заводского забора, за которым высились крыши домов и еще голые тополя и где, как сказал Антон, находился первый заводской двор с квартирами инженеров и мастеров. «А уж за теми квартирами, — с гордостью добавил паренек, — литейные, сборочные, кузнечные цехи…»
«Значит, там они, здешние гегемоны!»
Размышления мужика неожиданно прервал звонкий голос:
— Приехал, черт полосатый! — Высокий веснушчатый парень в заячьем малахайчике весело теребил за рукав улыбающегося Антошку. — А мы тебя вот как ждали! — Парень мельком оглядел Савелия. — Нынче же приходи в волсовет: важное дело есть!
— Так видишь ли, Миха, — начал было Антошка. — В баню бы…
— В баню ты завтра сходишь, — решительно перебил его тот. — Дело такое… не терпит! Мы, как придешь, из волкома сразу пойдем к товарищу Дылеву. Всех ребят вызывал…
Миха опять скосил свои серые внимательные глаза на Савелия.
— Значит, жду…
Антошка поежился, но смирился. Сказал Бегунку, оглянувшись на строгого Миху:
— Секретарь волисполкома Мишка Востриков. Он же наш секретарь комсомола…
Некоторое время они с Савелием молча шагали вдоль забора. Потом забор круто свернул в сторону, а тропа завиляла по узкому переулку мимо ряда одноэтажных домов в три-четыре окна, с палисадниками. В окнах, как и в Сибири, цветы в щербатых глиняных плошках. Иные дома побольше, с кирпичными первыми этажами. Кое- где со следами сорванных вывесок над плотно закрытыми изнутри дверями.
«В этих, похоже, была торговля, — мужик усмехнулся. — Была, да кончилась…»
— Вот и пришли! — неожиданно для Савелия звонко сказал Антошка. — Наша главная улица. Вернее, шоссе. По нему из Москвы на Рязань, а из Рязани в Москву — прямая дорога. А там вон мой дом…
Парень указал рукой на другую сторону широкой улицы, где на пологом взгорке, в ряду других, стоял небольшой деревянный дом, а за ним, за коротким переулочком, угадывался хвойный лес. Его усыпанные снегом вершины были похожи на белые облака.
Дом, на который указал Антошка, был в три окна, с высоким крыльцом, с кирпичным полуподвалом. Небольшой, но с богато отделанными наличниками, совсем еще новый. За ним выпирал могучим углом длинный, по-деревенски крытый двор, в котором в хорошую пору быть бы лошади да корове, а к ним — с десяток овец, паре-тройке подсвинков, не говоря уже о курах.
«Неужто у рабочих тут так?» — удивился мужик.
Сейчас там явно не чудилось ничего: привычный к таким делам Савелий сразу отметил, что во дворе — тишина. Не тянет духом ни лошади, ни коровы. Даже и кур нет: ни хлопотливого клохтанья, ни петушиной возни…
«Обедняли, знать, гегемоны, — подумалось Бегунку. — Оттого их и тянет в Сибирь за хлебом…»
Перед домом, прямо перед крыльцом, нелепо топтался оборванный человек. Сделает неловкий шажок вперед, одновременно заглянет в окно, выходившее на верхнюю площадку крыльца перед входной дверью. Никто в окне не показывался, и оборванец делал шажок назад, раскачивался и опять выступал вперед. И опять назад, размахивая руками…
— А это еще что за чучело? — удивленно крикнул Антошка, вглядевшись в топчущегося перед его домом оборванца. — А-а… вроде Филатыч? Здорово, Филатыч! Все ходишь?
Что-то жалостно бормоча себе под нос, оборвыш мельком взглянул на Бегунка и парня, опять задергался, закачался возле крыльца, сделал шажок вперед — и сразу шажок назад.
— По-прежнему, говорю, под окна к нам ходишь? — уже неприязненно, даже со злостью, спросил Антон. — И что тебя тянет сюда, скажи? Я не раз тебе толковал, что зря ты, Филатыч, надеешься: был этот дом твоим, теперь наш. Понятно? Живешь в своем старом, ну — и живи, сюда не ходи. Нечего зря под чужими окнами толкаться. Иди, иди. Ишь моду какую взял…
Он повернулся к молча стоявшему Бегунку.
— Наш знаменитый Филатыч! Первейшим богатеем был. Торговал тут. Самый что ни есть мироед в поселке! Три дома было. Один дом, который поменьше, волостной Совет отдал нам, а в самом большом, на два этажа, отвели хозяину каморку: один живет, и каморки хватит. Так нет же, что ни день — повадился к нам! Ходит и ходит. Наверно, думает, что наш дом ему назад отдадут. Не отдадут теперь, дядя! — повернулся он к что-то сердито бормочущему Филатычу. — Лучше не ходи, не надейся. Иди, говорю… слыхал?
Довольно сильно он толкнул Филатыча в плечо, шагнул на крыльцо, одним махом поднялся к окну и сильно забарабанил острыми ногтями по стеклу:
— Мамка, открой, это я… вернулся!
Где-то в доме хлопнула дверь, в сенях заскрипело, заскреблась металлическая задвижка.
— Пошли, — крикнул Антон мужику и скрылся за дверью.
Савелий помедлил, с любопытством приглядываясь к одетому в рвань, дергающемуся на месте бывшему богачу. «Значит, дом не Антошки, а этого торгаша? Похоже, их тут прижали. Ишь ты какой…»
Было видно, что когда-то оборванец и в самом деле был сильным, дородным мужиком. Был, да сносился. Теперь ему, наверно, лет шестьдесят. Широкое, безбородое, как у бабы, лицо с толстыми губами. Широкая в кости фигура. Но все это одрябло, обвисло. Тряслось на костях как кисель. Вот-вот оборвется, шлепнется вниз, к обутым в опорки ногам. На невысоком, но крупном теле одежда висит мешком, и все это — мелко трясется. Трясутся жидкие, потерявшие жир бока, трясется одрябшее брюхо. А изо рта, как из булькающего на огне чугуна, непрерывно выплескивается нелепое, жалкое и сердитое бормотание. С трудом, но все же можно разобрать, о чем Филатыч бормочет:
— Да, я Филатыч… вот он, Филатыч… тут он, а я ничего… ничего я, Филатыч… хожу все, хожу… спасибо тебе, хожу… толковал и толкуй… твое толкование мимо: не к твоему, к своему хожу… был он мой… вот и мой… тут вот… я и хожу… все хожу и хожу… и нечего толковать, что хожу… ан мой он, не ваш… не ваш… нечего, нечего под окном, а не ваш… о чем под окном… крыльцо под окном… а не ваш… и двор под окном… мой двор под окном… тут я хожу, все хожу… был я Филатыч… был… все взяли… все прахом… нет ничего и нет ничего… он бедный, Филатыч… подайте Филатычу на пропой… тут он, вот и хожу… и хожу… тут…
«Ходи, ходи! — с довольной усмешкой подумал Савелий. — Да только, похоже, вряд ли чего у Антошки выходишь!»
На крыльцо вышла одетая по-старушечьи в темную кацавейку, с таким же темным платком на голове невысокая женщина.
— Савелий… как тебя по батюшке? — негромко позвала она мужика. — Иди, милый, в дом. Чаю попей с дороги…
Савелий шагнул мимо бормочущего Филатыча к крыльцу и тут же остановился: над головой, со стороны завода, вдруг взревел, окреп, стал раздуваться, словно огромный невидимый пузырь, тревожный гудок и так же неожиданно, как возник, лопнул.
Не успел Савелий оправиться от нечаянного испуга, как гудок снова взревел, опять раздулся и лопнул. А когда его тревожный рев прокатился над поселком в третий раз, из дома выбежал Антошка. Дожевывая что-то на ходу, он торопливо крикнул:
— Ты, дядя Савелий, пойди пока отдохни. Чаю выпей. А я мигом, только сбегаю на завод. Чтой-то там, похоже, стряслось. Может, что важное? Погляжу…
Перебежав через улицу, он юркнул в узкий проход между двумя палисадниками, потом хорошо утоптанной людьми тропой добежал до заводского забора, отодвинул одну из тесин, протиснулся в узкую щель и несколько минут спустя с ходу воткнулся в толпу возбужденно переговаривающихся рабочих…
Совместное заседание бюро партийной ячейки и членов завкома началось в обстановке открытой вражды. И сели за стол порознь, друг против друга. И выражение плохо выбритых лиц не сулило согласия, особенно у Драченова и его единомышленников, явно чувствующих за своими плечами поддержку той части рабочих, к которым они в конце концов обратятся.
Но самым задиристым, готовым к немедленной драке, был председатель губпрофсоюза металлистов Ершов, прочно усевшийся рядом с Драченовым. Он приехал сюда из Москвы на час раньше Веритеева, успел за это время провести «свое» совещание с группой наиболее надежных драченовцев, поэтому сидел теперь уверенно, с выражением вызова на чиновничьем, серовато-бледном лице, украшенном небольшими усами и совсем уже крохотным, любовно ухоженным клинышком бороды.
«Только троньте, мы вам покажем!» — было написано на этом надутом враждой лице.
«А вот возьмем да и тронем! — мысленно отвечал на этот вызов сидевший напротив Ершова Веритеев, пока все рассаживались и приглядывались друг к другу. — Не только тронем, а и кое-кого повыкидаем из партии, это факт!»
Он давно уже выругал себя последними словами за то, что поздно приехал на завод, дал возможность «подпольщику» Ершову провести сепаратное совещание, вернее — сговор, и теперь едва владел собой от злости и возмущения: дело явно упущено, поправлять его будет трудно…
Между тем, закончив раскладку необходимых бумаг, среди которых была и копия отрицательного ответа Драченова на постановление Совнаркома и ВСНХ, вконец больной секретарь партбюро Платон Головин осевшим от жестокой простуды голосом открыл заседание.
— На повестке дня у нас один вопрос, о неправильном… вернее сказать, непартийном поведении члена ячейки товарища Драченова и некоторых других из завкома.
— Не слишком ли загибаешь? — подал голос Драченов. — Это нужно еще доказать!
— Вот именно, — поддержал Ершов.
— И докажу! — охваченный лихорадочным жаром, глухо сказал Головин. — Вот письмо Московского союза металлистов с изложением решений Совнаркома и ВСНХ. А вот и ответ Драченова, с которым вы уже знакомы и где черным по белому написан отказ подчиниться решениям вышестоящих организаций о посылке рабочих завода в Сибирь.
— Отказа там нет, — опять перебил Драченов. — Там лишь дано объяснение, а также совет не посылать рабочих нашего завода в Сибирь… в угоду сытым крестьянам! — добавил он, кинув многозначительный, взгляд в сторону Ершова.
— Значит, нечего и передергивать! — угрюмо буркнул техник центральной котельной, правая рука Драченова в завкоме, Шукаев. — Привыкли к демагогии…
— Нужно правильно читать чужие документы, даже если они и не нравятся! — не удержался от насмешливой реплики и Константин Головин, старший сын Платона.
Он произнес это с виду спокойно, но так, что именно его негромкая фраза больше всего рассердила и обидела Головина. С сыном у него давно уже не было слада. С каждым днем их позиции по многим местным и общим вопросам политики партии расходились все больше… Это мучило и пугало отца, заставляло с особенной остротой прислушиваться к каждому слову Константина. И теперь, пропустив мимо ушей другие реплики, он едко ответил сыну:
— Где уж нам, простым рабочим, уметь читать ваши хитроумные документы! Тем, кто вроде тебя протирает штаны в конторе, конечно, оно сподручней!
И, не давая времени на ответ, добавил:
— Ответ Драченова прочитан везде как нужно. И не только нами, но прежде всего в Москве. Драченов товарищ тертый, впрямую писать отказы не будет. Но что же это иное, как не отказ? Не желает, видите ли, помогать крестьянам… И дело не только в этом, — в ответ на попытку Драченова опять перебить его добавил с нажимом Платон. — А и в том, что ответ был сочинен и отослан в Москву без согласования не только со всеми членами завкома… а я тоже ведь член завкома! — но и без ведома членов бюро партийной ячейки. А если без партячейки, то значит — против нее. Я так считаю.
— У меня на эту волокиту… то есть на всякие согласования, не было времени, — переглянувшись с Ершовым, небрежно ответил Драченов. — Надо было срочно, поскольку требовала Москва.
— В бумаге союза металлистов о срочности не сказано.
— Значит, сказано на словах, — нашелся Драченов. — А тут запарка с делами, то да се. Я собирался сказать в ячейке, да враз подошло воскресенье, так и случилось…
— Собирался, когда уже отослал свой отказ в Москву?
— Говорю, что требовали ответить скорее…
— Кто требовал?
— Ну этот… в общем истинный бюрократ, каких теперь насажали повсюду! — почти издевательски уклонился от прямого ответа Драченов. — А мне как раз надо было в союз. Я кстати и захватил свой ответ да отдал. До этого вон с Константином Платонычем, с Шукаевым также ну и с какими другими советовался. Так что…
— Понятно! — оборвал его Головин. — Плети свои лапти, да только не здесь. Не тем кочедыком ты орудуешь, Драченов, поэтому твои лапти и не слаживаются, как ни старайся…
Гул раздраженных голосов покрыл слова Платона, и сразу началась взаимная перебранка.
В первые месяцы германской войны Драченов был сильно ранен, сразу после госпиталя вернулся домой, в подмосковную деревеньку Панки. Ее крайние избы отделял от заводского поселка лишь небольшой деревянный мост через речку Люберку. В одной из этих изб, хорошо слаженном еще отцом пятистенке, он и жил с небольшой семьей.
В удобренной навозом рыхлой песчаной почве приусадебного надела рано и крупно вызревал картофель, его хватало с осени до весны, да еще оставалось и для продажи. Кроме того, как и большинство крестьян Подмосковья, Драченов вместе с вдовым отцом, столяром и плотником, занимался зимой отходничеством, чаще всего в Москве, возле Красных ворот с трубящими на них в золотые трубы архангелами. Там всегда можно было приглянуться нанимающему на срочное дело частнику-артельщику и подработать.
В конце войны отец умер. Пришла революция. Найма не стало. А рядом негромко, но все же гудел завод хозяев-американцев. Рабочих рук там тогда не хватало: заводских что ни месяц отправляли целыми взводами то против Деникина и Колчака, то против Врангеля и Пилсудского, а то и против разных «зеленых» банд. Прикинув, что его как инвалида никуда не пошлют, а выгода в том большая, Драченов «записался» в партию и как хороший столяр оказался на заводе в цене. Нравился он многим и когда выступал на стихийно возникавших в те годы по всякому поводу митингах в роли героя-фронтовика, бил себя в грудь, требовал всяческого внимания к рабочему человеку. Кончилось тем, что вначале его выбрали членом, а месяца три назад председателем заводского профсоюзного комитета.
— Всякому ясно, — сказал он теперь, когда взаимная ругань кончилась и Веритеев потребовал дать, наконец, точное объяснение: что же все-таки произошло с бумагой из Москвы? Кто и с кем ее обсуждал? Почему ответ был отослан без ведома партячейки? — Да, всякому ясно без объяснений, что про Сибирь постановили через голову завкома, а значит — бюрократизм! Может, конечно, ВСНХ, а тем больше Совнарком, хотели только посоветоваться с нами, спросить, — поправился он на всякий случай, — а чинуши из московского профсоюза — бац сразу приказом! Может, и так. Но как таковое, повторяю, московское распоряжение является бюрократизмом сверху не в пользу наших рабочих…
— Чего ты все время плетешь? — выругавшись, спросил Головин.
— Ничего не плету… Такие приказы и есть настоящий факт!
— Уклон твой… вон только понять не могу: влево или же вправо? А может, и к контре? Вот это и есть настоящий факт!
— Когда сказать настоящего нечего, тогда обязательно пришьют какой-нибудь уклон! Особенно этот, — почти довольный упреком Платона, подхватил реплику Драченов. — Однако в целом я разве против заготовки хлеба? С хлебом, оно конечно, я понимаю. Однако ведь и в Сибири есть люди. Пускай убирают свой урожай сами. Наш завод ни при чем. У нас собственных забот полон рот. А тут, не спросивши мнения и желания рабочих в лице избранного ими завкома, легким росчерком пера — взяли да и решили оторвать людей от родных голодных семей, направить на цельное лето к чужому дяде…
Он обвел присутствующих быстрым взглядом близко к переносице посаженных серых глаз, явно требуя одобрения.
— Как же это назвать, если не наплевательством к рабочему человеку, который и без того, не жалея сил, аж с самой осени посвящал свой нелегкий труд, чтобы обеспечить машинами посевную страду, а за это теперь ему дали простой голодный паек в то время, как он желает, уставший, в конце концов отдохнуть, а не ехать на выручку к тем крестьянам. Так или не так?
Константин Головин негромко, но уверенно поддержал:
— Правильно!
— Поэтому я и счел вполне обоснованным отклонить такие поползновения, — довольный поддержкой, еще напористее продолжал Драченов. — Нам на местах виднее, чего надо рабочему человеку, чего не надо.
— Сам-то ты давно ли стал рабочим? Все еще сидишь в Панках, на земле, а туда же! — рассердился Платон. — «Бюрократизм наверху», «предание интересов рабочего класса»… где ты этого нахватался? Выходит, раз объявлена помощь крестьянству, то уж нет и диктатуры пролетариата?
— Диктатура пролетариата это не сверху глядеть да командовать, а вглубь интересов рабочего человека, — уклонился Драченов от прямого ответа. — Потому я и ответил отказом соответственно подлинным фактам и имея поддержку Цека металлистов…
— А что, там все так считают? — спросил Веритеев.
Драченов резко повернулся к неприятному для него человеку. Именно от Веритеева он и ждал самых настойчивых возражений.
— А нам неинтересно спрашивать там каждого, как он считает. Председатель Цека товарищ Шляпников меня поддержал, остальные тут ни при чем.
— Выходит, и ты бюрократ? — насмешливо удивился Веритеев. — Профсоюзное начальство тебя поддержало — и хватит… так?
— Ты, дорогой товарищ секретарь укома, меня на словах не лови! — немедленно откликнулся Драченов. — Я про что говорю? Про то, что приказ из Москвы…
— Опять ты «приказ»? Нет же приказа!
— А если взглянуть, как надо всегда глядеть, особо партийному руководству уезда, то видно, что, вместо внимательности к болезненным нуждам рабочего на местах, нами хотят командовать издаля. То есть сверху, имея в виду при помощи наших жертв поддержку сибирским крестьянам. А проще сказать — заткнуть свои ошибочные прорехи в неумении руководить государством и насчет обеспечения хлебом, а также во всем другом. Но мы не можем, — возвысил он голос, — обрекать себя, товарищи, а тем более наши семьи, на голодную смерть, или же от холеры, из-за этих прорех наверху, то есть жертвовать вновь и вновь для тех, кто хочет нами командовать, как на фронте! Поэтому, исходя из данного резюме, предлагаю одобрить мою резолюцию с несогласием ехать в Сибирь!..
Много раз во время этого самоуверенного, полуграмотного выступления Платон и Веритеев прерывали «контриковые», как определил Головин про себя, рассуждения Драченова. Но тот на каждую реплику огрызался, а сидевшие рядом с ним Ершов, Шукаев и Константин возмущенно поддакивали:
— Чего ты рот затыкаешь?
— Правильно говорит.
— И верно, хотят командовать…
Чувствуя, что проклятая «испанка» совсем обессиливает его, Платон вглядывался слезящимися от жара главами сквозь сизое облако табачного дыма в мельтешение рук и лиц, время от времени впадал в полусон, вяло думал: «А все потому, что в гнилом драченовском завкоме, да и в ячейке, настоящего единства нету. В несогласие все идет».
Голова кружилась, во рту было сухо и колко, горло стягивала боль.
Приглядевшись к нему, Веритеев легонько отстранил Платона локтем от бумаг и встал:
— Пока отдохни, горишь весь. Дай я тут скажу в заключение.
И обратился к членам бюро:
— Вопрос, товарищи, ясен. И если некоторые в бюро партячейки, насколько я знаю, еще сомневались в сознательном противодействии Драченова… — он хотел сказать: «а также Константина Головина и других», но пожалел больного Платона, невольно запнулся и только добавил, — и его подпевал важным решениям правительства, при этом не в первый раз, то теперь все полностью прояснилось!
— Что прояснилось? — с кривой усмешкой спросил Константин.
Веритеев сделал вид, что не расслышал его вопроса. Он только внимательно вгляделся в смуглое, некрасивое от скрытой злости, хорошо знакомое ему лицо сына своего давнишнего друга. Лицо одного из тех, кто теперь прислуживает в заводской конторе господину Гартхену, а значит — лицо врага.
— Поэтому я предлагаю, — на секунду запнувшись, продолжил он свою мысль, — во-первых, осудить неправильные действия руководящей части завкома и, посоветовавшись с заводским активом, послать в Москву другой ответ на решение СТО и ВСНХ. Во-вторых, объявить строгий выговор и выразить партийное недоверие Драченову, Шукаеву и Константину Головину, а также беспартийному Игнату Сухорукому, который тут все время поддакивает. Как ты, Платон Иванович?
— Согласен. Кто за…
Не дав Головину договорить, Драченов вскочил со своего стула, раскрыл было рот, чтобы что-то протестующе крикнуть, но вместо этого вдруг повернулся к Шукаеву, ткнул его рукой в плечо, тот мигом сорвался с места, выскочил в коридор. И только после этого Драченов визгливо крикнул:
— Это очередная демагогия и произвол! Мы протестуем!
Пересиливая гнетущую слабость, даже не посмотрев в сторону Драченова, Платон Головин упрямо спросил:
— Кто за предложение товарища Веритеева и мое, поднимите руки!
Пятеро из семи членов бюро подняли руки.
— Кто против? Один. Кто воздержался? Тоже один. Предложение принято. А теперь…
Но закончить он не успел: за затянутыми изморозью стеклами взвыл тревожный гудок.
Напряжение последних дней и без того держало всех в ожидании неприятностей. А этот гудок, прозвучавший не вовремя, явно не сулил ничего хорошего.
— Это что? — удивился Платон. — К обеду еще вроде рано…
Ему никто не ответил. Ответом было внезапное возвращение Шукаева. В комнату бюро тот ступил как-то влипчиво, боком, но к столу не прошел, а молча встал у дверей, как бы приглашая и остальных встать и выйти.
— Что там случилось? — обратился к нему Веритеев, уже догадываясь, что означает этот гудок и зачем по знаку Драченова уходил с заседания малоразговорчивый, но едва ли не самый упористый из остатков местной рабочей оппозиции Шукаев.
— А то, — крикнул вместо Шукаева Драченов, — что теперь вы будете говорить не с нами, а с самими рабочими. Пусть они вам скажут, так или не так надо было мне ответить на диктаторский приказ Москвы о посылке в Сибирь! Никто из них не желает!
— А ты их отсталости потакаешь? Велел Шукаеву дать гудок?
— Мы, а не я! — прямо в лицо Веритееву крикнул Драченов. — Избранники рабочих завода, а не партийные бюрократы, как некоторые тут! Теперь посмотрим, что вы скажете рабочему классу и про Сибирь и насчет отмены ударных пайков!
— Та-ак… значит, все это вы подготовили загодя вместе с Ершовым? Задумали натравить отсталую часть рабочих на бюро партийной ячейки, на коммунистов? Так?
— Кто отсталый, мы еще увидим! — с вызовом ответил Драченов. — Рабочий класс, он скажет!
— В таком случае, — обратился Веритеев к членам бюро, — я предложил бы другую формулировку вашего решения. Выговором тут не обойтись. Дело серьезнее. А именно: за организацию забастовки рабочих… а что дело идет к этому, сомнения нет: такие «ходы» нам известны! Поэтому я предлагаю: за антипартийное поведение на бюро, за несовместимую с задачами республики и уставом партии деятельность в целом, голосовать вопрос об исключении Драченова, а также Шукаева и Константина Головина из рядов РКП.
— Руки коротки! — взвизгнул Драченов. — Сначала объясните рабочим, почему после выполнения заказа для посевной Москва прекратила снабжение ударным пайком, будто нам больше делать тут нечего? И почему мы должны бросать голодные семьи на произвол, а сами уехать к черту на рога? Вон они, слышишь?
— Ну что же, и обратимся, и объясним! — решительно сказал Веритеев. — Думаю, они поймут нас именно так, как надо!
— Они давно уже понимают вашу бюрократическую линию без объяснений! — Драченов многозначительно переглянулся с Ершовым. — Так что разговор тут будет короткий…
— А пока, — снова как бы не обратив внимания на язвительный тон Драченова, закончил Веритеев, — прошу поставить на голосование мое предложение об исключении Драченова, Шукаева и Константина Головина из партии. Что же касается таких беспартийных членов завкома, как Сухорукий и Половинщиков, которые поддерживают гнилую драченовскую линию, им я предлагаю выразить партийное недоверие. А в целом — поставить вопрос о переизбрании исполкома заводского профсоюзного комитета в самое ближайшее время…
В последние месяцы на заводе митинговали все чаще. Выступления на этих митингах становились все несогласнее — с острыми вспышками ссор, доходивших почти до драки, с буйными жалобами на холод и голод, с угрозами разнести все к чертовой матери и разойтись по домам, с требованиями:
— Когда, наконец, будет и будет ли улучшение с продовольствием?
— О чем думают на этот счет в заводском продовольственном комитете и в Москве?
— И не дать ли нашим снабженцам по шапке за неспособность, а может быть, и прямое нежелание по-настоящему позаботиться о своих рабочих?
— Теперь вон сняли с усиленного пайка, весь месяц одна лишь ржавая селедка да отруби вместо муки!
— Может, оттого, что мы все еще Мак-Кормиковы и своей пролетарской власти вроде уж не родня?
— Мак-Кормикам что? Ветер им в зад, жрут в своем Чикаго в три горла. И дирекцию снабжают дай боже, А об нас и в разуме нет!..
— Отобрать завод у этих акул…
— А что с того, что отберешь? Закроют завод — и все. Сейчас хоть какая работа есть…
— Черт с ней, с этой работой, раз нечего жрать!..
Понимая, что и в этот раз митинг вряд ли будет лучше, Веритеев с ходу, не дав Драченову первым вылезти с демагогической речью, призывно крикнул:
— Товарищи рабочие!
И когда приутихло, не переставая оттирать Драченова плечом в сторонку, громко, по-митинговому, начал:
— Бюро партячейки… а также и завком, — после секундной заминки добавил он тише, — решили созвать этот митинг по очень важному делу…
— Вовсе не вы решили, а мы! Это мы, товарищи! — тыча себя пальцем в грудь, упрямо лез вперед красный от натуги Драченов. — Мы в завкоме решили!
Из толпы недовольно отозвались:
— Вы… ну и что? А зачем мешать человеку?
— Дай сказать Веритееву, раз важное дело!
— Ох, и занудливый ты, Драченов!
— Давай, Веритеев, сказывай…
Веритеева знали на заводе хорошо не только старые, но и недавно пришедшие в цеха рабочие. Здесь ему нередко приходилось выступать с докладами, поэтому теперь именно от него ждали первое слово: «Что за важное дело, из-за которого созваны на митинг люди в разгар рабочего дня». И как ни старался возмущенный «узурпаторским» поступком Веритеева Драченов перекричать недовольных его вмешательством рабочих, как ни выкрикивал все громче: «Хотят оторвать от голодных семей… в завкоме нам ясно видно… каждый сам о себе позаботится лучше… в Сибири пускай свои убирают… начальство в Москве просчиталось, вот и хотят нас делать затычкой ихних просчетов… всецело за ваши интересы, товарищи…», — связной речи у него не получилось. Из толпы все чаще слышалось:
— Хватит бубнить!
— Ладно, свое ты скажешь потом…
— Чего трепыхаешься? Дай вначале секретарю…
— А что там за дело? Сказывай, Веритеич!
Пришлось покориться и уступить.
— А дело такое, — спокойнее продолжал Веритеев, когда Драченов примолк. — Состоялось решение правительства об отправке эшелона рабочих вашего завода, как специалистов по сельхозмашинам, в хлебородную Сибирь для помощи крестьянам в уборке урожая. Значит, поближе к лету, чтобы вначале вы там огляделись и подкормились, а потом помогли убрать урожай и себе заработать хлеба. Тем самым и рабочим Москвы процент привезти. Хлеба там еще много необмолоченного и сейчас…
Рядом насмешливо протянули:
— За морем телушка — полушка, да рубль перевозу…
— В том все и дело, — как бы обрадовавшись поддержке, легко подхватил Веритеев. — Главное, что хлеб там есть. А вот собрать да отправить его в Москву при нынешнем положении транспорта и настроениях сибирских крестьян… это уж да! Потому и поставлен вопрос об эшелоне, чтобы ехать всем сообща на вполне добровольных началах, помочь там крестьянам… Да не мешайте вы! — крикнул он на Драченова и Шукаева, которые все время пытались оттеснить его в сторону, помешать разговору.
— И верно, чего вы там мельтешите? — поддержали Веритеева те, кто стоял поближе. — Дайте человеку все обсказать по порядку!
— Правильно! Давай дальше!
— И как же нам ехать?
— А так, — пояснил Веритеев, — целым отрядом. Туда и обратно в своих вагонах и со своим паровозом…
— А как насчет хлеба? Москве своим чередом, а вот нам?
— Тут будет полный расчет, как сказали мне в Наркомпроде. Что заработаете и что дадут за ударность, пойдет частью вам, а частью в помощь братьям рабочим красной Москвы. Потому частью им, — поторопился он объяснить, заметив выражение недовольства на некоторых лицах, — что, во-первых, братья по классу. А во- вторых, хлеб вы получите еще и в обмен на машины, какие возьмем с завода. Кроме того, ведь вагоны, паровоз и все другое в дороге вам кто-то тоже даст, верно? Не за прекрасные же глаза…
— Не трусь, братва! — весело крикнул стоявший в первом ряду белозубый парень в плоской, потерявшей вид замасленной кепке над буйным рыжеватым чубом. — Мы, кроме того, еще что на что наменяем!
— Это уж да! — усмехнулся в ответ Веритеев. — Такое, Вавилов, само собой.
— А что? Хорошо! Мотька Вавилов правильно говорит!
— Куда как неплохо!
— А вот Драченов считает, что вам сибирский хлеб совсем ни к чему, — сделал свой главный ход Веритеев. — Драченов решил, что вы не захотите ехать в Сибирь и уже отказался выполнить предложение Москвы…
— Это как отказался? Без спросу и разговору?
— А так: послал в Москву отказ без спросу и разговору с вами! За это мы нынче строго спросили с него: как ты посмел это сделать? А он…
Веритеев коротко рассказал о только что закончившемся заседании партбюро. Но то ли оттого, что говорил он об этом предельно резко, то ли потому, что постоянные спорщики на подобных митингах выжидали, когда наступит их время и можно будет всласть «побузить», — только принявший было вполне деловой характер разговор на митинге вдруг резко переломился: началась очередная «буза»…
— Чего зря трепаться насчет Сибири? — первым вылез вперед желчный, худой, с длинными рыжими усами на давно небритом лице Игнат Сухорукий, обиженный только что вынесенным ему на бюро партийным недоверием. — И раньше слыхали мы от секретаря уезда Веритеева про классовый долг пролетарских масс, — гудел он глухим, хрипловатым басом. — А теперь вот и про Сибирь насчет помощи тамошнему крестьянству, а также рабочим Москвы решил объяснить. Однако, как я считаю, чего нам о чужом дяде заботиться, когда надо заботиться о себе? Об том, как выжить самим? И чего в той Сибири в нонешний год возьмешь? Там небось все уже вымели подчистую! Там, чай, людям жрать тоже надо!..
Успевший отвести больного отца домой и сразу же вернуться на митинг, Антошка еле сдерживался, чтобы не вмешаться в поднятую здесь «бузу», и, когда выступил Сухорукий, не выдержал: Игната он не любил за постоянную сварливость, завистливую злость и недоверие к тем, кто не ворчал, не «бузил», а просто жил и работал в надежде на общее улучшение жизни в разоренной войной стране. Таких Игнат открыто подозревал в каких-то задних мыслишках и незаконных прибытках. Всячески придирался к ним, старался обидеть и разозлить — авось проговорятся? «Не может быть, чтобы человек просто так не жаловался, молчал. Ни в жисть не поверю! — говорил он, растягивая не то в усмешке, не то в обиде всегда покрытые простудными болячками губы под рыжими мохрами усов. — Тут чего-то не так. Скрывает…»
И теперь, давно уже порываясь вмешаться в митинговую свалку от имени заводской молодежи, все больше злясь на распалившегося от неведомо каких обид Игната, Антошка неожиданно звонко выкрикнул:
— Чего Сухорукий плетет? Ничего толком не знает, а туда же! В Сибирь — это правильно! Я только что вернулся… правда, туда не доехал, зато привез с собой мужика. Из Сибири мужик! По прозвищу Бегунок. Из тех самых краев, о которых тут говорил дядя Коля…
— И что? — еще более распаляясь, крикнул Игнат.
— А то, что Савелий сказывал — хлеба и сала, к примеру, в Сибири только бери! Не веришь? Хочешь, сейчас самого Савелия приведу?
— Очень нужен мне твой Савелий! Видали? — зло обратился Игнат к рабочим. — И этот отросток Головина желает нас уговаривать. А вернее — руководить! Головиным чего? У них трое в работе. Снабжаются. А еще, глядишь, Платону перепадает и как начальству…
Переждав, когда разноголосый шум утихнет, он напоследок ядовито выкрикнул:
— Властям из Москвы не видать, в каком положении тут рабочая масса, то есть мы с вами! Драченов-то верно ответил на их приказ, ругать его нечего! Если нами станут командовать издали, то мы, товарищи граждане…
В ответ неслось:
— Командовать проще всего, ты в нашу шкуру влезь!
— Вот то-то, что сам ты шкура… шкурник!
— В морду, знать, захотел?
— Не лезь, а то сам получишь!
— Даешь делегацию, нечего тут кричать!
— Можно и делегацию. Да что она для Москвы? Всего верней забастовка!
— А что нам даст забастовка?
— Чего-ничего, а даст!
— Кончай разговоры…
— Нет, дайте и мне сказать! А скажу я опять об том же, — продираясь сквозь толпу поближе к Веритееву, кричал столяр деревообделочного цеха, тоже член драченовского завкома, Захар Половинщиков. — Зря вы тут разорались. Надо кончать совсем…
Уже пожилой, работал он на заводе не первый год, но настоящим рабочим так и не стал. Не смог и не захотел оторваться от родных Панков, где, как и Драченов, имел избу с крытым двором и земельным участком. Сутулый и тощий, с длинными жилистыми руками, он еще недавно был немногословен и незаметен: отработает в цехе, вымоет руки и уйдет в деревню. Утром придет, отработает и уйдет. А в последний год его будто переменили. Не было митинга, где он не вылезал бы на станок или к фанерной трибуне. И каждый раз его выступление сводилось к одному: к паническому утверждению, что все пропало. Если же не пропало, то вот-вот пропадет. Надеяться больше не на что. Все поехало под уклон…
В этом же духе он выступил и теперь. Вскидывая перед узким, широкоротым лицом свои большие, перевитые синими венами ладони, он тонким до предела голосом, готовым вот-вот сорваться от напряжения, выкрикивал:
— Вот и дошли, мужики, до края! Жрать стало нечего, хоть кричи! А помощи нету! С голоду все подохнем, как есть! И работе в цехах конец: последнюю сотню машин наладим, части запасные кончутся, тут мы по миру и пойдем…
— А ты чего хочешь? К чему теперь-то гнешь, Половинщиков? Говори!
— А к тому я гну, мужики, — совсем истонченным голосом отозвался тот, — что надо бросать завод! Разойтись по домам! Какие части остались, те разделить, кому что достанется на хозяйство, да и уйти. Выходу больше я в этом деле не вижу. Вон тут талдычут об том, чтоб ехать в Москву делегацией к комиссарам. А что они могут, те комиссары? Самим небось еле хватает. Все сусеки небось вымели подчистую. Чего нам оттуда ждать? Опять нам скажут: в Сибирь… Поэтому я и считаю, что надо идти по домам. Самим кое-как перебиться до светлого часу. В доме чего-ничего, а все сгоношишь. Тем более, как тут говорил товарищ Драченов, если взять да поехать каждому куда похлебнее. Глядишь, и зиму перезимуем…
— Ты-то, может, перезимуешь, — не выдержав, снова крикнул Антошка. — Знаем тебя…
— А я, мужики, считаю, что вся беда у нас на заводе оттого, что он остался американский! — воспользовавшись минутой затишья, напористо крикнул Матвей Вавилов, парень с чубом под козырьком засаленной кепки, и раньше уже предлагавший вернуться к вопросу о национализации завода. — Были буржуи, мы их из России везде спихнули, а эти у нас остались! — Он указал рукой: поверх голов в сторону невидимой отсюда конторы. — Здесь что-то не то! А что… об этом надо спросить в Москве. Прямо послать туда, значит, делегацию. К товарищу Ленину в Совнарком. Тут вот требуют хлеба. Конечно, без хлеба нам: как? Однако же у кого нам требовать хлеб? На какого хозяина мы работаем? Чьи мы? Работаем на Мак-Кормиков, вот в чем дело! И пока над нами эти капиталисты, мы, что там ни пой, а вроде тоже при них. То есть сбоку припека у собственной власти. Оттого и снабжение… Верно я говорю? Ни свои, ни чужие — вот ведь какая штука…
— И верно, ничьи! Национализировали же везде? А про нас, выходит, забыли?
— Может, продали нас в то Чикаго?
— Заткнись, не бузи!
— Долой буржуев, даешь Советскую власть! Они в Сибири и на Востоке чего натворили? А мы на них будем работать? Долой!
— Разнести к дьяволу этот чертов завод!
— Ну и дурак! — опять вмешался Матвей Вавилов. — Я не за то, как хочет Захар Половинщиков, а за то, чтобы взять завод в свои рабочие руки!
— Правильно, в самый раз!
— Послать делегатов, какие покрепче, поставить в Москве вопрос на попа!..
Когда наконец все выговорились и надо было решать, как же все-таки быть, Веритеев сдержанно, чтобы не вызвать нового взрыва «бузы», спросил:
— Мне говорили, что в позапрошлом году от завода ездил отряд в Бузулук за хлебом?
— Ездил, а как же.
— И что?
— Привезли…
— Самую малость… слезы!
— Слыхал, что и в прошлом году на целых четыре месяца ездили тоже?
— Ага. Теперь уж в Сибирь.
— А там что?
— Привезли хорошо.
— Я два чувала крупчатки привез! — весело похвастался Матвей Вавилов.
— Не только себе, и Москве помогли, — поправил его пожилой рабочий.
— Об чем же тогда разговор? — настаивал Веритеев. — Если поехать большим эшелоном… может, в тысячу человек, тогда и прошлый год не войдет ни в какое сравнение!
— Не будет нам в Сибири добра! — выкрикнул побелевший от злости Шукаев. — С чем поедем, с тем вернемся: весь хлеб Москва себе заберет!
— Ага! Слыхали мы обещанья, — поддержали его в толпе. — Одно сказать, а другое сделать…
— В ваших руках и сказать, и сделать! — не дал возникнуть новой «бузе» Веритеев. — Мандаты дадут, расчеты точные будут. Что обещают, все будет сделано! А кто высказывает недоверие партии и рабоче-крестьянской власти, тот льет воду на мельницу контре! — снова не удержался он от гневного слова.
— Когда это большевики вас обманывали? — обратился он прямо к Шукаеву. — Может, в семнадцатом? Может, когда потом? Сколько раз товарищ Ленин напрямки говорил нам о трудностях, о задачах, об том, что и как надо лучше делать, и сколько раз притом обманул? Ни разу этого не было, зря не ври!
— Не слушай ты их, Веритеич! Болтают незнамо что!
— Ничуть не болтают, а верно предупреждают, — поддержал Шукаева Драченов. — Уговорщиков нынче много, — добавил он со значением.
— А ты есть первый из них, — оборвал его Веритеев. — Не уговорщик, а отговорщик от важного для всех дела. Но настоящий рабочий, он понимает свой классовый долг и не пойдет за таким, как ты!
— Правильно!
— Хватит!
— Какое твое предложение, Веритеев?
— Давай!
— Я предлагаю осудить проступок Драченова насчет отказа от поездки. Это раз. Переизбрать Драченова в завкоме, как не оправдавшего доверие. Это два. Направить в ВСНХ согласие о поездке в Сибирь. Это три…
— А как насчет делегации?
— Какой делегации?
— В Москву, насчет нашего положения.
— Чьи мы теперь?
— Будет ли улучшение? Жрать стало нечего!
— К Ленину надо!..
И как ни отговаривал Веритеев, как ни доказывал, что такое положение теперь везде, что хлеба взять неоткуда, одна надежда — Сибирь, большинством голосов постановили: послать делегацию в Кремль. И после еще одного выступления Веритеева, который настойчиво убеждал, что если уж посылать, то наиболее заслуженных, стойких людей, — под выкрики: «Как без Драченова? Чай, пока он завком…», «Без Сухорукого тоже: он мужик смелый, все поставит там на попа!», «Такой поставит, оглоблю вместо свечи!», «Давай голосуй!» — делегатами выбрали трех членов партийной ячейки: Платона Головина, литейщика по цветному литью Ивана Амелина, слесаря инструментального цеха Сергея Малкина, а также Драченова с Сухоруким.
Однако Платону Головину поехать в Кремль не пришлось: простуда вначале уложила его дома в постель, потом обернулась воспалением, легких. День спустя его по разрешению Круминга увезли в заводскую больницу.
Все хлопоты по устройству приема делегатов в Кремле Веритеев взял на себя.
Это было неприятно ему, потому что казалось как бы потворством обывательским настроениям «бузотеров». Уступкой той самой мелкобуржуазной стихии, о которой за последнее время Владимир Ильич не устает говорить на партконференциях и рабочих митингах в Москве.
Тем не менее, согласившись, он созвонился со знакомым еще по прежней партийной работе управляющим делами Совнаркома Николаем Петровичем Горбуновым. Раза два или три он даже бывал в гостях у Горбуновых, в здании бывшей гостиницы «Метрополь», где тот жил с женой в огромной, украшенной золотой купеческой лепниной комнате, с окнами на Воскресенскую площадь, к Большому фонтану, возле которого постоянно переругивались водовозы, набиравшие из бассейна воду в бочки, чтобы затем развезти ее по учреждениям и домам.
Сюда, в «Метрополь», Веритеев зашел и на этот раз.
Вскипятив на примусе чай из сушеной, моркови, расспросив о всех обстоятельствах дела, Николай Петрович некоторое время раздумчиво щипал темную окладистую бородку, отпущенную, видимо, ради придания солидности совсем еще молодому лицу двадцативосьмилетнего человека. Потом полистал записную книжку в поискал свободного «оконца» в перенасыщенной делами, очередной неделе Владимира Ильича. И наконец обещал помочь.
В назначенный день, впятером, без Платона Головина, заметно смущенные непривычной задачей, делегаты нестройно шагали по кремлевской мостовой к подъезду здания, где в помещении бывшего департамента судебных установлений теперь располагался Совнарком.
В коридоре третьего этажа, возле дверей в приемную и кабинет Ленина, было безлюдно, тихо. Хотелось задержаться здесь и, внутренне подтянувшись, молча постоять, подумать. Даже настырный, нигде нетушующийся Игнат Сухорукий в первые минуты слегка оробел и почти шепотом предложил:
— Давайте, мужики, отсель туда не пойдем. — Он кивнул на дверь приемной. — Тут будем ждать… вольготней!
Но деловитая, строгая барышня, ведавшая приемом, решительно воспротивилась:
— Нет, товарищи, здесь нельзя. Пожалуйте в приемную. У Владимира Ильича внеочередные посетители, он просил подождать. В приемной вам будет удобнее…
— Ну-к что же, подождем! — с подчеркнутой развязностью, только для того, чтобы барышня не подумала, будто он кого-нибудь здесь стесняется или боится, громко заметил Сухорукий и первый прошел в большую, уставленную красивыми стульями комнату, бочком присел на крайний стул у окна. — Ждать нам не привыкать. Много ждали, немного уж подождем. Лишь бы толк от этого вышел…
— Хоть тут помолчал бы, черт! — сердито оборвал его Иван Амелин. — Не на митинге в цеху…
— А что мне митинг? Что тут, что где! — задиристо, но уже потише огрызнулся Игнат. — Сами вы, коммунисты, твердите про «власть народа». А раз так, то нечего и…
Дверь из кабинета Ленина вдруг распахнулась. Оттуда вышли двое незнакомых делегатам мужчин. У обоих — порозовевшие лица. На губах — смущенные и вместе с тем неудержимо радостные улыбки. Похоже, что-то доброе, важное для них свершилось сейчас в кабинете. И это доброе, подобно волне, пахнуло вдруг на делегатов. Даже Игнат с неожиданно дрогнувшим сердцем невольно встал с облюбованного им стула и, не отводя любопытствующего взгляда от прошедших к выходной двери мужчин, не то завистливо, не то сочувственно подумал вслух:
— Ишь ты… довольны. Видать, добились чего-то!
Строгая барышня озабоченно прошла в кабинет. Когда дверь за ней закрылась, Сухорукий, дивясь непривычному для себя волнению, тихо сказал:
— Ну, теперь вроде мы…
Но пришлось подождать еще: вернувшись, барышня обратилась к Веритееву:
— Владимир Ильич просит вас в кабинет. Пока только вас одного, — добавила она, заметив нетерпеливое движение Игната.
— А почему не всех? — обиделся тот.
— Потому, что товарищ Ленин хочет вначале ознакомиться с сутью дела. Потом пригласит и вас…
— Та-ак… мы, значит, опять потом?
Нетерпение становилось невыносимым, но Сухорукий все-таки заставил себя насмешливо добавить:
— Кому почет, кому нет…
— Перестань трепаться, в конце концов! — тоже едва справляясь с волнением, совсем уже грубо одернул его и Малкин. — Чего, дурила, бормочешь? Хоть тут-то… совесть имей!
Когда Веритеев вошел в кабинет, Ленин что-то сосредоточенно писал, слегка склонившись влево.
Солнце еще только заглядывало в окна, лучи лишь краешком падали на паркет. Но их по-весеннему яркий свет легко отражался от пола на белую стенку кафельной печки за спиной Владимира Ильича, оттуда мягко рассеивался на зеленом сукне стола. И все это ясно, но и не броско высвечивало сосредоточенно занятого работой Ленина.
Веритеев не раз видел и слышал Владимира Ильича на рабочих собраниях и конференциях московских большевиков, в дни праздников на Красной площади. Но одно дело, когда ты в толпе, где-нибудь на галерке или даже в партере тесно набитого людьми Большого театра или Дома Союзов, другое — вот так, один на один, когда он молчит, сидит в кабинете и пишет, склонившись к столу. Совсем не как вождь, не трибун и учитель, а как любой другой человек, почти по-домашнему.
Так увидеть его довелось впервые. И все равно почему-то робость берет: великий ум, великая воля его известны. Невольно хочется замереть на минуту возле дверей, потом тихо кашлянуть и сказать:
— Здравствуйте, товарищ Ленин!
— А-а… здравствуйте! Я сейчас, одну секундочку… допишу. Садитесь, пожалуйста!
Ленин указал длинной тоненькой ручкой с чернильно поблескивающим пером на ближнее кресло и вновь склонился к столу.
Вчера и сегодня с утра он был занят конспектом очередного доклада о положении страны и необходимости перевода ее на рельсы новой политики, а одновременно и рядом других неотложных дел. Среди них — состоянием переговоров о нефтяных и лесных концессиях, закупкой в Европе машин и деталей для Гидроторфа и электростанций, положением в Закавказье и на Востоке, разбором конфликтов между руководителями некоторых ведомств.
За те три-четыре минуты, которые только что выкроились после ухода товарищей из Главтекстиля и появлением в кабинете Веритеева, он успел написать еще срочное распоряжение управляющему делами Совнаркома, а теперь заканчивал сердитую записку одному из тех, кто вместо живого дела занимается на ответственном посту пустословием, где «не видно думающей головы», все «потоплено в бюрократическом соре…».
— Ну-с, так с чем ко мне пожаловали ваши ходоки? — закончив писать, спросил Владимир Ильич, кивнув в сторону двери, ведущей из кабинета в приемную. — Вы, если не ошибаюсь, до работы в аппарате тоже были одним из рабочих этого завода?
— С самого основания, когда еще немец Вейхельд…
— Ага! Значит, завод вам известен не понаслышке. А с какого года в партии? Гм… хорошо. Теперь секретарь Московского укома? Так-так. Расскажите, пожалуйста, что происходит там на заводе? Что там за…
Он усмехнулся:
— Как это теперь говорят? «Буза»?
Веритеев уже был предупрежден Горбуновым о том, что Ленин не терпит велеречивости, этого «пустейшего производства тезисов». Даже докладчикам на заседании Совнаркома дает для сообщения, иногда по важнейшим вопросам, всего пять — десять минут. Того же требует от наркомов и от себя. Значит, во время приема нужно доложить предельно кратко, лишь самое главное.
— Остальное, — добавил Горбунов, — Владимир Ильич додумает сам. Схватывает он все мгновенно!..
И теперь, заранее подготовившись к тому, что должен сообщить в Кремле, Веритеев стал коротко рассказывать о положении дел на заводе и о «бузе» в связи с решением о поездке рабочего эшелона в Сибирь.
Ленин слушал внимательно, подавшись всем корпусом в сторону Веритеева. Только однажды он искоса, как бы мельком взглянул на лежавший перед ним конспект доклада, где похожие на чертеж архитектора в строгом порядке выстраивались то длинные, то короткие строки из цифр и незнакомых Веритееву, не по-русски написанных знаков. Этот быстрый взгляд Владимира Ильича был так красноречив, написанное на листе так живо притягивало внимание Ленина и, судя по всему, требовало уточнений и дополнений, что Веритеев вдруг сбился: рассказ о «бузе» на заводе показался слишком подробным, не к месту, и он замолчал.
— Ну-ну, — откинувшись к спинке стула, подбодрил Владимир Ильич. — Продолжайте, пожалуйста. Кто же они, эти главные, как вы выряжаетесь, бузотеры? Значит, и председатель завкома Драченов здесь? — Ленин указал глазами на дверь приемной. — Тоже делегат?
— Тоже! — мрачно подтвердил Веритеев. — А лучше бы взять его со всей компанией да и…
— Да и… что? Взять без разбора всех несогласных с нами да и отовсюду вон? Исключить? Выразить политическое недоверие? Выгнать из профсоюза? Гм, да… решительно. Главное, одним махом: раз-раз… А что же потом? Вы полагаете, что после этого «бузы» не будет?..
Ленин недовольно хмыкнул, опять искоса взглянул на листок с конспектом завтрашнего доклада.
В последние месяцы, особенно в связи с предстоящим съездом партии, выступать ему приходилось часто. Поворот в политике предстоял крутой. (Об этом он мельком подумал и сейчас). Не каждый даже из старых партийцев вполне поймет и примет не только неотложную необходимость, но и тактическую тонкость этого поворота от «военного коммунизма» к нэпу. Что же говорить о простых рабочих, а тем более о полупролетариях с мак-кормиковского завода?
— Скажите, пожалуйста, вам это виднее: действительно ли так уж из рук вон плохо со снабжением на заводе? — спросил он Веритеева.
— Не хуже, чем у других, — сердито ответил тот.
— Может быть, рабочие действительно оказались как бы «ничьими»… вроде сирот?
— Выдумывают! — снова не выдержал Веритеев, из головы которого все эти дни не выходила драченовская провокация на заводском митинге. — Этим «сиротам» уисполком выделил шесть десятин земли под личные огороды. У многих, вроде того же Драченова, есть земля в деревне… чего им еще? Просто мутят. Настоящих рабочих осталось мало, закалки нынешним не хватает…
— Гм… это, конечно, верно, — согласно кивнул Владимир Ильич. — И что же, по-вашему, из этого следует? — суховато добавил он. — Прежде всего то, что вам лично и партячейке завода нужно энергичнее и чаще разъяснять суть момента, вести работу с «бузящей» массой. Я, собственно говоря, для этого и попросил вначале вас одного. Судя по всему, Московский уком и партийцы завода недостаточно энергично и вдумчиво ведут там работу среди беспартийных. А завод ведь особенный, можно сказать, чужой. Тем более там необходимы настойчивость, инициатива. Доклады на митингах, затеянных не бузотерами, а подготовленные вами. Хорошо продуманные агитационные «суды» над Советской властью для разъяснения сути нашей политики. В Москве такие «суды» проходят очень успешно. Кроме того… да-да, это сделать тоже необходимо! — подчеркнул он, имея в виду скорее себя, чем Веритеева. — Хорошо бы поехать на завод кому-нибудь из Московского комитета… или из наших цековских и вциковских товарищей, чтобы прямо и откровенно объяснить рабочим, в каком отчаянном положении мы находимся, почему необходимы сейчас всем сплоченность и терпение. Рассказать и о том, почему так важно в этом году всемерно помочь крестьянам в уборке урожая, а тем самым помочь и самим себе. Гм… что, если мы попросим товарища Калинина?
Он полувопросительно взглянул на Веритеева и тут же твердо добавил:
— Это было бы лучше всего! Именно Михаил Иванович сможет объяснить доходчивее и лучше любого. Я поговорю с ним сегодня же! — и сделал пометку в лежавшем на столе блокноте. — Что же касается того, что вы называете «бузой», — Ленин положил украшенную чернью тонкую серебряную ручку между пружинистыми колечками специальной подставки и вновь повернулся к Веритееву, — то здесь не все так просто, как некоторым кажется. Путающихся и колеблющихся действительно много. В том числе и в рабочем классе. Удивляться нечему: разруха. Множество фабрик и заводов стоит. А что такое промышленность для рабочего человека? Когда он видит работающие фабрики, сам работает каждый день в большом производственном коллективе — это одно. А когда этой главной материальной базы жизни рабочего класса нет или она находится в полуразрушенном состоянии — это другое. Тогда людьми овладевает состояние неопределенности, колебаний. А то и отчаяния. В таких условиях провокационные выпады всякого рода враждебных нам говорунов тоже не могут не оказывать определенного воздействия.
Он помолчал. Убежденно добавил:
— И все-таки мы с вами сильнее. Колеблющиеся — разъединены. Нас меньше, но мы — объединены. Колеблющиеся не знают, чего хотят. Мы знаем, чего хотим. Вот почему в конечном итоге мы можем не сомневаться.
Он опять помолчал, улыбнулся про себя.
Веритееву показалось, что так Владимир Ильич снисходительно посмеялся в душе над горячностью, с какой были произнесены последние фразы. Но улыбка тут же пропала, и Ленин почти буднично добавил:
— Ну-с, а теперь приглашайте своих делегатов…
Невольно робея в непривычной для них обстановке, но и не в силах сдержать любопытства, они украдкой поглядывали то на Владимира Ильича, сидевшего перед ними на рабочем стуле — полукресле с плетеной камышовой спинкой, то на письменный стол с двумя стеклянными чернильницами, с двумя телефонными аппаратами справа, с пухлой стопкой бумаг посредине стола. Там же стоял пузырек с клеем, лежало несколько свежих газет, видно только недавно прочитанных и положенных слева, на край стола.
Все здесь как бы хранило на себе отпечаток каждодневного упорного труда — истыканная булавками карта российского Запада на простенке между окнами, на которой Ленин три года подряд отмечал флажками положение на фронтах, другая карта на белом кафеле печки за спиной рабочего стула, книги в шкафу, некоторые из них, видно, только что побывали в работе, лежали теперь одна на другой, белея закладками, или косо стояли рядком, как бы вот-вот готовые вновь очутиться в нетерпеливых руках хозяина.
Делегаты оглядывали его, а Ленин оглядывал их, привычно прищуриваясь, отчего казалось, что он хитровато улыбается про себя в ожидании разговора.
По кое-как выбритым лицам, по скромной старой одежке, по всему неброскому виду вдоволь натрудившихся за жизнь и теперь уже стареющих людей, Владимир Ильич почти безошибочно определял, кто и чем из них «дышит», что сказать им, о чем спросить.
Впрочем, пусть оглядятся, пусть успокоятся: разумней пойдет беседа…
— Ну-с, — подавшись всем корпусом в сторону Игната Сухорукого, угадав по какому-то взъерошенному, напряженному виду, что это и есть тот самый «крикун и бузотер», о котором только что сердито говорил Веритеев, и что именно с этого крикуна надо начинать разговор. — Ну-с, — наконец негромко произнес Владимир Ильич. — Что же вас привело ко мне?
Делегаты переглянулись. Потом все вместе повернулись к Веритееву. Тот промолчал.
— Товарищ Веритеев сообщил мне о главных претензиях ваших рабочих, — помогая им собраться с мыслями, доверительно заметил Ленин. — В частности, о недовольстве отменой усиленного пайка и вообще снабжением завода.
— А как же! — Это сказал Игнат Сухорукий. Знакомая по митингам и цеховым разговорам тема вернула ему утраченную было уверенность в себе. — Об этом теперь, чай, главная речь…
— Гм… так. Значит, вы хотите, чтобы усиленный паек выдавался всегда, а не только в период усиленного труда? Работа идет, как говорится, ни шатко ни валко… вот как теперь на заводе Мак-Кормиков, а паек чтобы шел усиленный… как в бою?
Немного помолчав, но так и не дождавшись ответа, он отодвинул бумаги, лежавшие перед ним, вернее — не отодвинул, а только легонько тронул их, как бы проверив, удобно ли, так ли они лежат, чтобы потом, когда он вернется к ним, к записанным на них мыслям, можно сразу же, без разгона, продолжить прерванную работу.
— К сожалению, в силу просто невыносимых, катастрофически скверных условий все предприятия нашей промышленности, даже и в Москве, мы полностью снабжать не можем. Удается как-то обеспечивать только те, которые крайне необходимы в данный момент. Я понимаю: вам голодно. Всем голодно. Архитрудное время. Но у многих из вас, насколько я знаю, есть все же свои огороды, даже наделы. А каково рабочим с их семьями в Москве? Они могут буквально погибнуть от голода, А в силу известных причин именно в Москве сейчас сосредоточено около сорока процентов всех продолжающих трудиться рабочих России. Значит, спасти рабочих Москвы — это спасти от гибели революцию, уцелеть и всей Советской России. Для этого мы вынуждены вводить жесточайшую экономию. Перестал завод производить необходимую продукцию — приходится просить рабочих потерпеть, ничего не попишешь. Вы как на этот счет полагаете, товарищ? — обратился он к Сухорукому.
Тот растерянно промолчал.
— Да, приходится потерпеть! — повторил Владимир Ильич, потом мельком взглянул на лежавшую перед ним бумажку с пометками, сделанными во время беседы с Веритеевым, положил на нее сжатую в кулак ладонь. — Некоторые у вас поднимают вопрос и о том, будто партия и правительство своей новой экономической политикой, дающей известные льготы крестьянству и частному капиталу, тем самым как бы обделяют… даже предают интересы рабочего класса.
— Болтают об этом, верно! — не выдержал нетерпеливый Иван Амелин, красноречиво покосившись на сидевшего в стороне Драченова.
— Но это чистейший вздор! Все, что мы делали и будем делать, направлено именно на то, чтобы спасти, сохранить, укрепить диктатуру пролетариата, благодаря которой только и можно двигаться вперед, к социализму. Двигаться, как выяснилось, не прямиком, а обходными путями. Даже иногда возвращаться назад. Помните, каким было лето прошлого года? Небывалая засуха буквально сожгла урожай. Не позволила она запасти и корм скоту. Несмотря на все усилия заготовительных органов, мы едва смогли, да и то благодаря жесточайшей разверстке, получить двести восемьдесят пять миллионов пудов зерна при минимальной потребности в четыреста миллионов. Чуть больше половины общих потребностей. А что такое разверстка, вы знаете? Это закон военного времени, по которому у крестьян безвозмездно изымались излишки хлеба. Иного выхода у нас не было. Отсюда их недовольство, их колебания в сторону наших врагов, поддержка многими из них контрреволюционных восстаний и мятежей. Разгул… иного слова я не подберу: именно разгул анархической, контрреволюционной, по сути, стихии, которая, кстати сказать, затронула и известную часть рабочего класса. Деклассированную часть, — уточнил он жестче. — Ту, которая корнями еще связана с мелкой буржуазией, и ту, которую смогли своими псевдореволюционными лозунгами сбить с толку эсеры и меньшевики.
Сухорукому показалось, что Ленин при этом особенно пристально взглянул на него. Сразу стало жарко и неудобно сидеть в широком кожаном кресле, в которое он до этого уселся довольно крепко. «А все черт Драченов! Теперь хоть встань да беги…»
Ленин между тем сам легко поднялся со стула и, по давнишней привычке устающего от многочасовых сидений за рабочим столом человека, прошелся возле стола. И вдруг опять обратился к Игнату:
— Как бы вы поступили в таких условиях по отношению к крестьянам, товарищ?
Тот вздрогнул от неожиданности, заерзал на мягком сиденье кресла и, чувствуя, как все больше томит и сковывает его смущение, не очень внятно буркнул:
— Крестьянство мне ни к чему…
— Так… Крестьянство вам ни к чему? Возможно, что лично вам оно действительно ни к чему, — в голосе Ленина прозвучала досада. — Однако для пролетариата, как класса, вовсе не безразлично, с кем и куда пойдет основная крестьянская масса: с нами или с буржуями? Более того: это в наших условиях — коренной вопрос. Без его решения нечего и думать о построении социализма в России. Братский союз рабочего класса с деревенской беднотой и деловая дружба со средним крестьянством — это альфа и омега Советской власти. Что же касается лично вас, — добавил он с иронией, — то, по- видимому, вы вполне городской, законченный пролетарий?
Игнату показалось, что Ленин своим вопросом одобряет и поддерживает его, поэтому он с облегчением подтвердил:
— Угу, пролетарий…
— Сознательный? То есть активно работающий на революцию?
— Он, может, и пролетарий, — неожиданно для себя вступил в разговор все еще сердитый на Сухорукого за его развязные выходки в приемной Иван Амелин. — А только на днях не кого другого, а его поймали в проходной с ворованным колуном…
Сказал и сразу же ужаснулся: к чему с этим влез в серьезный, большой разговор? «Вот чертова натура! — зло укорил он себя. — Ляпнул ни с того ни с сего!»
Но поправить уже было нельзя, да и Ленин вдруг не то серьезно, не то юмористически переспросил:
— Что, что? С каким колуном?
Сухорукий побагровел, глухо выдавил из себя:
— Ну, директор наш, Круминг… сделал и нес я, значит, после работы колун домой…
— А он заметил и пристыдил? Отобрал колун?
— Угу. А что? — обиделся Сухорукий. — Что будешь делать дома без колуна? И дров не наколешь…
— Сколько же весит такой колун?
— Не меньше чем фунта три, а то и четыре! — посмелее сказал Игнат. — Пока его откуешь да пока вынесешь… морока!
— Гм, да. А сколько у вас рабочих? Тысяча с лишним?
— Около полутора тысяч, — уточнил Веритеев.
— Теперь представьте, если даже не все, а, скажем, триста человек, подобно вам, унесут домой… Ну, раз в неделю… кто колун, кто еще что-нибудь? Это, если помножить четыре фунта на триста, будет тридцать пудов необходимого заводу металла…
— Чай, завод не наш, американский!
— Работает он на нас. Не хватит металла — не хватит машин для крестьян. Останутся незасеянными многие поля. Не будет необходимого стране урожая…
— У нас на заводе не все такие, — опять вмешался в разговор Амелин, кляня в душе Сухорукого, который испортил всю обедню. — Много сознательных…
— Сознательных! — обиделся Сухорукий. — Ты вон спроси у своего партейного Сереги Малкина, откуда у него чуть не фунтовая медная зажигалка?
Сидевший до этого молча Малкин пунцово вспыхнул, тоже, как и Игнат, заерзал на своем стуле, впился испуганным взглядом в лицо Ивана Амелина, как бы моля его промолчать, не спрашивать, но вместе с тем понимая, что теперь нельзя промолчать, что и ему все равно отвечать придется. А Сухорукий, как назло, добавил:
— Чисто снаряд от пушки! Выточил ее да и носит теперь в кармане, форсит своей зажигалкой…
Некоторое время все напряженно молчали.
Потом Владимир Ильич негромко и, как показалось делегатам, почти стеснительно, как бы печалясь и стыдясь, раздумчиво произнес:
— Гм, да… много каждому человеку нужно. Но важнее всего пролетарская гордость. Честность. Уважение к себе. Не говоря уже об интересах своего государства…
Он нахмурился, помолчал. Потом, как бы с трудом стряхнув внезапно наплывшее огорчение, мимоходом заглянул на полку одной из квадратных, вертящихся этажерок, стоявших с книгами и бумагами возле стола, устало и неохотно присел на стул.
«Пожалел! — с благодарностью и стыдом подумал Сергей Малкин, невольно вцепившись пальцами в карман пиджака, в котором лежала проклятая зажигалка. — И чего мы, верно, с этими зажигалками? А то вон и с колуном? Тьфу ты, бес меня раздери!»
Зажигалку он сделал и в самом деле фасонистую, в форме снаряда, с остроконечной крышечкой, надраил ее до блеска, честь по чести. Теперь, ее солидная тяжесть, величина и конусок завинчивающейся крышки показались вдруг постыдными для него, рабочего человека, партийца, одного из тех, о ком товарищ Ленин говорит здесь с такой надеждой, с таким уважением.
«Чего-ничего, а спереть… У-у, хапало чертово! — со злостью подумал он о себе. — Да пропади она пропадом, злая сила! Еще хорошо, что так обошлось, а то хоть башкой об стену…»
Ленин между тем, откинувшись к плетеной спинке стула и как бы отстраняя постыдное и случайное, что прервало их серьезный разговор, с поразившей делегатов проникновенностью произнес:
— Быть настоящим рабочим, тем более коммунистом, совсем не легко. Особенно если не принудишь себя день за днем становиться им. Груз старых понятий сам с плеч не свалится, мертвый будет хватать живого. Куда как легче просто существовать. Но это, по-моему, небольшая радость. Мелкая радость. Украсть с завода колун, выточить зажигалку… гм… Впрочем, давайте вернемся к главному разговору! — и быстрым брезгливым движением плеч как бы отбросил прочь постыдные и случайные мелочи. — Сейчас, в наших трудных условиях, каждому рабочему, если он рабочий не только по профессии, но и по убеждениям, надо помнить одну важнейшую заповедь: что бы мы ни делали, какие бы текущие задачи ни решали, к каким бы приемам в их решении ни прибегали — для нас неизменным принципом, священной заповедью должно быть сохранение власти пролетариата, его революционной диктатуры. А высший принцип диктатуры — это братский союз рабочих и крестьян. Благодаря ему рабочий класс только и сможет удержать сейчас руководящую роль и государственную власть в России. Рабочий — это промышленность, основа нашего развития. Крестьянство — его верный соратник. Таким образом в стране с преобладающим крестьянским населением исторической задачей пролетариата является разумное, терпеливое обеспечение перехода этих крестьян к коллективному общественному труду на базе машинной техники. Это дело нелегкое, затяжное. Оно потребует работы нескольких поколений. Наша задача — начать исторический поворот. А ведь вы — не только партийцы, но, полагаю, и беспартийные — всерьез хотите победы социализма в нашей стране? Не так ли? — спросил он и по очереди оглядел сидящих перед ним рабочих.
— А как же? — за всех ответил Иван Амелин. — Иначе зачем было и драться в семнадцатом?
— Правильно! Иначе незачем было и начинать. Жить бы при помещиках и буржуях, гнуть на них спину. Однако победы социализма нельзя достичь наскоком, путем одного лишь увлечения, даже самопожертвования. Эти качества сами по себе драгоценны. Они помогли нам победить врагов революции на фронтах. Там это, возможно, играло даже главную роль. Крестьянин-солдат был воодушевлен борьбой за землю против помещиков и кулаков, рабочие — против заводчиков и капиталистов. Но теперь положение изменилось. Теперь, чтобы восстановить и двинуть дальше социалистический фронт, необходимы терпение, деловитость, — быть может, даже скучная, будничная работа. И так вести дело куда труднее: здесь особенно необходима предельная отработанность мысли, трезвого взгляда на вещи. Именно это должно быть главным в поведении не только партийцев, но и сознательных беспартийных, ибо их интересы в конечном счете решительно совпадают…
Его прекрасное, мужественное лицо с резко выраженными чертами, в изменении которых легко читался каждый оттенок мысли, вдруг мягко дрогнуло, в прищуренных глазах мелькнула, как свет, улыбка.
— Признайтесь, что не эта разумная трезвость, а увлечение чувством, нередко мелким, владеет вами еще и теперь? Митинговые настроения захлестнули сейчас многих на заводах… не удивительно, что и у вас. Не вдумываясь в сложнейшие, неотложнейшие проблемы нового этапа в развитии страны во всей их необходимости, некоторые, — Ленин мельком, но очень красноречиво остановил проницательный взгляд на Драченове, отчужденно сидевшем за дальним концом стола, — готовы в каждой такой сложности винить ЦК нашей партии, заниматься интригами, мелкой и крупной драчкой вместо того, чтобы терпеливо, уверенными и ловкими руками развязывать каждый гордиев, узел противоречий и трудностей, стоящих на пути. А трудностей этих будет немало. Для их преодоления мы намечаем решительный переход от чисто революционных методов военного коммунизма к более гибким методам новой экономической политики. Суть этой новой политики, если говорить коротко; заключается во временном допущении частного капитала в промышленность и торговлю при полном обеспечении государственной диктатуры пролетариата. После Октябрьского переворота нам не удалось прямой штурмовой атакой осилить эту задачу. Последствия гражданской войны окончательно похоронили надежды на такую возможность. Значит, мы должны эту задачу осилить рядом медленных, постепенных, осторожных «осадных» действий, ибо нет ничего более опасного для нас, как тащиться по колдобинам послевоенной разрухи за счет предельного истощения сил в крестьянстве и рабочем классе при постоянной угрозе нападения извне со стороны более сильного противника. Сейчас у нас наиболее остро обнаружилась отсрочка восстановлении крупной промышленности, ее оборота с земледелием, невозможность удовлетворить острейшую нужду деревни в машинах, текстильных и других изделиях. Значит, надо пока налечь на более доступное: на восстановление крестьянского хозяйства и мелкой промышленности. Помочь делу с этой стороны, подпереть этот бок полуразваленного войной и блокадой строения. Такова, в частности, основная мысль замены разверстки продналогом, его экономическое значение и всего, что с этим связано. В тех невероятно трудных условиях, в каких мы оказались, только такая политика позволит нам выстоять, сделать вначале едва ли не самый главный шаг вперед в деле преодоления разрухи, а затем, окрепнув, совершить наконец решительный прыжок в сторону социализма…
Он опять внимательно оглядел делегатов.
— Главная наша задача в том, чтобы заложить экономический фундамент коммунизма, суть которого заключается в создании крупной машинной индустрии, способной по технической мощи и по своим организационным «настройкам» превратить нынешнюю мелкокрестьянскую Россию в высокоразвитое индустриальное государство с крупным, механизированным сельским хозяйством. И мы такой фундамент заложим! — с силой добавил Ленин. — Несмотря на множество трудностей в стране и на бешеное противодействие со стороны мировой буржуазии, мы взялись это сделать и сделаем!
Ленин мельком взглянул на часы, висевшие перед ним на стене, над дверью в приемную. Часы были старые, неисправные, время указывали неверно. Но он уже привык к ним. Ему надо было, чтобы они, эти старенькие часы, все время находились перед глазами, напоминали о быстротекущем времени. Поэтому и теперь, как всякий раз в таких случаях, он лишь привычно перепроверил настенные часы своими, вынутыми из кармашка жилетки, укоризненно покачал головой, недовольно хмыкнул, явно имея в виду себя: «Гм, да… заговорился, а времени уже нет, ждут другие дела!», положил ладонь правой руки на стол и легонько постучал пальцами по зеленому сукну стола. И неожиданно обратился опять к Сухорукому:
— Скажите, товарищ, вы воевали?
— А как же! — охотно, не без самолюбивой гордости, ответил тот. — И с японцем, и с германцами.
— Солдатом?
Сухорукий усмехнулся в прокуренные усы:
— В генералы я вроде не гожусь…
— Гм, так. Вот теперь и скажите: можно ли побить врага, если каждая рота и каждый взвод будут действовать сами по себе, как им заблагорассудится, не подчиняясь распоряжениям командования?
— Это как же? — не сразу поняв, куда клонит Владимир Ильич, насторожился Сухорукий. — Такое никак! Штабам оно, чай, виднее. Рота, тем больше взвод, эти только чего вблизи…
— А ваш завком рассудил иначе. Решение правительства о посылке эшелона рабочих на хлебный фронт он счел пустой, не обязательной для себя бумажкой. Ему, видимо, все равно, что сейчас требуется стране в целом, главное — что устраивает групповые, местные интересы. Как вы лично относитесь к такой политике?
— Я-то? — Сухорукий побагровел. — Ну я-то, конечно, не шибко силен. Драченов… а я за ним.
— Вы за ним. А противник тем временем бросает свои войска на ваш митингующий самостийный взвод. Потом на другой такой же, на третий. В итоге вместо победы дело кончается поражением. Верно?
— Вроде бы…
— Именно так! Победить разруху и голод можно лишь всем сообща, крепко взявшись за руки, соблюдая строжайшую пролетарскую дисциплину. Без этого — смерть. А хлебный фронт сейчас главный. И, возвращаясь к нашим текущим делам, должен сказать, что мы уже сейчас, в начале года, объявляем всероссийскую мобилизацию трудящихся, начиная с рабочих центра, на сельскохозяйственный фронт. То есть будем с ранней весны формировать и отправлять из промышленных центров в хлебородные губернии, прежде всего в Сибирь, рабочие продовольственные отряды в помощь крестьянству. Нам во что бы то ни стало нужно дозаготовить те сто пятьдесят миллионов пудов зерна, которые не обеспечиваются в этом году ни налогом, ни разверсткой. Именно поэтому поездка вашего эшелона, поездка специалистов по сельскохозяйственным машинам, да еще с запасными частями, которые мы надеемся получить у дирекции завода в счет готовых машин, такая поездка архинеобходима! И я пользуюсь случаем просить каждого из вас… и вас, товарищ, — в последний раз обратился он к Сухорукому, в продолжении почти всего разговора как бы не замечая молча сидевшего на отшибе Драченова. — Да, да, и вас, несмотря на то, что «крестьянство вам лично ни к чему», но, учитывая его роль в государстве, я хотел бы вас всех просить разъяснить сказанное здесь своим товарищам по заводу. Стать, если хотите, боевыми агитаторами за эту поездку, а во время самой поездки, которая будет длиться довольно долго, быть образцом в труде и в той большой разъяснительной пролетарской работе среди крестьян в пользу Советской власти, которую каждому из вас и всем рабочим завода в целом обязательно придется вести, чтобы помочь сибирскому крестьянину лучше понять и общее положение в республике, и необходимость братского единства с революционным рабочим классом…
…Когда делегаты вышли, Ленин попросил телефонистку соединить его с наркомом продовольствия Цюрупой.
— Александр Дмитриевич! — сказал он, довольный, что нелегкая в те годы связь так быстро наладилась. — У меня только что была делегация рабочих Люберецкого завода Мак-Кормиков. Да. Худо у них. Тысячи полторы, не считая семей. В виде исключения не найдется ли у вас, ну, скажем, вагон зерна или муки. На посевную работали хорошо. Да-да, прикиньте, пожалуйста, а потом позвоните мне. Хорошо?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Эпидемия гриппа началась в ту пору в Испании и уже оттуда прошла на восток Европы. Вместе с холерой и тифом «испанка» второй год подряд свирепствовала в Советской России. Голодные, обессилевшие люди не в состоянии были сопротивляться страшной болезни. Смерть от ее осложнений выкашивала их в городах как траву, без всякой пощады.
Немало умерших отнесли на местное кладбище и из заводской больницы. Но Платону Головину повезло: закаменевшая в своем горе Дарья Васильевна не отходила от его больничной койки ни днем ни ночью. Старенький фельдшер Мозжухин только одобрительно крякал, наблюдая за тем, как молчаливая, исхудавшая женщина обкладывает мужа горчичной бумагой, укутывает, выхаживает, и больной с каждым днем заметно идет на поправит.
Через две с небольшим недели его, еле держащегося на ногах, отпустили домой. И здесь совсем полегчало: в больнице пришлось лежать в продуваемом со всех сторон коридоре, возле окна, а дома хоть и не очень тепло, но своя, тобою сделанная кровать, родное ватное одеяло, свои хоть и кислые, но куда как вкуснее приготовленные Дашей щи, вгоняющий в пот земляничный чай с сахарином. К тому же Зинку или Антошку можно послать к старику Щербовичу: невелики у аптекаря запасы лекарств, а все по-соседски отпустит баночку скипидарной мази — натереть на ночь грудь, чтобы хрипу поменьше было…
Вместе с выздоровлением стали возвращаться к Платону и заботы: что было на только что прошедшем съезде партии? Что с поездкой в Сибирь? Как вообще дела?..
Было горько, что тогда, в феврале, из-за проклятой болезни не попал вместе с делегацией к товарищу Ленину. И Михаила Ивановича Калинина на заводском митинге не послушал. Только и радости, что газета: Дашенька приносит ее аккуратно…
Страшась распространения эпидемии, в больницу посторонних без срочной надобности не пускали. Дарья Васильевна, занятая больным, мало что знала, и теперь, вернувшись домой, Платон день за днем нетерпеливо ждал Веритеева или Малкина: как ни заняты, должны навестить больного, не передавать новости через Дашеньку, а прийти самим, обо всем обсказать подробно.
Правда, Антошка рассказывал с пятого на десятое, как делегаты отчитывались после возвращения из Кремля на заводском митинге, как митинг прошел, а на нем товарищ Калинин хорошую речь произнес. Даже такой бузотер, как Игнат Сухорукий, выступил с ладной речью. «Я, говорит, товарищ Калинин, пошел за Драченовым сослепу, с дурости. А теперь вполне понимаю, что к чему. Так что уж извиняйте…» Постановили единогласно — ехать в Сибирь. А на другое утро из Москвы пришел на завод вагон с продовольствием…
Да разве это рассказ? Надо из первых рук, от самого Веритеева. Пора бы старому другу заглянуть к больному на часок-другой.
Тем неожиданнее было для Головина, что в один из воскресных мартовских дней к нему явился Игнат Сухорукий. Про себя Платон так и определил: явился, а не пришел. Всю зиму одетый в один и тот же ватный «спинжак», замызганный в цехе («Что в цех, то и для всех»), неопрятный, ершистый, пыхающйй дымом из-под прокуренных усов, — на этот раз Сухорукий явился хотя и в обычном своем «спинжаке», но аккуратно застегнутый и причесанный. Даже его рыжие тараканьи усы, казалось, были пушистее, чем всегда.
Когда он, склонившись под притолокой, хрипловато, как все курильщики, бросил: «Здорово, хозяева!» — Платона кольнуло: «А этот зачем явился? Чего ему надо?»
Едва ли не больше любого другого, даже Драченова, именно Сухорукий доставлял в прошлом году и в течение всей зимы множество неприятностей Платону в его партийных заводских делах. Если где-нибудь на заводе в рабочий час начиналась очередная «буза» из-за нехватки продовольствия, дров, одежды, немыслимой скачки цен на базаре и крикуны со смаком «вешали всех собак» на Советскую власть, то в центре этой «бузы» чаще всего оказывался Сухорукий. А какую околесицу он плел на митингах! Как костерил «зажравшихся комиссаров и бюрократов»! Что нес иногда насчет того, что якобы «все пошло под уклон, и выходу больше нет»? Антошка сказал, что после поездки в Кремль мужик вроде начал меняться. Да только надолго ли? Больно уж много в нем вздорной злости…
Теперь, войдя, Сухорукий мирно спросил:
— Ну, как твоя хвороба, Николаич?
— Ты хоть ватник сними! — сердито оборвала его Дарья Васильевна. — Человек хворый, простуженный, на дворе еще снегу полно, а ты прямо с улицы в этом грязном-заразном!
Неожиданно для нее Игнат согласился:
— И то!
Вернулся в крохотную прихожую, положил на сундук «спинжак» и облезлую шапку, достал гребешок, причесался.
— Я к тебе, Николаич, решил зайти от души! — начал он, вновь усаживаясь на табуретку возле постели. И огляделся: —А бедно живешь. И еда вон…
Его придирчивый взгляд прошелся по плошке с остатками пшенной каши, по недопитому стакану зеленоватого самодельного чая. Рядом с ними на столе — не только хлеба, крошек не видно…
— Уж мог бы как секретарь, — с упреком добавил Игнат.
— Чего это я мог бы? — сердито спросил Платон и закашлялся.
— Ладно… это я так, — смутился Сухорукий. — Блажь моя, знаешь? Ты уж, брат, извини. Бывает.
Платон промолчал.
— Кто был у тебя из наших? — ревниво спросил Игнат. — Еще по-настоящему не успели? Ишь ты! И то, дел у них много, что говорить. Так вот, значит, съездили мы, как надобно быть. Сейчас я тебе…
Он плотнее устроился на скрипучей табуретке и уже открыл было рот для обстоятельного рассказа, как вдруг усмехнулся, сильно хлопнул себя широкими ладонями по коленям, с веселым недоумением воскликнул:
— Однако ж, брат, вот я чего до сих пор никак не пойму: об этом, чего нам наказывали на заводском митинге и об чем я особо хотел поспорить, поставить в Москве на попа, спорить нам не пришлось. Вот, значит, вошли, поздоровкались, а потом уселись все чин по чину ближе к нему, окромя Драченова. Я глаз с его не спускаю, и дивно мне: вроде не очень показист, помене меня росточком, и рыжеват, и с кажным здоровкается за руку, а все вкруг вроде остерегает тебя: «Не тормошись, мол…» Ей-богу, не вру! Тихо, брат, аккуратно. Не то что об нашей бузе, а и об куреве позабыл! Все у него прилажено к делу, к соображенью. И чем на его ты больше глядишь, тем как-то, брат, у тебя надежнее на душе. А уж об том, чтобы, значит, бузить да спорить… Только когда от него ушли, когда на площадь Красную вышли, только тут нам Драченов напомнил: «Что же вы, говорит, об том, что велели вам, с им и спорить не стали, всего ему не сказали? А тоже еще, делегаты»… Я бы в другое время враз его поддержал, а тут, поверишь, зло взяло на Драченова: чего лезть к Ленину с нашей бузой? Он и без нас все понял! Потому, когда Амелин ответил Драченову: «Черт с тем, что спорить не стали», я тоже подумал: верно, что черт с ней, с нашей бузой…
Не то усмехаясь, не то сердясь, он помолчал, покачал головой. Потом неожиданно для Платона смущенно и виновато признался:
— А я, брат, сильно там обмишулился… Срамота! — И едва ли не полчаса во всех подробностях стал рассказывать историю с колуном и зажигалкой Сергея Малкина. — Истинный крест, так все и было! Вон чего вышло, гляди ты! Ванька Амелин ляпнул про мой колун, а он возьми да спроси: что, мол, там за колун? Потом всю дорогу я то со стыда, а то с хохоту обмирал, как вспомню его слова про рабочую гордость или про то, как я ловко Сережку поддел с его зажигалкой! А и то, — рассердился вдруг Сухорукий, — выходит, плохой только я да я? А другие, выходит, лучше?
Дарья Васильевна, слушая, всплескивала руками:
— Срамота-то какая — колун украл! Батюшки, и об этом в Кремле-то? Ох, срамотища! Стыда у вас нет…
— Стыда — оно верно, что не хватает, — легко согласился Игнат. — Вон тоже возьми меня: когда вернулся домой, опять про колун подумал. Ведь чем мы все топим печи с грехом пополам? Пеньками из лесу. Намедни вместе с твоим Антошкой эно какие раскорчевали! Я еле-еле довез, боялся — тележку совсем угроблю. Привезти-то привез, а чем расколешь проклятый пень? Топор не возьмет. Вот и подумал опять про колун: мол, может, на этот раз не поймают?..
Он безнадежно махнул рукой.
— Подумал, да плюнул. Не буду, мол, хватит. Вспомнил про тридцать пудов, о которых он говорил, об нашей рабочей чести — и стало вроде не по себе. Черт с ним, с тем колуном, обойдусь без него…
Игнат потянулся было в карман за кисетом, взглянул на Платона, сунул кисет обратно, посерьезнел, расправил рыжие, прокуренные усы:
— А что касается завода, то тут все у нас получилось в порядке. Отчитались мы, значит, в цехах и на митинге честь по чести. Я тоже при самом Михайле Ивановиче Калинине большую речугу рванул, с решением согласился…
Когда довольный своим подробным рассказом Игнат наконец ушел, на душе Платона стало одновременно легче и тяжелей: все-таки не Веритеев и не Амелин, а этот «рыжий таракан», как за глаза называли Сухорукого, первый пришел и наговорил про свой колун и Серегину зажигалку. Надо будет послать Антошку к Амелину или к Малкину — пусть забегут и расскажут все по порядку, нет силы дольше терпеть…
А тут еще мучает бередящая душу ссора со старшим сыном: после совместного заседания завкома и парткома, а потом и решения ячейки об исключении из партии, Константин отошел совсем…
Был сын, стал вздорным, злым чужаком. Мира не получилось. «Теперь уж, похоже, полное расхождение, — с горечью и обидой думал Платон, лежа на койке в их с Дарьей Васильевной комнате. — В особицу рос, в особицу и по жизни решил идти. Дашенька ходит заплаканная. Молчит. О Костьке ни слова. А видно, что худо ей: мать — она мать и есть!..»
Ссора произошла после долгого, трудного разговора.
И поводом к ней послужил возбужденный рассказ Антошки о том, что через несколько дней после того, как отца увезли в больницу, Константин привел домой и накормил обедом явного чужака.
— Не иначе, контрика! — горячился Антошка. — Узнал я его! Теперь он побритый, ни бороды, ни усов, а все равно тот самый, который скрывался в монастыре! Оделся монахом, а вовсе и не монах! Явный вражина! А Костька взял да привел его к нам! Последний обед у мамки сожрали…
После расспросов выяснилось, что Антошка за день до этого видел знакомого Константину «контрика» в Николо-Угрешском монастыре, расположенном в пяти верстах от поселка, когда они, четверо комсомольцев во главе с Мишей Востриковым, ходили туда с бумагой Совета о мобилизации монастырских подвод на возку дров для Москвы и их чуть не час избивали старухи да мужики из ближних к монастырю деревень…
— Не поспей ребята товарища Дылева, еще неизвестно, были бы мы живы! — заключил Антошка длинный рассказ.
Об этом монастыре в поселке давно уже ходили разные слухи. Одни говорили, что там чуть не в каждой келье вместе с монахом — баба. Другие клятвенно утверждали, что если не видели сами, то слышали от надежных людей, будто за каменной монастырской стеной среди монахов немало скрывшихся от властей «беляков». Третьи доказывали, что если не весь, то добрая часть самогона, выпиваемого в уезде, идет оттуда через приверженных к монастырю молодок и баб: сытая братия гонит его из зерна и картошки…
До революции монастырю принадлежали частью купленные, частью «дарованные» богатыми господами, в том числе членами царской семьи, сотни десятин пахотной, луговой и огородной земли в местной пойме Москвы- реки и на лесистом верху над рекой. А в далеком прошлом собственностью монастыря были и некоторые из окрестных деревень, которые даже и теперь оставались не то его бессрочными данниками, не то добровольными помощниками во многих тайных и явных делах.
Старухи из этих деревень, одетые во все черное, похожие на монашек, не пропускали ни одной монастырской службы, знакомы были монахам по именам. Некоторые в молодости и грешили здесь, рожали ребят, роднились с монастырем. Бывало, что их в молодые годы без ведома настоятеля озорники в черных рясах даже «постригали» в монахини, и те считали себя теперь «божьими мироносными девами», вербовали в округе себе подобных, чаще всего недужных, несчастных.
Наиболее деятельные из старух время от времени, как и в прежние времена, отправлялись «по святой Руси» за сбором даров и денег на благолепие храмов и на прокорм монастырской братии. А попутно и для того, как выяснилось позднее, чтобы распространять среди верующих в охваченной голодом и смутами стране молитвы и листовки, многие из которых были прямым призывом не подчиняться власти «безбожных большевиков».
Не только старухи, но и многие молодые крестьянки из ближних к монастырю деревень продолжали работать на «братию» на дому: стирали, шили и чинили монашеское белье, рясы и подрясники, а вместе с ними и отнюдь не монашескую одежду тех, кто появился здесь совсем недавно, после подавления заговоров и мятежей, и держался в кельях особняком.
После разгрома белых на юге шахты Донбасса еще не были восстановлены, нефтяные скважины Баку залиты водой. Поэтому основным видом топлива по-прежнему оставались дрова. И по решению губернского исполнительного комитета все подмосковные уезды по разверстке обязаны были за зимние месяцы подвезти в Москву для ее кое-как работающих заводов необходимое количество возов с заготовленными в местных лесах дровами. За первую половину зимы уезд уже поставил «Москвотопу» двести возов. Теперь, до полной ростепели, следовало отправить еще сто, а подвод не хватало. Все, что местные учреждения, крестьяне и частные лица обязаны были во исполнение декрета о всеобщей трудовой и гужевой повинности выполнить, было выполнено. Один лишь монастырь, его игумен Никодим, под разными предлогами до сих пор не дали ни одной подводы. Неделю назад, в ответ на очередное требование исполкома, игумен прислал витиевато написанный очередной отказ, смиренно утверждая, что монастырская братия живет бедно, питается скудно, пашет и сеет сама, сама же и убирает свой урожай. Для этого, верно, есть две-три лошади (хотя в монастырской конюшне их было десятка два). «Однако же при бескормице, охватившей несчастную, прогневившую бога Россию, кони лишились последних сил, а поэтому трудовой повинности нести не могут…»
План поставок топлива в Москву следовало выполнить во что бы то ни стало, и, возмущенный отказом настоятеля, председатель уездного исполкома решил снова, и уже в последний раз, направить в монастырь представителя местных властей со строжайшим письменным распоряжением: в ближайшие два дня, а именно рано утром в четверг, пригнать к зданию исполкома десять подвод со своими возчиками для перевозки дров в Москву с одной из лесных делянок. На требовании — расписаться. Невыполнение повлечет за собою…
Дело было щекотливое. Поэтому начальник местной ЧК Дылев пригласил к себе для беседы секретаря уездной комсомольской организации, одновременно исполняющего должность секретаря волисполкома Мишу Вострикова и трех его помощников-комсомольцев, которым предстояло вручить игумену Никодиму распоряжение исполкома. А на следующее утро Антошка Головин, Филька Тимохин и Гриня Шустин во главе с чуть более взрослым, чем они, предводителем отправились в монастырь — «вручать меморандум», как вполне серьезно заметил при этом строгий, решительный Миша.
Антошка с Филькой охотно согласились «прогуляться» с Мишей в монастырь. До Октября, а некоторое время даже и после него, на пасху или в престольные праздники, они бегали туда из поселка на церковные службы.
Не молиться, нет: какая еще молитва! Просто в те дни можно было пожевать что-нибудь в трапезной, если поможешь монаху-повару почистить картошку, помыть посуду, вынести помои. За это разрешалось также подняться на колокольню и под строжайшим присмотром старого звонаря потрезвонить час или два. Стоишь наверху, над всей монастырской усадьбой, над крышами ближних деревень, вровень с соседним лесом, и тянешь веревку большого колокола, дергаешь веревки других колоколов что есть силы. Наяриваешь так, что звон твой слышно небось до самой Москвы. А уж что ребята в родном поселке услышат и после с завистью спросят: «Опять звонил?» — само собой ясно!
Правда, за это приходилось смиренно помогать монахам и во время церковной службы: оденут тебя в мальчишечий сарафан… стихирь, что ли? — и таскай за батюшкой разную дребедень. Зато по ходу службы можешь время от времени пройти за «царские врата» в алтарь и, когда дядьки-монахи зазеваются, хлебнуть из чаши «святого» винца по названию «кагор».
Из-за этого кагора, наполовину разбавленного теплой водицей, их обоих в конце концов и прогнал одноглазый иеромонах Панфил. Одноглазый, а увидел. Как Филька ни клялся, что получилось нечаянно и что больше они с Антошкой не будут трогать просвирки и вино, как ни пытались потом раза два со смиренным видом явиться опять в монастырь на праздник, Одноглазый гнал их взашей. А в тот первый раз, увидев, как Филька пьет из причастной чаши, попросту вытянул его, а с ним и Антошку, из алтаря наружу за уши да еще наддал сапогом под тощие зады.
— Мужик он здоровенный, что твой Поддубный! Как схватит за уши… да как наддаст… тут не то что винца, а и простой воды не захочешь! Однако же и мы с Подсолнухом не промахи: когда в их саду созревают яблоки, сколько их напихивали за пазуху да в карманы! Но вот чтобы хоть раз позвонить, а тем более пошастать по алтарю… этого теперь нет. И во сне не увидишь. Одноглазый запомнил нас хорошо. Теперь как издали увидит, так кулачищем грозит! — рассказывал по дороге в монастырь Филька Мише Вострикову, то толкая его плечом, то забегая вперед и представляя в лицах, как одноглазый Панфил застиг их, как вытягивал за уши, как с тех пор свирепо морщится всякий раз, если увидит в монастыре…
Миша слушал его невнимательно: сегодня не до пустой болтовни о проделках в монастыре. Бойкость Фильки раздражала: дело куда серьезней! Товарищ Дылев недаром предупреждал: вести себя там строго и осторожно… мало ли что! И револьвер с патронами дал. Только на крайний случай. На самый, на самый крайний.
Значит, он может случиться, тот самый крайний?..
«А кроме того, я через часок за вами ребят пошлю», — прощаясь, добавил Дылев.
— Кончай ты болтать! — сердито сказал теперь Миша Фильке, когда поселок остался позади и вдалеке за кустарником, за бугристой линией горизонта, показались крыши одной из ближайших к монастырю деревень. — Слыхал, что советовал делать товарищ Дылев? Я два раза вам повторял и еще повторяю: держаться в узде! Зря не влезать в разговор, когда я буду говорить с их начальством. Не оскорблять никого, тем более верующих. Если чего и случится, в драку не лезть, я это сам…
Он многозначительно потрогал узкой ладонью карман, в котором лежал и жег ногу наган.
— Тем больше, что товарищ Дылев обещал на всякий случай послать ребят для страховки. Так что ведите себя как надо. Особенно ты! — Он сердито и осуждающе поглядел на Фильку. — Как будто восца у тебя в руках: куда-нибудь, а обязательно влезешь своими граблями! Но это тебе не винцо и не яблоки. Ничего не хватать, ни с кем не цапаться, молчать и смотреть. Товарищ Дылев сказал, что можно даже и добродить под видом глупых зевак. Ты в драмкружке участвуешь? — опять обратился он к Фильке.
— А как же? — с удовольствием откликнулся тот. — Недавно такого пьянчугу-дьякона в пьеске сыграл — цельный час хлопали, вызывали на сцену!
— Ну вот, — более мирно заметил Миша. — Можешь и тут сыграть, будто дурак дураком… Хотя и так ты не очень, — с веселой усмешкой добавил он. — Недаром прозвали Епиходычем. А тут, в данном случае, можешь изобразить и еще дурее. Вон как Филатыч: я, мол, блаженный! И в келью даже зайти, как советовал нам товарищ Дылев, если кто позовет из монахов. Зайти поглядеть: кто там живет? А то вон в поселке болтают разное. Вдруг да и верно скрываются беляки?
— Сделаем! — не обижаясь за «Епиходыча», легко согласился Филька. — Я беляка за версту учую! Монах — он все же монах: от него монастырем пахнет. А если беляк… Хотя, с другой стороны… — начал было он, забыв только что высказанные Мишей строгие наставления не болтать. — Монахи бывают, скажу я вам…
— Опять за свое? — оборвал его Миша. — Да помолчи ты хоть пять минут…
Они миновали длинное, сверкающее под мартовским солнцем снежное поле, прошли деревеньку Бугры, и сразу открылся им монастырь: высокие стены, над ними — церковь для будничных служб и купола большого собора, засыпанные снегом крыши одноэтажных и двухэтажных жилых домов и хозяйственных построек, их мирно дымящиеся трубы. Там же — плешины двух прудов, рядом с ними — голые кроны сада.
Во все концы от главной дороги бежали большие и малые тропы, пробитые верующими. А за самой дальней стеной, сверкая и переливаясь разноцветными снежными блестками, широко развернулась пойма Москвы-реки.
— Так, значит, ребята, договорились? — в последний раз озабоченно спросил Миша слишком уж несерьезных, по его мнению, весело переговаривающихся помощников. — Вы вроде как понятые. Все остальное делаю я. Если же и на этот раз с подводами не сладится и я вынужден буду прибегнуть к решительным мерам, тогда уж как выйдет…
Довольно долго на Мишин решительный стук никто не отвечал, хотя чувствовалось, что за окованными железом дубовыми воротами кто-то есть… Слышались шорохи, обрывки приглушенно сказанных фраз, глухое пошаркивание сапог на ледяной дороге там, за полуторасаженной стеной, ровный шум неумолкающей работы в монастырских мастерских.
— Плюют на нас господа святые! — насмешливо заметил Гриня Шустин. — Ноль внимания, фунт презрения!
— А вот я их сейчас пошевелю! — отозвался Филька и, повернувшись к воротам спиной, изо всех сил застучал по нижним тесинам каблуками.
Ребята уже начали терять терпение, когда в массивной, сделанной тоже из толстого дуба калитке приоткрылась еле заметная дверца. В квадратной дыре показалось бородатое лицо монаха в засаленной бархатной камилавке на густых черных космах.
Мордастый, краснолицый монах был больше похож на разбойника, чем на служителя церкви. Его левый, провалившийся глаз был закрыт суконной черной повязкой. Зато правый смотрел за двоих. Оглядывая по очереди каждого из ребят, страж ворот всем своим видом показывал откровенную неприязнь, плохо подавляемое злое беспокойство. Что-то воровское было в его настороженном взгляде.
— Чего надо? — утробным басом осведомился страж ворот.
Миша стал объяснять.
— А кто вы такие?
— Из уездного исполкома.
— Я вижу, какой тут исполком! — со злостью заметил монах. Острый взгляд его зрячего глаза зыркнул по лицам Антошки и Фильки. — Видали таких. Идите, отколь пришли! — и сильно захлопнул дверцу.
— Наш Панфил! Тот самый, который тогда нас с Антошкой выставил вон! — нисколько не огорчившись, весело воскликнул Филька. — Ух и силен же дьявол! Говорю — ну чисто Поддубный! Ка-ак схватит за шкирку…
— Молчи ты! — Миша растерянно огляделся. — Что теперь делать?
— Что делали, то и делай! Пускай распишутся и вернут. Они от нас так просто не отвертятся. А ну, давайте все вместе…
Еще сильнее, чем прежде, Филька забарабанил по нижним доскам ворот сапогом.
Прошло не меньше пятнадцати — двадцати минут. Ребята уже устали стучать и кричать, когда окошко в калитке опять открылось и Одноглазый мрачно сказал:
— Чего зря стучите? Мандат давайте…
В дыре показалась его крупная волосатая ладонь. Миша, поколебавшись, сунул в нее исполкомовскую бумагу.
Некоторое время страж внимательно разглядывал ее, шевеля мясистыми губами. Для чего-то он даже заглянул на оборотную сторону листка, раздумчиво помолчал, склонив кудлатую голову вбок, неохотно сказал:
— Пойду опять доложу, — и прикрыл дыру глухо скрипнувшей дверцей.
— Агафон Гусев из тех вон Бугров, женатый на Анке, старшей моей сеструхе, — начал неунывающий Филька, чтобы не так томительно было ждать у ворот. — Он сказывал мамке, ух ты какая у этих монахов жизнь. Особенно про «святого» отца Сергия. Живет, мол, тихо, в самой подвальной келье. И спит в гробу, может творить настоящие чудеса. Однако же, Агафон говорил, отец его помнил того «святого» еще в молодости. Тот, мол, испортил округ не одну хорошую девку. Была у него в любовницах даже богатая барыня. Приезжала к нему из Москвы в собственном экипаже. Ага! Не веришь? Истинный бог! — Филька перекрестился. — А все другие монахи, думаешь, чай, святей? Агафон рассказывал: только, мол, глянь в любую деревню округ монастыря, и что же? А то, что сколько ребят там бегают… а уж кто постарше — и совсем похожи на тех монахов! Приставь им бороды — не отличишь: то ли это отец Пафнутий, то ли иеродьякон Евфимий, то ли сам отец Никодим! Да и по ликам — какая святость! Истинные разбойники, вроде Одноглазого. Носаты, губасты, косая сажень. Святостью и не пахнет. Теперь среди них есть и такие, какие, мол, совсем на монахов и не похожи. Того и гляди, говорит, какой-нибудь из новеньких рявкнет, как в старое время: «Ша-агом ма-а-арш!»…
— Гляди-ка, а это кто? — перебил его Гриня Шустин. — Бежит сломя голову…
Из-за правого угла стены, саженях в двадцати от ворот, вдруг выскочил на уже осевшее под мартовским солнцем снежное поле и стремительно побежал по невидимой отсюда тропе в сторону ближней к монастырю деревни юркий, низко горбящийся человек. Иногда он поскальзывался и, поднимаясь, быстро оглядывался (каждому из ребят казалось, что оглядывается именно на него), потом опять устремлялся вперед, будто за ним гнались.
— Спешит чего-то, — с интересом заметил Филька. — Ишь припустил.
— А вон и еще один!
Теперь уже слева от ворот и тоже из-за угла выскочил второй. Не задерживаясь, он побежал от монастыря в другую сторону. Фигуру его на тропе было видно хорошо: тропа оттаяла и блестела на солнце, будто отполированная.
— И этот несется как очумелый, — весело удивился Филька. — Чего они так разбегались?
— Вроде гонцов, — догадался Гриня.
И пошутил:
— Телефонов нет, а сигналить кострами, как в старину, неловко, вот монахи и рассылают гонцов.
— Могли бы еще, как матросы, флажками, — вмешался Антошка. — Помахал одним флажком: «Дескать, жду тебя, Ваня, в гости», потом помахал другим: «Я лучше, мол, сам приду…»
Ребята поспорили, посмеялись. Миша сказал:
— А если об нас?
— Чего об нас? — не поверил Филька. — Что стоим у ворот? Из деревень, особенно сверху из Бугров, и без этого нас, как на этой ладошке, видно. Просто какие- нибудь побежали за самогоном. Нас угощать, — добавил он, засмеявшись.
Между тем за воротами продолжалась своя беспокойная жизнь. Еще слышнее, чем прежде, из-за стены доносились какие-то шорохи, шепоты, суета. Было ясно, что здесь в этот час никого не ждали и вот теперь все срочно приводилось в порядок: кто-то куда-то спешил, кто-то кому-то отдавал приглушенными голосами указания, и в соответствии с ними все во дворе принимало вид, необходимый на случай прихода сюда, в монастырь, представителей новой, враждебной церковникам власти.
— Да-a, хорош он, ваш Одноглазый! — едко заметил Миша, перестав вслушиваться в суету за стеной. — Манежит нас целый час. С похмелья, что ли? От него за версту несет самогоном и табаком! Фельдфебель, а не монах!
— А морда-то? — Филька насмешливо фыркнул. — Такую морду и решетом не прикроешь!
Гриня Шустин, командир отделения в поселковой молодежной группе всевобуча, остановил:
— Погоди, дай послушать… Хм… Одноглазый ваш побежал докладывать, а его молодцы, по-моему, явно заняты спешной передислокацией. При этом, конечно, секретные силы будут отведены в резерв. Попрячутся по углам. Так что, ребята, держись! Смотрите во все глаза. Хотят нам показать, что здесь все в порядочке, полная святость!..
Миша опять нетерпеливо оглядел ворота:
— Да-a, что-то не очень торопится служитель божий.
Монах и в самом деле не торопился. Прошло еще пять минут, еще пять. Потом — полчаса. И только после новой серии сильных ударов каблуками по дубовым плахам раздался наконец знакомый бас:
— Чего зря стучите? Не открывал, значит, не было сроку. А срок пришел, и открою…
Дверца открылась. Страж выглянул наружу, крякнул. Потом сдвинул наползший на ладонь широкий рукав, покопался не то в кармане, не то за пазухой, со злостью сказал:
— Нате ваш мандат, ироды. Подписал настоятель насчет подвод. И больше не приходите. А этих вот, — глазами он указал на Антошку с Филькой, — если поймаю, ухи совсем оборву!
— Руки коротки! — крикнул Филька.
— Не коротки. Я достану.
— Достань пупырь у козла, черт одноглазый…
Калитка вдруг скрипнула и открылась. Филька по-заячьи отскочил от нее, но поскользнулся, упал, а когда так же стремительно, как и упал, поднялся, то раскрыл от удивления рот: со стороны правого и левого углов стены к воротам с угрожающими воплями двигались темные кучки людей…
Били их долго, хотя беспорядочно и несильно.
Били старухи и старики. Больше — старухи. Мужиков почти не было в их толпе. Только вначале, сгоряча, двое- трое из них дали по хорошей затрещине тем из ребят, до которых смогли дотянуться через костлявые плечи старух, разъяренных нашествием нехристей на святое место. При этом один из мужиков сразу же угодил кулаком по лицу вопящего от злости и страха Фильки, и у того под здоровым глазом, симметрично тому синяку, который Филька получил на другом глазу во время схватки в Коломне со «спекулягой», сразу вспух багровый натек.
Бить насмерть не давал, отговаривал вовремя подоспевший из своих Бугров Филькин зять Агафон Гусев.
— Опомнитесь, мужики! Одумайтесь! — суетливо отталкивал и хватал он односельчан за плечи и руки. — Не берите грех на душу! Кто они, те ребята? Минька Востриков, хоть возьми… секретарь исполкому! А Филька мой и того: сродственник! Эно, какой синячище ему ты, Макар, навесил… Сродственник, говорю! За это, за самосуд, милиция спросит! Да и чего они сделали, ты скажи? Какое тут надруганье, коли в монастырь за стену-то не взошли? Стояли тут у ворот — вот те и все надруганье! Ополоумели бабы, а вы с чего? Давай, Митрофан, отходи. И ты, Микита… ну-ну, давай!
Мужики отошли. Вскоре и старики, которые послабее, подались к воротам. А одетые в черное, растрепанные, трясущиеся от злости старухи так и шипели, так и наскакивали на ребят, норовя оцарапать, вывернуть ухо, вытащить ногтем глаз.
Шапку с Антошки давно уже сбили. Он лишь изредка угадывал ее мягкий комочек под сапогами, напряженно топчась в толпе свирепых старух. Его круглое мальчишеское лицо пылало, похожая на облитый солнцем спелый подсолнух светловолосая голова так отчетливо выделялась среди суетливой черной толпы, что именно к ней чаще всего тянулись когтистые пальцы старух.
Отбиваясь от них, Антошка только и видел перед собой нацеленные в лицо когтистые пальцы, клыкастые или беззубые рты, острые ведьмины подбородки, белые космы, вылезающие из-под черных платков, да выпученные глаза «мироносиц», похожих на злых ворон, слышал их прерывистое дыхание, увертывался от плевков.
В одну из таких противных минут, стараясь ловчей увернуться от нацеленного в глаз ногтя, он неожиданно для себя поскользнулся. Но тут же вскочил на ноги, оттолкнул плечом приставшую как оса, готовую насмерть ужалить старуху, — и вдруг зацепился взглядом за мелькнувшие над ее головой ворота.
Не за ворота целиком, а за широко распахнутую калитку. И при этом мгновенно отметил мясистое лицо злорадно ухмыляющегося Одноглазого, а рядом с ним… рядом с ним — высокого незнакомого человека, выражение лица которого почему-то заставило парня вздрогнуть: эти оловянно-серые, бешеные глаза были нацелены прямо на Антошку как дула с уже летящими из них пулями черных зрачков…
Человек был одет как монах — в черное. На голове — камилавка. Но это был не монах.
Вновь поскользнувшись от сильного толчка и вывертываясь, чтобы не упасть, Антошка успел подумать: «Беляк!»
По-военному подтянутый, с небольшой округлой бородкой на сухощавом бледном лице, странный человек не лез в толпу. Никого не бил. Не кричал. Брезгливо отстраняясь от суетливых старух, каждая из которых старалась ближе протиснуться к схваченным наконец-то «безбожным комиссарам» и хотя бы ущипнуть костлявыми пальцами, — он стоял у калитки молча. Но в светлых глазах беляка, чуть навыкате, было столько неутоленной ненависти к избиваемым, что именно его лицо сразу же поразило Антошку.
Это лицо он видел теперь все чаще, когда удавалось уклониться от ударов или щипков и снова крепко встать на ноги. Перед ним почти вплотную мелькали искаженные злостью лица крючконосых, седых «мироносных дев» и красные, бородатые, со съехавшими набок или на затылки лохматыми шапками двух-трех наиболее яростных стариков.
Но не они, а именно этот беляк как-то сам собою выделился среди других. И когда кто-нибудь из бивших с хриплым, почти сладострастным придыханием наносил особо сильный удар, темные стрелки бровей на бледном лице чужака резко вздергивались к надвинутой на лоб камилавке, губы под небольшими усами вдруг искривлялись в довольной усмешке. Секунду спустя она пропадала, скованное ненавистью лицо становилось опять напряженным, исполненным ожидания, и Антошка все определеннее понимал, чего он ждет, этот монах-беляк: он ждет, когда наконец не только старухи и старики, но и возбужденно галдящие, спорящие с Агафоном Гусевым, вот-вот готовые опять ввязаться в драку мужики свалят на землю, затопчут насмерть, прикончат всех четверых…
Видимо, об этом же думал и Миша. И когда уже не оставалось сил отбиваться, когда показалось, что и в самом деле вот-вот свалят их под ноги и затопчут, Востриков вдруг натужливо, угрожающе вскрикнул, — Антошка не разобрал, что именно, — вырвал из кармана наган и выстрелил в небо.
Толпа старух отшатнулась.
Не размышляя, движимый лишь давно скопившимся желанием вырваться и бежать, Антошка низко пригнулся, боднул головой двух-трех из ближних старух, сунулся между ними под ноги. И пока те, скорее удивленные, чем напуганные выстрелом, растерянно топтались в своем вороньем кругу, Антошка на четвереньках выполз из их толпы наружу, вскочил на ноги — и, к своему удивлению, оказался как раз возле ворот.
Но больше всего поразило его, что не было здесь, у ворот, ни «монаха», ни Одноглазого: оба исчезли. Антошка успел только увидеть заросшее овечьей шерстью носатое лицо ключаря — и тут же калитка с резким хрустом захлопнулась. Даже сквозь выкрики и шипение заморившихся старух был слышен этот кладбищенский хруст.
А оттуда, где стояла деревенька Бугры, донесся еще один звук: тоже звук выстрела. Он был негромким, но ошибиться было нельзя: стреляли.
Потом он услышал тревожные крики. И понял: свои. Значит, правильно говорил Миша Востриков, что в случае чего товарищ Дылев пришлет ребят на выручку. Вот они и спешат…
…Так это было в монастыре. А несколько дней спустя, вернувшись домой из больницы, куда он относил обед для отца, Антошка, пораженный, застал нежданного гостя: его брат Константин угощал обедом не кого- нибудь из знакомых, а того самого «монаха», который следил злыми, ненавидящими глазами за их избиением у ворот монастыря.
В том, что это тот самый чужак, усомниться было нельзя. Правда, сейчас он был чисто выбрит, без бородки, с едва заметными усиками, в не очень ладно сидящей на нем обычной одежде среднего горожанина.
Но глаза…
Теми же нацеленными как дула глазами глянул гость на парня и теперь — после секундного замешательства. Именно эта секунда — взгляд на Антона, мгновенный вопрошающий переход на равнодушно отнесшегося к приходу брата Константина, и сразу же как бы заинтересованный взгляд в тарелку со щами, — эта длинная и стремительная секунда окончательно показала: «Он!»
— Чего запнулся? Входи, — грубовато заметил Константин, приняв задержку брата в дверях за смущение при виде незнакомого человека. — В дверь дует, закрой…
— Садись и ты, сынок, — выглянула из кухоньки мать. — Щи еще совсем горячие.
Антошка попятился, прикрыл за собой дверь и затих в сенях.
«Как же так? Почему с Константином? Зачем? И побритый. Значит, сбежал из монастыря? Может, только сегодня? Поэтому Константин его и кормит. Пожрет, а потом куда? И почему — Константин?..»
То, что это «тот самый», само собой окончательно закрепилось. Теперь он, этот беляк, сидит в их доме запросто, брезгливо хлебает кислые щи из единственной в семье хорошей тарелки. Наклоняет тарелку не к себе, как делают дома все, а по-особому, от себя. Потом, по-барски отогнув в сторону холеный мизинец, подносит оловянную солдатскую ложку отца к розовым, красивым губам. И подносит тоже по-своему: не острием, а боком…
Чужак! Из господ! По всему — офицер! Тот самый беляк! По напряженному и одновременно начальственному взгляду серо-оловянных глаз, по брезгливой сдержанности во время еды, по этим «благодарю» и «не утруждайтесь», с которыми он отнесся к мамане, поставившей соль на стол… ну по всему — офицер, беляк. Тут ошибки быть просто не может. Надо скорее к товарищу Дылеву. Пусть он придет, проверит…
…Не только Антошка, но и Платон с Веритеевым не могли знать всех из тысячи с лишним работающих на заводе. Не знали они и о том, какие особые поручения и полномочия, не относящиеся к заводу, были доверены хозяевами господину Гартхену, главному администратору, а фактически второму негласному директору завода, сумевшему установить за годы жизни в России многообразные связи в иностранных представительствах и консульствах, в советских учреждениях и в частных домах Москвы, на предприятиях юга и востока России, ранее принадлежавших заводчикам-иностранцам. Об этих особых связях больше всех знал лишь ближайший помощник мистера Гартхена, некий Остап Верхайло, человек с мясистым лицом богатого прасола из донецкого Причерноморья. Но Верхайло был молчалив и скользок, как рыба.
Тем больше польстило Константину Головину, когда именно он, этот странный Верхайло, то внезапно исчезающий куда-то из поселка, то так же внезапно возвращающийся на завод, — когда именно этот таинственный человек, доверенное лицо второго после Круминга начальника на заводе, вдруг попросил об услуге.
— Познакомьтесь, пожалуйста, — сказал он, пригласив Константина в кабинет Гартхена, когда тот куда-то вышел («Не специально ли для этого случая?» — сообразил Константин).
И представил Головину скромно одетого незнакомца с оловянно-светлыми глазами и черными усиками над плотно сжатыми тонкими губами:
— Господин… простите, гражданин Теплов, наш новый сотрудник. Приказ о его назначении в штаты завода господином Гартхеном уже подписан…
Константин и незнакомец пожали друг другу руки.
— Но вот беда, — продолжал Верхайло. — Вчера у Данилы Андриановича, — он кивнул в сторону Теплова, — какой-то ворюга вытащил все документы. Увы, теперь такое в порядке вещей! А остаться в наше время без документов, как вы понимаете, невозможно. Что делать? К счастью, я вспомнил, что вы, Константин Платонович, и ваша семья — люди в поселке уважаемые, известные. Думаю, что вам не составит труда оказать любезность господину… простите, привычка! Данилу Андриановичу, конечно… пойти с ним в этот, как его? — сельсовет и выправить, как теперь говорят, необходимую справку… Ну, вид на жительство здесь, в заводском дворе. Мистер Гартхен поручил мне обратиться к вам лично…
Константин оглядел незнакомца.
Подтянут. Молчалив. Явно интеллигентен. Возможно даже, из «бывших». Ну и что? При новой экономической политике, утвержденной съездом, будут даже заводы и шахты в концессии сдавать, а тут какой-то из неудачников, «бывших»… подумаешь, страсть господня! И главное, просит о нем не кто-нибудь, а сам мистер Гартхен. Не пойти ему навстречу? Глупо, чистейшее донкихотство! Что я теперь значу в жалкой должности экспедитора, на побегушках в отделе снабжения и сбыта?..
Константин на секунду представил себе то в общем однообразное, малопочетное дело, которым он ежедневно занимался в заводской конторе.
Каждое утро, как можно раньше, надо было собрать накладные центрального склада готовой продукции, дающие в целом наглядную картину того, что из сработанного вчера было отгружено в Москву по заказу советских хозяйственных органов. Потом выписать на основе этих накладных денежные счета в адрес заказчика, дать их начальству на подпись. Затем переслать, а чаще всего лично отвезти и сдать эти счета в банк на инкассо. Наконец, проследить за своевременным получением денежных документов адресатами и за ходом всех остальных операций между заказчиком и заводом.
Делал он это без интереса, хотя и быстро, в том режиме энергичной деловитости, которая была принята на заводе американцев.
Когда подсчеты, перепроверки, составление отчетов подходили к концу и надо было идти к главному бухгалтеру на подпись, а затем и к коммерческому директору с ежеутренней информацией, он позволял себе нехитрое, ставшее уже привычным в его положении недоучки, решившего любым путем втереться в среду «избранных», шутовское развлечение. Хотелось показать, что все у него, Константина Головина, на работе и в жизни идет отлично. Исключили из партии? Изгнали из завкома? Переживем! Был и остался весельчаком-остроумцем. Не в его правилах унывать, подчиняться ударам судьбы. Пусть унывают другие, а его девиз — «Сегодня ты, а завтра я. Так полно же грустить, друзья! Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу…»
Поэтому каждое утро, собрав необходимые сводки, он появлялся в главной бухгалтерии с видом веселого циркача. Держа в левой руке пачку счетов, развернутых пышным веером, как это всегда делают шикарные дамы в иностранных кинокартинах, а правой размахивая в такт театрально крадущимся шагам, едва переступив порог длинной рабочей комнаты счетоводов и бухгалтеров, он тоненько вскрикивал:
— Вуаля! — и останавливался в пародийной позе примы-балерины.
К такому его появлению здесь постепенно уже привыкли, ждали его, заранее улыбаясь тем глупым, дурацким ужимкам и шуткам, которых у него было в запасе множество и которые худо ли, хорошо ли, а отвлекали устающих людей на несколько непритязательных, но приятных минут от надоевших счетных костяшек и новинок американской техники — арифмометров.
Шутовски раскланиваясь, приплясывая, Константин шел вдоль столов сотрудников и сотрудниц бухгалтерии, гримасничая и отпуская нехитрые шуточки или негромко напевая фривольную песенку, что-нибудь вроде: «О, дай мне миг блаженства!» с глупым визгливым припевом: «Не дам! Не дам!» Или же просто подсвистывал и приплясывал перед каждым столом.
Так он доходил до плотно прикрытой двери в кабинет главного бухгалтера Петра Петровича Клетского, вдруг с тем же шутовским видом на секунду замирал перед ней, по-собачьи встряхивался, как бы выбивая из шерсти воду после купания, одергивал куцый, поношенный пиджачок и, послав всем на прощание уморительное приветствие ручкой, как бы унизанной перстнями, устремлялся к двери с видом хорошо вымуштрованного лакея, несущего барину на подносе утренний кофе…
С омерзением представив теперь все это, еще раз внимательно поглядев на Теплова, он утвердительно поклонился Верхайло. Изобразить из себя бдительного чекиста и не пойти навстречу мистеру Гартхену? Глупо! Тем более что добыть метрическую справку для этого Теплова ему, Константину Головину, сыну всем известного в поселке большевика, — и верно, плевое дело! Председатель волисполкома Иван Никитич Байков не глядя выдаст по доверию любую!
И в тот же день Константин вместе с Тепловым такую справку получил. Член партии, инвалид войны, однорукий Байков дружески расспросил о здоровье Платона, посочувствовал ему, потом сам написал со слов Константина необходимое Теплову удостоверение и вручил его штабс-капитану Ипполиту Петровичу Терехову, ставшему теперь благодаря Константину Даниилом Андриановичем Тепловым: хороший знакомый семьи Головиных заслуживает доверия…
Чтобы уже окончательно если не сдружиться, то ближе сойтись с Тепловым, Константин прямо из исполкома повел нового знакомого домой — пообедать. Там-то, забежав в обеденный перерыв домой, Антошка и увидел «чужака», бывшего монаха из Николо-Угрешского монастыря, а теперь скромного, воспитанного гражданина, спокойно хлебающего материнские щи из единственной в их доме красивой тарелки…
…Ничего не зная об этих подробностях, Антошка был убежден лишь в одном: в их доме — чужак. Пусть председатель местной ЧК товарищ Дылев — проверит!
Но Дылева, как нарочно, не оказалось на месте, а Миха Востриков, занятый срочными исполкомовскими делами, недоверчиво отмахнулся:
— Показалось тебе. Какой еще там беляк? Колотый да битый — самый сердитый. Да и к чему монаху уходить оттуда? Лучше Угрешской обители нынче и скрыться негде, если нужда. А я, брат, занят — нет сил…
От Михи Антошка пошел в пекарню — за Филькой. Но там готовились к вечерней выпечке. В обеих печах уже развели форсунки. Старший сердито прикрикнул на Фильку: «Куда пошел?» — и тот безнадежно махнул Антошке рукой: «Не могу, мол!» Пришлось ни с чем уйти и оттуда.
Но от намерения разоблачить «беляка» Антошка не отказался. Собрав всю свою боевую решимость, сжав зубы, готовый хоть к драке, он вернулся домой, с вызывающим видом рванул на себя первую дверь, ведущую с улицы в сени, потом широко распахнул тяжелую, утепленную ветошью дверь в дом, на пороге судорожно выдохнул из груди застоявшийся воздух, решительно шагнул из прихожей прямиком к дальней комнате, где до вселения сюда Константина было что-то вроде столовой и где на деревянном самодельном диванчике располагалась Зинка, — и разочарованно, а пожалуй, и с облегчением, остановился: в комнате не было никого. Все чисто, прибрано, вытерто. Даже следов не осталось от беляка…
Из сеней в дверь сунулась Зинка:
— A-а, это ты? А я вожусь во дворе, думаю: кто-то стукнул, а мамка к папке ушла…
— А этот?
— Дядечка с Костькой?
— Ага…
— Те еще раньше ушли. Чего-то заторопились…
Антошка присел на сундук, а Зинка, не придав разговору никакого значения, юркнула обратно в сени. Антошка услышал ее шаги в сенях, потом на лесенке, ведущей в крытый двор, и вдруг почувствовал, что очень устал. Не столько за весь этот день, сколько за те двадцать — тридцать минут, когда бегал к Дылеву, к Михе и к Фильке.
А больше всего, пожалуй, за те последние минуты, когда возвращался домой, всходил на крыльцо и рывком открывал то одну, то другую дверь, чтобы сойтись лицом к лицу с опоганившим их дом беляком…
Все остальные дни до возвращения отца из больницы он всячески избегал Константина. Они и раньше не были в дружбе, а теперь в сердце Антошки совсем не осталось ничего, что родственно связывало бы с братом.
Константин был старше его на девять лет. С того времени, как в самом начале мировой войны местное военное присутствие направило его в школу прапорщиков, и до прошлого года, когда он неожиданно приехал сюда «насовсем» и устроился на завод, в контору, — в семье брат не жил. Лишь изредка приезжал из Москвы «взглянуть на стариков» — стройный, смуглокожий, хорошо одетый, совсем не похожий на сына рабочего.
То ли он служил где, то ли нет — Антошка не знал, а матери на такие вопросы Константин всякий раз отвечал шутливыми стишками да поговорками. Отец не спрашивал его вообще ни о чем. Похоже, что не любил. Не вспоминал и не говорил о нем, хотя во время редких приездов тот привозил отцу то трубку, то папиросы — длинные, душистые, как мед. Отец клал подарки сына подальше в ящик стола и продолжал дымить самосадом. Возможно, поэтому Антошка привык думать о брате, как о чужом, без всякого любопытства, даже настороженно.
Причину нелюбви отца к Константину он понял позже. Еще до германской войны, став ловким, красивым парнем, Константин «отбился от рук», как горестно говорила мать, не объясняя, что это значит. Тянулся не к сверстникам из поселка, а к студентам и гимназистам — детям инженеров и мастеров с привилегированного первого заводского двора. При их же помощи он из кузнечного цеха, куда отец устроил было его подручным, вскоре перешел в контору «протирать штаны», стал в компании господских детей, особенно иностранцев, зимой кататься на лыжах и на коньках, летом играть в футбол, ездил все с теми же богатыми друзьями в театры Москвы…
Быть равноправным в такой компании он не мог, поэтому, как в минуту раздражения говорил ему отец, избрал роль господского шута.
Антон был тогда еще мальчиком, но тоже хорошо запомнил несколько шутовских стишков и присказок, которыми забавлял своих друзей Константин, а иногда дома отговаривался ими от упреков отца с матерью. Одни из этих стишков еще можно было понять:
Или:
А что означали другие?
Или:
Паясничает, отвечает на упреки такими стишками, а на тонких губах и в серых глазах — хитрая, неприязненная и веселенькая ухмылка. О чем она? К чему? Ясно одно: не хочет ссориться с матерью и отцом, но не желает и жить, как они хотят. Тянет его туда, на первый заводской двор…
В начале прошлого года с Константином приезжала из Москвы женщина — высокая, нарядная, с черными тонкими бровями. Разглаживая красивой ладонью со сверкающими перстнями на тонких пальцах мягкую ткань на своей коленке, она ласково, как с ребенком, поговорила с матерью о «печальной нехватке хлеба, необходимых продуктов и вещей» в Москве. Перед отъездом скучливо посидела у окна «столовой», время от времени поглядывая на Константина и как бы понуждая его этим взглядом подняться, наконец, и вернуться в Москву. И когда они вскоре уехали, у всех в доме осталось чувство не то тревожного облегчения, не то обиды.
После этой встречи интерес к брату совсем угас. Его заменило отчуждение.
Тем неприятнее сделалось на душе, когда прошлой осенью в одно из воскресений Константин вдруг приехал в поселок, к отцу, «насовсем». Так сказал он с кривой усмешкой во время короткого, противного разговора: «Семьи не получилось. Поживу пока холостяком…»
Был хмурый день, обедали, когда Константин появился в доме с новеньким, ярко-желтого цвета чемоданом в руках.
— Здравствуй, мать, — сказал он охнувшей от радости матери, аккуратно поставил чемодан в переднем углу «столовой», ставшей потом «его» комнатой. — Похудела ты! — и нежно поцеловал ее в щеку. — Здорово, отец.
Подошел к Антону. Но тот не смог побороть неприязненного равнодушия — отстранился: смуглое лицо Константина, потянувшегося губами для поцелуя, показалось противным.
— Ах да, ты ведь презираешь «телячьи нежности», я и забыл! — сказал Константин, усмехнувшись. — Это не то что мы, грешные. Любим встретиться с родными по старинке. С лобызанием, как подобает…
И издевательски добавил:
Отвернулся, помедлил, будто ожидая, что ему ответит на частушку Антон, и с фальшивой бойкостью, явно прикрывая ею свое беспокойство, сообщил:
— А я насовсем…
Все это вспомнилось теперь Антошке с полной тревожного смысла обнаженной ясностью. Братец и в самом деле чужой. Раньше хоть балагурил и этим как-то сглаживал взаимную отчужденность. А после того, как его исключили из партии, с треском вывели из завкома, озлобился и замкнулся. Если даже и продолжал шутовские выходки, то без прежнего балагурства, а зло, намеками. Только на днях, в ответ на попытку матери уговорить его «покориться и раскаяться», он ни с того ни с сего гнусаво пропел:
И это неожиданно взорвало Антошку. Что-то пошлое и обидное было в глупой, бессмысленной песенке, во всей издевательской манере брата. О приезде Ленина и Рудзутака на охоту к директору месяц назад теперь знали все, песенка явно родилась из каких-то злых размышлений брата на этот счет.
— Над кем и над чем смеешься? — выскочив из своей каморки, крикнул Антошка.
— Я? — деланно удивился Константин. — Ни над кем. Просто родился такой экспромт…
— От твоих экспромтов дохлятиной воняет.
— Да? — еще больше удивился брат. — Наверное, у тебя что-то не в порядке с носом. Лечиться надо! — наставительно добавил он. — А то вон даже в невинном стишке тебе мнятся трупные запахи…
Когда отец вернулся из больницы, Антошка сбивчиво, страшно волнуясь, рассказал ему и об этих «экспромтах», и том, как Константин приводил и кормил обедом явного беляка из Угрешского монастыря, где их с Мишей Востриковым избили. Беляк, похоже, теперь подался оттуда куда-то еще — подальше от острых глаз товарища Дылева…
Отец помрачнел, помолчал. А поздно вечером у него с Константином произошел резкий, крутой разговор, закончившийся ссорой.
Антошка и Савелий Бегунок (он все еще жил здесь, в тесной каморке вместе с Антошкой, в надежде рано или поздно попасть в Кремль, побеседовать с Лениным) уже приготовились ко сну, лежали в темноте головами к туманно светлеющему окну и тихонько переговаривались, когда раздраженные голоса спорящих заставили их примолкнуть.
Слышно было каждое слово: в «столовой» говорили впрямую. Было похоже, что Константин после исключения из партии не ждал для себя ничего хорошего, собрался опять уйти из немилого дома, поэтому на упреки отца отвечал то шутовски, то издевательски грубо.
— Чего ты, собственно, хочешь добиться? — сердито спрашивал Платон, кутаясь в старое одеяло. — Чтобы крикуны из «правых» и «левых» определяли политику нашей партии, вели страну по своему куриному разумению? На твоем примере видно, к чему привело бы такое положение. Ленин на съезде показал это ясно!
— Ленин еще не вся партия! — угрюмо бросал Константин.
— Съезд представлял всю партию! А съезд, между прочим, по всем вопросам принял ленинскую позицию подавляющим большинством голосов. И тот, кто считает или считал себя коммунистом, должен знать устав, подчиняться уставу, — значит, выполнять и решения съезда. А то ишь ты, — откашлявшись, Платон сердито тыкал заскорузлым, желтым от махорочного дыма пальцем в Константина: — Съезд для таких, как ты, выходит, что не указ! Вы, видишь ли, сами с усами…
— Да, сами с усами!
Посмеиваясь, пытаясь придать красивому смуглому лицу ставшее привычным шутовское выражение, Константин лихо проводил указательным пальцем по воображаемым усам:
— Сами с усами! Не хуже ваших…
И с нескрываемой злостью спрашивал:
— Сколько нам пели о мировой революции, о мировой коммуне! А где они? Вместо них — отказ от революции. Сползание к госкапитализму. К среднему мужичку. К свободной торговле. К концессиям… Возврат к старому — вот тебе главные «идеи» съезда! Фактически преданы все возвышенные идеалы революции! За что же я буду, как вон хочется мамане, каяться и просить прощения? За нежелание подчиниться торгашам-бюрократам? Нет! Уж лучше жить для себя, как хочется…
— Тебе давно этого хочется.
— Тем более, что теперь я человек беспартийный… чего мне? Живи, как хочу!
— Вот в этом и все твои «идеалы»?
— Не то что твои. Прямо зависть берет: счастливец! Будешь теперь прислуживать крестьянам, торговцам, новым капиталистам… Красота! А может, и сам торговать начнешь?..
— Не думал я, что ты такой уж полный дурак, — после молчания угрюмо отозвался Платон. — Или ты не читал ни выступлений Ленина, ни резолюции съезда? Где ты нашел там отказ от главных задач революции? Есть отступление, да. Временное. Но ради чего?
— Слова это, батя, одни слова. А на деле полное подтверждение того, что наша вшивая, лапотная Расея-матушка не доросла до революции. Яблочко сорвали неспелое, рановато…
— Меньшевистская песенка-то! С их голоса поешь.
— Не с их, а жизнь так показывает. Как ни обзывай, а оглобли-то поворачиваете назад? Назад! Говоришь «временно»… тешь себя басенкой, успокаивай, а видно, что насовсем. При таком-то голоде, при разрухе, где уж «временно»! Рано начали, в том все дело…
— Да-а, — почти с ненавистью протянул Платон. — Далеко ты зашел…
— Не я, а ты и вроде тебя. Установили в партии свою диктатуру, Ленин вами командует, а вы…
— Он не командует, а направляет! Исходит из главной задачи: выбраться из разрухи, наладить хозяйство, поднять производство в городах, хозяйство в деревне!
— Слова! На деле же именем революции связывают на местах руки рабочему классу. Тянут страну назад, к капитализму. К власти все тех же спецов, дипломированных в царских инженерных училищах! Нам, рабочему классу…
Отец стукнул кулаком по столу:
— Это ты-то рабочий класс? Очнись! Кто-кто, а уж я-то хорошо знаю, какой ты «рабочий класс»! Давно тебя, кстати, хотел спросить: по каким таким болезням и кто освободил тебя в свое время от воинской службы в Красной Армии, когда наступали каледины да колчаки? Теперь-то известно, что в Центральной призывной комиссии тогда орудовали меньшевики да эсеры вкупе с бывшим офицерьем. Они многих поосвобождали…
Константин промолчал.
— А какой рабочий класс ты имел в виду, когда выступал с Драченовым против поездки нашего завода в Сибирь? — все прямее напирал отец. — Вокруг какого рабочего класса ты вьешься теперь, пропадая по вечерам на квартирах господ иностранцев на первом заводском дворе?
— Ты что же, следишь за мной?
— Слежу! — возмущенно крикнул отец. — И буду следить! Ты все же мне сын! Сын, я спрашиваю?
Константин усмехнулся:
— В такое сумасшедшее время поди разберись, кто сын, а кто враг…
— Что верно, то верно, — с горечью согласился Платон. — Вон, к примеру, ответь: какого подозрительного господина приводил ты недавно сюда, в наш дом, угощал обедом?
— Не господин, а знакомый.
— Не из белых ли офицеров?
После паузы, выдавшей его растерянность, Константин слишком уж насмешливо спросил:
— Поверил Антошке?
— Поверил! Антошка не то что ты!
— Нашел кому верить: нахальный дикарь, вообразивший себя Шерлоком Холмсом… Лезет везде, дурак дураком!
— Кто дурак, это будет видно. А только нюх у него комсомольский, чего нельзя сказать про тебя.
— А мне этот нюх не очень и нужен, — вновь обретая внешнее спокойствие, отрезал Константин. — Я не собака…
Отец не выдержал. Охваченный гневом, он тихо, но очень твердо сказал:
— Тебе наш большевистский дух, я вижу, и верно не по нутру. А нам не по нутру твой, отдающий тухлятиной. Чужой ты. Давно я слежу: чужой. А раз так, то тебе здесь не место. Уходи куда хочешь. Сейчас же…
— Так ему и надо, — шепотом сказал Антошка, когда Константин, сильно хлопнув дверью, вышел из дома, теперь уже навсегда. — А то ишь какой прыткий.
Легко приподнявшись на локте, он заглянул из-за подушки в окно. На тихой улице было светлее, чем в тесной каморке, где они спали теперь вместе с Савелием. Озаренное круглой луной, усыпанное крупными звездами мартовское небо не давало ночной темноте густеть на земле. Оно посылало вниз волны света, миллионы лучей от бесчисленных звезд, и все это за окном туманно светилось и колыхалось, возбуждая в душе ощущение тайны и красоты.
Впрочем, Антошку сейчас занимало больше другое: не раздумает ли братец уйти совсем? Возьмет да усядется на крыльце, чтобы выкурить папиросу. Успокоится и вернется домой. Костька — такой: ему на всех наплевать, лишь бы не прогадать самому. А мамка сразу обрадуется, уговорит отца, и тот размягчится… тогда как быть?
К счастью, братец не сел на ступеньку, не задержался возле крыльца, не закурил, а прямиком направился к двухэтажному дому напротив — к главному дому бывшего колбасника и торговца Филатыча, отобранному вол- советом и теперь заселенному разным людом.
— Так-с! — весело протянул Антошка. — Значит, к мамошке своей пошел, к Шурке Лисевич. Вот и добро, пускай у нее поживет…
Откинувшись на подушку, он с удовольствием сообщил Савелию:
— Ушел! Видать, насовсем…
Савелий вздохнул, промолчал.
Ему жалко было Платона. Хороший мужик. И умный, и справедливый. А вот, гляди ты, и у него со старшим сыном добра не вышло. Эх-ма! Кому худо без сыновей, без родни, кому с ними. Время такое: везде на разлом пошло…
— Что, дядя Савелий, вздыхаешь? Аль тебе плохо? Воды подать? — перебил его мысли парень.
— Не-е… ты спи. Не плохо мне. Просто так.
— Чего уж не плохо! — зевнув, посочувствовал Антошка. — Весь еле живой. Крепко отделал тебя «парикмахер»!
— Да уж…
— Так, может, подать?
— Не надо.
— Ну, если не надо, тогда будем спать, — снова, сладко зевнув, заключил Антошка и повернулся лицом к стене.
Минуту спустя он уже тихо посапывал. А Савелию не спалось.
«Что верно, то верно, крепко отделал меня варнак паликмахер! — устало раздумывал он, невольно прислушиваясь к тому, как расстроенный ссорой с сыном Платон кашляет и ворочается на скрипучей кровати в комнате возле кухни. — Москва, и верно, что бьет с носка, тетка Дарья предупреждала не зря. Не послушал ее, теперь вот лежи. Чалдон ты, чалдон и есть: первый же мазурик чуть в гроб не вогнал. Надо было мне послушаться Дарью и погодить. Ан приспичило: „Еду, и все!“ Вот и лежи теперь, подыхай…»
Ему в эти дни было худо. Ныли руки и ноги. Сосала тупая боль «внутрях» — в легких и в животе. Вся кровь, казалось, была больна, с трудом бежала по жилам. И так вот едва ли не две недели. С того самого несчастливого дня, когда он впервые решил отправиться, наконец, из поселка в Москву, за правдой, хотя, пока ехал сюда на крышах, простыл, пришлось после дороги с неделю отлеживаться в доброй семье Головиных. Дарья Васильевна тоже, как и Платона, отпаивала его земляничным горячим чаем, не давала вставать с топчана:
— Лежи и лежи! Иначе живым не встанешь!
Но когда он чуть-чуть отлежался, когда показалось, что больше лежать нельзя, не за этим ехал сюда из Мануйлова, худо не худо, а ехать надо, — он снова заторопился в Москву.
— Теперь мне все нипочем, — говорил он Дарье Васильевне в ответ на ее советы чуток еще подождать, оклематься, а уж коли и ехать, то быть в Москве начеку, случайным лицам не доверяться: «Москва, она бьет с носка!» — Мужик я давно ко всему привычный. Да и что с меня взять в той Москве? — отговаривался Савелий: уж очень в Москву тянуло.
— Нет, батюшка, не скажи! Теперь и это в цене, — Дарья Васильевна указывала на старенький полушубок Савелия. — А бывает, что оберут ни за что, а так, по дикости нашей. Так что уж погодил бы. Может, Антошка зачем поедет, проводит…
— Не в силах я боле ждать, — серьезно сказал, наконец, Савелий, решив в тот злосчастный день обязательно ехать к Ленину в Кремль.
После езды на крыше «сороконожки» пригородный поезд показался ему игрушкой. Ну тесно. Ну — тоже не топлено… а однако же как хорошо: меньше часа — и ты в Москве!
На деревянную платформу Казанского вокзала он вместе с толпой пассажиров вывалился из вагона распаренный, мятый, но хорошо взволнованный и довольный: вот и Москва. Доехал…
Вместе с толпой спешащих куда-то людей он вышел на небольшую площадь перед вокзалом. Здесь тоже сновали разные люди. Налево тянулась улица, и по ней пробежал трамвай. Бегунок уже знал, что этот поезд из двух вагончиков без всякого паровоза и есть трамвай. Сверху донизу обвешанный людьми, он скрипел, но бежал, и было удивительно, что бежит он сам по себе, неизвестно от чего: ни дыму, ни пару, а вот — бежит же!
Прямо перед выходом из вокзала высилась насыпь. В ней был проделан большой прогал, вроде ворот без воротин, туда как раз и ушел трамвай. Туда и люди идут толпой. Значит, и мне туда…
Опасливо озираясь, ловя заросшими седым волосом ушами каждый необычный звук, — а все эти звуки просто распирали уши, звенели в мозгу, — Савелий некоторое время зябко осматривался. А когда уже решил, что надо идти, кто-то сбоку негромко спросил:
— Чего, борода, стоишь?
Мужик от неожиданности вздрогнул. Но сразу нашелся и даже обрадовался: похоже, хотят помочь.
— Да вот… гляжу.
— Вижу, что не поешь и не пляшешь, — пошутил человек. — Видать, нездешний?
Человек был одет по понятиям Савелия совсем хорошо: в синюю сборчатую поддевку. Точь-в-точь как Мартемьян Износков. На голове — еще не старая каракулевая шапка. Какой-то не то мешок, не то короб в руках. И лицо веселое: стоит добрый человек с ухмылочкой, не гонит и не торопит. Надежный, видать, господин…
— Нездешний я, — доверчиво подтвердил Савелий. — Как мне теперь, господин хороший, до энтого Кремля дойти?
— Ха… ишь какой ты ходкий: сразу и в Кремль! Комиссаром, что ли, собрался стать?
Человек все шутил, ободряюще оглядывая Бегунка. Когда он говорил, из-под небольших светловатых усов поблескивал металлический желтый зуб.
— Ты бы вначале вымылся, что ли… да космы обстриг. А то ишь разлохматился. Такого в Кремль и не пустят.
Савелий смущенно помял жесткую, свалявшуюся бороду, давно не мытые, седоватые космы на голове. И в самом деле как зверь оброс. В поселке заняться этим забыл, да и не смог бы. А тут, видишь ты, надо…
— Скажи спасибо доброму случаю, — между тем совсем уже по-домашнему, как хороший знакомый, говорил человек, укоризненно покачав головой. — Я как раз парикмахтер. И живу отсель рядом. Выручу, так и быть…
Савелий невольно пощупал пустой карман полушубка и виновато развел руками.
— В одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи? — пошутил парикмахер. — Понятно, брат. Скажи спасибо, что я тебе встретился. Раз ты приезжий, ладно уж, остригу и за так. Откуда приехал-то?
— Из Мануйлова, из Сибири.
— Тем больше. Надо помочь. Айда, отец, вон туда. Это мы мигом. А то ишь что надумал: с такими космами — да и в Кремль…
Шарахаясь от сердитых извозчиков, санки которых неожиданно появлялись то слева, то справа, скользя на сверкающих под солнцем трамвайных рельсах, боясь отстать от молча шагавшего впереди парикмахера, Савелий трусил вначале по длинной улице, потом попал в засыпанный снегом кривой переулок, из переулка вслед за парикмахером пролез через какую-то дыру, проделанную в заборе, в узенький тихий двор, из него — еще в один двор. Он уже стал задыхаться от быстрого шага (после порки шомполом и двух ранений он теперь берегся, грудь захватывала одышка), когда человек, наконец, сказал:
— Вот и пришли. Минутку постой, я сейчас, — и шагнул не то в дверь под лестницей на второй этаж, не то в большую дыру.
Бегунок еще не успел отдышаться, когда человек появился из этой дыры уже без мешка.
— Айда. Что темно, не смущайся. С электричеством ноне, знаешь? Давай…
Он пропустил мужика вперед. Тот, пригнувшись, чтобы не стукнуться о бревенчатую притолоку, шагнул… а очнулся уже, как показалось ему, поздней ночью: вокруг тяжело стояла ночная тьма. Только где-то, не то за домом, не то в какой-то его глубине тонко пиликала гармоника да еле слышно плакал ребенок.
Савелий лежал на холодном полу, у голой дощатой стены, раздетый. Голова разламывалась от боли, руки и ноги закоченели, спина была деревянной.
С трудом, все время постанывая, он сел. И сразу счастливо дрогнул: впереди, в квадратной узкой дыре, через которую они с «парикмахером» вошли сюда, по-дневному светилась дощатая стена сарая.
Свет был рассеянным, тусклым, но это был явно дневной, а может быть, даже и утренний свет. «Значит, — подумал мужик, — я пролежал недолго. Просто парикмахер дал мне по башке… а много ли надо старому человеку? Еще хорошо — не поздно очнулся, только охолодило, а мог бы и окочуриться в одночасье…»
Держась за стенку, он кое-как добрался на непослушных ногах до дыры. В дворике было по-прежнему тихо, пустынно. Шумы города долетали сюда невнятно, издалека. Единственная тропа, протоптанная в снегу, вела из дворика мимо сарая куда-то вбок, отсюда не видно было куда. Снег здесь не таял, лежал еще крепко, веяло от него нелюдимым холодом, и Савелий невольно всхлипнул от приступа сильной дрожи.
Надо было спасаться. А где и как? Ни валенок, ни шапки, ни полушубка. Все унес «парикмахер».
«Верно сказал варнак, что острижет меня мигом. Вот и остриг…»
Над головой, на втором этаже деревянного, дряхлого дома слышались уже знакомые звуки: то затихала, то снова пиликала в неумелых руках гармошка, и вместе с ней то затихал, то плакал ребенок.
Решившись, Савелий рывком шагнул из дыры на тропу, упал, ползком добрался до лестницы на второй этаж и торопливо начал взбираться по ней туда, где слышались живые людские звуки.
На небольшой площадке, куда он вполз, было две двери. Третья, открытая настежь, вела в сортир. Он стал царапаться в первую. И когда она распахнулась, на него пахнуло душным, прокисшим, но все же людским теплом.
— Тебе чего? — с угрозой спросил невысокий, но крепкий парень, отпихнув Бегунка от двери ногой. — Отколь ты?
— Ради Христа, — с трудом выговорил мужик. — Погреться.
— Ишь ты… Погреться! — все еще сердито и недовольно отозвался парень. — Кто ты такой?
— Приезжий я… из Сибири…
— Раздел кто, что ли?
— Раздел…
— Хм. Вижу я, чья работа. Лезь, коли… ходют тут!
Не очень охотно, но парень все же пустил мужика в квартиру и даже помог Савелию встать и дойти до лавки возле стола в крохотной, тускло освещенной комнате.
После подробных, явно заинтересованных расспросов, парень не то со злостью, не то удовлетворенно хмыкнул, повернулся к еще совсем молодой, болезненной и худой, кое-как одетой жене, качавшей ребенка в люльке:
— Это он. Шмурый. Нарочно этого раздел, чтобы на меня подозрение навести. Ну шкура, ну стервь! Третий уж раз. Злобится, сволочь, что я от их отошел. «Стенку» влепить мне хочет. Вот ведь бандит, вот шкура! Ну, я ему тоже вверну. Он у меня узнает…
До вечера Савелий пролежал у Ивана Махрова (так звали парня) за теплой печкой в углу, приходил в себя, согревался. Иван куда-то вскоре ушел, Малаша весь день занималась ребенком и по хозяйству, а к ночи парень вернулся с довольно большим узлом.
— У приятеля выпросил, — сказал он, разворачивая узел на полу возле мужика. — Не воровано, ты не думай. Я, чай, не Шмурый. Взял в мастерских у Егорки Швальнова. Так что, отец, говори спасибо ему. А вообще дернуло же тебя! — не удержался и упрекнул он сердито. — Таких, как Шмурый, тут не один. Враз оберут. Надо, дядя, соображать! Идешь как овца за волком! Ан тут, брат, держись!.. Конечно, в театр или в Кремль, как хотел, в таком не пойдешь, — шутливо добавил он, оглядывая мужика, торопливо натянувшего на себя дырявое, старое пальтецо и теперь приматывающего веревкой стоптанные кожаные коты к сохранившимся, к счастью, хотя и полусопревшим от долгой носки, но все же греющим ноги портянкам. — Тут уж не до театра. Абы назад, до дому добраться в тот ваш заводской поселок. И надо, как я уже объяснил, идти тебе так: от нас как выйдешь, сразу же от сарая поверни в проулок налево. Потом пойдешь в проулок направо. И еще раз налево. Тут тебе будет Рязанская улица. А уж по ней до вокзала рукой подать. Только вот будет ли поезд — того сказать не могу…
Когда Савелий вышел из квартиры Ивана Махрова, было совсем темно. Над крохотным, узким двориком дружно мерцали звезды, а здесь, на земле, все было темным и страшным. Казалось, что из-за каждого угла следят за тобой невидимые варнаки-грабители, вроде Шмурого. Ждут, когда подойдешь поближе, и тюкнут тебя палчиной по голове.
Ночь, город должен бы спать, но все вокруг не спало. Все, казалось Савелию, двигалось, шевелилось, шуршало, скрипело, настороженно шло и ползло или стояло, прислушиваясь: «Нет ли кого, чтобы можно было ударить, схватить, потом уволочь, раздеть, а раздетое бросить в канаву, как Шмурый бросил в темную дыру того сибирского мужика?»
Нащупывая разношенными опорками твердую наледь тропы, то и дело поскальзываясь от слабости и едва не падая после каждого шага, Савелий осторожно побрел от дворика прочь — к тому переулку слева, о котором толковал ему Иван.
А переулка все не было. Да и тропа незаметно скрестилась с другими тропами. Все они перепутались, и вскоре Савелий уже не знал, где он, куда идет.
Решив идти напролом, он через чей-то захламленный двор пролез еще в один двор. Из того — еще в один. Потом попал на пустырь, остро пахнувший гарью. В свете звезд перед Савелием встал впереди, как покойник в саване, силуэт одинокой печки с длинной трубой, а вокруг нее — грудой валялись бревна.
Здесь он со Шмурым не проходил. Похоже, слишком забрал налево. Куда же теперь? Запутался, пропаду…
И вдруг совсем, показалось, недалеко донесся надрывный гудок паровоза.
«Чугунка-то, значит, близко? Надо идти: зовет…»
Не разбирая дороги, Савелий побрел туда, куда звал его паровозный гудок. Пролезал сквозь дыры в заборах. Стукался в темноте об острые углы домов, равнодушно прислушивался к тому, как в этих домах пьяно, бессмысленно веселятся, истошно ругаются или плачут. И наконец — через узкий коротенький переулок все же вышел на улицу. На довольно широкую, непонятную улицу.
Кое-где в окнах неразличимых домов мелькал тусклый свет. А внизу, в темноте, сзади, спереди и с боков, кто-то незримый двигался, хриплым шепотом говорил на невнятном людском языке, будто на улицу вышли призраки, души людей умерших, и мечутся, ищут, все ищут кого-то, спрашивают друг друга: «А где он?», бегут, возвращаются, не находят себе покоя.
Савелию стало по-настоящему страшно. Бит был, расстреливали, но страшно так не было, как теперь. «Бежать! Скорее! Ох, смертушка ты моя…» Почти на карачках он перебрался на другую сторону улицы, с ходу ткнулся в кого-то лбом, тот взвизгнул по-бабьи, выругался, спросил: «Чего, кавалер, дуришь? Постой, говорю! Ты где?», но мужик уже сунулся между темными сундуками домов и так добрел наконец до железнодорожных путей.
Что это была спасительная «чугунка», сомневаться не приходилось: над разводными стрелками мерцали сигнальные огоньки, повсюду темнели квадраты вагонов, высились груды пакгаузов в стороне.
На душе стало легче: вот и пришел. Теперь подамся налево — там и вокзал…
Но не успел он пройти и полсотни шагов, как от пакгаузов вырвалась вдруг и понеслась как пуля тревожная трель свистка. Вслед за ней послышались крики, топот нескольких ног. Потом за вспышкой огня тишину разорвал оглушительный выстрел.
Еще один.
И опять тревожная трель свистка…
Мимо Савелия, тяжело дыша и чертыхаясь на бегу, проскочили вначале трое. Они один за другим воровато нырнули под вагон — к остаткам пристанционной ограды, через которую только что пролез сюда и мужик. Вслед за ними, не переставая свистеть и выкрикивать: «Стой! Стрелять буду… стой!» — появилось еще двое запыхавшихся вооруженных людей. Один из них нырнул за бегущими под вагон, другой — задержался.
— Ага, бандюга, попался? — крикнул он, ухватив Савелия за рукав и пытаясь вывернуть руку за спину. — Егоров, давай… одного держу!
Подталкивая прикладами, его повели в комендатуру на вокзал. А когда разобрались, расспросили — откуда и почему оказался возле пакгаузов на путях, — наступила глухая полночь. Пришлось ночевать на вокзале. В заводской поселок Савелий вернулся лишь поздним утром, совсем больной, и сразу же слег: простуда пошла «по второму кругу».
Около двух недель Дарья Васильевна не позволяла ему выходить на улицу:
— Хватит, сват, нагулялся! Пока совсем не пройдет, о Москве и не думай. Лежи тут с моим стариком, поправляйся. А то, чего доброго, не загнулся бы. Нынче, батюшка, это скоро бывает. Ты лучше скажи спасибо, что жив остался. Когда-никогда, а встанешь, свет божий увидишь. А то в коридоре, где тебя хлопнули, так бы и лег…
И вот теперь, после ухода Константина из дома, он лежал в темной каморке рядом со спящим Антошкой — и думал. Заново как бы перебирал в памяти свою жизнь.
Вспоминал о наказах, какие давали ему мужики на сходе, когда решили, что надо ехать Савелу в Москву. До каждой мелочи вспоминал и ту страшную ночь, когда шел от Ивана Махрова, и все, о чем думалось в эти длинные две недели. А рядом, повернувшись лицом к стенке, сладко и мирно дышал Антошка. С другой стороны, за стеной, где кухня, ворочался Платон. Оттуда глухо, но все же слышался плач Дарьи Васильевны.
«Видно, тяжко им, старикам. Да и то сказать: какой- никакой Константин, а сын. Теперь ушел насовсем, как отрезался. Самому-то, может, и ничего, молодой. А матери да отцу? Да-а, пошло на разрыв. И в малом пошло, и в большом, — не в первый раз огорченно думал Савелий. — Хотя бы теперь вот, после ихнего съезда, настало бы для России-матушки облегченье. А то какой год все худо да худо. Похоже, что облегченье-то будет? В газетах про все прописано: про налог для крестьянства и про заводы. Он, главный, думает обо всем. Думает, как не думать? Вот чуть оклемаюсь — опять подамся в Москву. К нему. А пока давай-ка, Савелий, спать…»
После избиения уполномоченных исполкома настоятель Николо-Угрешского монастыря поспешил беспрекословно выполнить гужевой наряд уездных властей и в назначенное утро прислал в поселок десять хорошо откормленных лошадей, запряженных в сани-розвальни.
Угрюмые бородатые возчики три полных дня молча возили с лесных делянок распиленные на полуторааршинные плашки дрова для заводов и учреждений Рогожско-Симоновского и Басманного районов Москвы. А поздним вечером в субботу, перед тем как вернуться в свое подворье, сбросили во дворе исполкома дополнительно еще пять возов — для местной пекарни и школы.
Убрать драгоценную по тем временам груду березовых и сосновых плах, сваленных кое-как, в тот же вечер не удалось, а когда Миша Востриков и его комсомольский актив явились утром на трудовой воскресник, то во дворе, вкусно пропахшем лесом, усыпанном сосновым и березовым сором, сиротливо лежало лишь несколько сучкастых, ни на что не пригодных корявых лесин. Остальные сгинули неведомо куда.
Взбешенный подлостью земляков, Миша сердито распорядился:
— Это мы так не оставим! Пойдем, ребята, по дворам! За ночь дрова не могли распилить и спрятать. Начнем поголовный обыск. Особенно тут, в переулке, и в ближних домах по улице. Явно, что орудовал кто-то здешний, кто знал про дрова. По двое, по трое… пошли!
Часа два комсомольцы ходили от дома к дому. Таскали к волисполкому на своих плечах тяжелые плашки. Составили список злоумышленников, переругивались с ними, потные, но довольные: все-таки будут дрова у пекарни и школы. А когда в конце улицы остались необследованными лишь несколько домов, не считая надежных «своих» домов Фильки Тимохина и Антошки Головина, уставший, мучимый жаждой, потный Антошка отпросился у бригадира на десять минут домой:
— Пить хочу — страсть! Только напьюсь да оправлюсь…
Но едва он, усталый и злой, забежал домой и вначале поспешил во двор, где в дальнем углу еще Филатычем был поставлен добротный нужник, как с удивлением, почти со страхом, остановился: в другом углу крытого двора, в его сумеречном свете белела небольшая, но ясно видимая кучка березовых поленьев.
Подойдя ближе и вглядевшись, парень поразился:
«Так и есть… они! Уже распилены и расколоты. А кто приволок? Не мать же? Она не пойдет на такое дело. Да и куда ей, старой. Значит, чертова Зинка…»
Забыв, зачем шел, он бегом направился в дом.
Сестра что-то шила, склонившись к зеленому лоскуту. Она это делала всегда самозабвенно: найти хороший лоскут, сшить из него что-нибудь вроде платочка, фартука или косынки для нее, бедной пятнадцатилетней девчонки, было редкостным счастьем.
— Ты что же это наделала?
Не став расспрашивать, она или не она украла дрова, Антошка вырвал лоскут из цепких Зинкиных рук:
— Соображаешь?
Изогнувшись по-кошачьи и даже царапнув Антона ногтями, Зина рванула лоскут назад и вскочила:
— Очумел?
— Не я очумел, а ты! Воззвание о борьбе с воровством читала?
Зная строптивый нрав сестры, он сказал это уже гораздо тише.
— На железных дорогах-то? — удивилась Зинка такому неожиданному вопросу. — Читала. А ты про что?
— Про дрова, которые лежат во дворе, в углу! Ты где их взяла?
Зинка пренебрежительно сморщила остренький, бойкий носик.
— Взяла, где и все.
— Во дворе исполкома?
— А где же еще!
Зина произнесла это с вызовом, без тени смущения. И только теперь Антошка увидел, что сестренка стоит перед ним вся розовая, потная, как после бани. Русые волосы еще не просохли, на руках ссадины, под ногтями черно. Наверное, только что распилила те плашки, вспотела…
— А ну-ка, давай во двор! — сердито прикрикнул он. — Показывай, что взяла!
— А что такого, что я взяла? — без тени раскаяния ответила Зинка. — Все брали, и я взяла. Кланька Тимохина больше взяла. Не мне чета…
— Об ней другой разговор. А ты иди, истукан, показывай…
Почти силком он вывел ее во двор, настойчивыми толчками в спину заставил пройти в угол, белевший свежей поленницей колотых дров.
Там она оттолкнулась.
— Отстань, дурак! Чего пристал с кулаками? Дрова и дрова. Мамке на топку… ишь разорался!
Было видно, что она не только не раскаивается, но очень довольна тем, что не отстала от других, успела схватить хоть немного, а все же хороших березовых дров. Теперь недели на две мамане хватит. Хоть готовить почти и нечего, но все равно есть-то надо? Мать ежедневно, скорее по привычке, чем по нужде, топит большую печь, старается что-то сготовить из еды на обед и ужин, а топить печку нечем. Но и без топки нельзя. Неужто Антошка не понимает? И мало ли что в воззваниях пишут: жить тоже надо…
— Мамке на топку! — передразнил ее Антошка. — А то, что за это тебя могут в тюрьму, ты знаешь? — со злостью выкрикнул он, растерянно прикидывая в уме, что же теперь делать с расколотыми дровами?
Нести обратно охапками? Картина! На глазах у всех тащить украденные и переколотые Зинкой дрова… Ух, дикость! Но и оставить без спроса такое дело нельзя. Вот задала задачу! Стоит, обирает с застиранного платьишка сор, пот с лица рукавом смахнула…
— Сейчас вон мы по всем дворам в поселке прошли, дрова назад забирали, — попробовал было он уговорить упрямую Зинку. — Пекарня и баня стоят без дров…
— Для них найдут! — отмахнулась та.
— Где их найдут? У нас и найдут! Эти самые, которые ты уперла!
— А я их спрячу…
— Куда ты их спрячешь?
— Найду куда…
— Я тебе спрячу! Давай, чертенок, неси обратно! — совсем разозлившись, крикнул Антошка. — Сейчас же неси!
Уже уходя, он тоном решительного приказа сердито повторил:
— Немедленно отнеси назад!
И сквозь зубы добавил:
— Иначе ответишь… да еще как!
После ухода брата Зинка некоторое время растерянно топталась возле своей добычи: как быть? Неужто и в самом деле нести дрова обратно? Белый день на дворе. Пойдешь на глазах у всех… срамота! И прямо в лапы милиции. Или таких комсомольцев, как строгий братец Антошка. Схватят, потащат в исполком и засудят…
Как бы не так! Дрова тащили все кому не лень, а засудят ее одну? Да и пойди докажи, что те самые плашки? Тут колотые, свои! Это уж фигушки, не пойду!..
В злом, упрямом раздумье она покусала грязные ногти, заторопилась:
«А если и верно сюда придут? Тоже картина: поведут по улице на глазах у всех… особенно, ежели это увидит Родик Цветков. Тут уж совсем сгоришь со стыда! Взглянет Родя своими честными глазками, аж покраснеет от удивления, вмиг и сгоришь!
А еще хуже, если Родю сюда и пошлют с обыском. Он — комсомолец. Тот же противный Антошка пришлет его сюда назло ей, Зине. Это он может. Ох, срамота! Похоже, что надо куда-никуда, а дрова упрятать…»
Она огляделась. В крытом дворе стоял полумрак. Только сквозь щели в тесовых воротах да в подгнивших пазах между бревнами, где выпала конопатка, пробивался дневной яркий свет. Светлее было и на высоком «помосте», отделявшем дом от двора: дверь на «парадное» крыльцо там была открыта, строгий братец как вышел наружу, так и забыл закрыть, и оттуда теперь во двор лилась полдневная светлота.
«Может, сунуть дрова под помост! Или в полуподвал за чаны, где Филатыч варил колбасу? Нет, там сразу найдут: где и искать, как не там? Вернее всего — зарыть. Вот здесь, в самом темном углу двора. Ничего не брала, ничего не знаю. Я и из дома не выходила!.. Зарыть в том углу — и вся недолга!»
Разыскав лопату, Зина торопливо стала разбрасывать в углу сухую податливую землю, перемешанную с давно сопревшим навозом.
Когда-то Филатыч, хозяин дома, держал в этом крытом дворе овец, корову и лошадь. Здесь же хранил он телеги, сани, хозяйственный инвентарь. Не удивительно, что вначале из-под лопаты летели полусгнившие щепки, давно засохшие коровьи «лепешки» и разный дворовый сор.
Потом вдруг пошел хороший чистый песок. Такой ровно чистый, будто его насыпали тут нарочно совсем недавно.
Не успела Зина понять, что к чему, как лопата ударилась обо что-то тяжелое, зазвенела, скользнула вбок. Девчонка поддела находку глубже. Несколько раз окопала железину с разных сторон. Потом с маху ткнулась острыми коленками в холодную песчаную кучу на краю ямы и стала выгребать землю руками. «Небось бросил Филатыч чего-нибудь за ненадобностью, — раздумывала она. — Вроде большой чугун. Он и есть: ведерный чугун. А на нем тяжелая крышка. Похоже, сковорода. Чего он так-то чугун свой в землю зарыл?»
С трудом подняв тяжелую крышку вместе с налипшей на нее землей, Зина сунула руку в чугун и опять удивилась:
«Доверху чего-то наложено… В тряпочке… нет, в клеенке. А в клеенке бумаги? Батюшки-светы: деньги! И сколько! Таких и видеть не приходилось: тут не рубли, а больше с царем… А эти с красивой седой царицей. А дальше… Ой, мама! Внизу-то чего? Деньги насыпаны… золотые! В нашем дворе — вдруг клад! Филатычев, что ли? А может, и он об этом не знал? Может, кто-то еще до него чугун тут запрятал? Вот ведь удача! Вот тебе, братец Антошечка, и дрова! Не надумала бы их зарыть и клада бы не нашла…»
Кое-как она выволокла тяжелый чугун из ямы. И в ту минуту, когда наконец поставила его перед собой, перевела дух, осиливая усталость, ей явственно показалось, что в одной из щелей в стене, за которой была усадьба и дом Тимохиных, мелькнула Кланькина тень.
Тень закрыла просвет, и сразу в этом просвете блеснул знакомый настырный глаз. Не иначе как Кланька.
— Ты там чего? — со злостью спросила Зина.
Никто не ответил. Но глаз не пропал: он всматривался, выискивал. И в иное время Зина была бы рада тому, что подруга-соседка пришла к ней поговорить о своих сердечных делах: в Антошку влюбилась, дура. В его золотые волосики…
А может быть, вызывает на бой?
Были у них такие странные, — правда, редкие, но непреоборимо острые минуты, когда ни с того ни с сего, встретившись на задах, за дворами, они вдруг молча вцеплялись друг в друга, царапались и щипались, таскали друг друга за косы и носы, вывертывали когтистыми пальцами уши, сопели и охали — кто кого? Устав, исцарапанные, встрепанные, потные, они вдруг отталкивали друг друга и так же молча, как начали драку, воровато шмыгали каждая в свой двор…
Что это было, они не смогли бы ответить. Просто скапливалось в душе какое-то беззлобное раздражение, требующая выхода неподвластная им сила. И в такие минуты они искали друг друга, чтобы сцепиться и так вот как бы очиститься, разрядиться от этой томительной, странной силы. И самое удивительное было в том, что злые молчаливые схватки ничуть не мешали дружбе.
Похоже, что и сейчас Кланька искала подругу для этой злой минуты.
«Нашла, дура, время! — не без интереса подумала Зина. — Тут клад, а она…»
И сердито крикнула:
— Я те дам… уходи! Занята я. Отзынь! Кланька, тебе говорят? Все зенки выцарапаю, если не отстанешь, — добавила она уже совсем свирепо и кинула в сторону щели полную горсть песка.
Стало слышно, как Кланька, крадучись, отошла от стены.
— Вот так-то лучше! — теперь уже про себя одобрила Зина. — А то ишь, нашла время. Я те, смотри!
Прижав чугун к тощему животу и едва удерживая его, она отнесла и сунула находку под внутреннее крыльцо. Потом взялась за дрова.
С трудом ей удалось кое-как забросать их песком и мусором в темном углу. Вышло не очень складно, и Зина приволокла туда еще старые сани, опрокинула их на кучу полозьями кверху. Потом подкатила рассохшееся тележное колесо, швырнула остатки какого-то армяка из коричневой домотканой ряднины и только после этого облегченно вздохнула: ну, кажется, все в порядке- Не очень красиво, да ладно и так. Мало ли, как у кого во дворе убирают мусор. Кому до этого дело? Вон только Кланька виляла. Может, следит и сейчас?
«Ну погоди, рыжий чудик, я тебе исцарапаю конопатую харю вдоль и поперек! Ты у меня узнаешь, как за людьми подглядывать, погоди…»
Неслышно ступая сунутыми в старые валенки босыми ногами, она осторожно приоткрыла ворота, скользнула наружу, прокралась по хорошо утоптанной ими с Кланькой тропе вдоль стены двора на огород, завернула за угол, к дому Тимохиных — и сразу столкнулась с Кланькой.
Той давно уже не терпелось во всех подробностях рассказать своей лучшей подруге о том, как ловко она упрятала свою часть украденных дров. Даже Антошка, если придет, нипочем и полешка не увидит!.. Однако, по особому выражению потного, сердитого лица Зинки, она поняла, что сейчас соседке не до душевного разговора: сейчас у них тот, непонятный и сладкий час…
Молча, как и всегда в такие минуты, они вцепились друг другу в длинные космы.
Их страстную, ожесточенную драку прервал пронзительный выкрик.
Полный отчаяния и тоски, он донесся из-за стенки двора, из того самого угла, где Зина только что орудовала лопатой.
Девчонки удивленно остановились.
— Чего это? — спросила Клава с таким заинтересованным мирным видом, будто это не она секунду назад старательно царапала и щипала подругу. — Может, что с теткой Дарьей?
Не отвечая, Зина кинулась с тимохинского огорода к своей усадьбе. Клава — за ней. А навстречу им снова вырвался этот странный и страшный выкрик — не то чей-то зов на помощь, не то проклятие кому-то. Не крик, а вопль потрясенного до крайности человека.
Когда девчонки вбежали во двор и кинулись в тускло освещенный угол, к выкопанной Зиной, а потом прикрыв той от чужих глаз санями-розвальнями яме, — навстречу с земли поднялась знакомая фигура Филатыча.
Вытянув вперед до локтей обнаженные руки, испачканные землей, и будто призывая небо в свидетели, он мелкими шажками, спотыкаясь и пошатываясь, двинулся к раскрытым Зиной воротам в переулок и хрипло, потерянно забормотал:
— Все… теперь все… вот тебе на, Филатыч… ограбили… все у Филатыча… нет ничего… люди, вот люди… теперь ничего… кончено… все пропало… осталось туда… совсем…
Как слепой, не замечая девчонок, тычась вперед и тут же делая мелкий шажок назад, он медленно брел со двора и все бормотал, бормотал — отрывисто, хрипло и непонятно.
— Чего это он? — шепотом спросила Клава. — Видать, помешался? Намедни я тоже вот шла на станцию, а на базаре, — начала было она все так же шепотом, но Зина резко, со злостью дернула ее за рукав, и Клава обиженно замолчала.
Они пропустили Филатыча мимо себя, проследили за тем, как он вышел со двора в огород, с трудом перешагнул кем-то сломанную и полузатоптанную слегу, служившую условной границей между огородом Головиных и переулком, и медленно побрел вниз, на главную улицу поселка, продолжая свое глухое тоскливое бормотание.
До этого не было недели, чтобы Филатыч не появлялся под окнами своего бывшего дома с кирпичным полуподвалом, где и сейчас еще стояли чаны для выварки колбасы. Этим он как бы старался напомнить нынешним жильцам, что они тут временные, что истинный хозяин все еще он, Василий Филатыч Филатов, хотя недалеко отсюда, на той же улице, стояло два более солидных его двухэтажных дома, в одном из которых ему, одинокому старику, оставили небольшую комнату.
— Жил бы и не тужил… нет, ходит! — дивились Головины.
Притащится, встанет перед окнами на виду у всех и топчется, топчется возле крыльца, все что-то бормочет час или два. Коренастый, крупноголовый, оборванный, словно нищий, он то зябко переступал с ноги на ногу возле полуподвала и время от времени заглядывал через окошко внутрь, будто проверяя — целы ли там его чаны? То начинал воровато красться мимо крыльца в переулочек, к бревенчатой стене крытого двора, и долго всматривался сквозь неровные щели между тонкими бревнами в белесый полумрак, где совсем недавно держал корову и быстроногого рысака, известного всей округе. Еще и теперь его крупный нос улавливал идущие оттуда пряные запахи навоза, прелого сена, смазанных дегтем осей рессорного тарантаса. Он знал, что его совсем еще новенький тарантас и сейчас хранится в дальнем углу двора, защищенный тесовой крышей от непогоды: семье Головиных он ни к чему, Филатычу пока тоже. Только девчонка Зинка в последний свой детский год охотно играла на нем с подругой Кланькой в куклы под скрип добротных рессор…
— И чего он там во дворе высматривает? — удивлялась Дарья Васильевна, поглядывая в окно на нелепого старика. — Забыл, что ли, что у нас? Или просто к прежнему тянет, забыть про богатство свое не может?
Она выходила на высокое крылечко, участливо спрашивала:
— Что, Филатыч, глядишь? Аль чего ищешь? Я вроде все осмотрела, нет ничего такого. Ты — зря!
Тот, словно старая черепаха, опасливо втягивал голову в стоявший торчком воротник одежды, зло и растерянно бормотал:
— Чего я ищу… Ничего не ищу… ишь ты… Надо ей, что ищу… Не забыл, не ищу… чего забывать… Ничего не забыл. Чего? Воры, все воры… а я ничего… Ничего не ищу… Что было, все помню… Ишь ты: чего я ищу?! Надо вам знать об Филатыче… воры… чего ищу…
Всего три года назад Филатыч был почтенным и важным лицом в поселке. Едва ли не большинство рабочих семей были его смиренными должниками. С клином бородки под розовыми губами, толстощекий и полнотелый, богатый лавочник и трактирщик, он жил по-купечески широко. Своя колбасная, а в двухэтажном доме напротив — лавка «колониальных» товаров и самый крупный трактир в поселке.
Два многоквартирных дома на главной улице и небольшой трехкомнатный домик напротив — все это для него было тогда лишь началом уверенного восхождения к еще более крупному «делу». И не здесь, среди полуголодных рабочих завода и мелкого поселкового люда, а в близкой Москве, где он уже присмотрел подходящее помещение, нашел и надежного компаньона для предстоящего разворота. И вот — все рухнуло, ничего не осталось. Опустившийся, обнищавший, давно не стриженный и не бритый, одетый в полусгнившую ветошь, кое-как прилаженную на костлявом, одрябшем теле, он вел себя теперь как блаженненький. За ним на улице бегали скорые на обиды мальчишки, а взрослые, знавшие богача по прошлым годам, останавливались и молча смотрели вслед, удивляясь тому, как быстро «скис» всесильный Филатыч. Вон, стал и в самом деле блаженненьким, дурачком.
Когда кто-нибудь заговаривал с ним, он вместо ответа на шутливый или сочувственный вопрос сердито бормотал:
— Нет ничего… все взяли, все взяли… нет ничего… воры, все воры… бандиты кругом, бандиты… все взяли… нет ничего. Спасибо, спасибо: нет ничего… Филатыч — он нищий, он бедный… все взяли, нет ничего…
Это «нет-ничего» постепенно стало его обыденным прозвищем, и жители поселка вскоре привыкли к бывшему лавочнику, как к безобидному нищему, каких всюду теперь немало. Ходит оборванный, потерявший ум дурачок, бормочет незнамо что — вот, в общем, и все, что осталось от прежнего господина Филатова.
Только Головины не смогли до конца привыкнуть к этой его неизменной странности: почему и зачем он приходит к их дому? Два его двухэтажных-то лучше, богаче. С чего же топтаться под окнами именно этого, маленького, шарить грязными, скрюченными ревматизмом пальцами по сосновым бревнышкам, заглядывать сквозь щели во двор?
Неделю назад Дарья Васильевна из жалости к дурачку пригласила Филатыча в дом.
— Что будешь делать со старым? — оправдывалась она потом перед Антошкой и мужем. — Думала, пусть хоть напоследок подышит тем воздухом, которым когда- то ему дышалось. Нас от этого, думалось, не убудет, а старого — жалко. К тому же узнать, по правде сказать, хотелось: чего ему надо в нашем дворе?..
До старика в тот день не сразу дошло, что хозяйка известного в поселке рабочего-большевика предлагает ему войти по крылечку в дом. А когда наконец дошло, его как-то косо шатнуло. Он дрогнул, засуетился — молча кинулся на крыльцо.
Но в дом из сеней не пошел, а свернул на помост, откуда по внутреннему крыльцу был спуск в полутемный просторный двор, сытно пахнувший влажной землей, старыми хомутами, навозом и дегтем.
Спустился — и огляделся. Слева, в ближнем углу двора, насесты для кур. Справа — гнилая щепа на месте когда-то стоявших тут березовых да сосновых поленниц, сани. В дальнем правом углу — тарантас со стянутыми сыромятным ремнем и задранными кверху оглоблями. Видно, как был тут поставлен три года назад, так и стоит никому не нужный. А левый угол — пустой. Оттуда тянет до слез знакомым запахом сухого навоза. Там тоже все так, как было при рысаке и корове: ровная горка соломы в углу, а над ней, как лезвия острых сабель, снаружи воткнуты и торчат, касаясь земли, сверкающие полосы светлого апрельского солнца.
— Ну что, батюшка, доволен? Поглядел? — спросила Дарья Васильевна, жалостливо наблюдая за тем, как жадно вглядывается старик во все углы двора. Особенно в тот, где когда-то стоял рысак и где теперь лишь сор да несколько лохматых паутин видны в темноте. — Убедился, что все в порядке? Нам чужого не надо. Как было, так все и есть. Значит, ходить тебе сюда ни к чему. Дом все одно не твой. Теперь уж, батюшка, навсегда. Взгляни в последний раз и простись. Нечего зря свое сердце скрести, торчать под окошками. Понял?
Филатыч вдруг пристально, зло взглянул на нее.
— А может, не зря?!
— То есть как это так не зря? — удивилась Дарья Васильевна. — Эко!
— А вот и не эко! — по-иному, чем прежде, не как блаженненький, а требовательно и громко сказал Филатыч. — Ты и сама, может, тоже из них, партийных?
— Ну… не совсем, а все же…
— Должна тогда знать, о чем говорил самый главный на ихнем съезде. Мне, чай, читали. В газетах было…
— Об чем это было?
— А вот об том, что снова будет хозяин теперь допущен. Не миллионщик какой, а вроде меня. К торговле, скажем, или к какому другому производящему делу. Ну, послабление, в общем. Было такое сказано там, в Москве? Было. Сказал об этом ваш главный? Сказал. Так что оно еще неизвестно, зря или не зря…
— Неужто в надежде опять колбасную тут открыть? — поразилась Дарья Васильевна не столько смыслом сказанного Филатычем, сколько наглостью, с какой это было сказано: вот вам и нет ничего! — Неужто в надежде?
— А что же, — спокойно сказал Филатыч. — Может, и так…
— А-ах, вот зачем ты к нам ходишь? А я-то…
Дарья Васильевна неожиданно для себя как-то сразу ожесточилась и напряглась. Это бывало с ней редко и всякий раз надолго расстраивало душу. Теперь недавняя жалость к несчастному, безобидному старику мгновенно ушла из сердца:
«О колбасной мечтает! Надеется на возврат… Так вот он, значит, какой, этот бедный, нищий Филатыч? Ходит в ветоши и в опорках, питается тем, что дадут ему по доброте своей детишки или жалостливые старухи, забывшие о том, как он драл с них, бывало, за каждый фунт хлеба или бутыль керосина, не говоря уже о процентах, которые брал с этих баб, если отпускал товар в долг. Ходит по поселку как жалкий бездомный пес, а сам о домах своих думает! Не пес, а зубастый, хитрый бирюк!»
Она стала молча подталкивать старика к воротам. А тот, как видно, почувствовал резкую перемену в женщине, враждебной уже потому, что живет в его доме полной хозяйкой, и это его напугало.
«Не рано ли я ляпнул, что не зря? — думал он, чувствуя, как мелкие капельки пота начинают словно мокрицы ползти по спине к ребристым бокам и пояснице. — Надо было до срока-времени помолчать. Как бы дело все не испортить…»
— Ты только одно учти, господин Филатыч, — между тем со злостью говорила Дарья Васильевна, все настойчивее тесня противного старика со двора и кляня себя в душе за то, что поддалась гнилой, как говорит в таких случаях Платоша, беспартийной бабьей жалости: хотела, видите ли, порадовать старика, оказавшегося на поверку не кем иным, как самой настоящей контрой. — Одно учти, что наш главный, если он и задумал какой поворот, то вовсе не для тебя и таких, как ты, а для рабочих с крестьянством. Послабление тем, кто трудящий, а не тебе!
Филатыч вдруг разъярился:
— Видно, слыхала ты, баба, да не про то, хоть сама из тех, из партийных. Речь шла об нас, которые в городах. О торговле и производстве товара, какой вам нужен. Сами-то, видишь, вы не сумели. Все прахом пустили, вот что. А как чего путное сделать, так уж никак! Без нас не выходит. Вот он об этом и говорил. И на заводе, как я слыхал, об этом же на собраниях говорили…
— О чем они говорили, тебе дела нет, — почти с ненавистью сказала сквозь зубы Дарья Васильевна, едва удерживаясь, чтобы не толкнуть кое-как семенящего к выходу Филатыча. — И скажу я только одно: капиталу у нас каюк! Таким, как ты, мироедами снова стать не дадим. Это учти. И больше к нам в дом не шляйся, под окнами не торчи. Если еще хоть раз увижу, велю Антошке взашей прогнать, так и знай! А теперь давай уходи!
Она с силой вытолкнула противного побирушку со двора в огород, наставительно и строго добавила:.
— Ишь куда нос свой наделил: наш дом назад получить! Не получишь, и не мечтай. Теперь тебе даже и тарантас не отдам, не то что наш дом. Катись колбаской по Новой Спасской…
Филатыч ушел, а в душе возмущенной Дарьи Васильевны долго еще держалось противное раздражение. Противное потому, что не все из сказанного Филатычу казалось теперь совершенно точным и убедительным. Что-то оставалось еще недосказанным, недодуманным. И как она ни старалась убедить себя в том, что надежды Филатыча просто дики, несбыточны, что-то щемило и беспокоило сердце. Успокаивало лишь одно: уж теперь-то, надо полагать, проклятый старик закается наконец торчать возле дома и бормотать свою чепуху?..
Однако ровно через неделю Филатыч, как ни в чем не бывало, явился к их дому снова. Приплелся из бывшего своего двухэтажного такой же, как и всегда, несчастненький, жалкий, несправедливо обиженный жизнью больной старик, как будто вовсе не из него в прошедшее воскресенье нагло высунулся и толкнул Дарью Васильевну в сердце прежний лавочник и колбасник.
К его счастью, старших Головиных не было дома, а уставший таскать из чужих дворов тяжелые плашки, забежавший домой Антошка просто не обратил на него внимания. Еще меньше внимания парень обратил на противного старика после резкого разговора с Зиной. Кипя от негодования, но и не зная, что теперь делать с украденными сестрой дровами, парень стремительно проскочил крыльцо, оглядел пустынную улицу, ища глазами ребят во главе с Мишей Востриковым, никого не увидел — и побежал через улицу к Родьке Цветкову за тележкой…
Филатыч ожесточенно плюнул ему вслед. Но тут же, оглянувшись на окно, смиренно съежился, тоненько охнул и начал свое привычное топтание и бормотание. Сделает мелкий шажок вперед — и снова шажок назад. При этом время от времени успевал быстро взглядывать из- под нависших седых бровей то в одно, то в другое окошко Головиных: есть ли там кто? Не мелькнет ли? Не выйдет ли девка Зинка и не подаст ли кусок несчастному старику?
На этот раз никто не показывался в окошках. Не потому ли и парень так быстро ушел оттуда, что в доме нет никого? Божий день, воскресенье… не в церкву ли все ушли? Да какая им церква! Ушло бесовское племя по капищам по своим…
На всякий случай еще раз быстренько оглядевшись, Филатыч стал делать не мелкий шажок вперед и такой же назад, а по два шажка с остановкой, пока не подошел близко к дому и не полез на крыльцо.
Совсем еще новое… ох, мое новенькое, хорошенькое крылечко! Сам в тот год проследил, чтобы домик был сделан добротно, людям на зависть. С резными наличниками на окнах. С резными стройненькими перильцами на высоком крыльце. С резными же липовыми накладками на двустворчатой двери, В этом доме он жить хотел. Два двухэтажных — те под жильцов, а этот — себе. Не один, а с девкой Анютой, с которой жил по вдовству своему. Ан нет, в сем доме не ложилось: бесы все взяли… все взяли… нет ничего… что у Филатыча? Воры все, воры… нет ничего…
Ан есть еще кое-что. Там, во дворе, от бесов зарыто. Зарыто и цело. Сам проверял неделю назад, когда головинская баба туда пустила. Цело и цело. И будет цело. Пойду опять погляжу. Может, сквозь щелку, а может, ворота у них открыты. Зайти поглядеть. Взять пока не возьмешь, рано… а так вот взглянуть, так — можно. Только взглянуть, а душе — услада…
Он торопливо сошел с крыльца и, задыхаясь от возбуждения, шатаясь и оступаясь на осклизлой тропе, засеменил вверх по переулочку ко двору.
Во яворе кто-то был. Кто-то чем-то постукивал и шуршал. Что-то скреблось и потрескивало. Потом сердитый голос головинской девчонки кому-то что-то сказал. А потом заскрипели отпертые ворота. Одна из воротин открылась. Сквозь щель стало видно, как сразу посветлело в темном дворе. Значит, девка оттуда вышла. Пошла в огород.
Зачем же она пошла? Не к соседям ли, к их девчонке? К той она ходит. А только надолго ли? Может, пошла надолго? Взять вот да заглянуть? Чего тут такого? Взошел блаженный старик — и все. Взошел и взошел… Я ничего… шел и взошел… хлебца бы… вот он, Филатыч… воры, все воры… нет ничего… дай старику хоть корочку… нет ничего… я ничего… зашел вот… шел и зашел… подайте нищенькому… подайте… нет ничего…
Девчонки, похоже, нет…
Убедившись в этом, Филатыч поспешно шагнул за втоптанную в весеннюю грязь огородную слегу. Шагнул — и с радостно бьющимся сердцем рванулся во двор, к заветному углу.
Там, где он в свое время успел схоронить от бесов ведерный чугун с ценными бумагами, с деньгами и золотом, все было вскопано, перемешано, свалено в кучу. А сверху, задрав оглобли, высились, как надгробье, сани…
Вытянув руки, с криком ужаса и боли Филатыч рухнул возле этой кучи мусора и песка.
Потрясенный историей с «парикмахером», еще раз отлежавшись недели две у Головиных в жестокой простуде и вновь кое-как поднявшись на ноги, Савелий Бегунок чуть ли не каждый день стал упорно ездить в Москву.
Прежде всего хотелось вернуть одолженную Иваном Махровым одежду. И он, невольно боясь чего-то, хотя нарочно делал это в людные, солнечные часы, благо в апреле их становилось все больше, дважды искал за привокзальной улицей двор и дом, где в холодном и темном, как погреб, тупичке оглушил его «парикмахер».
Но в непонятной для мужика московской путанице переулочков, тупичков, кирпичных и деревянных домиков и домов, лавок, лабазов, пустынных конных дворов, поваленных и разбитых заборов, переходов и перелазов отыскать запавшую в память лесенку на второй этаж к пиликающей гармошке и плачущему ребенку оказалось неразрешимой задачей, хотя днем здесь было совсем не так, как в ту страшную колдовскую ночь: ни шорохов, ни зловещего шепота, ни хрустения шагов, похожего на работу чьих-то больших челюстей на заполненной призраками темной улице. Все обыденно, серо. Просто — не имеющая конца и начала городская утомительная колгота.
Чего тут бояться? Ан вот испугался в ту ночь. А испугавшись — чуть не пропал…
Поняв, что дом Махровых ему не найти, мужик мысленно повинился перед Иваном:
— Прости меня, парень. Похоже, никак тебя не достигну! — и сунул узелок с одеждой под топчан, на котором спал в каморке Антошки.
С этого дня все свои силы он направил на главное: на поиски случая, который помог бы попасть, наконец, на прием к Владимиру Ильичу.
Дежурный, к которому он обратился в будочке у Спасских ворот Кремля, расспросил его, записал фамилию. цель приезда и обещал доложить кому-то. Но тут же предупредил, что ждать придется не меньше недели «ввиду перегрузки в количестве ходоков».
Однако нетерпение мужика было так велико, что он все равно продолжал часами стоять и сидеть у кремлевской стены, с завистью следя за тем, как самые разные люди — в военных шинелях, в кожанках, а то и в крестьянских армяках да зипунах — беспрепятственно входят в Кремль, как иногда въезжают в распахнутые ворота или вырываются из ворот, оставляя за собой сизые клубы дыма, железно дребезжащие автомобили.
Может, в одном из них проехал и ОН?..
Чтобы согреться, а если повезет, то и разжиться какой-нибудь едой, мужик время от времени спускался с Красной площади в Охотный ряд, в его пестрое нагромождение не очень бойко, но все же торгующих продуктовых лавок, ларьков, одноэтажных и двухэтажных домов, среди которых выделялись, мешая движению извозчиков и пешеходов, две церкви — одна большая, двухъярусная, другая — поменьше, ближе к Манежу. На их папертях иногда подавали милостыню, и Савелий не раз, глотая голодную слюну, терпеливо выстаивал там среди таких же, как и он, отощавших людей, склонив на грудь лохматую голову.
За белой громадой церкви Параскевы-Пятницы, стоявшей недалеко от Дома союзов, в низком полутемном помещении располагался книжный магазин — «развал». Здесь торговали не только дешевенькими или редкими книгами, но и выкраденными из музеев бесценными рукописями, документами, картинами из государственных и частных собраний. Загороженное от света помещение пропахло плесенью. Зато в нем было как-то по-необычному тихо, даже торжественно, словно в храме, и Савелий любил заходить сюда — постоять в тишине среди молчаливо-сосредоточенных любителей книг, совсем не похожих на покупателей возле мясных и овощных лавок на другой стороне Охотного ряда, посмотреть на книги в кожаных переплетах и подивиться в душе: кто-то ведь написал же их, эту громадину? А кто-то может все их прочесть?!
В один из дней там к нему подошел чисто одетый седенький старичок. Рассмотрел сквозь стекла пенсне. Расспросил, кто и откуда. Почмокал губами. С некоторым удивлением дважды задал вопрос:
— За тем в Москву и приехал?
— За тем…
— И к нему еще не попал?
— Нет. Потерпи, говорят. Занят, мол, Ленин. И нездоров.
— Ничего удивительного, — подтвердил старичок. — Глава государства. Дел, конечно, немало…
И отвел Бегунка в сторонку:
— Хотелось бы вам посоветовать, уважаемый, вот что. Живу я вон там, где Александровский сад, напротив Кремля. Рядом с домом, где я живу, есть еще один дом, в котором живет сестра Ульянова-Ленина. Старшая, кажется. Бывает, что он заходит к ней в гости. Лично видел не раз. И вместо того, чтобы вам бесполезно ждать у Спасских ворот, подежурьте-ка там. Когда он выйдет из Кремля… ну, в общем, легко узнать: рыжеватая бородка, знаете ли, невысокого роста. Остановите и спросите. Может, удастся? Вдруг — повезет…
Несколько вечеров Савелий продежурил и там, возле дома доброго старичка. Но ничего не дождался. Да и неловко стало караулить по вечерам. «Раз Ленин занят да еще болен, чего к нему лезть не в черед? Он в гости к сеструхе, а я к нему со своим? Не-е… вроде негоже! Немного еще погожу — да и ладно: занят ведь, болен. Чего же я так-то…»
И все же ему посчастливилось увидеть Владимира Ильича.
Сочувственно наблюдая за тем, как мыкается мужик, с утра отправляясь в Москву и за полночь возвращаясь оттуда, а то и ночуя неизвестно где, Платон уговорил Веритеева помочь Бегунку— если уж не попасть в Кремль к Ленину, то хотя бы послушать Владимира Ильича на одном из рабочих собраний, которых сейчас проходит в Москве немало;.
— Не от себя, чай, приехал, а от Мануйловки! — горячо убеждал он старого друга. — Сибиряк, понимаешь. Искатель правды. Партизан. Да еще оказался обобранным и побитым… как не помочь?
И в один из весенних дней Веритееву удалось достать Савелию пропуск на рабочее собрание, где ожидалось выступление Ленина.
Мужик приехал в тот день из поселка в Москву чуть свет. Едва не бегом одолел немалое расстояние от вокзала до центра города. Часа полтора топтался у закрытых дверей, пока с самыми первыми делегатами не прошел наконец в здание Дома союзов, где и пристроился было в заставленном стульями и скамьями зале в последнем ряду. Потом, оглядевшись, понял, что вряд ли увидит отсюда Ленина. Зато наверху под лепным потолком, выше радужно сверкающих ламп, которые называют люстрами, есть балкончик, там было бы в самый раз.
И он перешел по лестнице на балкончик.
Здесь было свободнее и теплее. А главное — видно весь зал из конца в конец.
Между тем делегаты постепенно заполняли казавшийся Савелию огромным зал с беломраморными колоннами, собирались кучками, рассаживались, гудели.
Потом стали хлопать в ладоши, за что-то голосовать. Долго слушали докладчика. И еще одного. Еще одного. Много раз поднимали руки — кто «за», а кто «против». Кого-то в лоб укоряли. Кричали даже «долой» и «довольно цацкаться с ними», с кем — Бегунок не понял. А главного, Ленина, все еще не было.
Во время перерыва Савелий долго ходил по мраморным лестницам дома, не уставая дивиться его «немыслимой красоте», в особенности колоннам и зеркалам.
«Господа — они знали, чего к чему! — раздумывал Бегунок. — На нашем труде взрастали. Жили себе, не тужили. Теперь тут и верно хозяином стал рабочий. С ним, однако же, и крестьянство. Ишь как написано хорошо на кумачовом плакате: „Царству рабочих и крестьян не будет конца!“ Рабочий класс того царства хочет. А нам, крестьянам, чего не хотеть? Вместе с ним царя сковырнули, вместе теперь и наше царство будет в России. Вон как мужик Бегунок вольно похаживает в этом Дворянском доме, не боясь царя с господами! А нынче, бог даст, услышит самого главного — Ленина. Так и пойдет оно, видно, вечное царство…»
После перерыва спор ораторов продолжался, и уставший, полуголодный Савелий не выдержал: отошел на своем балконе в уголок, сел на холодный каменный пол, привалился спиной к стене и сразу же задремал.
Проснулся от сильного непонятного гула.
Гудели стены, гудел весь дом, хотя гул летел откуда- то снизу, — Савелий не сразу понял откуда. А когда понял и торопливо сунулся из темного, холодного угла к перилам, которыми был огражден балкон, замкнуто тянувшийся по всему квадрату взнесенных под потолок стен, Ленин уже стоял на помосте возле президиума и начинал свою речь.
Начинал — и не мог начать: стоял, поднимал руку — просил делегатов сесть, беречь свое время. При этом Савелия поразило, что Ленин, и верно, как говорил ему старичок в пенсне, не больно крупен. Такой, как все. И о чем говорит? О том, что неправильно написано на плакате о «вечном царстве» рабочего класса с крестьянством, потому что в будущем этом царстве классов таких не будет, а будет цельный, один народ…
— Если бы царству рабочих и крестьян никогда не было конца, — объяснял делегатам Ленин, — то это означало бы, что никогда не будет и социализма, ибо последний означает уничтожение классов.
Савелий уже знал из разговоров с Платоном, что в каждом государстве действительно есть эта штука — классы. Раньше, едва ли не год назад, — он жизнь принимал в ее пестроте: царь с его приближенными и министрами — это одно. Жандармы и белые — другое. Купцы с фабрикантами — третье. Владелец пароходов на Иртыше или Мартемьян Износков в Мануйлове — четвертое. Чиновники да солдаты — пятое. А там и шестое, седьмое… конца тому счету нет! Тем более если взять еще иностранцев по всей земле. Тут уже совсем понять ничего нельзя: карусель! — полагал он тогда. А оказалось — совсем не так. И Ленин теперь говорил об этом.
— Против кого мы ведем теперешней весной, вот сейчас, один из наших последних решительных боев? — спрашивал он. — И вообще, какие силы имеются у нас налицо, как они группируются? Если взять современное общество в целом, то сил этих главных в основном — три. Пролетариат — первая сила. Вторая — крестьянство. Третья сила — всем известна, это — помещики и капиталисты. Сейчас в России этой силы, как класса, нет…
«Ага, — соглашался в уме Савелий. — Так все и есть…»
— О том, что рабочий класс есть главная сила в нашей стране, вы все хорошо знаете, вы сами в гуще этого класса живете, — продолжал Владимир Ильич. — Три с половиной года тому назад рабочий класс взял в свои руки политическое господство, не обманывая ни себя, ни других разговорами насчет «общенародной, общевыборной, всем народом освященной» власти. Любителей по части такой словесности много, но не из числа пролетариата, который сознавал, что берет эту власть один. Он брал ее в свои руки таким путем, каким осуществляется всякая диктатура. То есть с наибольшей твердостью, с наибольшей непреклонностью. И при этом больше других классов подвергся за эти три с половиной года таким бедствиям, лишениям, голоду, ухудшению своего экономического положения, как никогда ни один класс в истории…
Савелию вдруг с удивительной ясностью вспомнился разговор, который на днях он завел с Платоном Головиным.
Они только что кончили скудный утренний завтрак. Мужик собирался в Москву, Платон — на завод. За окнами чуть светлело: рассветная синева едва-едва пробивалась сквозь весеннюю легкую темноту.
Дарья Васильевна ходила все эти дни заплаканная, и Платон устало пожаловался:
— Да-а… Надо признать, что чего-то я упустил с Константином. Еще в те годы, когда он мальчонком был.
И вдруг рассердился:
— Однако же как мне не упустить? Вначале — на германской… потом — на гражданской. Теперь — без выхода на заводе.
— И то, — согласился Савелий. — Жизнь! И вот что мне теперь в особое удивленье, — высказал он давно занимавшую его мысль: — Партийным, как ты, тяжелее всего. Другому из вас, рабочих, тоже не сладко. Однако другой, он все же отгрохает у станка — и домой. А партийным? Взять хоть тебя…
— Должен, брат, — буднично согласился Платон. — Если не мы, то кто? Раз уж взялись — отступать не резон.
— Вот-вот! — подхватил Савелий. — Однако раньше я думал, что вы, партийные, вроде новых господ: власть, мол, взяли, у власти стоите, все под твоей рукой. Чего хошь твори, себя не забудь. Егемоны! А ныне гляжу…
— Какое там, не забудь! — Платон усмехнулся. — О себе и не помнишь.
— И то! Вон еле-еле отудобил ты, а душа уж не тут! — Савелий обвел мосластой ладонью стол и часть комнаты, где после ушедшего из семьи Константина опять с раннего утра что-то вытирала да перекладывала хлопотливая Зинка. — Душа твоя там, на заводе. А как я раньше считал? Сговариваются, мол, рабочие в городах. Соберутся и сговорятся: «Давайте, ребята, оружье возьмем, власть себе заберем, а других прижмем. Рази только крестьянство пока помилуем, коли без хлеба не проживешь…» — Он усмешливо покачал головой. — А потом, когда партизаном стал и вкруг огляделся, особо же теперь, когда ты мне тут газетки читал со дня на день, на митингах ваших побыл, в Москве походил туда да сюда… теперь совсем уж ясно мне, брат, что главные вы от другого: жизнь вас к тому понуждает. Антошке шестнадцать, а тоже со всеми в заводской работе…
Платон недовольно махнул рукой:
— Какая у парня работа? Нынче занят, завтра нет. Почти без получки, без дела ходит.
— А все же. Со всеми вместе гуртуется день за днем. Тут, хошь не хошь, сговоришься! Одна работа, одна и радость-беда. Значит — одна и думка. А если взять вас по всей России из конца в конец? Так и выходит, что вот он класс, пролетарий! Не то что в крестьянстве, — добавил он хмуро. — Там все в особицу. Рядом изба, да не рядом судьба…
…Теперь, стоя на краю помоста перед делегатами, Ленин говорил и об этом:
— Как могло случиться, что в стране, в которой пролетариат так малочислен по сравнению с остальною частью населения, в стране отсталой, которая была отрезана искусственно военной силой от стран с более многочисленным, сознательным, дисциплинированным и организованным пролетариатом, как могло случиться, что в такой стране, при сопротивлении, при натиске буржуазии всего мира, один класс мог осуществить свою власть? Как могло это осуществляться в течение трех с половиной лет? Где была поддержка этому? Мы знаем, что поддержка была и извне страны, от братьев по классу, и внутри страны — в массе трудовых крестьян…
«Мы тоже в своем Мануйлове, а потом и в партизанах рабочий класс поддержали! — не без гордости думал мужик, наваливаясь грудью на каменный верх перил и согласно кивая Ленину, будто тот мог увидеть оттуда, из зала, эти кивки и порадоваться тому, что вот, мол, сидит наверху сибирский мужик, глаз от меня не отводит, мыслит и все как есть понимает. — Да и теперь… мы разве не понимаем? Только вот как нам быть с Износковым Мартемьяном, товарищ Ленин? Как сгуртоваться против него на манер пролетария-егемона? Надо бы, да. Ан спайки рабочей нет…»
— Крестьянство — это мелкая буржуазия, мелкие хозяева, — говорил между тем Владимир Ильич. — В острой борьбе капитала с трудом они ежедневно не участвуют. Экономические и политические условия жизни не сближают их, а разъединяют, отталкивают одного от другого, превращают в миллионы мелких хозяев поодиночке. Объединиться, сплотиться сама — эта сила не может. Поэтому она колеблется, своей общеклассовой, вполне определенной политики не имеет. Эсеры пытались выработать идеологию и программу некоего «крестьянского социализма», но на деле это всякий раз оборачивалось кулацкой контрреволюцией…
…Во время того утреннего разговора у Головиных Платон спросил мужика:
— Насчет единства рабочих ты верно сказал: оттого мы и гегемоны. А теперь вот ответь: чего до смерти желательно каждому из вас, крестьян?
— Как чего? — не сразу понял Савелий. — Ну, земля…
— Правильно, землю. Еще?
— К ней чтобы лошадь, скотину…
— Верно.
— В общем, пахать, косить, дом обиходить, хозяйство иметь в достатке, — уже увлеченный беседой, словно игрой, стал перечислять Бегунок.
Он даже порозовел от волнения — так вдруг захотелось ему хотя бы в разговоре с Платоном, а все же иметь это справное сытое хозяйство, которого не было и не будет у него никогда, но было же оно у других? У Петра Белаша, к примеру, у Бурлакина и других мануйловских хозяев — сытых, семейных, с бородатыми сыновьями, с работающими снохами, с лошадьми и коровами, с боровками, овцами да гусями в просторных крытых дворах. Дом — полная чаша. Вот бы такое!..
Платон пригляделся к Савелию, помолчал.
— Та-ак, значит, — справный хозяин. А дальше? — спросил он снова.
— Что дальше? — не понял Савелий.
— Ну, значит, живешь, поросятину жрешь… — Платон усмехнулся: — Оно бы и нам с Дашей было сейчас не вредно! А то вон что мы нынче с тобой жевали? Мороженую картошку с морковным чаем? А кабы того порося… живи не тужи! Ну, ладно, — вернулся он к разговору. — Так, значит, все в доме сыты, все жрут, каждому — досыти? А дальше-то, дальше?
— Ты это к чему? — насторожился Савелий.
— К тому, — резко, будто рассердившись на мужика, заключил Платон, — что в этом она и есть большая разница у нас с вами. Вам вынь да положь сытый дом, отгороженный от других. А мы — революционный класс, кровь свою льем для свободной общей коммуны!
— Это какая коммуна? Может, ты тоже насчет той коммуны, куда нас будут сгонять как в тюрьму, а спать велят со всеми бабами под одной дерюгой?
— Эко ты, брат! — досадливо отмахнулся Платон. — И кто вам вбивает в башку такое? Мы вон, рабочие, не вповалку, а розно живем? Розно. Каждый — в своем углу, с родной женой. Конечно, если взять, к примеру, беспризорных, каких война оставила нам без отцов да мамок, то тех уж конечно Советская власть помещает вместе в детские дома. В нашем Угрешском монастыре тоже хотят вон сделать для них коммуну. Так ведь и раньше бывало: то инвалидный дом, а то этот, как его, пансион благородных девиц. А то — для солдат казарма. Но это совсем другой разговор. Мы же, я говорю, каждый живем по своим домам да углам, кто как хочет. Зато вот труд у нас на заводе — общий. Он и есть всему голова. Не будь его, не было бы и нас. Так же надо бы вам, крестьянам. Сообща, в артели. Товарищ Ленин не раз об этом говорил. Машины, тягло, работа — те общие, это да. А жить — живи, где душе угодно. И под своим одеялом. Притчу про веник слыхал?
— Это про старика и сынов?
— Про них. Раздери голик на прутики, его и младенчик запросто изломает. А крепко свяжи, насади на палку… хоть дорогу на улице разметай, все ему нипочем! Сам твой Мартемьян Износков перед таким голиком не устоит: сметете его с дороги, как сор…
Они помолчали.
— Да, брат, — опять раздумчиво заговорил Платон. — В ней, в спайке, в артели все дело. А так… Вон летошний год шла перепись населения всей России. Знаешь, сколь оказалось всего с Кавказом и Украиной?
— Не… не пришлось.
— Однако же интересно об том узнать. Оказалось, что по этой переписи живет нынче в России чуть ли не сто шестьдесят миллионов человек. Из них в крестьянстве сто тридцать три. Остальные — мы, в городах. Достигаешь? Сто тридцать три! Сила!
Савелий уважительно покачал головой:
— Эта уж да! Неужто нас сто тридцать три миллиона?
— Теперь представь себе вашу силу вроде мешка с картошкой. Громадный мешочина был бы на всю Россию! И попробуй его поднять! Нипочем! Богатырь не поднимет! И партии нашей тяжко поднять такой громадный мешок. Значит, вроде бы ваши сто тридцать три — это сила? — опять пытливо взглянул он на Бегунка. — А ты опрокинь его да рассыпь. Покатятся из него картошки одна за другой в разные стороны! Так и крестьянство: мешок картошки, это я точно уразумел. А нас — меньше чем тридцать. Зато — из железа! Потому-то трудящим крестьянам одним, без нас, добра не добыть. Значит, у вас — артель, а для всех — коммуна!
— Похоже, что так, — вздохнув, согласился Савелий, хотя расставаться с мечтой о сытом и крепком доме никак не хотелось. — Вас на заводах, и верно, будто огнем спаяло. Хоть набок вали, хоть под горку кати, хоть дрючком колоти — вам все нипочем!
— Значит, согласен? — довольный такой похвалой, спросил под конец разговора Платон. — Потому-то и сказано нашей партией, товарищем Лениным: братский союз! Одно у нас государство, одно и дело. Вместе дали по шапке белякам, вместе дадим укорот и таким, как ваш Мартемьян Износков. Только смелее надо. Смелее. А главное — сообща!
…Об этом как раз говорил теперь делегатам Ленин.
— Под руководством пролетариата идти вместе с ним, — развивал он эту главную мысль, как бы перекладывая ее с одного бока на другой, поворачивая так и этак, пока она не укладывалась в головах слушавших его делегатов как бы сама собою — и укладывалась так, что теперь ее ничем уже выбить было нельзя. — Этот путь для крестьянства тяжелый, верно. Но — единственный, который может вывести его из-под господства помещиков и капиталистов!
— Наше крестьянство устало, — говорил он дальше. — На него тоже ложатся тяжести революции. А тут еще неурожаи, выполнение разверстки, бескормица… Между тем враг революции цел. Он жив. Он поумнел и теперь готов признать даже Советскую власть, но только без большевиков… то есть без диктатуры пролетариата.
А значит, в конечном счете, с надеждой на возврат диктатуры буржуазии!
«Вот так же и наш Мартемьян Износков со своим племянничком Терентием! — сердито думал Савелий. — Надеется на возврат. Однако же верно сказал Платон, что смелее надо. Соединиться в артель. С рабочими, чай, не страшно: поддержут! Конечно, мужик, какой победнее, совсем ослабел, что говорить. Да не совсем еще обветшал, маракует. Средние, кто справнее, вроде наших Бурлакина да Петра Белаша, тоже переменились, хотят рядом с нами. Неужто же нельзя мануйловцам столковаться насчет артели? Можно! Все поймут, как приеду да расскажу им про ленинские слова. Я-то вон понял? И наши поймут. Начать хоть с Ивана Братищева, Агафона Грачева, Тишки Шаброва или Ферапонта Даньщикова. Да что говорить! Коли взяться всем враз да вон, как он сейчас говорит, с рабочими сгуртоваться, тут дело и определится! — все веселее думал Савелий. — Ясно, определится! И Мартемьяну даст укорот. Главное — объяснить мужикам, как он тут объясняет. Слово такое — везде пробьется! Дойдет! Великое оно слово».
Опять вспомнив свой разговор с Платоном, Савелий не без сожаления, но уже и как бы издалека, спокойнее вернулся мыслью к мечтам о сытом, в одиночку богатеющем доме:
«Конечно, каждому крестьянину, которого ни возьми, охота выбиться в одиночку, нажить побольше богатства. Однако всем стам тридцати трем миллионам не выбиться нипочем! Потому-то каждый и гнет то туда, то сюда: то к капиталу, а то к рабочему. Такие идут в крестьянстве качания. Угадал это Ленин. Правильно угадал! Остался я без кола и двора, разуверился во всем, оттого и взяло отчаяние. А надо, выходит, так, чтобы одна земля, один труд, одна и судьба. Теперь вон о продналоге идет разговор, эшелон к нам посылают, помочь мужику хотят… Тут она, правда, больше нигде!»
После нескольких деловых, вполне откровенных разговоров в ВСНХ, обстоятельно продумав незавидное положение, в котором сейчас очутился завод, с трудом выполнивший работы по заказам для посевной и теперь оказавшийся, несмотря на множество просительных телеграмм в Чикаго, почти совсем без сырья и деталей, — Круминг созвал совещание главных помощников из заводской администрации.
Не вставая из-за стола, он молча здоровался легким кивком головы с каждым входившим в его кабинет, и когда все уселись, а генеральный секретарь дирекции Вайманс, толстенький голландец с румяным круглым лицом и тщательно зачесанными на лысое темя рыжеватыми волосами, привычно разложил перед собой бумаги, чтобы вести протокол, Круминг в обычной своей невозмутимой манере сказал:
— Нет нужды, господа, объяснять вам сложность, я бы даже сказал, драматизм сложившейся для нас обстановки. Я имею в виду перспективы завода в связи с продолжающейся блокадой России. Каждому из вас хорошо известно, что с тем количеством запасных частей, которые мы имеем сейчас, завод нормально работать уже не сможет…
— Не надо было соглашаться на «ударную», как тут говорят, работу завода для их посевной кампании. Тогда мы как-нибудь вывернулись бы до приближающейся наконец развязки с большевистской Россией. Я предлагал, даже настаивал на отказе от их предложений, но вы отклонили…
Это резко, даже вызывающе грубо сказал мистер Гартхен, главный администратор завода, а фактически как бы его негласный второй директор и комиссар.
Без него не решался на заводе ни один финансовый, кадровый или организационный вопрос. На всех служащих у него имелись осведомительские досье. Почти в открытую Гартхен занимался и вне завода такого рода делами, вникать в которые честные инженеры и служащие боялись, хотя и видели, как день за днем снуют по стране под видом инспекторов отдела технического контроля, юристов или специалистов по рекламациям молчаливые личности или такие темные типы, как «дипкурьер» Верхайло и похожий на лисицу юркий Бублеев.
Знал об этих занятиях мистера Гартхена и Круминг, но помешать им не мог, хотя его, как не раз говорил он жене, все чаще мутило. И теперь, с трудом сохраняя прежнюю подчеркнуто спокойную медлительность, он только сказал в ответ на реплику Гартхена:
— Завод — это бизнес. Кто же из деловых людей откажется от хорошего бизнеса? В данном случае — от «ударного» заказа? Деятельное кровообращение необходимо для каждого организма. А кроме того, как я уже говорил не однажды, не только для нас, живущих в России не первый год, а в современных условиях в особенности, но и для компании, интересы которой мы представляем, необходимо время от времени проявлять хотя бы внешнюю лояльность по отношению к контрагенту. Это укрепляет доверие, помогает взаимному пониманию и, следовательно, полезно для дела. Однако, — прервал он себя, — позвольте вернуться к главному разговору. Суть его всем известна: чтобы завод и в дальнейшем смог производить обусловленную соглашениями продукцию, необходимо систематическое и полное снабжение его деталями. Насколько я понял, мистер Гартхен считает, что отсутствие этого в настоящий момент даже неплохо, поскольку Россия-де опять находится сейчас в критическом состоянии и, следовательно, в случае переворота — все обернется в пользу компании…
— Да, совершенно очевидно, что развязка наконец- то наступает! — с удовольствием подтвердил мистер Гартхен. — Наши надежды на крах Советов сбываются…
Круминг некоторое время молча глядел на злорадно усмехающегося, худого, желчного мистера Гартхена.
— Если вы действительно имеете в виду реставрацию старых порядков в России, то вы, я думаю, ошибаетесь, — заметил он в той же манере спокойного, почти вялого раздумья, в стиле которого он начал свой разговор.
— Полагаю, что нет!
— Но факты говорят несколько иное. В самом деле: внешние силы «наведения порядка» в лице известных вам государств, при всем их превосходстве, оказались бессильными сделать это военным путем и отступили. Осталась одна Япония, да и та, мне кажется, вот-вот должна будет покинуть русские территории на Востоке. Что касается сил внутреннего противодействия Советам, которые, конечно, есть, — то сами по себе они уже вряд ли способны сделать больше того, что пытались сделать не раз в более благоприятных для них обстоятельствах. Даже тогда их усилия не увенчались успехом…
— Ваша странная симпатия к Советам давно известна, — не без злорадства заметил мистер Гартхен. — И теперь она особенно неуместна! — почти с угрозой добавил он.
— Дело не в симпатии, а в реальном положении дел, — стараясь не обращать внимания на колкости своего постоянного оппонента, спокойно сказал директор. — И когда я говорю о новом критическом положении в России, то лично я имею в виду не столько судьбу Советов. В конце концов это не наше дело. Для меня важны интересы фирмы прежде всего. При этом, господа, для нас главное заключается в том, что создавшаяся в России не столько политическая, сколько хозяйственная весьма критическая ситуация может поставить и наш завод на грань катастрофы, а значит, нанести компании невосполнимый, весьма ощутимый материальный ущерб, если мы с вами поддадимся чувству того ожесточения, которое, к сожалению, очень мешает господину Гартхену, например, спокойно и до конца разобраться в реальных фактах. Как вы знаете, чикагская компания по договору с Советами, заключенному три года назад в Петрограде, обязалась бесперебойно снабжать предприятие запасными частями и сырьем и столь же бесперебойно поставлять готовую продукцию русскому Совету Народного Хозяйства. Сейчас мы оказались в таком положении, какого не испытывали за все три сложных года: снабжение завода из США сократилось до минимума, вот-вот прекратится совсем. Таким образом, наши с вами производственные перспективы на ближайший год внушают серьезное беспокойство…
— В этом не наша вина! — опять вмешался в разговор Гартхен.
— Вы правы: это вина не наша, — легко согласился директор. — Но и не Москвы. Когда армия генерала Гревса была на русском Востоке, в сущности, хозяином положения, завод получал детали бесперебойно. Теперь положение изменилось. Основные силы Соединенных Штатов вернулись домой, а те организации и лица, которые должны обеспечивать в Сибири и на Дальнем Востоке интересы компании, не в состоянии пресечь коварство Японии и разных безответственных офицерских групп из внутренней контрреволюции, которые справедливее было бы назвать по-русски просто бандами..
— Мне кажется, что вы…
— Не перебивайте, мистер Гартхен! У вас еще будет возможность высказать свои соображения позже. А пока повторяю: по моему глубокому убеждению, бесконтрольное хозяйничанье Японии и упомянутых мною банд вскоре закончится победой Советов. Все идет к этому…
Присутствующие хорошо знали о тайной, а теперь и все более откровенной вражде между Гартхеном и Крумингом. Знали они и о том, что мистер Гартхен, неутомимый в своей ненависти к Советам и к «розовому» директору завода, не раз уже отправлял с дипломатическим курьером и тайным шпионом Верхайло в Чикаго секретные докладные на каждого из ответственных заводских служащих, и прежде всего на мистера Круминга, который явно продался большевикам, даже дошел до того, что весьма дружелюбно принимал у себя на квартире лидера большевиков Ленина, приезжавшего сюда якобы для охоты.
Для присутствующих на собрании не было секрета и в том, что эти доносы падают в Чикаго на благоприятную для мистера Гартхена почву, поднимают его акции в глазах владельцев компании, в то время как акции господина директора падают с каждым днем…
Эти мысли легко читались теперь на их непроницаемо-замкнутых, как им казалось, но для опытного глаза вполне открытых, скованных ожиданием очередных неприятностей, чисто выбритых лицах. Один только толстенький Вайманс был, как всегда, спокоен и благодушен. Но этот не в счет: он даже здесь, в голодной, чужой ему России, сумел сохранить свой собственный стиль жизни, далекий от озабоченной напряженности остальных. Спортсмен, женолюб, человек общительный и веселый, толстяк завел себе молоденькую русскую любовницу, стал популярным в поселке тренером футбольной команды и любителей лыжного спорта. Летом каждое воскресенье пропадает среди заводских парней на футбольном поле, а зимой, облачившись в живописный (а в этом бедном поселке прямо-таки экзотический!) костюм, бегает на лыжах по заснеженным полям в окружении девиц с первого заводского двора. Только он один и доволен здесь жизнью. Только он и не принимает участия во внутризаводских интригах и в чреватых множеством сложностей отношениях американской администрации с рабочими и Москвой.
«Счастливец!» — невольно подумал теперь Круминг, продолжая излагать присутствующим на совещании соображения, к которым он после долгих раздумий пришел в эти тревожные, переломные не только для Советской России, но и для завода американской компании дни.
— По-вашему выходит, что в интересах фирмы мы теперь должны идти на поводу у большевиков? — опять подал колкую реплику Гартхен.
— Речь не о большевиках, а о нас, о судьбе завода! — с нажимом ответил Круминг. — Боюсь, что в самое ближайшее время мы не сможем выполнять принятые на себя по договору с большевиками обязательства. Кончится тем, что они национализируют предприятие. Именно это меня и волнует. Когда по просьбе компании наш завод посетил мистер Вандерлип и рассказал мне о своем грандиозном плане концессии на русском Дальнем Востоке, я было поверил, что это будет означать коренные перемены и в судьбах завода. Но надежды оказались, увы, преждевременными. Судя по всему, реализация великого плана мистера Вандерлипа потребует длительного времени и очень серьезных дополнительных усилий… если, конечно, обе стороны все же договорятся. Насколько я понимаю, пока этого не произошло. И, к сожалению, опять-таки совсем не по вине Советов… да- да! — резко повторил он в ответ на попытку Гартхена перебить его очередной репликой. — Причину возможного провала деловой миссии мистера Вандерлипа следует искать не здесь, в Москве, а в другом полушарии. При этом учтите, господа, что шефы компании нам своих потерь в России не простят. Именно поэтому, если вы не хотите, вернувшись после национализации завода домой, оказаться на улице, без работы, необходимо проявить сейчас предельную гибкость в наших взаимоотношениях с Москвой. Если же мы не проявим дальновидности, не пойдем навстречу своим контрагентам, то именно нас с вами прежде всего ждет поток серьезнейших неприятностей там, в Чикаго. Значит — гибкость и такт! Гибкость и такт, вот что нам нужнее всего сейчас, господа. Летом я выезжаю в Чикаго для прояснения дел. А пока, с учетом сложившейся ситуации, вопреки неразумным и грубым выпадам мистера Гартхена, я принял вполне обоснованное, как мне кажется, выгодное для нас предложение председателя ВСНХ — выделить Советам вместо готовых машин, которые мы обязаны были по договору произвести за лето и осень этого года, эквивалентное количество запасных частей. А именно: двести пятьдесят комплектов ножей к косилкам и жаткам, около тридцати пяти тонн (по русским мерам это около двух тысяч двухсот пудов) других приспособлений и частей…
После того как Гартхен отпустил очередную колкость и вызванное этим возбуждение присутствующих улеглось, Круминг невозмутимо, будто речь шла о текущих будничных делах, добавил:
— Такое решение практически означает, как вы понимаете, временную консервацию производства. Но будучи осуществленной не по нашей инициативе, а по предложению контрагента, она сейчас крайне выгодна для завода, поскольку наличного запаса необходимых узлов и деталей для нормального продолжения работы у нас все равно уже нет. Для этого в любом случае нам необходимо получить его из Штатов. При этом в очень солидных количествах. Если после моей поездки в Чикаго произойдет именно так, это будет означать намерение компании продолжать деловые отношения с Советами и, следовательно, сохранить завод за собой. Если же снабжение завода всем необходимым прекратится, то это фактически будет означать отказ компании от прав на завод, что тоже возможно. Подумайте сами: прежняя стоимость имущества фирмы здесь в сумме свыше шестидесяти тысяч золотых рублей теперь уже не имеет значения: долги с крестьян не получишь, выкупать завод золотом Советы не будут, поскольку интервенция принесла им неизмеримо больший урон. Поэтому вы, надеюсь, понимаете, господа, что согласиться на то, чтобы выдать вместо машин узлы и детали к ним, на время законсервировав производство, было с моей стороны вполне деловым, разумным решением. Выгодность его несомненна…
— Но тем самым вы предоставляете выгоду и Советам, — едко заметил Гартхен. — Такое соглашение позволит им полностью экипировать эшелон для работы в Сибири, а следовательно — и для последующего обеспечения Москвы и Санкт-Петербурга хлебом…
— А вы хотели бы, чтобы Москва, Петроград и рабочие нашего завода голодали? — холодно спросил Круминг.
Гартхен усмехнулся:
— Это их дело…
— Есть такое слово: человечность…
— К дикарям оно не применимо!
— Дикарь в душе страшнее дикаря в джунглях, — резко ответил Круминг. — Но сейчас речь не об этом. Речь о том: выгодно ли нам такое соглашение или нет? Я утверждаю: выгодно. Так же скажет любой здравомыслящий человек. Как вы считаете, господа?
Господа промолчали.
Всовывать голову в узкую щель между Гартхеном и директором не хотелось. После неловкой паузы голос подал только главный бухгалтер Петр Петрович Клетский.
— Я полагаю, что с финансовой и производственной точек зрения это нам крайне выгодно, — сказал он негромко и сел.
Всегда безукоризненно одетый, выбритый, с холеной русой бородкой, в старомодном пенсне и с неизменной изящной папкой из глянцевитого американского прессшпана, он был со всеми подчеркнуто корректен, сосредоточенно деловит. Уклонялся от разговоров, не имеющих прямого отношения к службе, а в служебных делах был педантически придирчив и неуступчив. Позволял себе спорить там, где другие молчали.
Многим это казалось чудачеством, наивной интеллигентщиной, блажью, и, может быть, поэтому Петру Петровичу нередко прощалось то, что не прощалось другим.
Так или иначе, но господин Гартхен после реплики Клетского только недовольно поморщился и промолчал…
С докладами о готовности к севу, а также о ходе обмолота и вывоза в Центр запасов прошлогоднего хлеба в Москву были вызваны представители Сибревкома и Омского продовольственного комиссариата, а также руководители ряда сибирских партийных и профсоюзных организаций.
Приглашен был и Веритеев, к тому времени уже назначенный начальником эшелона.
Он шел на совещание не докладывать, а слушать: эшелон только что формировался, но знать о нуждах и планах сибиряков ему следовало уже теперь, тем более что бывать в Сибири как-то не пришлось: все военные годы «мотался» в Поволжье, на западе и юге страны.
За несколько дней до совещания управделами Совнаркома Н. П. Горбунов попросил у него справку о положении дел на заводе в связи с предстоящей поездкой. Но это, решил тогда Веритеев, потребовалось Николаю Петровичу на всякий случай. Фактически вряд ли кто заглянет в его бумажку. Поэтому он сидел теперь на совещании в сторонке, с интересом вслушивался в то, о чем докладывали товарищи из Сибири.
Совещание проходило на втором этаже, в зале заседаний Малого Совнаркома. Вел его нарком продовольствия Цюрупа.
Занятый срочной работой, Ленин все же время от времени спускался из своего кабинета на второй этаж, молча присаживался в зале на крайний стул и внимательно слушал. Изредка задавал два-три вопроса, проясняющих суть дела, и так же тихо возвращался на третий этаж.
Вид у него был на редкость усталый — с синеватыми обводами под глазами, с резкими «птичьими лапками» морщин. В эту ночь он спал особенно мало, держался теперь только на выработанном годами волевом усилии. А работы, как всегда, оказалось так много, что думать об усталости не было времени.
Представители с мест подготовились к совещанию хорошо. Одну за другой они называли точные цифры учтенного, подготовленного к отправке и отправляемого ежедневно хлеба. Представляли списки готовых и требующих ремонта сельскохозяйственных машин. Называли уезды, где должны будут в дни уборки нового урожая развернуться основные работы при участии эшелонов из Центра, в том числе возглавляемого Веритеевым.
Ленин, бочком сидя на стуле, изредка что-то записывал или помечал в небольшом блокноте, переспрашивал, уточнял, советовал. Иногда сердился:
— Ну как же вы так? Занимаете такой ответственный пост и не вникаете в детали?..
А когда заседание уже подходило к концу, неожиданно обратился к Веритееву:
— Ну-с, а как готовитесь к этому вы? Справку об избрании нового завкома и о разъяснительной работе в цехах и на митингах я читал. Знаю и о переговорах товарищей из ВСНХ с дирекцией завода насчет машин и запасных частей для Сибири. Так что, пожалуйста, лишь вкратце об организационных вопросах…
Молча выслушав, одобрительно кивнул головой.
— А как вы предполагаете распределить своих рабочих в Сибири?
— В зависимости от потребностей на местах…
Занятый множеством внутризаводских дел, Веритеев еще не успел, да и не считал пока необходимым детально думать о таких далеких делах: зачем зря ломать голову до срока? Приедем — увидим. Поэтому только добавил:
— По крестьянским хозяйствам…
— Гм, по крестьянским хозяйствам. — Взгляд карих глаз Владимира Ильича показался Веритееву насмешливо-осуждающим, и ему стало не по себе. — Значит, кто из тамошних хозяев даст свою цену, кого из рабочих у вас запросит, за ту цену его и отдадите?
— Ну да!
— А за какую оплату конкретно? Пуд? Два? Три пуда муки?
— Там сговоримся. Да и товарищи сибиряки обещают помочь.
— Гм… уповаете на других? Выходит все же, что не на ваших, а на крестьянских условиях? При этом взятых, как говорится, с потолка? Право, не ожидал! Опытный партиец, секретарь уездного комитета — и упование на стихийный расчет. Нет, батенька, так нельзя! В любой работе, особенно в нашей, необходимы точность и деловитость. Не общие словеса, не упование на авось, а детальнейшее, даже мелочное изучение, постоянная перепроверка фактов и цифр. К великому сожалению, многие все еще предпочитают надеяться на «кривую», которая «вывезет». А она возьмет да не вывезет! Значит: точность, точность и еще раз точность. Все продумывать и доводить до конца!
Сказанное показалось Веритееву несправедливым: еще не выехали, еще неизвестно, что практически ждет эшелон на местах, а товарищ Ленин уже хочет знать о точных расчетах. Приедем, расспросим и оглядимся. Сибревком с Сибпродкомом этим делом уже занимались, предварительный разговор с ними был, так что мы вместе с ними и будем вести расчет.
«Не беспокойтесь, — почти снисходительно отнесясь к излишней, на его взгляд, требовательности Ленина, мысленно пообещал он. — Будем с хозяевами торговаться за каждую машину, за каждого рабочего! Нужду Москвы в хлебе и жирах мы понимаем, постараемся не прогадать!»
А вслух сказал:
— Мы вместе с омскими товарищами сделаем это на месте! — и вопросительно поглядел на председателя Сибревкома.
— На товарища Смирнова не надейтесь, — усмехнулся Владимир Ильич. — У него голова болит за другие дела. Вначале рассчитать все надо самим, на заводе.
— Ну… тогда, наверное, будем рассчитывать, так сказать, «с головы».
— Ага, «с головы». И сколько же с головы? И с какой головы? Квалифицированный рабочий — одна голова, неквалифицированный — другая.
— В эшелоне их наберется свыше тысячи, — не желая обидеть Ленина, но и не скрывая, что вопросы кажутся ему преждевременными, сказал Веритеев. — Каждую не учтешь!
— Вот и напрасно! — быстро ответил Ленин. — Обязательно надо учесть! — Он просмотрел несколько листков своего блокнота. — По только что оглашенным здесь товарищами из Сибпродкома цифрам нам известны общие запасы наличного хлеба в Сибири. Суммарно известно и количество хозяйств, где будет работать ваш эшелон. Известна и техническая вооруженность… вернее — невооруженность этих хозяйств. Вы до совещания, надеюсь, успели познакомиться с этим?
— Лишь в общих чертах…
— Познакомьтесь детально. При этом очень советовал бы использовать опыт товарища Малышева, работу его барж-лавок на Каме по обмену промышленных товаров на хлеб. Насколько я помню, тогда за основу расчетов бралась стоимость пуда ржи или пшеницы.
Владимир Ильич снова заглянул в почти до конца исписанный блокнот (было видно, что он бережет в нем каждый листок).
— Если не ошибаюсь, рожь в прежние годы продавалась по шестидесяти копеек за пуд. В свою очередь, аршин ситца или готовая ситцевая рубаха стоила, скажем, столько-то. Отсюда естественно и вполне наглядно для крестьянина определялся не только общий принцип ценообразования, но и реальная стоимость каждой группы товаров по отношению к стоимости хлеба или жиров. И наоборот. Видите, как выходит. Наглядно и просто.
— Пожалуй, — еще не вполне понимая, как подобное ценообразование применить к рабочим его эшелона, согласился Веритеев.
— Наглядность особенно важна в расчетах с такими практическими людьми, как крестьяне, — с нажимом заметил Ленин. — Цены на рожь с тех пор изменились. Значит, пропорционально их росту мы без особого труда можем определить и новую цену любого товара при натуральном обмене…
— Но у нас не товар! У нас люди!
— В данном случае условно примем их за товар. И стоимость его придется определять, конечно, не прямо: «Хлеб — рабочий — хлеб», а опосредствованно. По формуле: «Хлеб — деталь молотилки или сеялки — труд рабочего определенной квалификации — хлеб». Для исполнения расчетов мобилизуйте служащих завода. Не верхоглядов и не чинуш, а лояльных, вполне деловых людей. Да и у наркома земледелия товарища Середы, и в плановых органах есть такие. Сегодня же подробно уточните у товарищей сибиряков, где именно и в чем вы сможете принести там наибольшую пользу. В частности: где и какой ремонт машин потребуется прежде всего.
Отсюда легко будет определить, сколько хлеба и других продуктов можно будет изъять за работу вашего эшелона в данном селении, в каждом уезде. В свою очередь это поможет и сибирякам заранее учесть наилучшие способы и сроки доставки хлеба к железной дороге…
Об этом он сказал уже не столько Веритееву, сколько сосредоточенно слушавшим его остальным участникам совещания.
— Все это архиважно. А, к сожалению, едва ли не самая отвратительная черта нас, россиян, — опять не удержался Владимир Ильич от упрека, — всегда заключалась и заключается до сих пор в отсутствии скрупулезной деловитости, в нежелании и неумении довести задуманное до конца. Начать — мы начнем прекрасно! Ума, воображения и энергии — хоть отбавляй! Но столь же умно и энергично довести начатое до завершения… увы, не всегда!
Его мужественное лицо как-то горестно дернулось, один глаз на секунду закрылся совсем. И тут же легкая усмешка пробежала по твердо сложенным, суховатым губам:
— Знаю об этом по себе. Именно поэтому с юности старался выработать неприятнейшую и жесточайшую привычку самоконтроля: ничего не оставлять без проверки, без неоднократного возвращения к сделанному, Вот и сейчас, — он указал на блокнот, в который во время беседы изредка что-то записывал карандашом. — Не доверяя памяти, я записал основное, к чему нам надо будет вернуться некоторое время спустя. Александр Дмитриевич, я вижу, тоже не понадеялся на одну только память, — он кивнул в сторону Цюрупы, который все время записывал что-то в самодельную тетрадочку. — А вы надеетесь все запомнить?
— Памятью не страдаю, — пробормотал Веритеев смущенно. — Вроде бы раньше не забывалось…
— Запись надежнее нашей памяти. Проверено многократно. Очень рекомендую! И, возвращаясь к вашим делам, советую уже сейчас, до отъезда в Сибирь, самым детальнейшим образом определить: какова «стоимость» квалифицированного и неквалифицированного рабочего по отношению к пуду хлеба и жиров. Отдельно — женщины и подростка. Составьте точнейший поименный список по каждой квалификации, специальности, по возрасту. Очень разумно было бы также иметь дополнительный список едущих повагонно. Так вам проще будет с учетом и распределением на местах.
Веритеев с уважением и завистью поглядел на высокого, худого Цюрупу. Вернее — на его самодельную тетрадочку: «Как же я сам-то не догадался сделать такую? Не прихватил с собой ни листочка, а записать действительно надо бы! Вон как старается, а нарком. И заседание ведет, и записывает, и вопросы каждому задает…»
Узкое, слегка горбоносое лицо Цюрупы, обрамленное густыми седеющими волосами, было бледным, усталым, но нарком вел заседание уверенно и спокойно, во время выступлений ораторов всякий раз что-то записывал в своей аккуратной тетрадочке, и Веритеев, огорченно помаргивая светлыми ресницами, виновато оглянулся на сидевшего сбоку Ленина. Тот молчаливо вырвал из блокнота один из последних листочков, взял со стола карандаш, с легкой усмешкой в прищуренных глазах протянул Веритееву:
— Пожалуйста. Ну-с, так как же вы будете это делать?
— С определением стоимости рабочих?
— Вот именно. С точным определением ее еще здесь, в Москве. Дело это, в общем, нехитрое. Обыкновенная арифметика! Судите сами: общий объем продуктов, цены на эти продукты и характер предстоящих работ в общем известны. Кадры свои вы должны знать поименно. Все остальное — нетрудно…
Задержав проницательный взгляд на напряженно вытянувшемся лице Веритеева, пояснил:
— К примеру, квалифицированный слесарь Иванов должен произвести такой-то ремонт молотилки или косилки в такие-то сроки. В переводе на натуральный продукт эквивалентная стоимость его работы в день составит, скажем, десять фунтов пшеницы и семь фунтов смальца. В месяц столько-то. Из определившегося таким образом количества две трети пойдет государству, треть останется у вас для распределения между всеми работавшими по категориям, а также для тех, кто остался в поселке, трудится на заводе. Вы меня поняли?
— Понял…
— Вот и отлично. И тут уж, батенька, надо помозговать. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. И делайте это со тщанием, иначе нельзя. Дело затеяно архиважное не только в хозяйственном, но и в политическом отношении, а сибирские крестьяне народ деловой. С ними без наиточнейших, вполне конкретных расчетов дело вести нельзя. Работа, конечно, большая, — добавил он, как бы исключая возможность уступок в такого рода делах. — Но произвести ее всенепременнейше нужно! Она — половина успеха. Во-первых, вы еще здесь, до отъезда, будете иметь определенную картину того, чем располагаете и, значит, что придется делать там, на местах. Приедете туда по всеоружии, как и подобает руководителям-коммунистам. Во-вторых, повторяю, мужик — человек практического ума. Он захочет знать точно, кого, что именно и за какую цену получит от вас, чтобы не прогадать, не оказаться обманутым. Ясность, еще раз ясность и снова ясность — главное в этом деле. Ну вот… желаю успеха.
Веритеев уже решил, что разговор закончен, сейчас Цюрупа объявит о закрытии заседания, когда Владимир Ильич вдруг снова остановил его:
— А, кстати, как вы организуете самую поездку эшелона? Я имею в виду практическое руководство тысячью с лишним ваших рабочих в пути. Ведь ехать туда, учитывая не только солидное расстояние, но и из рук вон скверное положение нашего транспорта, придется не день и не два. И даже не две недели…
Об этом Веритеев уже советовался со знающими людьми, поэтому вполне уверенно сказал:
— Ну как? Обыкновенно! Состав у нас будет примерно из шестидесяти вагонов, в каждом разместится по двадцать четыре человека, — значит, в каждом вагоне выберем старосту…
— Так-так, — как бы поторопил Владимир Ильич. — Староста в вагоне это, конечно, правильно. Таким образом, каждый вагон станет как бы организованной рабочей ячейкой.
— Вот именно! А все старосты, во главе со мной, и будут руководить людьми в эшелоне.
— А не кажется вам, товарищ Веритеев, что шестьдесят старост это несколько, я бы сказал, рыхлая форма руководства?
— Мы будем регулярно собираться, обсуждать.
— Собираться, конечно, нужно. И обсуждать, как вы говорите, тоже. Но в каком же помещении вы будете собираться в пути? Вагон не каучуковый, верно? А старост шестьдесят человек. Кроме того, кто-то должен их всех оповещать о каждом таком совещании, а само совещание тщательно готовить? И много ли вы сможете провести таких совещаний, скажем, в неделю? Между тем вопросы будут требовать ответов каждый день, каждый час…
— Об этом мы думали. Хотим создать вроде как штаб или коллегию, что ли, в количестве, скажем, пяти-шести человек…
— Хорошо! — одобрил Владимир Ильич. — Такая «штаб-коллегия» сможет не только руководить эшелоном в целом, но и представлять его в партийных и государственных органах власти по пути, а потом и в Сибири. Но и этого мало. — Ленин склонился к блокноту и так же, как перед этим занимался «калькуляцией» обмена «рабочий — машина — хлеб», стал набрасывать карандашом наглядную схему. — Чтоб слаженно руководить эшелоном, необходимо иметь и некую, я бы сказал, фельдъегерскую группу. Сама коллегия будет не в силах, да и не должна одновременно быть вашим курьером. Для этого хорошо бы подобрать пять или десять бойких, надежных молодых рабочих, лучше всего из комсомолии, чтобы они были всегда под рукой…
— Мы и об этом вели разговор! — радуясь тому, что их дела на заводе совпали с советами Ленина, легко подтвердил Веритеев. — У нас такие ребята найдутся: Шустиков, Головин…
— Не сомневаюсь. Теперь представьте себе, что в пути кто-нибудь заболеет. А это при нынешнем положении неизбежно. В Сибири в прошлом году эпидемия одного лишь сыпного тифа захватила около трехсот тысяч человек. — Ленин нахмурился, помолчал. — Это не считая холеры, брюшного тифа и натуральной оспы. И в этом году не лучше. Значит, надо иметь опытного фельдшера, а еще лучше — врача. То есть свою медицинскую часть. А в ее распоряжении изолятор… Ну, пункт первой помощи и нечто вроде буфета, чтобы рабочий смог получить в дороге стакан кипятка, купить кусок хлеба…
— Об этом тоже думали с завбольницей Коршуновым. Постараемся.
— Да уж, пожалуйста!
Некоторое время Ленин молча разглядывал только что набросанный в блокноте чертеж. Потом провел от кружка с надписью «штаб» несколько линий вниз, сделал и там небольшие кружочки.
— Ехать вы будете долго, безтопливными степями. В дороге всякое может случиться. Ну, скажем, что-то испортилось. Поломалось. В пути вы вряд ли где получите необходимую помощь. На местах в этом смысле хоть шаром покати. Еще хуже, чем у нас в Москве. Значит, надо иметь не только свой паровоз со своим машинистом и его сменщиком, но и свою ремонтную бригаду. Скажем, два-три слесаря…
Веритеев молча кивнул головой, старательно копируя набросанную Лениным схему на своем листке: после замечания о необходимости вести точные записи предстоящих дел он теперь старался не пропустить ничего из советов Владимира Ильича.
— И, наконец, было бы очень полезно… вернее, просто необходимо, — заметил в заключение Ленин, — иметь подвижную, хорошо организованную агитбригаду. При ней — небольшую библиотечку с брошюрами, листовками и плакатами. Их вам выдадут, я об этом договорился. Люди в эшелоне разные, многие плохо еще представляют себе, что такое Советская власть и каков политический смысл поездки в Сибирь, не говоря уже об общем положении дел. А кое-кто, полагаю, и недоволен или даже противник Советской власти. Едет он в эшелоне с мыслями об устройстве своих личных дел на манер мешочника-спекулянта… Как вы считаете?
— Есть такие!
— Думаю, что есть. Особенно на таком заводе, как ваш. Вот еще что: драмкружок на заводе есть?
— А как же! Только на днях представляли показательный суд над Советской властью! — похвастался Веритеев.
— И что же? — заинтересовался Ленин.
— Оправдали ее по всем статьям!
— Значит, оправдали? — Владимир Ильич с удовольствием засмеялся, — По всем статьям?
— По всем!
— Гм… ну что же, будем считать, что Советская власть оправдана. А драмкружок в поездке будет очень полезен. Собрать в него надо и тех, кто поет, играет на инструменте, танцует. Подготовить хорошие выступления. Можно и суд. Скажем, над укрывателями хлеба и спекулянтами. Это для сибирских крестьян будет не только наглядная пропаганда и агитация. А хорошее пение или музыка — это и пропаганда хорошего вкуса. Доставить людям удовольствие, разве это не насущнейшая задача таких кружков?..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Для Веритеева и его помощников по штабу наступили нелегкие, хлопотливые дни.
Кроме составления списков, бесед с людьми, подбора руководителей главных служб эшелона, шло оформление правительственных мандатов и других документов, без которых нечего было и думать о поездке на долгий срок, да еще в Сибирь: на каждом шагу — проверка, в каждой губернии — своя власть, особенно за Уралом и Иртышом.
После семнадцатого года туда из Центра мутными волнами откатились тысячи всякого рода «бывших». И эти «бывшие» не исчезли. Они притихли, ждут подходящего часа. Пакостят, где возможно. Вон, — прикидывал Веритеев, — только что на губернском партийном активе представитель Московской ЧК подробно рассказывал, какие заговоры против Советской власти раскрыты за последние месяцы в Москве, Петрограде, на Юге, на Украине, в Белоруссии и в Сибири. Картина внушительная! И каждый заговор неизменно связан не только с меньшевистско-эсеровским подпольем, но и с зарубежной контрреволюцией. В ответ на это ЦК партии и Совнарком вынесли постановление о необходимости выявить и до конца разоблачить перед лицом народов мира истинных вдохновителей Кронштадтского мятежа, а также обнаружить и захватить архив партии правых эсеров, прямых организаторов большинства бандитских восстаний и мятежей.
В особенности тревожно в Сибири. Недовольно разверсткой «справное» крестьянство. Ненавидят Советы сельские богачи. А по недавней переписи населения в Западной Сибири, к примеру, одних только кулаков с пятью десятками десятин земли на душу — больше полумиллиона. Рабочих же там меньше полутораста тысяч. Сколько же скопилось в Сибири ненавистников нашей власти? И как-то встретят наш эшелон в тамошних деревнях?..
Беспокойно размышляя об этом, Веритеев тем не менее с каждым днем все увереннее занимался организацией эшелона.
Когда окончательно определилось, что едет ровно тысяча сто семьдесят шесть человек и что в каждом вагоне можно разместить в среднем по двадцать четыре человека («По-барски едем. Это тебе не сорок человек и восемь лошадей!»), — главным и неотложным делом стало: найти и подготовить для поездки вагоны и паровоз. Если к сорока девяти «людским» вагонам приплюсовать еще те, которые необходимы для запчастей и машин, паровозной бригады с кондукторами, бюро продовольственного обеспечения во главе с Иваном Амелиным, медицинской части, оркестра, а также агитвагона, — то необходим состав не меньше чем в шестьдесят исправных теплушек.
А к ним — надежный мощный локомотив. Не слабосильная старенькая «овечка», которая и на ровном-то месте еле тянет состав в сорок тысяч пудов да еще должна через каждые двадцать — тридцать верст пополняться топливом и водой. Нужен паровоз, способный тянуть вдвое больше, при этом — расходовать минимум топлива и воды, которых негде взять в сибирских безводных, безлесных просторах.
— Да и на что надеяться эшелону в пути, если сразу за Волгой, а тем более за Уралом, белые, отступая, взрывали вокзалы и водокачки, мосты и депо, сжигали составы и выводили из строя все, что могло быть использовано Советами? — озабоченно прикидывал Веритеев на заседаниях штаба. — Товарищ Ленин правильно говорит: «Надеяться надо прежде всего на самих себя. Ко всему подготовиться загодя, здесь, на месте…»
Нечего было и думать, в частности, о том, чтобы менять паровоз и паровозные бригады в пути. При катастрофическом положении железнодорожного транспорта — на всех дорогах страны не было ни одного хоть в какой-то степени лишнего локомотива — добыть такой локомотив, а затем собственными силами поставить его на колеса — немыслимая задача…
И тут Веритееву повезло.
Боевой заводской отряд, командиром которого он был в декабре 1905 года, входил тогда в головную дружину Московско-Казанской железной дороги. Душой дружины был машинист Ухтомский. На сформированном им специальном поезде дружинники наводили революционный порядок в стокилометровой зоне между Москвой и станциями Голутвин и Гжель. Несколько раз они пытались внезапным налетом захватить и Казанский вокзал. Жили в поезде на казарменном положении, сроднились друг с другом. И у тех, кто после 1905 года остался в живых, эта кровная связь сохранилась навечно. Одним из друзей Веритеева по дружине Ухтомского оказался бывший помощник паровозного машиниста Сергей Никаноров, ставший теперь ответственным работником Наркомпути. Он свел его с заместителем наркома Фоминым, тот в свою очередь открыл «зеленую улицу» для поисков паровоза и пригодных для дальней дороги товарных вагонов.
— Поищите, — устало сказал Веритееву начальник Московской сортировочной станции, внимательно изучив бумагу из наркомата. — На путях у нас столько за эти годы наставлено, что сам черт не разберет. Заниматься подбором товарняка для вашего эшелона у меня некому. Что сами отыщете, то и ваше…
И в то время, как Сергей Никаноров вместе с согласившимся повести эшелон в Сибирь и обратно машинистом Никитиным взяли на себя заботы о паровозе, а дорожники Перовских мастерских — в ударном порядке поставить его на колеса, — трое комсомольцев — Антон Головин, Гриня Шустиков и Родик Цветков, гордые тем, что на все время поездки Веритеев назначил их своими связными, «адъютантами» штаба, — во главе с членом штаба слесарем-сборщиком Фомой Копыловым стали день за днем, как охотники за красным зверем, рыскать по заставленным вагонами запасным путям Сортировочной.
Ребята не меньше недели тщательно осматривали, обстукивали, помечали мелом обшарпанные, замусоренные теплушки, пока не набралось необходимое количество более или менее пригодных. Когда их перегонят в поселок на запасную заводскую ветку, каждая из теплушек будет еще более тщательно проверена, выскоблена, а затем починена — сделана почти заново: жить в них придется не только в пути, но и в безлюдной степи на глухих полустанках, в жару и в холод. Надо все сделать так, чтобы каждая из теплушек стала надежным домом для тех, кто войдет в нее в день отъезда и в ней же потом вернется в родной поселок…
Некоторое время вместе с ребятами поиском вагонов добровольно занимался и Филька Тимохин. После исключения из комсомола за кражу новиковского ремня Веритеев не включил его ни в число «адъютантов» штаба, ни в группу поиска вагонов. Тем не менее парень с видом незаслуженно пострадавшего человека сам в первый же свободный от работы день увязался за друзьями на Сортировочную. Вначале он плелся за ребятами сзади, делая все, чтобы вызвать к себе сочувствие: «Глядите, что вы сделали с человеком, — было написано на его унылом лице. — А еще считается, что друзья. И из- за чего? Из-за какого-то там буржуя… Ремень у него стащил… Ну и что?» Но это не помогало: ребята вместе с усатым Фомой Копыловым были так поглощены поисками теплушек, так самозабвенно рыскали по забитым составами путям, что им было вовсе не до жалости к Фильке. Да и самому «Епиходычу» этой вынужденной унылости хватило ненадолго.
Без особого интереса ныряя вслед за приятелями под разномастные вагоны, он неожиданно наткнулся на нарядный состав из желтых спальных вагонов.
— Господские… ишь ты!
Толкнул от скуки одну из дверей — оказалась незапертой. Вошел в салон — и поразился: вот красота! Не привычные деревянные скамейки, а мягкие диваны, обитые шелковистым узорчато-тканым плюшем.
— Ездили же баре, туды их сюды! — не удержался от брани Филька. — Одно и сказать: буржуи!
Он с любопытством и одновременно не то со злостью на богачей, не то с завистью к ним пощупал сверкающий плюш грязными, как всегда, но цепкими пальцами. Поковырял обшивку в углу черным ногтем. Присел на диван, покачался.
— Мягко-то как! Ну-ну! Богато, сволочи, жили! Жили, да сплыли, — решил он со злым удовлетворением. — Теперь такие вагоны нам ни к чему: рабочий человек, он и в обыкновенных вполне проедет. А этой штукой если обить, например, табуретку или обшить сенник, на котором сплю… вот будет клёво!
Он вновь покорябал пальцем сверкающий плюш. И едва не подпрыгнул от вдруг озарившей мысли:
— Хо! Лучше всего повезти эту штуку в Сибирь! За каждый аршин чалдонки дадут по мешку крупчатки…
До этого дня его все чаще сухотила унылая мысль: с чем ехать в Сибирь? Надежды на новиковский ремень окончательно рухнули в тартарары в тот день, когда строгий Миша Востриков в поисках украденных дров заглянул и к Фильке («проверять надо всех, в том числе и себя!»). Заглянул — и в сенях «застукал» мешок с остатками ремня, а во дворе — дрова, украденные Клавкой.
Дрова отвезли в исполком. Ремень — тоже. И за него — исключили Фильку из комсомола. А кроме ремня, других вещей для обмена в Сибири попросту не осталось: все, что могло сгодиться для этого, давно уплыло на местный базарчик в обмен на хлеб и конскую колбасу.
Единственное, что пока оставалось в запасе, были бабкины крестики. Но Филька лишь позже, уже в пути, узнал их великую цену, а в эти весенние дни, собираясь в дорогу, они показались ему ненужными, хотя и забавными пустяками: ну что они, крестики? Хотя, конечно, может, и пригодятся, все равно зря валялись у бабки Ефимьи в ее сундуке…
К этому сундуку влекло Фильку с детства, и в прошлом не раз после долгих, настойчивых уговоров строгая бабка позволяла ему в добрую минуту заглянуть в заветный сундук. Повернувшись к внуку спиной, задрав тяжелую черную юбку, она неведомо откуда извлекала большой медный ключ, вставляла его в замочную скважину, несколько раз поворачивала и, когда раздавался торжественный звон пружин, поднимала окованную железом крышку.
В сундуке пахло ладаном и какими-то пряными травами — чем-то нездешним, влекущим, исполненным тайны. Потом начиналось неторопливое, тоже по-своему таинственное рассматривание вещей. Кроме бабкиной праздничной одежды, справленной, похоже, еще в молодые годы да так и не изношенной до старости, здесь были ее пожелтевшие от времени венчальные свечи, засохшая пальмовая ветка, привезенная старухой из паломничества «ко гробу господню», несколько крупных деревянных крестиков «из святого ерусалимского кипарисия», затертый кусочек бархата из Николо-Угрешского монастыря от какой-то «святыни, коей цены нет», каменной крепости просвирка величиною с детскую голову и многое в этом роде.
— Сожру хоть просвирку! — решил в тот день вечно голодный Филька, ожесточившись на всех после исключения из комсомола. — Зачем она бабке?
К его удивлению, сундук оказался незапертым. Видно, бабка куда-то заторопилась. А вернее всего, по старческому скудоумию своему, как с ухмылкой подумал Филька, просто забыла запереть свою самую драгоценную вещь. Массивный старинный ключ торчал в скважине открыто.
Заглянув во все углы старенького холодного дома и убедившись, что бабка, похоже, отправилась в церковь, парень открыл сундук. На него привычно пахнуло с детства знакомым волнующим запахом ладана и чего-то еще, что и в детстве, и теперь почему-то волновало и притягивало к себе. Но внюхиваться в эти запахи сейчас у парня не было времени: до возвращения бабки надо найти хоть что-нибудь подходящее для еды. Вначале он аккуратно переложил справа налево бабкины праздничные платки да юбки, сунул руку на самое дно. Осторожно пошарив, нащупал каменный колобок знакомой просвирки, вынул его, понюхал, потом лизнул — и сунул в карман: «Бабка об этой просвирке небось давно уж забыла, искать не станет. А если и хватится — мыши, мол, съели! — подумал он, ухмыльнувшись. — С мышей взятки гладки!»
Больше в этом углу сундука не нащупалось ничего. Тогда он переложил все верхние вещи слева направо и снова сунул руку на дно. Сунул — и удивился:
— Чего это бабка набила железками цельный мешочек? Его, я помню, вроде не было в сундуке, появился недавно! — и вытянул находку наружу.
В бязевом мешочке оказалось ровно сто двадцать четыре медных церковных крестика. Сам еще не зная зачем, Филька сунул их за пазуху и только потом подумал: «Может, и пригодятся? Лучше что-то, чем ничего…»
И вот теперь новый счастливый случай привел его в барский вагон, к сверкающим плюшем диванам. Что крестики по сравнению с этим? Тут истинно ценнейшая вещь! Может, даже лучше, чем тот ремень! За каждый аршин в Сибири дадут по мешку крупчатки. Ух, повезло…
Он нежно погладил золотисто переливающуюся ткань:
— Буржуйская вещь в Сибири будет в цене! И раз всем буржуям крышка, то и всему буржуйскому кончики! Что было ваше, то стало наше! — добавил он с привычным в таких случаях веселым смехом. — Не я, так другие возьмут. Значит, уж лучше я…
Он попробовал оторвать обивку со спинки дивана руками. Не получилось: не поддается. Надо ножиком. Им можно аккуратно располосовать хоть цельный вагон…
В тот же вечер, наскоро съездив в поселок и тут же вернувшись обратно с мешком за пазухой, Филька уже в сумерках, почти на ощупь, вырезал плюш перочинным ножиком с обоих диванов, сунул добычу в мешок и долго петлял по пустынным путям, пока не вышел на дачную платформу Сортиворочной.
На другое утро, решив «по болезни» не идти в пекарню, где заведующий Иван Сергеич следил теперь за пекарями особенно строго, он опять поехал в Сортировочную с твердым намерением — «обработать» дивана четыре: уж очень хороша оказалась штука, когда он дома положил все четыре куска на свою железную койку, а завистливая Кланька — так, дьяволенок, и заегозила, так и заохала при виде редкостной красотищи…
Недалеко от заветного состава парень незаметно отстал от ребят, огляделся.
Нет, никого. Да и кому тут быть, на этом железном кладбище?..
Но едва он нырнул под ближний вагон, чтобы оттуда пробраться к заветным «желтеньким» (так он нежно называл про себя «свои» вагоны), как вдруг оказался лицом к лицу с дорожным охранником. Придерживая перекинутый через плечо ремень старой, наверное даже и не заряженной, берданки, тот грозно крикнул:
— Стой! Кто таков?
— А я-то? — растерянно пробормотал и попятился Филька.
— Чего здесь шуруешь?
— Чего я шурую?
— Мешок для чего?
Охранник решительно напирал на Фильку. Даже сдернул берданку с плеча, явно намереваясь задержать подозрительного парня с воровато бегающими глазами: не этот ли вырезал в особом составе плюшевую обивку?
Нюх на такие дела давно уже выработался у «Епиходыча» собачий. Он без труда сообразил, что к чему, и с простодушным, даже с дурашливым видом обиженно протянул:
— Чего ты, дядя, пристал? Мешок как мешок: может, думаю, где кусок уголька найду? Дома-то, знаешь? Топить печку нечем. Да я тут и не один: четверо нас. Теплушки для эшелона подбираем. По разрешению. Заводской эшелон… слыхал?
— Это который в Сибирь, что ли?
— Ну да. Я вместе с ребятами. Эно они там шастают во главе с Копыловым. А я чуток поотстал… насчет уголька, говорю.
— Нету здесь уголька, — строго сказал охранник. — Без тебя подобрали. А раз со всеми пришел, со всеми там и ходи. Да и какой уголек в темноте? Нечего зря по путям шеманаться…
— Я уж и ухожу…
— И уходи. А то знаешь, как оно с этим теперь? Нарком-то ныне Дзержинский. За порчу железнодорожного имущества воров и бандюг ставим сразу к стенке!
— Ага…
— Ну то-то…
Провожаемый внимательным взглядом охранника, парень деловито заторопился прочь. Потом постоял, сделал вид, будто определяет на слух, где сейчас могут находиться свои ребята, негромко, но так, чтобы охранник услышал, удовлетворенно пробормотал:
— Ага… там они! — и нырнул под вагон.
Дома он тайком от домашних и особенно от пронырливой, жуликоватой сестры спрятал драгоценные куски плюша под свой слежавшийся за годы сенной матрасик, и все остальное время, пока эшелон готовили в путь, его не покидало сознание того, что сам-то он в этот путь собрался, в общем, неплохо. Сиди теперь в теплушечке, посматривай вокруг и не теряйся. На каждой наре, да и во всем составе — только свои. В такой семейке и черт не страшен. Можно ехать хоть прямо в ад, к дьяволу с бабкой ведьмой…
Фома Копылов и его «адъютанты» не обратили в тот день внимания на исчезновение Фильки.
Ну — отстал, ну — надоело ему плестись за ними от теплушки к теплушке, взял да вернулся домой. И правильно сделал: управимся без него. Да и некогда заниматься пустым утешением жуликоватого приятеля…
До самого вечера, а потом и еще несколько дней, они продолжали свой повагонный обход путей — осматривали, обстукивали, как придирчивые врачи, каждую более или менее подходящую для дела теплушку, пока в аккуратном списке Фомы не набралось ровно шестьдесят штук.
Неделю спустя их одну за другой стали подгонять в поселок на заводскую ветку. С проломанными боками, крышами и полами, облезлые, грязные, они все дальше выстраивались ржаво-розовой чередой от ворот хозяйственного двора завода к пакгаузам местной железнодорожной станции. А когда заводской гудок извещал округу о конце рабочего дня, сюда прямо из цехов шли с топорами, пилами, рубанками, паяльниками, сверлами, гвоздодерами, стамесками и другим инструментом плотники, слесари, сварщики, поломойки: вагоны приводились в порядок своими силами, безвозмездно, во внеурочное время.
С вечера дотемна не умолкало здесь смачное тюканье топоров, дробил сыроватый воздух перестук молотков, скрипели и бренькали дерево и железо. К тем, кто работал, сюда приходили с вареной картошкой и чаем жены. С помощью и советом заглядывали друзья по цеху. А те из поселка, кому пока нечего было делать, в остаток дня забегали просто побалагурить: здесь, как на ярмарке, с каждым днем становилось все оживленнее и шумнее.
Необходимые для ремонта вагонов материалы отпускал вместе со старшим кладовщиком Бублеевым и штабс-капитан Терехов, называвшийся теперь складским рабочим Тепловым.
Делал он это, в отличие от Бублеева, молча, почти с отрешенным видом ко всему равнодушного человека. Но в душе его все кипело. И в то время, как Бублеев (который несколько раз намекал своему помощнику, что-де вскоре здесь будут крупные перемены) со злостью отпускал по накладным доски и ящики с гвоздями или выкатывал из недр складского сарая сверкающие заграничными этикетками банки с краской и при этом язвительно подковыривал и даже материл рабочих, — в отличие от него Терехов лишь до боли прикусывал белыми зубами тонкие злые губы: вот и пришлось ему, сыну потомственного дворянина, прислуживать красным, вместо того чтобы ставить их к стенке.
«Всех ставить к стенке! — холодея от неутоленной злобы, раздумывал он. — И этого измазанного машинным маслом, пропахнувшего потом усатого слесаря Копылова. И того вон, из волочильного цеха. И этого чистенького деревообделочника, еще даже и не успевшего стряхнуть с ватника опилки, но уже спешащего к тем проклятым вагонам! Всех — одного за другим! Взорвать бы и главные цехи завода — в подарок кокетничающему с красными Крумингу. Одновременно поджечь скотские вагоны, возле которых копошатся и стучат топорами до поздней ночи эти ненавистные, деятельные, веселые, оборванные и голодные люди, продавшиеся большевикам. Вначале уложить здесь этих, потом поехать в Москву и там тоже перестрелять кого надо. Не вышло у Фанни Каплан, может быть, вышло бы у меня. После этого хоть и сам встану к стенке: геройская смерть!..»
Он не мог простить себе постыдной трусости в ту трагическую ночь, когда корпус генерала Звенявского, с ходу отбив у красных одну из казачьих станиц после удачной переброски врангелевской армии через Азов на Кубань, чтобы затем совершить победный бросок на Екатеринодар, внезапно сам оказался атакованным и почти полностью уничтоженным конниками Буденного. А он, штабс-капитан Терехов, адъютант командира корпуса, — спасся. Спасся лишь чудом, благодаря постыднейшей трусости. Спросонья, в одном белье, бросив на милость судьбы своего генерала, он незаметно выскочил из летней пристройки к хате, где спал на открытом воздухе, ткнулся в заросли черешника, потом в сыроватые от росы огородные грядки соседнего база, оттуда переполз через глиняный загат в чьи-то виноградники и уж потом через них — в садик местного батюшки Иоанна, который и спрятал его на своем горище.
До мельчайших подробностей помнил он и тот мучительно-стыдный, воистину крестный путь, который пришлось преодолеть потом из Кубани до Подмосковья с документами якобы возвращающегося домой после разгрома белых красноармейца Теплова. В завшивевшей, провонявшей солдатским потом и кровью шинели, с якобы раненой головой, туго забинтованной грязной тряпкой, среди дымящих махоркой, митингующих на каждой станции красноармейцев, он молча добрался наконец до Москвы. Вернее — до узловой подмосковной станции Люберцы, недалеко от которой, в дачном поселке Малаховка, на берегу живописной речушки, стояло унаследованное еще отцом от деда именье Сиреневка. Здесь он надеялся застать кого-нибудь из родных, связь с которыми оборвалась роковой для России осенью семнадцатого года, когда он был на Юго-Западном фронте: в те времена было не до переписки с родными…
И вот оказалось, что никого из родных — ни отца с матерью, ни сестер — в Сиреневке уже нет. Вместо них там разместился интернат бездомной, шумной и веселой, как все эти красные, рабочей босоты. Новая власть дала им пять лошадей, среди которых Терехов сразу узнал и двух любимцев отца. Пленный словак — крупный рыжеволосый мужик с мясистым лицом («как видно, местные мужики еще не вернулись с фронта, — отметил про себя Терехов, — поэтому вместо них в хозяйство взят пленный!») — учил ребят ухаживать за лошадьми, обрабатывать землю. А в тот декабрьский день, когда штабс-капитан с замирающим сердцем обошел свою прежнюю усадьбу, потом побеседовал и со словаком — спокойным, довольным своей судьбой светловолосым здоровяком, — кое-как одетые подростки выбирали из конюшни навоз, возились возле заляпанных им саней, запряженных тереховским рысаком. На вопрос: «А нет ли здесь кого-нибудь из бывших хозяев?» — краснощекие мальчишки с девчонками дружным хором ответили, что бывшие хозяева Сиреневки удрали к капиталистам и что теперь хозяева тут — они…
К счастью, на одной из богатых дач (для Терехова было открытием, что по решению большевистского правительства дачные владения не подлежали конфискации у их бывших хозяев) нашелся знакомый инженер, работавший теперь в каком-то наркомате. Он посоветовал, а потом и помог временно скрыться в Николо-Угрешском монастыре, настоятель которого, а еще больше митрополит Макарий, перебравшийся туда из Москвы до лучших времен, оказались людьми «в высшей степени интеллигентными», понимающими что к чему. Вместе с ненавидящим большевиков патриархом Тихоном митрополит делал все, чтобы отвратить верующих от большевистской заразы, был главой тайного церковного общества, связанного в Москве и Петрограде со светской подпольной организацией, готовившей к лету двадцать первого года решающее восстание.
Провал Кронштадтского мятежа научил их многому, и теперь «помазанные на подвиг» заговорщики занимались подготовкой сокрушительного удара не только сами, не только с готовыми на все боевиками, но и с массами верующих — через листовки, поповские проповеди, беседы «христовых невест» в деревнях и квартирах горожан.
Нетерпеливому штабс-капитану этого было мало. Возня с листовками показалась ничтожной, а жить в монастыре среди ленивых, тупых монахов на положении смиренного послушника вскоре стало просто невыносимым: хотелось большого, настоящего дела. История с избиением четырех сопливых мальчишек из местного исполкома (так он про себя называл друзей Миши Вострикова) лишь ускорила это решение: монастырь вдруг оказался «под обстрелом» двух строгих комиссий. Но как оказалось, это произошло совсем по другой причине: всезнающий Бублеев рассказывал, что на днях милицией был задержан курьер Московской синодальной канцелярии с пачкой отпечатанных в типографии антисоветских листовок. Среди них — очередное обращение патриарха Тихона к верующим с призывом «не допускать безбожных большевиков к святым церковным ценностям», «вставать силой на силу против безбожного большевизма». Облаченный в скромную гражданскую одежду, курьер не то направлялся куда-то с этими листовками, не то приехал с ними в Москву, но по дороге неумеренно хватил самогона в притоне на Домниковке, поскандалил, потом подрался с милицейским патрулем. При обыске в его сумке и были найдены листовки. Ими, по утверждению Бублеева, занимался сам Дзержинский. Теперь вместо монахов в монастыре будет создана детская трудовая коммуна…
Терехову представилась родная Сиреневка: веселые лица мальчишек и девчонок из школьного интерната… любимый жеребец отца по кличке Ляруа, запряженный не в изящный двухместный экипаж, в котором отец ездил летом даже в Москву, а в загруженные навозом сани… Представил, как такие же веселые мальчишки из простонародья теперь займут монастырь, и вселит их сюда Дзержинский… Представил — и сердце больно сжалось от злобы: значит, надо бежать и отсюда.
Бежать, бежать…
Но куда?
После разгрома Врангеля и состоявшейся наконец, хотя и временной, зыбкой, но все же официальной договоренности о мире между большевиками и паном Пилсудским, пробираться на юг и запад не было смысла: перспектив для борьбы там не стало.
Вернее всего — Сибирь.
То, что поднятый в начале этого года мятеж генерала Белова не удался, Терехова не пугало: он ни минуты не сомневался, что на вольных просторах богатой Сибири и после подавления этого мятежа осталось в подполье и будет упорно готовиться к новому, еще более подготовленному восстанию немало других подлинно патриотических сил, до конца верных если не царскому, то веками установившемуся в России порядку тех, кто владел и должен владеть всеми богатствами, кто сосредоточил в своих руках государственную власть и вел Отчизну к всемирной славе…
Значит, надо туда. И какая удача, — раздумывал он теперь, — что именно в те места направляется эшелон. Доехать в нем до Омска или Ново-Николаевска, незаметно исчезнуть из пролетарской теплушки, пойти по адресам, которые, как оказалось, имелись у господина Гартхена благодаря расторопности его экспедиторов и контролеров, разъезжающих по стране в связи с нередкими (а иногда и нарочно спровоцированными) рекламациями с мест на неисправность машин, связаться с надежными людьми и на время снова уйти в подполье, чтобы затем подготовиться наконец для решающего удара.
Эти мысли приносили Терехову успокоение, укрепляли веру в конечный успех. С ними легче было переносить и унизительное положение «прислуживающего большевикам». Постепенно он даже стал привыкать к этому положению, выработал в себе необходимое для «великого и святого дела» терпение, когда вдруг в один из солнечных дней все это едва не разлетелось вдребезги: на завод опять приехал — теперь уже с напутственными словами — председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин…
Об этом Терехов узнал позже всех — от Бублеева, когда вдруг не вовремя взревел заводской гудок и сразу же привычный однотонный шум цехов как-то устало рассыпался и затих.
— Ихний «президент» приехал! — с кривой усмешкой на грубом костистом лице сообщил Бублеев, вернувшийся из конторы, куда вызывал его Гартхен. — Их «Всероссийский староста». Будут митинговать…
И выругался.
Все в Терехове вдруг дрогнуло и напряглось: «А что, если?.. Какой превосходный случай…»
Свой заветный маленький браунинг в карманной замшевой кобуре, подаренный отцом еще в те годы, когда Терехов был гимназистом, штабс-капитан в первый же день появления на заводе спрятал в темном углу складского сарая: держать оружие при себе он боялся. Это была единственная и самая дорогая вещь, которую он сумел сберечь в эти страшные, сумасшедшие годы. Она была и сладким напоминанием о доме, о прежней жизни. Она же в горькие минуты питала мысли о мести тем, кто посмел посягнуть на его счастливое прошлое и все настойчивее отнимает надежды на будущее. Но она же, эта заветная вещь, могла стать и его спасительницей от позора на тот безысходный случай, если он вдруг окажется в руках врагов и для него, гордого русского офицера, останется единственный выход — пустить пулю в лоб…
Он берег этот браунинг для себя. Но вот — на завод приехал их «Всероссийский староста», президент нищеты. Не пришел ли час мести?
— Может, пойдем и взглянем на этого президента? — с прежней злой, возбужденной усмешкой спросил Бублеев. — Видел я его сейчас на плакате. Мужик мужиком…
Как и в первый приезд Калинина месяц назад, митинг был назначен в цехе цветного литья — самом чистом и светлом на заводе. Сюда пришли не только рабочие завода, но и представители местной власти, предприятий и организаций уезда. В небольшом, аккуратном цехе все не вместились, многие толпились у входа, цеплялись за плечи товарищей и вытягивали шеи, чтобы лучше разглядеть знакомое по портретам лицо уважаемого в стране человека.
Терехов пришел сюда уже после того, как все в цехе и возле него было заполнено до отказа. Ему с трудом удалось протиснуться сквозь чуждую ему толпу рабочих лишь к самому входу в цех и встать рядом с каким-то мужиком, пропахшим сырой овчиной. Нечего было и думать достать отсюда пулей из дамского браунинга. «Да и надо ли? Не разумнее ли поберечь себя для более крупной акции во имя святого дела?» — решил он, не без опаски оглядывая сгрудившихся вокруг людей.
Калинин стоял в центре цеха на ящике, поставленном вместо трибуны, и некоторое время молча оглядывал сквозь стекла очков в простой железной оправе густо обступивших его рабочих. Передних он видел ясно. Это были худые, плохо одетые люди с одинаковым выражением напряженного ожидания на серых, давно не бритых лицах. Рядом и далеко за ними, взобравшись на ящики, формовочные приспособления и станки, плотной толпой стояли и сидели другие.
Те, кто был помоложе и посильнее, влезли по плечам товарищей на балки и переплеты цеховых перекрытий, на выступы закопченных, покрытых инеем стен, и тоже нетерпеливо ждали: что-то скажет им в этот раз «Всероссийский староста», Михаил Иваныч Калинин?
В рассеянном свете цеха дальние ряды виделись Калинину смутно. Он не столько видел, сколько по гулу я шелесту голосов догадывался о том, с какой жадностью, почти исступленно ждут от него слова одобрения и надежды.
Завод — чужой, но он понемногу работает. Это наглядный, убедительный пример разумной и деловой политики Советской власти по отношению к зарубежным промышленникам и дельцам: вот вам, господа, живое свидетельство того, что Советская власть не страдает фанатической замкнутостью. Она готова иметь дело не только с Мак-Кормиками, но и с любыми другими представителями деловых кругов Америки и Европы, заинтересованными в обоюдовыгодном использовании богатств и рынков сбыта в красной России. Так на так, господа! Двери для серьезных деловых людей у нас открыты. И если по договоренности с дирекцией мы временно приостанавливаем работу на заводе, отправляем рабочий эшелон в Сибирь, то это тоже на обоюдную пользу. С осени, если хозяева завода не потеряют рассудка от ненависти к Советам, как они потеряли его в 1917 году, если они обеспечат завод запасными частями и сырьем, как это предусмотрено договором, то производство машин можно будет снова пустить на полную мощность…
Думая об этом, Калинин отчетливо помнил лицо и голос Владимира Ильича во время их вчерашней беседы, его настойчивые слова о том, чтобы каждый из тех, кто поедет с заводским эшелоном в Сибирь, чувствовал себя солдатом великой рабочей армии на фронте трудовой смычки не только с беднейшим, но и со средним крестьянством, которого в Сибири подавляющее большинство. Дело не только в хлебе. Этой поездкой нужно доказать сибирскому крестьянину, пока что разуверившемуся во всем, недовольному Советской властью, — доказать этому крестьянину необходимость союза с рабочим классом центра страны, показать нерушимую классовую сознательность и сплоченность рабочих, всемерно крепить трудом и личным примером… да-да, личным примером каждого — крепить трудовое рабоче-крестьянское братство, особенно с беднотой…
Близоруко щурясь, Михаил Иванович в последний раз оглядел стоявших перед ним рабочих. Вскинув рано седеющий клинышек бороды, оглядел и тех, кто стоял в широко раскрытых дверях, и тех, кто устроился на станках, располагался на перекрытиях под самой крышей, затемняя и без того сумеречный свет, льющийся с неба сквозь стеклянную крышу цеха. Острое чувство горячей симпатии, почти отцовства к этим полуголодным, плохо одетым людям ощутимо хлынуло в сердце. Он подавил невольный горестный вздох и мягко, но так, чтобы слова его внятно прозвучали в притихшем цехе, произнес:
— Товарищи рабочие!
В цехе и за его стенами было тихо. Только неумолчное татаканье заводской электрической станции далеко за складами и едва уловимые, как сонное бормотание, каждодневные шумы поселка, слившиеся в ровный, невнятный гул, доносились сюда, не заглушая негромкий голос Калинина.
Рабочие стояли вокруг «Всероссийского старосты» молча. По их лицам он видел, что они соглашаются с ним, понимают его, верят тому, о чем он говорит от имени партии и Владимира Ильича, уяснили необходимость поездки в Сибирь и особенно рады, что на время поездки за ними здесь сохраняется средний заработок, а в Сибири каждый из них получит за добросовестную работу немало муки и жиров, да еще сможет отправить раз в месяц продуктовую посылку домой…
Спокойная, добрая речь его ничем не напоминала привычную буйную митинговщину. Он говорил по-домашнему просто, доверительно. И так же доверительно слушали его они — больше полутора тысяч изголодавшихся, но не потерявших надежду на лучшее будущее рабочих людей.
Закончив, он осторожно нащупал ногой край ящика (при этом едва не наступил на Антошку Головина, успевшего примоститься здесь еще до начала митинга) и под приветственные хлопки и выкрики сошел на землю.
Тогда к ящику стали выходить другие ораторы — представитель ВСНХ, председатель местного Совета, рабочие и работницы с воспаленными от бессонницы глазами.
Все уже было сказано, все было ясно, и когда одна из работниц прямо из толпы попросила слова, ей весело крикнул откуда-то сверху насмешливый парень:
— А ну, тетка Настасья, ляпни и ты что-нибудь покрепче!
— И ляпну! — крикнула та в ответ. — Ляпну я, дорогие, вот что: вы-то уедете, а мы тут останемся на картофельных очистках да на воде… ладно! Как-нибудь прокормим за это время детишек да стариков. Дел и на заводе нам хватит. Как сказано, будет происходить учет и ремонт всего. Нашими, чай, руками-то будем все это делать. Поэтому ты, Вавилов Матвей, — она подняла туго повязанную теплым платком голову кверху, поискала глазами веселого парня.
— Тут я, — крикнул тот под хохот других парней, свесив голову с верхней балки. — Вона где, в облаках…
— Ага, значит, возле господа бога? Так вот, молодец, коли ты поедешь…
— Поеду!
— Ну, поезжай. Да только там не шалберничай, а работай. Привези хлеб по-честному, как просит Михаил Иваныч. Чтобы твоей мамке с Анюткой и нам в наших семьях не погибать с голоду в новую зиму. Чтобы с вами, такими вот бойкими, не чертыхаться…
— Не бойся, тетка Настасья, — вновь подал голос Мотька Вавилов, парень «из облаков». — Мы во как работать будем! Не привыкать!
Вокруг смеялись, кричали, кто сердитое, кто веселое, а когда опять приутихло и к ящику стал протискиваться местный оратор, слушать его не стали:
— Хватит!
— Все ясно!
— Пуская опять Михаил Иваныч!
— Давай, заключай, Калиныч!..
Уже начинало темнеть, когда, оглядевшись, чтобы в последний раз охватить одним взглядом всех, кто стоял вокруг, Калинин сильнее, чем говорил до этого, почти торжественно произнес:
— Перед тем, как ехать сюда, я говорил с Владимиром Ильичей Лениным. Он просил передать вам, что вы являетесь сейчас одним из боевых отрядов той армии, которая едет на фронт непосредственной смычки с трудовыми массами крестьянства. Мы даем вам ответственные документы. Вас никто не тронет в пути ни туда, ни обратно, когда повезете свою долю хлеба домой. Но каждый из вас, как это правильно сказала только что уважаемая Настасья… извините, не знаю отчества, — он поискал взглядом пожилую работницу, — каждый должен помнить о своей рабочей чести и ехать в Сибирь не как мешочник, а как полномочный представитель революционного пролетариата. То есть с идейной и политической целью. Оправдайте же в поездке доверие Советского правительства. Во имя революции, ее укрепления и развития — крепите братскую смычку рабочих и крестьян…
Десятки рук подхватили Калинина, и хотя он просил: «Не надо… зачем вы? Я превосходно и сам дойду… ну полно! Да хватит!» — его понесли над толпой и так, на руках, бережно вынесли из цеха мимо низко опустившего голову, напряженно сжавшегося Терехова — под уже темнеющее, мигающее огоньками звезд весеннее небо.
Когда машина, зарокотав и пустив клубы дыма, отошла, мужик в овчинном полушубке, стоявший рядом (это был Бегунок), с широкой улыбкой на бородатом лице повернулся к Терехову:
— Вот и повидал я, браток, послушал Калинина!
Терехов молча кинул на Савелия угрюмый ненавидящий взгляд: радуется и счастлив дикарь. Еще бы: их президент — мужик, и этот — мужик. Вот он, лик большевистской Совдепии. И они, такие вот, взяв власть, хотят стать хозяевами России? Немыслимо! Невозможно! Нет, надо, надо скорее в Сибирь…
— Ленина слушал, теперь Калинина довелось… Ох, слава те господи! — истово перекрестившись, продолжал между тем бородач. — Теперь в самый раз и домой, в Мануйлово. Сам-то ведь я, браток, из Сибири, — доверчиво пояснил он Терехову. — Да вот замешкался. Загостился тут у Платона Головина. Теперь охота назад. С эшелоном поеду. Уж больно все ладно вышло!
До судорог в пальцах сжимая браунинг в кармане ватника, чтобы сделать оружие незаметным, Терехов молча шагнул от Савелия прочь, в сторону хозяйственного двора: ему не о чем было разговаривать с этим счастливым сибирским бородачом…
Одним из тех, к кому по приезде в Сибирь следовало обратиться без опасения быть выданным советским властям, Верхайло под строжайшим секретом назвал Терехову сына оренбургского казака, есаула Ярскова.
— Умен и надежен, — сказал Верхайло. — Можешь на этого положиться…
Ярсков действительно был умен и надежен. После первого разгрома армии оренбургского атамана Дутова ему удалось бежать в Сибирь. Там он воевал в одной из частей колчаковской армии. А когда летом девятнадцатого года Колчак был разгромлен под Петропавловском, Ярскову снова пришлось бежать, теперь уже за Тобольск.
Голодный, небритый, оборванный, он в одной из маленьких северных деревень прижился в теплой избе солдатки Домны Суконцевой. Еще не старая, до предела уставшая за годы войны от вдовьего одиночества, добрая женщина сразу же привязалась к раненому, еле живому «солдатику». Она без труда записала его в волсовете своим «мужиком» Авдеем Суконцевым, всю зиму обхаживала, откармливала — не могла наглядеться. А когда в Сибири до самого Забайкалья утвердилась Советская власть, Ярсков отпросился у «женки» съездить якобы к папаше в Челябинск. Уехал — и не вернулся: вместо Челябинска он устроился агентом в Тобольской заготконторе, а месяцев через шесть перевелся в Омск.
Еще в деревеньке, живя у Домны, до ломоты в висках обдумывая, как теперь быть, он пришел к единственно верному в его положении выводу — не таиться в деревне, где ты у всех на виду и где рано или поздно тебя найдут. Отсюда надо бежать. Не домой в Оренбуржье, где тебя знают, но и не в новый медвежий угол вроде Домниной деревеньки, а в город. В самый большой: в толпу. Устроиться в городе под именем бедняка Суконцева на какую- нибудь небольшую должность, заслужить доверие начальства, а тем временем — поискать надежных дружков. Из таких же, как сам. А их найдется немало! Большевики — не надолго: лето двадцатого — все решит! Если же и оно не решит, то решит двадцать первый год: борьбе еще не конец, ей только-только начало…
В Омске, как и в Тобольске, мало интересовались тем, откуда и почему приехал сюда раненный на недавней войне Суконцев. Достаточно было того, что он сразу же проявил себя человеком дельным, сообразительным, безотказным. Готовым и на такую нелегкую, даже опасную по тем временам работу, как разъездной заготовитель местного потребсоюза.
Все лето двадцатого года, до самой зимы, разъезжал он с товаром, взятым на комиссию со складов Губсибпродкома. И всякий раз возвращался на базу в телеге или кошевке, доверху набитой продуктами и сырьем деревенского производства.
А за ним все громче тянулась слава оборотистого, преуспевающего заготовителя. Жестковат и прижимист, верно. Зато уж ловок что надо: где у другого и вполовину не выйдет, у этого выйдет на полных сто…
До начальства не доходило, что в торге с крестьянами их оборотистый «коробейник» был не только до жесткости неуступчив: ни вершка ситчика сверх положенного, ни лишней иголки или моточка ниток. Он был и очень словоохотлив.
— С вас, бородатых тюхтей, не так еще драть надо! — говорил он, не то издеваясь над мужиками, не то сочувствуя им. — Избаловала вас власть царя Николашки вольной торговлей. Ворчали на прежнюю власть… Советскую захотели? Ну вот — теперь погодите: новая — спуску не даст! Дурь из вас выбьет. Тем больше, что жрать в городах стало нечего, особенно в той России. Поэтому мы, то есть новые, и взялись за Сибирь. Потрясем вас как надо! Так что спорить насчет послабления вам теперь ни к чему…
После его отъезда в селах и деревнях начинались тревожные разговоры. Родился слух, будто комиссары начнут обирать крестьян до последнего зернышка, потом объявят — вначале пока в России, потом и во всей Сибири — новое крепостное право. Загонят всех поголовно в «коммуны», под одно одеяло. Тут мужику и конец…
Между тем заготовитель Суконцев — преуспевал. И в один из студеных октябрьских дней, когда из степных просторов за Иртышом на город неслась первая снеговая туча, его вызвал к себе сам председатель уездного отделения потребсоюза.
— Ну как, Суконцев? Дела идут? — спросил он, одобрительно поглядывая на подтянутого, ладно одетого во френч и галифе, заправленные в добротные сапоги, хорошо побритого молодца.
Тот скромно ответил:
— Стараемся, коли надо…
— Надо!
Председатель еще раз внимательно пригляделся к Суконцеву:
— Говорили мы тут, понимаешь, с секретарем. Третья годовщина подходит… чуешь? Октябрьский призыв! В партию тебе надо. Ты как?
Суконцев невольно дрогнул и, чтобы не выдать злой радости, на секунду потупил остро блеснувший взгляд своих серых глаз: вступить в РКП входило в планы его друзей по подполью.
— Да я-то бы что, — сказал он, как бы робея. — Возьмут ли?
— Возьмут. Сам рекомендацию напишу…
Начальник с минуту раздумчиво мял пальцами толстую мочку правого уха, потом снисходительно усмехнулся:
— Ладно уж, скажу и об этом. Должность тебе намечают. На повышение. Так что, брат, все одно к одному…
И вскоре Суконцев, он же Ярсков, занял действительно небольшую, но все же руководящую должность в Омском продкоме.
В те дни во взрывчатые, как динамит, деревни, села, станицы и уездные городки обширной Акмолинской области, куда входило тогда несколько губерний, включая Омскую, — еще кровоточащие после войны, поротые колчаковцами, колотые, резанные, покрытые, как синяками, свежими пепелищами, только что пережившие кулацко- белогвардейский мятеж и снова чреватые кровавыми мятежами, — в те дни сюда по строгому указанию Центра партийные организации края вместе с Сибревкомом, Сибпродкомом и командованием размещенных здесь воинских соединений и частей трудармии направили около двух с половиной тысяч коммунистов и активистов для всестороннего учета необмолоченного, оставшегося от прошлых лет в кладях и еще вполне годного хлеба, и тех миллионов пудов, которые были ссыпаны справными, хозяевами в закрома, и тех, которые спрятаны в тайных ямах и в заимках кулаками.
Надо было также учесть поголовье скота, коней и верблюдов, количество пригодных для сева земель, сенокосных угодий, исправных и нуждающихся в ремонте сельскохозяйственных машин и орудий. Проверить готовность к лету гужевого и речного транспорта, элеваторов, складов, мельниц, железнодорожных пунктов и пристаней. Привести все это в боевой рабочий порядок: зерно прошлых лет — обмолотить, собрать и отправить голодающим рабочим в Центр, пригодные для посева земли — засеять. После этого слаженно провести сенокос, уборку нового урожая, а затем — и сев озимых.
Надо было кормить страну, помочь ей встать на ноги, укрепиться и быть в заветный час готовыми к решающему прыжку из разбойничьего «обклада», который все еще замыкал революционную Россию железным кольцом блокады.
Среди коммунистов, посланных весной двадцать первого года для работы в деревню, оказался и член РКП Суконцев.
В степной уездный городок Славгород он явился в где-то добытой кожаной куртке и гимнастерке. Суконные черные галифе были заправлены в новые сапоги. На боку висел вложенный в глянцевитую кобуру револьвер. Все это было добротным, бросалось в глаза: на такого можно вполне положиться. Этот не подведет. Мужик, видно, опытный, деловой, бывал в переделках. Доверь ему что угодно — выполнит в срок и на сто процентов.
Именно на такое впечатление и рассчитывал Ярсков-Суконцев, явившись в Славгороде к председателю уездной чрезвычайной тройки Кузьмину.
У того уже сидело в душной, прокуренной комнатке трое уполномоченных, одетых, в отличие от Суконцева, простенько, кое-как. При его появлении все на минуту примолкли. Потом Кузьмин мельком, хотя и внимательно оглядел вошедшего с ног до головы. Довольно равнодушно, как показалось тому, сказал:
— Ага, еще один? Ну, садись…
Вид у славгородского комиссара был явно не комиссарский: длинный, худой, сутулый, с глубоко сидящими в глазницах серыми глазами, он к тому же еще был и медлителен. Похоже, что на пределе сил, ни отдыха, ни сна. «Где уж такому комиссарить? — с усмешкой подумал Суконцев. — Замотался, видать, вконец…»
Кузьмин между тем не торопясь прочитал удостоверение, врученное ему Суконцевым, молча положил бумажку на лежавшие перед ним на столе другие такие же бумажки и, как бы забыв о вновь пришедшем, обратился к смуглолицему, уже не очень молодому казаху, сидевшему за столом с краю, возле окна:
— Вот я тебе и говорю, Абдуллаев, пощупай прежде всего Алтынбаева. Его папаша свои табуны, говорят, во время отступления Колчака угнал далеко на юг, за кордоны. С анненковцами подался. А этот сынок его, Толебай, не пошел за отцом.
Кузьмин усмехнулся:
— Добро свое тут стережет. Надеется, что мы вот-вот и полетим вверх тормашками. Тем больше, что Анненков обещал вернуться. При первом опросе местными силами Толебай указал всего лишь один табун, да и тот из простых коней. И земли у него, мол, вовсе, считай, и нет: вокруг, говорит, не моя, а общинная, всех аулов. Однако слова — словами, дела — делами. Считается, может, и так, да получается на поверку не так. Обрати на это внимание…
Прокуренный, глуховатый голос, перханье, кхеканье, которые все время прерывали его медлительную, спотыкающуюся речь, окончательно успокоили, даже развеселили Суконцева:
«Этого опасаться нечего. Обвести его вокруг пальца — раз плюнуть!»
А комиссар между тем с таким же, как и к казаху, скучным напутствием обратился к другому уполномоченному — русскому рабочему Стрельцову. Только теперь речь пошла не о казахских аулах и баях, а о каком-то селе Алексеевском.
Третьему уполномоченному, загорелому до черноты матросу Кузовному, комиссар предлагал напрячь все силы, но обеспечить вначале полный сбор задолженного по разверстке хлеба, а потом, в ударном порядке, провести заготовку сена в степи за разъездом Скупино. И только после этого повернулся к Суконцеву.
Тот немедленно выразил всей своей ладной фигурой полнейшую готовность выслушать драгоценные наставления товарища комиссара. При этом издевательски подъелдыкивал про себя:
«Ну, ну, давай… поучи меня, дурака!»
Кузьмин был в прошлом путейцем, ремонтным рабочим на железной дороге под Петропавловском. Во время колчаковщины воевал в отряде красноармейцев на отбитом у белых бронепоезде. Затем восстанавливал железнодорожные пути. Командовал спецотрядом по борьбе с бандитизмом в районе станции Исилькуль близ Омска. В Славгородском уезде оказался впервые, но, будучи по характеру человеком практическим и упорным, постарался как можно быстрее и глубже вникнуть в задачи и дела уезда, не упустить не только главного, но и тех многочисленных мелочей, которые нередко значат не меньше, чем то, что видно с первого раза и вроде бы не требует особых усилий и уточнений.
Прибывшие сюда уполномоченные губпродкома сразу же почувствовали эту деловитую дотошность Кузьмина. Ее же вдруг с беспокойством почувствовал и Суконцев, когда комиссар начал неторопливо, даже как бы и неохотно расспрашивать его при всех: кто он? Откуда? Чем занимался прежде? Чем дышит теперь вообще?..
— Что-то мне с тобой не все ясно, — озабоченно заметил Кузьмин после довольно длинного разговора. — Так, значит, где и когда ты вступил в РКП?
— Я уже сказал, — нервно ответил Суконцев, — что к празднику в прошлом году.
— А зачем?
— Ну… как зачем?
В Суконцеве все на секунду как-то осело от растерянности и страха, однако он снова нашелся:
— Бороться с мировой гидрой!
— С гидрой? Ну, это ладно. Борись. А тут что будешь, в деревне?
— Хлеб выбивать по планам…
— Хм… «выбивать». У кого же?
— А кто его скрыл.
— Та-ак. Сам-то, забыл я, прости, ты откуда?
— Оттуда я, как сказал! — Суконцев неопределенно кивнул в сторону окна. — Из России.
— Россия она и тут.
— С-под Урала…
— Откуда с-под Урала?
— Ну это, — Суконцев назвал первое, что родилось в голове, — с-под Шиловки. Из деревни…
— Хм. Значит, крестьянское дело знаешь?
— До войны приходилось, как же. Да и когда работал от потребиловки, тоже приглядывался.
— Не густо.
Кузьмин раздумчиво пожевал что-то (похоже, что возникающие в голове сомнения) сухими губами, еще раз хмыкнул:
— Да ладно, раз уж прислали. Пока посмотрим, дело покажет. И если будет что неясно, приезжай, посоветуемся. С ним, с Абдуллаевым, тоже можно. — Кузьмин указал глазами на подтянутого смуглого казаха, одетого по-городскому в гимнастерку и брюки, закрученные внизу солдатскими зеленоватыми обмотками. — Он мужик опытный и надежный. Вы с ним будете, считай, соседями: ты в Мануйлове по ту сторону озера Коянсу, он по эту. При надобности на хорошем коне можно обернуться за один день…
Комиссар уже не в первый раз озабоченно поглядел на лежавшие перед ним бумаги.
— В общем, зря балакать нам нечего. Нынче же и езжайте. В случае срочной надобности я всегда здесь. А тебе, — вдруг обернулся он к успокоившемуся было Суконцеву, — я еще вот что скажу. Абдуллаева я, как надо, предупредил, подумай и ты: вокруг Коянсу, особо в Мануйловской волости, неспокойно. Весной потрепали мы банду батьки Сточного, да, видно, не до конца. Нет- нет и опять объявится, дикий черт. Так что, Суконцев, ухо держи востро, а наган на взводе. Бандюг укрывают — кто побогаче. Этим спуску там не давай. Чуть что — сообщай сюда. А то и сам действуй согласно создавшейся обстановке. Красноармейцев наш военком тебе выделил молодых. Прямо сказать — не обстрелянных. Однако же ничего: ты говоришь, что сам мужик боевой, обойдешься?
— Обойдусь.
— Притом учти, что Советская власть в Мануйлове не того… слабовата. Под дудку Износкова, ихнего богатея, пляшет. Сам-то Износков вроде притих: «Я, мол, не я, овца не моя». А думаю, что он и к Сточному имеет касательство. Кулак, он кулак и есть!
— Учту, — снова четко, по-деловому заверил Суконцев. — Нарочно устроюсь на постой к тому кулаку…
— А это зачем?
— Узнаю, чем дышит.
И быстро прилгнул:
— Об этом мне еще в Омске комиссар присоветовал…
— Хм… ишь ты! Ну там ты как хочешь, а главное, чтобы вовремя и полностью выполнить задание за счет таких, кто покрепче. Не с бедноты. Долг по хлебу у многих с прошлого года. А нам, брат, приказано докладывать о ходе учета и сборе каждые двое суток. Так что срок у нас невелик…
— Поднажмем!
— Вот-вот! На местную власть не надейся, увидишь сам. Привлеки бедноту, актив…
На следующее утро уполномоченные разъехались по своим волостям: матрос Кузовной — на разъезд Скупнно. Стрельцов — в Алексеевское, а Суконцев и Абдуллаев — к длинному озеру Коянсу, на южной оконечности которого раскинулись аулы и юрты казахской волости, где издавна главенствовал род Алтынбаевых, а на северной дальней излуке расположилось большое село Мануйлово, возникшее здесь всего тридцать лет назад, в страшные неурожайные годы, когда в нечерноземных губерниях центральной России вымирали целые волости и царское правительство, воспользовавшись этим, решило завершить давно уже начатую им кампанию по переселению малоземельных крестьян в Сибирь.
Абдуллаев предложил было Суконцеву ехать вместе: большая часть пути была общей. Но тот отказался: по- военному собранный, сдержанно-внимательный ко всему инородец показался ему опасным, и под предлогом дополнительного разговора с Кузьминым, которому он якобы не успел передать что-то по поручению ревкома, Суконцев сказал:
— Езжай пока один, я на часок задержусь. Лучше приеду к тебе как-нибудь в аул… поучусь, как велел Кузьмин.
— Жаксы. Тогда будь здоров.
Абдуллаев со своими спутниками — землемером Устиновым и работником местного военкомата Вазыховым — уехал. А часа через два тронулся в путь и Суконцев.
Вместе с ним ехали землемер Гладилин, уже пожилой, унылый человек, служивший до революции в губернском земельном ведомстве, и два молоденьких красноармейца, вооруженные винтовками.
Ашим Абдуллаев ехал в урочище Коянсу с твердым намерением положить конец все еще сильной власти рода богачей Алтынбаевых.
Сам Алтынбай, которому царь Николай Второй за поставку мяса и лошадей во время русско-японской войны присвоил звание личного дворянина, успел еще до полного разгрома Колчака бежать в Джунгарию, увести туда и свое главное богатство — элитные табуны коней, гурты скота и верблюдов, овечьи отары. А Толебай остался в степи. Живет по-прежнему как царек. Во время недавнего учета этот байский сынок показал, будто отец оставил ему всего небольшой табун лошадей да голов двадцать пять скота и овец. Но это, конечно, враки, — сердито раздумывал Абдуллаев. Прячась за спинами своих забитых, неграмотных батраков, приказав им свидетельствовать только то, что скажет сам он, главный в роде и племени, Толебай как был властителем-баем, так и продолжает быть им. И с этим нельзя мириться. Казах и партиец, Ашим Абдуллаев обязан во имя свободы своих земляков до конца и честно выполнить поручение Сибревкома. И он его выполнит…
Ашим был уроженцем одного из аулов того же урочища Коянсу. Отец его, мать и четыре сестры погибли от страшного мора в год Змеи, который прошел по многим аулам как ураган и о котором оставшиеся в живых, теперь уже старики, до сих пор говорят с трепетом, как о великом гневе аллаха.
Из всей семьи тогда уцелел лишь один Ашим, чтобы стать рабом Алтынбая. Тогда ему было двенадцать лет.
За сиротскую хилость бай Алтынбай невзлюбил его: какую выгоду можно иметь от такого слабого, вечно голодного пастушонка? А сын хозяина Толебай ради потехи не раз избивал сироту, и в последний раз — на глазах Софият, соседской девчонки, которая нравилась полупарню-полуподростку Ашиму.
Именно Толебай и выжил его из аула. Пришлось перебиваться, где как придется, на стороне, пока он вместе со своим русским другом Савелием Бегунком, который был старше его на десять лет, но тоже бездомным и нищим парнем, — не попал в дикую каменистую степь на угольные копи в Экибастузе, принадлежавшие тогда английскому богачу Уркарту. Здесь он прошел не только жестокую школу бесправного, изнуряемого бесконечным трудом инородца-чернорабочего, но благодаря Бегунку сдружился с русскими и научился яснее видеть злые и добрые силы жизни.
Это определило в дальнейшем всю его жизнь. Во время гражданской войны он стал кызыл-батыром казахское-татарского партизанского отряда, был трижды ранен, в Омске вступил в национальную секцию РКП, весной этого года закончил специальные курсы инспекторов- пропагандистов по работе в деревне и вот теперь направлен для работы в Славгородской уезд.
Линейное расстояние между Славгородом и родовым аулом Алтынбаевых Ченгараком равнялось всего сорока верстам. И едва ли не втрое короче оно было между южной излукой озера Коянсу, где в давние времена возник центральный аул Алтынбаевых, и северной излукой, где находилось переселенческое село Мануйлово. А различия в укладе их внутренней жизни пришлось бы измерять многими десятилетиями: в Ченгараке всего год назад, в сущности, все еще ханствовал аксакал Алтынбай Хизматов.
Бедняки казахи в те прежние годы привыкли, а многие не отвыкли от этого и сейчас, считать себя полной собственностью Алтынбая, главы их рода и племени, господина и хозяина, волей аллаха ниспосланного им свыше для послушания и труда. И если, как говорит ченгаракский ахун, мулла Альжапар, аллаху принадлежат и Восток, и Запад, и куда бы ни обратились вы — всюду увидите лик его, ибо аллах всеведущ и всеобъемлющ, — то поставленный во главе рода аллахом аксакал Алтынбай всеведущ и всеобъемлющ вот здесь, в степи. И не только близ озера и аула, но и далеко вокруг, где пасутся его табуны, стада и отары.
Так же с детства думал об этом и батрак Толебая Архет, с которым «тройка» Ашима Абдуллаева встретилась в степи по дороге в урочище Коянсу.
Это был загоревший до черноты, еще совсем молодой, кривоногий парень с красными трахомными веками, пасший большой табун в круглой, как блюдо, поросшей после недавних дождей сочной травой лощине, дальний край которой обрамлял как узор кудрявый лесок.
Ашим помнил Архета еще голопузым ребенком, сыном байского батрака Шакена из аула Ченгарак. Их глинобитная, покрытая дерном юрта была в ауле едва ли не самой бедной. В ней не было ничего, что могло бы доставить радость семье из семи человек, не считая Шакена и согнувшейся от непосильной тяжести жизни тетушки Басарги.
Архет был младшим сыном в семье. По обычаю, имя ребенку давала при рождении бабка, ульде. А мальчик родился у бедной, голодной матери тощеньким, еле живым. И бабка решила, что ребенок не выживет, поэтому назвала его Архетом, что означает «саван покойника». Однако он выжил. А имя Архет — осталось. Оно, как проклятье, сопровождало его всю жизнь — от голода к голоду, от побоев к побоям, от горя к беде. В самом имени было, казалось ему, несчастье.
Как и других батраков, местный мулла Альжапар учил его не только любви к аллаху и послушанию старшим в роде, но и ненависти к русским переселенцам. Особенно к тем, которые живут теперь на другом берегу Коянсу, тем самым лишив Алтынбая большого куска степи.
Архета в те годы, когда русские поселились за северной излукой Коянсу, еще не было на свете. Но по рассказам других он знал, как и когда эти русские появились в степи Алтынбая. Мулла говорил, что это произошло потому, что недовольные баями плохие джетаки — байские батраки — прогневили аллаха, и он, как тяжкую кару, послал в степь казахов толпы бездомных и нищих русских из непонятной, но сильной России. Вот почему они, подобно затянувшемуся, небывалой силы бурану, докатились сюда. И хотя землю для них царские люди отмеряли не из «казны» и не там, где паслись табуны Алтынбая и баев других родов, а либо из ничьей неудоби, либо за счет бедняков-кочевников, — Алтынбай все равно проклинал всех русских, слал вместе с муллой тяжкие кары на их бородатые и лохматые головы.
— Аллах проклял неверных и приготовил им пламя гнева своего! — убеждал мулла Альжапар. И мальчик, а потом подросток и юноша Архет вслед за ним считал, что аллах ненавидит русских.
— Близится ночь могущества, когда аллах покарает неверных и они исчезнут так же, как и возникли! — читал священный Коран мулла. — Отвернись от них и жди!
Архет повторял за муллой, что эта ночь могущества неизбежна, что власть русских будет низвергнута силами неба.
Потом оказалось, что вовсе не неба, а силами их, казахов, таких же, как сам Архет Об этом тоже не раз говорил мулла:
— Сражайтесь с ними! Пусть накажет их аллах вашими руками, и опозорит их, и поможет вам против них! Избивайте их, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засады против них во всяком скрытом месте. О, люди, бойтесь гнева аллаха! Велик аллах, — говорил мулла, и Архет верил, что это так.
Вокруг него жила степь. Над степью жарко сияло солнце, в степи паслись отары и кони. И все это принадлежало, по словам муллы, самым любимым сынам аллаха — Алтынбаю и сыну его Толебаю. Значит, только по их милости он, ничтожнейший из ничтожных, дышит воздухом, который принадлежит роду великого Алтынбая, лежит на их траве, ходит по ней, радуется жизни.
Велик Алтынбай. Все здесь принадлежит ему — степь, небо, трава и кони. Так хорошо вокруг, что хочется петь. И Архет поет:
— Как люблю я степь Алтынбая! На озере Коянсу тысячи тысяч гусей и уток. Коршун летает. Суслик выскочил из норы. Прыгнул кузнечик. Хорошо здесь всем, и ему, рабу Алтынбая, ничтожнейшему Архету!..
Отец продал мальчика Алтынбаю за половину барана в голодный год, когда бедняки вымирали от голода и болезней в степных аулах сотнями, как во время чумы. И за двадцать лет жизни раба он привык к своему положению, покорно служил Алтынбаю, а теперь — Толебаю. Пас вместе с другими батраками — полурабами хозяйские отары и табуны и просто не знал другой жизни. Привык к голоду, к побоям, к нищей одежде, к горькому, но и привольному степному одиночеству пастуха. Неграмотный, темный, суеверный и доверчивый, он верил в аллаха, боялся его, соблюдая все требования муллы.
— Хвала аллаху, господину мира! — говорил ахун Альжапар, и Архет повторял про себя:
— Хвала!
— Бойся Судного дня! Отвернись от неверных — и жди: день возмездия близок!
И Архет в это верил, ждал.
Он часами следил за тем, как по велению аллаха по небу бегут то светлые, то темные отары облаков. Как они в день дождя сбиваются в огромную тучу. Как в ней справа налево, слева направо и сверху вниз до самой земли мелькают страшные молнии, на короткий миг уносящие зрение из глаз, а потом опять возвращающие в глаза цветные круги.
Он видел, как день превращается в ночь, а за ночью приходит утро. Как восходит солнце и как поднимается над далекими озерами большая багровая луна, или острый, как лисье ухо, вылезает из-за ковылей новый месяц. Как жаворонки взлетают от земли в небо и поют славу аллаху. Или как дрофы ходят вдали, время от времени склоняя к земле толстые шеи.
К своему одиночеству он уже привык. И лишь иногда все в нем как бы вдруг начинало темнеть и томиться, подобно тому, как это бывает в степи накануне большой грозы. Степь казалась в такие дни безрадостной и чужой. Тянуло к людям в аул, а злой жеребец Шайтан, вместе с ним охранявший табун, вызывал непонятную злость. Хотелось хлестнуть камчой по его черногубой морде.
Именно такое томящее раздражение владело Архетом в тот день, когда Абдуллаев, землемер Устинов и порученец уездного военкомата Вазыхов наехали на него в степи. Он еще издали увидел их: легкую пароконную тележку с людьми и всадника, красиво гарцующего возле тележки.
Потом этот всадник дал повод коню — и тот понес его к табуну, навстречу возликовавшему от радости Архету: не словами, а как бы всем телом тот понял, что именно люди нужны ему в этот день. И когда подъехали остальные, когда начались приветствия и расспросы, он был готов ответить на что угодно, лишь бы подольше задержать проезжих у опостылевшего табуна.
Расспросив обо всем, о чем полагалось расспросить земляка в степи, Ашим наконец спросил и о главном:
— Толебай показал во время учета, что у него после ухода отца в Китай осталось всего шестьдесят лошадей, тридцать коров и одна отара овец. Но я вижу, что только в твоем табуне не меньше чем сто коней, не считая лошат. Сколько же их у тебя?
Архет удивился лжи Толебая и честно сказал — не словами, а взмахами красноречиво растопыренных пальцев. Получилось — ровно сто двадцать.
— А кто еще вот так же пасет коней, верблюдов или коров и овец Толебая в этой степи?
Архет снова честно ответил, что если ехать дальше к восходу солнца, то в урочище Якшикуль можно найти табун и верблюдов, которых пасет байгуши Сагит. Возле Ола-Текле коров и овец пасет одноглазый Махмуд. Второй глаз ему выбил носком ичига сам Алтынбай еще в юные годы. На самом дальнем и самом богатом кормами пастбище Табын-уй охраняет два табуна отборных лошадей лучший из байских табунщиков старый Бакберген. А вон в той стороне, где заходит солнце, — отец мой Шакен…
Когда Абдуллаев с Устиновым и красиво сидящим на коне Вазыховым объехали эти урочища и по резвому бегу коней измерили те длинные десятки верст, которые самовольно занял под свои табуны Толебай, а потом более или менее точно подсчитали верблюдов, коней, коров и овец в табунах, гуртах и отарах, то даже и по неполным подсчетам вышло, что у Толебая Алтынбаева сейчас одних лишь коней больше полутора тысяч.
Об этом в аульном Совете был в присутствии целой толпы аульчан составлен подробный акт. А несколько дней спустя из Омска последовало распоряжение:
1. Реквизировать излишки лошадей и скота, обнаруженные на самовольно занятых Толебаем общинных пастбищах.
2. В соответствии с картой местного и губернского землепользования определить предоставленную государством Толебаю Алтынбаеву для хозпользования землю в количестве стольких-то квадратных верст.
3. Соответственно этому количеству земли разрешается иметь лошадей, скота и овец столько-то голов.
4. Предупредить Толебая Алтынбаева, что, в случае дальнейшего незаконного использования государственных и общественных земель, он будет привлечен к судебной ответственности по всей строгости революционных законов…
Узнав о «предательстве» Архета, Толебай пришел в неистовую ярость: как посмел этот ничтожный трахомный раб сказать красному уполномоченному, бывшему рабу Алтынбаевых Абдуллаеву о скрытых в степи табунах?
Как повернулся у него змеиный язык, чтобы предать своего господина Толебая, прославленного батыра степей?
Что значит он, червь, рядом с ним, великим и сильным баем?!
Толебай и в самом деле был крупный, сильный мужчина лет тридцати пяти с черными как смоль, прямыми, жесткими волосами и такими же черными бровями, круто сходящимися к переносице. Смуглая, глянцевито лоснящаяся кожа жирно питавшегося крепыша туго обтягивала его сильные скулы. Темные, почти черные губы лишь подчеркивали звериную белизну зубов. В остро поблескивавших глазах были ум, жестокая властность и настороженное зло. Они, как черные носы двух крыс, торчали из узких, косо разрезанных век, вот-вот готовые, казалось, кинуться на любого, кто не понравится или угрожает им.
В отличие от своего младшего брата Шабнадбая, который после окончания Омской мужской гимназии уехал в Париж, учился в Сорбонне и там же во Франции накануне войны опубликовал исследование о судьбах племен «Младшего киргизского жуза», а на этом фоне — об истории своего рода Алтынбаевых, — Толебай предпочел ученью разгульную жизнь в степи. Став взрослым, он, кроме старшей жены, с которой его помолвили, еще когда она была в колыбели, купил у менее богатых соплеменников еще двух жен, несовершеннолетних девочек, которые теперь, благодаря Советской власти, ушли от него, как ушли от него и лишние земли, а вместе с землями вокруг Коянсу — и тысячи голов лошадей, скота, взятые на учет ненавистным Толебаю уполномоченным Омского ревкома Ашимом Абдуллаевым.
И вот теперь этот нищий Ашим, которого Толебай в былые годы, когда тот был мальчишкой, не раз избивал ради своего удовольствия до крови, а сейчас готов растерзать руками на части и сжечь на костре возле своей юрты, — именно этот Ашим, изменивший аллаху большой-бек, большевик, воспользовался предательской откровенностью Архета и лишил знатного и могучего Толевая силы, сделал его едва ли не нищим.
Гневен и мудр аллах, но, увы, не всегда нисходит до просьб своих правоверных. Поэтому до проклятого большой-бека сейчас Толебаю не достать: у Абдуллаева оружие, власть. Его и мануйловских большой-беков охраняет отряд красных конников комиссара Макарова, посланного сюда из Славгорода еще более высоким комиссаром Кузьминым. Но будет время, и оно уже близко, когда им всем на главной площади Славгорода сделают «секим башка». А снять одним взмахом сабли башку Абдуллаева он, Толебай, попробует сам.
Но это, увы, еще не сейчас. А пока за свое предательство должен ответить живой мертвец, доносчик Архет…
— Как ты посмел нарушить священную клятву, данную мне на Коране, что будешь предан мне до могилы, как верный раб мой? — свирепо спросил Толебай Архета, вернувшегося в аул после отгона его табуна в уезд. — Как сын моего отца, я теперь главный в нашем роду, старейшина племени. А ты? Ты пыль с моего ичига! Грязная тварь, недостойная пищи, которую я тратил на тебя столько лет! Ответь, ничтожество всех ничтожеств, ты клал свою предательскую руку на Коран и клялся в верности мне до смерти?
— Да, хозяин.
— Ты эту клятву нарушил. Почему? Молчишь? Но аллах видит все. И он тебя покарает. Твое место в геенне огненной! И я сам отправлю тебя туда по воле аллаха! Изменившим аллаху — пощады нет! Их место в геенне, где каждому будут заклеймлены лбы, бока и хребты. А тебе, по воле аллаха, — свирепо сказал Толебай, — я это сделаю сам, чтобы в геенне огненной знали, как велико твое преступление!
Суд над Архетом происходил в ясное, жаркое утро на берегу озера Коянсу, перед белой юртой Толебая. Судил его сам Толебай, а речь обвинителя произнес мулла Альжапар.
— Да поразит тебя Азраил, клятвопреступник! — сказал мулла в конце своей длинной речи. — И да поразит он за предательство каждого, кто забудет о священном долге быть вечно преданным аллаху и старшему в роде своем!
Раскаленной в пламени костра железной тамгой, родовым знаком Алтынбаевых, которым метили скот и коней, Толебай сам лично выжег тавро на груди и спине зашедшегося в крике, а затем потерявшего сознание Архета.
Возможно, что в своей необузданной ярости он здесь же и убил бы его, если бы со стороны соседнего аула Ит-Басар не появился на своем мохнатом, ленивом лошаке оленгчи, то есть рифмоплет и певец Хаким.
Появление старенького, но не сдающегося старости, бездомного и беспечного острослова было вообще едва ли не единственным развлечением не только жителей Ченгарака, но и других аулов округи. При этом Хаким всегда появлялся сидя на стареньком, как и сам, но тоже не унывающем, несмотря на холод и голод, мерине, прозванном в шутку Тшкан-аксакалом, то есть Старейшиной-мышью. Из года в год одетый в один и тот же рваный бешмет, с вытертым малахаем или войлочной шапочкой на круглой седой голове, он располагался в чьей- нибудь черной юрте, долго пил чай или араку — смотря по тому, что дадут, балагурил, рассказывал о новостях, услышанных по пути из аула в аул, потом брал в руки кобыз со смычком из конского волоса и начинал одну за другой петь озорные, похожие на притчи, шестистишия.
Но ценили его не только за эти веселые песни. Он был и великий уй-ге, то есть мастер по уям, юртам. Никто в округе красивее и лучше не мог вытесать чапыга- том, острым топориком, или орудовать пилкой и буравчиком при выделке деревянного остова юрты — боковых решеток из крепких планок, деревянного круга с дугами и рамы для двери. А для каждой юрты надо выточить и без ошибок подогнать одну к другой не меньше, чем сто пятьдесят или двести деталей. Старый уй-ге Хаким это делал почти с упоением, как поэт. Остов юрты получался красивым, как бы воздушным, но и устойчивым, крепким. Покрытая затем кусками толстой кошмы разной формы и назначения, такая юрта не только радовала глаз, но и спасала зимой от буранов, летом от сухого палящего зноя…
Не удивительно, что появление веселого и почтенного гостя нарушило придуманный Толебаем порядок суда над Архетом.
Насильно согнанные сюда для устрашения пастухи, батраки-джетаки и жители аула, только что охваченные любопытством и ужасом при виде извивавшегося, а потом упавшего наземь Архета, при появлении старого оленгчи Хакима сразу же, словно по сговору, вскочили.
Толебай выругался, а мулла, у которого с острым на язык простонародным рассказчиком и певцом тоже не было дружбы, со злым ворчанием захлопнул Коран…
Петь свои шутливые вирши Хаким в этот день не стал.
Когда Толебай и мулла ушли, он сбегал к озеру за водой, привел несчастного Архета в чувство, густо обмазал затавренные места бараньим салом, которое тайно принесла ему одна из сердобольных женщин, помог стонущему парню взобраться на своего Тшкан-аксакала и потихоньку повез его к русским, в село Мануйлово, где жил знакомый фельдшер Иван Семеныч.
Председателем Мануйловского волсовета на последней сходке был избран Яков Лубков, сосед Савелия Бегунка, человек нерешительный, робкий, привыкший по бедности своей больше помалкивать да вздыхать, чем руководить и требовать.
Еще в предоктябрьские годы он влез в долги к кулаку Мартемьяну Износкову. Эти долги как бы сами собой списались за годы Советской власти, — по крайней мере, Износков, хотя и поглядывал на Якова со значением, будто напоминая об этих долгах, но прямо не заговаривал, а совестливый Яков Лубков при встречах и разговорах с Износковым всякий раз внутренне съеживался, терялся. Его не отпускала тайная мысль об этих долгах. Кажется, взял бы все, что осталось в избе, да и отдал… Поэтому его особенно поразило, когда на той прошлогодней сходке на должность председателя выдвинул его не кто иной, как сам мануйловский богатей.
— Пущай послужит обществу. Ноне время такое. Постреляли друг дружку, пожгли, погуляли — хватит! Пора жить и в мире, — внушительно говорил Мартемьян. — Чай, почти все тут свои, орловские. Так что зла в башке пора не держать, кто там ни будь, сытно аль нет живет. Со зла другому кому не завидовать. Живешь, как есть, и живи. Соседа — не трожь. А Яков Лубков — он к людям с душой. Совесть имеет. Зла на людей не держит. А про добро там чье — помнит, — ввернул Износков, поглядев на вспотевшего от похвал Лубкова. — Потому я гражданина Лубкова и предлагаю: лучше — чего уж?
Износков произнес эту добрую речь тщательно выработанным за прошедший после колчаковщины год надтреснуто-постным голосом уставшего от тягот военных лет да еще безвинно пострадавшего от них человека. Говорил с придыханием, не спеша, лишь изредка бросая на мужиков острый взгляд всех видящего, все примечающего правого глаза.
Левый глаз ему выбил плетью колчаковский казачий урядник во время допроса — прямо на улице, на виду у согнанных на площадь мануйловцев, за то, что младший сын Мартемьяна, шестнадцатилетний Петр, по годам еще недоросток, а телом совсем уже крепкий, плечистый парень с кудрявым чубом над смуглым лбом, убил командира сотни, занявшей Мануйлово после неравного боя с местными партизанами, а потом застрелил и двух казаков, пытавшихся обезоружить его.
Убил их за то, что сотнику приглянулась дочь соседа Износкова Татьяна Белаш, дроля влюбленного в нее Петра. Гогочущие белоказаки затащили ее в парадную залу, где ужинал пьяный сотник, тот надругался над девушкой, после чего казаки, утащили ее к себе.
Парень узнал об этом лишь рано утром от нянечки Моти, заменявшей вдовому Мартемьяну жену, молча прошел в отгороженную от залы ситцевой занавеской спаленку и выпустил из нагана две пули в сердце сладко храпевшего, да так и не успевшего проснуться насильника.
Петра зарубили саблями на крыльце. Едва не поставили к стенке и Мартемьяна. И если бы не внезапное появление верхового с панической вестью о том, что на виду села показались большие силы красных, Износков лежал бы теперь в земле.
После гибели сына он как-то сник и замкнулся. Прежняя приверженность к белым «спасителям Расеи» в нем пошатнулась. Но и ненависть к «большакам» не угасла. И когда Колчак был казнен, а остатки колчаковцев ушли в подполье, рассеялись по Сибири, как цепкие семена ковыля, чтобы укорениться в здешней земле, — он предпочел на время совсем отстраниться от всего, что было за толстыми стенами его дома.
— Посидим, поглядим, — сказал он себе.
Зато вместо «пострадавшего от душегубов дядюшки» общественными делами в селе стал заниматься неожиданно приехавший откуда-то в Мануйлово его племянник Терентий Щеглов. Говорили, что вроде бы никакой сеструхи или брата у Износкова нет и не было.
— Отколь же племянник?
— Может, какой приблудный? Ездил Износков небось куда по торговым делам, ну и сработал «племянничка»…
— Это возможно. Такое у нас бывает…
Как бы то ни было, но Терентий сразу же поселился в доме осиротевшего Мартемьяна, был вскоре доизбран не то секретарем, не то заместителем полуграмотного, нерешительного Якова Лубкова. И как ни дивились ма- нуйловцы, как ни ворчали в разговорах между собой и на сходках, племянник Износкова с каждым днем становился в селе все незаменимее и сильнее. А после приезда губернского «полномочного» Суконцева и совсем уж «в крепость вошел»…
Просмотрев составленные Лубковым под диктовку Терентия бумаги с перечислением имеющегося у каждого из сельчан количества едоков, скота, машин, земельных угодий, а также оставленного в прошлые годы на полях необмолоченного хлеба и полностью доверившись этим бумагам, Суконцев велел собрать мужиков на общую сходку.
— Куда годится?! — с первых же слов почти с крика начал он свою речь. — И как назвать, — потрясая бумагами, продолжал он с явной угрозой, — если не саботажем решения высших инстанций?! Послухайте вот, кто произвел и кто меньше выполнил по разверстке, если не эти самые, лень у которых прежде их родилась? Этих — полностью оглашаю…
Самыми злостными недодатчиками, укрывателями и лентяями были названы прежде всего неимущие из сельчан — Агафон Грачев, Федор Учайкин, Иван Братищев, Семен Недоручко, Тихон Шабров, а самым производительным и надежным для государства — Износков.
— Отколь же нам было взять? — попытался возражать Грачев. — Мне с детьвой да Палахой еле до новогодья хватило. А ноне и вовсе обголодались! Износкову хорошо: на него работает полсела! Тихон — в долгах, Федор — в долгах, я у него — в долгу. Земля, считай, называется только наша, а так и она — его!
Но Суконцев немедленно пресек «недостоверные показания».
— Разговаривать много я тут не дам и не буду! — сказал он, как обрубил, не позволив высказаться толком никому из возбужденно галдевших мужиков. — Есть сверху приказ полностью все исполнить, и как вы тут ни мурыжьтесь, я вас заставлю! Всех! Один, по прозвищу Бегунок, сбежал в неизвестном направлении от исполнения долга перед обществом. Но мы и его найдем. Спросим. С каждого спросим! — погрозив кулаком стоявшей перед ним толпе, с особым значением подчеркнул Суконцев. — Никому побег не поможет! Никто от долгов у нас не сбежит. Это уж есть как есть! Кто будет против — заарестую. Прямо вот с этими, — он указал на растерянно переступавших с ноги на ногу возле крыльца вол- совета красноармейцев. — В тот же день отправлю в уезд. А там целоваться с вами не будут. Что же касается до Износкова… Тут всем известно, как человек пострадал. За свободу от белых казаков глаза лишился. Конечно, достаток у него, как хозяина, есть… а сколь в семье едоков? Поболе, чем у любого!
— Может, его полюбовница Мотька или Терентий да Кузька Кривой с Михайкой — его семейные едоки? — снова не выдержал Агафон. — Тогда уж и нас там считай. Рази только едим отдельно, в своих, значит, избах, а так — все у него под ж… находимся. Всех подмял. И не наш, а его, Износкова, хлеб с летошних пор в кладях остался. А отчего он, хлеб тот, в поле оставлен, спроси? Оттого, что Мартемьян не стал его убирать для Советской власти: пусть, мол, гниет! Вот оно в чем. У нас, гражданин уполномоченный, гнить было нечему и сдавать было нечего, хошь приди и сам погляди. А потому ты не с нас, а прежде с него, с Мартемьяна, спрашивай..
— Спросим! Будет с ним разговор. Однако надо и то учесть, что старый да вдовый. Со всем управиться — где ему?
— Выходит, если считать по земле, то ему надо много, раз полно едоков, а как отдать государству, то он, бедняга, один не управится? Оттого, мол, в поле хлеб и оставил? Так понимать?
Суконцев со злостью крикнул:
— Хватит! Орателев нам не надо! Надо выполнить тот приказ — и дело с концом! Поэтому перво-наперво объявляю: завтра с утра все как один по этому списку, — он несколько раз помахал бумажкой, — почнут убирать на полях тот хлеб, потом возить оттуда сюды, к приемному пункту. На этом все…
В ту же ночь недалеко от Мануйлова кто-то спалил несколько больших скирд с прошлогодним хлебом.
Сукондев обвинил в поджоге Агафона Грачева и, продержав «поджигателя» сутки под арестом, на следующее утро отправил под конвоем одного из красноармейцев в уезд.
— Я и сам поеду, без твоего конвоя! — угрюмо сказал Грачев, когда его вывели из арестантского помещения на улицу и Суконцев сам грубо столкнул «преступника» в возок.
— Там обязательно разберутся! — насмешливо ответил Суконцев. — За поджоги помилуют, жди…
— Нет, мужики, что же это?..
— Да как же?..
— Быть того не могеть, чтобы наш Агафон! — говорили в толпе сбежавшихся к волостному правлению сельчан. — Не мог он тот хлеб поджечь…
Неожиданно для Суконцева из толпы шагнул Иван Братищев:
— Я тоже с Грачевым поеду, раз так! Не жег Агафон!
— И я! — крикнул Семен Недоручко.
— И я! Давай, мужики, всем миром…
— Бунтовать? — свирепо взвизгнул Суконцев. — Ну- ну, давайте! Посмотрим, как оно выйдет! И ты, похоже, участник? — ткнул он наганом в Братищева. — И ты, Недоручко? Сейчас пошлю и на вас бумагу…
Едва успели арестованные выехать за околицу, как с другой стороны главной мануйловской улицы, которая длинной, ровной дугой огибала эту часть озера Коянсу, в село, вышвыривая из-под копыт ошметки сырой земли, на рысях въехал отряд всадников в сорок сабель. Кони были в поту, красноармейцы угрюмы и молчаливы.
— Ну, как тут у вас? — видно, все еще занятый своими заботами в неудачно начавшееся для него утро, без особого интереса спросил Суконцева командир полусотни Макаров — рябой, усатый крепыш со сдвинутой на правое ухо старой армейской шапкой. — Порядок?
— Какой там порядок! — пожаловался Суконцев, еще не зная, как держать себя с этим явно раздраженным чем-то, впервые при нем появившемся в Мануйлове крепышом, который, похоже, какой-то местный, может быть, из уезда, бывал здесь в селе не раз.
— А что? — насторожился тот.
— Морока с этими мужиками…
— Ну?
— Скирды ночью спалили!
— Хм… значит, и тут, — угрюмо сказал крепыш. — Такое уж племя.
— На обмолот не идут… мутят, в общем!
— Сточной не налетывал?
— Атаман, что ли?
— Ну?
— Не слыхать, — соврал Суконцев, хотя из разговора с Износковым знал, что батька Сточной гуляет со своими здесь где-то рядом. «Вот-вот наведается и сюда, если в том будет надобность», — со значением подчеркнул Мартемьян во время осторожного, уклончивого разговора.
Крепыш бросил окурок на землю, сплюнул, устало сказал:
— Чуть не цельную ночь за ним и его бандюгами гнались. Думал — попался, гад. А он как сквозь землю! Может, он и поджег?..
— Не-е, наши это, — поторопился сказать Суконцев. — Одного я полностью уличил. В уезд уж отправил. А двое сами за ним пошли. Вроде него, смутьяны!
— Кто?
— Агафон Грачев и еще… как их?
— Грачев? — удивился крепыш. — Этот навряд ли.
— Со злости такой все может, — не согласился Суконцев. — От помощи властям в хлебе и в обмолоте полностью отказался. Бери, говорит, с других…
— А ты с других и бери. С Износкова хоть. У того и хлеба, и чего другого — полно! С одного соберешь, что надо по плану. Есть еще и Пармен Усов, Ефим Гуртяков, Бурлакин Илья. Эти пожиже, а все-таки в силе. Их тоже как следует потряси. Мыслю, что не без них Сточной как в землю уходит…
— Этих, само собой, потрясем! — поспешил согласиться Суконцев.
— И не только по их наделам, но и по дальним заимкам пошарь. Вон у Износкова, слышно, особо тайная заимка есть. Может, не одна. Найти бы… Не в ней ли отсиживается чертов батька Сточной?
— Где тут быть тайной? — попробовал усомниться Суконцев. — Все больше степя. А если бор, то не бор, а эти… колки по-ихнему, спрятаться негде.
— Прячут и в деревнях, по избам: мол, мужик и мужик. Однако и бор в их степях бывает. Конечно, не тот, что у нас. Ты сам-то откуда?
— С Уралу…
— Ну вот. У нас леса как леса. А все же и тут. Бывают с овражинами, с чащобинами — хоть эскадрон прячь! Да и степь возьми: обшарь ее всю-то! День скачешь, бывает, а голосу человеческого не слыхать. Разве один кочевой киргиз с табуном попадется, да и то так… мельком. Потому я и говорю: пошарь поглазастей. В их заимках много чего поскрыто…
— Пошарю. Однако негоже спуску давать и тем, кто мутит.
— Который мутит — ответит. Это уж так. В уезде с этими разберутся.
Макаров со стоном зевнул. Потянулся так, что крючки видавшей виды шинели взвизгнули в металлических петлях:
— Нет сил, как охота спать! Мои ребята совсем сморились. Вишь ты, как сразу все разошлись по избам? Пойду и я хоть чуток вздремну…
«Добро бы разобрались, да всех — в каталажку!» — с усмешкой решил Суконцев.
Но неожиданно для него день спустя Грачев, Братищев и Недоручко вернулись в Мануйлово.
Вернулись не только не смирившиеся, готовые подчиниться его начальственным распоряжениям, как он полагал, на случай, если в уезде их не посадят в каталажку, а ограничатся лишь строгим внушением. А оказалось, что «баламуты и саботажники» вернулись домой уверенные в своей силе, сердитые, даже непримиримо-резкие. Вернулись исполненные решимости побороться с ним, Суконцевым. Спихнуть и Терентия с самовольно занятого места заместителя председателя волисполкома, да и Лубкова… «Завтра же на сходке дадим по шеям за подслугу Износкову, а вместо него изберем другого, твердого мужика», — впрямую заявил Иван Братищев.
Когда Суконцев попробовал было прикрикнуть на них, пообещав рубахи содрать, а план по разверстке выбить из каждого хоть прикладом, а то и штыком, — Агафон Грачев угрюмо ответил:
— Попробуй! Макаров со своими бойцами уехал искать Сточного, однако недалеко, вернется. Тогда — ответишь…
Суконцев понял: ответит. В этом его окончательно убедила бумага от Кузьмина: мужики вернулись из Славгорода не с пустыми руками, а с официальным распоряжением Кузьмина немедленно явиться в уезд самому Суконцеву для дачи необходимых объяснений…
До этого все было продумано хорошо. Устроенный на постой к одинокой старухе Исаихе землемер Гладилин, с утра «разговевшись» Износковой самогонкой, вместе с Терентием и Лубковым занимался «уточнением» земельных угодий Мануйловской волости. То есть изредка выезжал с председателем за околицу со сбитой из двух жердин самодельной «саженью» и, разморенный первачом, засыпал где-нибудь в стоге прошлогоднего сена, чтобы, проспавшись, подписать в волсовете подсунутый Терентием акт о якобы проведенном в тот день обмере. Красноармейцы впроголодь жили на другом конце села в пустующем доме Савелия Бегунка и тоже от скуки понемногу стали приобщаться к износковской самогонке. Так что, по соображениям Суконцева, все обстояло как нельзя лучше.
И вот — бумага от Кузьмина.
Перечитав ее дважды, Суконцев задумался: похоже, чуть перегнул. Не все учел. Не те мужики попались.
И что же теперь?
Ехать в уезд? Оправдываться незнанием обстановки? Обещать исправить ошибки?
А если Кузьмин не станет и слушать? Вдруг да у него имеются сведения, кто он, Суконцев? Откуда прибыл? Где и с кем воевал? Приедешь, не успеешь глазом моргнуть, как тебя сразу к стенке…
От Кузьмина можно всего ожидать. Этот не пощадит. Красный из красных!..
Вечером он откровенно поговорил в полутемной, наглухо прикрытой ставнями горнице с Терентием и Мартемьяном.
А поздней ночью Износков проводил его на секретную заимку.
— Передай там Ваське Сточному, — приглушенно басил Мартемьян, пока Суконцев суетливо седлал во дворе одну из лошадей хозяина, приторачивал к седлу дорожную суму с едой для себя и Сточного, — что надо бы ему хоть разок опять наведаться с ребятами в наше Мануйлово. Братищева со Грачевым угомонить. Да пусть и меня в энтот раз не минет, чтобы кому в башку не взошло, будто не трогает потому, что я вроде как свой. Пущай хоть спалит у меня чего… ну тот вон сарай. А то пущай при людях ударит. Чего уж тут? Потерплю. Ото всех терплю. За общество вроде как пострадаю. Упомнил?
— Упомнил.
— Ну вот. А знак я подам через Кузьку. Ждите…
Ночь была звездной, туманно-светлой, фигуры людей и лошадей во дворе казались тенями, а голоса звучали глухо и вязко. Но молодые глаза и уши пятнадцатилетней девчонки Усти, племянницы Белаша, взятой им в дом после гибели дочери Тани, легко различали и тени людей, и главное — почти каждое слово из того, о чем там говорилось.
Устя спала в эти теплые ночи не в доме, а во дворе, в набитой сеном телеге. Проснулась от звонкого фырканья лошади у соседей. Застоявшаяся в душной конюшне сытая животина была, как видно, довольна и взбудоражена тем, что ей предстоит в неурочный час отправиться в степь. Потом девчонка услышала голоса.
Устя и до этого несколько раз урывками слышала странные, осторожные разговоры во дворе противного ей дядьки Мартемьяна с присланным из уезда другим неприятным дядькой Суконцевым. Девчоночье любопытство давно разбирало ее — подслушать, о чем говорят? И теперь она тихонько на цыпочках подкралась к плетню, отделявшему усадьбу Белаша от Износковых. Подкралась — и поразилась: речь шла о налете бандюги Сточного на их село… и вроде как об убийстве таких мужиков, как дядька Братищев с дядькой Грачевым…
Вначале ей стало жарко, потом охватил озноб. Почти бегом она вернулась к своей телеге, накинула на себя ряднинку, но так, чтобы уши были открыты, и до конца проследила за тем, как шаркнули по земле соседовы подворотья, как дядька Износков что-то еще сказал напоследок. После этого мягко затопали копыта, звякнул засов — и во дворе соседей все стихло.
Час спустя, покрутившись на мягком сене, притихла, заснув, и Устя.
Но разговор, услышанный ею ночью, не вышел из головы: утром она рассказала о нем Белашу.
Тот приказал ей:
— Нишкни! — и боязливо выглянул в сени: не подслушивает ли кривой Кузька? От такого жди всякой пакости, хитер и злопамятен…
Но когда девчонка ушла, задумался.
Снова со всей ясностью вспомнился ему тот страшный день, когда пьяный колчаковский сотник погубил Танюшу — единственную из всех, кто к тому времени еще оставался в живых из его семьи, если не считать взятую в дом племянницу Устю.
Что ему беляки?
Варнаки, погубители. Нет им прощенья. И хорошо, что красные победили их в смертном бою, хотя и слышно, что где-то еще какие из них остались.
А здесь — атаман Сточной нет-нет да и объявится. По-местному — тоже сила. До бога высоко, до города далеко, а Сточной под боком.
А кто в Мануйлове верховодит? Износков через Лубкова с Терентием. Да-а, по-прежнему, хочешь не хочешь, а Мартемьян.
Против него идут работящие, худого не скажешь, хорошие мужики: Грачев с Братищевым и другие. Но что они? Беднота. Какими были, такими и остались. Только что говорят на сходках про новую жизнь.
А он сам, Петр Белаш? Он хозяин не из последних. Не то что уж больно крепок. На это сил не хватает: стареет. А все же справный хозяин. И если бы не разные полномочные комиссары…
Теперь вон слыхано, что разверстку сменят налогом. А если не сменят? Пообещают, объявят для уговору, на том и все? Опять отдавай свое полномочным?
Охоты на это нет. Но нет и дружбы с соседом: этот — жадный волчина. Тих, медовит. Бывает — пустит слезу: сирота, мол, я, пострадал. А своего не упустит. Сточной в его самой секретной заимке как охранник. Чуть что — налетит, постреляет да посечет… конечно, партейных да полномочных. Но сколько добра в одночасье спалит, сколько душ безвинных осиротит и погубит. Вмешаешься — и тебя.
Встревать ли? Нет, погожу…
— Нишкни! — велел он в то утро Усте.
А к вечеру душа Белаша не выдержала. И когда девчонка опять собралась ночевать в набитой сеном телеге, он тихо велел ей:
— Прислухивайся там. Гляди. Если чего, стукни…
Несколько дней он и сам присматривался и прислушивался к тому, что делалось во дворе соседа.
Все было там вроде как всегда. И вдруг как-то уже под вечер, когда он копался в стоявшей пока без дела старенькой мак-кормиковской жатке, смазывал жирным, почти прозрачным смальцем ее ходовые узлы, — из дома соседа вышел во двор главный подручный в хозяйстве Мартемьяна кривоглазый Кузьма.
Белашу было слышно, как кривоглазый вначале позвякивал уздечкой в конюшне, поставленной спиной впритык к его забору, потом обротал резво топочущего сильными копытами любимого жеребчика Износкова. А минуту спустя на крыльце появился и сам Износков.
— Ну, с богом, — сказал он, когда кривоглазый вскочил в седло. — Как сказано, так и пусть…
Кузьма выехал со двора не на улицу, а через скрипучую калитку в огород, где был колодец и стояла баня, мимо которой тропа вела за высокое прясло в степь.
Значит, к Сточному…
Белаш о многом подумал в эти несколько дней после разговора с Устей, перебрал в памяти всю свою жизнь. С привычной болью вспомнил о Тане. Представил пьяного сотника и Сточного. Подумал об Износкове Мартемьяне. И в сотый раз о разверстке, взамен которой, что там ни думай, а все же объявлено облегченье.
— Да-а… как ни противься большевикам, их напористой власти, а видно, иного выхода нет и у них. Кормить им Россию надо? Слышно, с голоду в той России многие мрут.
«А тут у меня? Тем больше — у Мартемьяна? Сытость. Да и много ли надо мне, старику? Все равно оставлю хозяйство Устинье. А девке при власти Износкова со Сточным хорошего будет мало. Как Тане… По крайности хоть такие красные мужики, как Братищев или Грачев, не недужны желаньем власти или богатства. Ищут истины и добра. Чего же я? Не по совести…»
Обдумав все это, он истово помолился перед иконой божьей матери, надел на седеющую голову совсем еще новенький картуз (перед войной покупал его в Омске) — и отправился к Агафону Грачеву.
В эту первую ночь Сточной в Мануйлово не явился.
Как ни вслушивались в ночные шорохи, как ни вглядывались в мглистую даль кое-как вооруженные мужики вместе с молоденькими красноармейцами, так толком и не понявшими, почему и зачем сбежал из села их начальник Суконцев и почему должен нынешней ночью сделать налет Сточной, — до утра все было спокойно: ни угрожающих звуков, ни человеческой тени.
В тревожном ожидании прошел и весь день.
А к вечеру из села Знаменского вместе с ездившим туда посыльным вернулась полусотня крепыша Макарова. Его бойцы к ночи прочно заняли оборону на всех выездах в степь, залегли за сараями и плетнями, чтобы бандиты Сточного вошли в село, как в ловушку.
Поняв, что замысленное им сорвалось, перепуганный неожиданным поворотом событий Износков тщетно пытался сунуть кривоглазого Кузьму то в один, то в другой пролаз — из этого ничего не вышло, и Мартемьян, бормоча про себя то брань, то молитвы, сам запер ворота и двери на все засовы, затеплил лампаду и час за часом, почти до рассвета, трусливо томился в своем добротном дому до тех пор, пока за наглухо закрытыми ставнями не послышался топот копыт и рев хриплых глоток.
Минуту спустя этот истошный бандитский рев покрыли резкие, как удары по голове, выстрелы красноармейцев Макарова…
Из двух с половиной тысяч рабочих, бывших солдат, комиссаров, матросов и партизан, отправленных Сибревкомом на места для учета и сбора хлеба, ко времени прибытия эшелона в Омск в живых осталась едва половина. Выстрелы ночью, поджоги, налеты больших и малых банд, зверино-дикие самосуды не прекращались там всю весну и начало лета.
Но в эшелоне еще не знали об этом. Рабочие отправились в путь пока еще лишь полные надежд на удачу, на сытость, на несколько месяцев свободной и необычной жизни в богатой, таинственной, страшной и притягательной Сибири, где надо быть начеку, держаться гуртом, один к одному, показать рабочую силу. При этом большинство из них мало задумывалось о том, по каким законам, по чьим мудрым замыслам они собрались и вот уже не первую неделю едут, а чаще стоят на забитых составами станциях и полустанках, где каждый норовит первым выскочить из теплушки, купить, а вернее — выменять на барахлишко что-нибудь вроде шматочка сала или пары горячих картофелин с уже сморщенным от зимнего лежания соленым огурцом, чтобы потом с наслаждением запить еду кипятком из успевшего черно прокоптиться в дороге на дымных кострах железного чайника.
А мудрый замысел, разумеется, был. Все совершалось по его продуманным планам. Подобно камню-снаряду, метко пущенному из пращи смелым и сильным воином в хорошо разведанную цель, эшелон день за днем двигался вперед, чтобы выполнить поставленную Лениным государственную задачу. Но почти каждый из едущих считал в душе, что едет в Сибирь не столько по этим, сколько по личным своим делам. Ну поработает там. Ну получит за это что надо. А кроме того, еще наменяет муки на припрятанные на нарах до поры до времени штаны да рубашки. Потом, довольный и сытый, вернется домой, к своим.
Съездил, добыл, вернулся — вот вам и все. Как мной лично задумано, так и сделано…
Даже Веритеев, занятый множеством каждодневных забот, из которых главными были питание людей в пути и проталкивание эшелона вперед на забитых другими составами железнодорожных узлах, постепенно стал забывать обо всем ином, кроме этой дороги. Исхудавший, небритый, с надорванной от ругани с комендантами и дежурными по станциям глоткой, не успевающий поесть и выспаться в этой немыслимой кутерьме, — даже он постепенно погрузился в дела эшелона, как бы отъединенные стихией движения от всего остального мира. А ехать предстояло долго: еще даже не перевалили через Урал, где удастся наконец-то пережарить своих поселковых вшей в Челябинском санпропускнике…
В поселке, при неопределенности и неполноте работы на чужом американском заводе, нехватке еды и всего, что ежедневно требовалось для семьи, в обстановке общей взбудораженности жизни в стране — митингов, споров в цеху, придирок друг к другу во время случайных споров и встреч, — у каждого накопилось немало горького раздражения. На смену гордым лозунгам гражданской войны стали появляться другие: «За что боролись? Куда заворачиваем? Докатились!» — это все разобщало, лишало многих твердой рабочей основы. Но вот стоило вызванному трудностями жизни временному разобщению как бы остаться за пределами эшелона — пусть даже на время, даже на первые две недели пути, — как то главное, что годами определяло смысл государственной жизни этих людей, выдвинулось вперед, изменило климат их жизни, повернуло друг к другу доброй, живой стороной.
Человек как бы ехал в тумане по изрытой ухабами дороге, устал и — вдруг выехал в ясный свет, на главную ровную колею. Над дорогой — весеннее небо, с обеих сторон — то лесок, то лужок в ромашках. Отпущены тормоза, отходит душа, проясняется даль впереди. И те из спутников, которых он совсем недавно считал докучными и чужими, на поверку оказались знакомыми и родными.
Собранные вместе для общего и хорошего дела, все теперь как бы заново встретились друг с другом, впервые по-настоящему пригляделись друг к другу, по-людски поговорили о том о сем. Один рассказал веселую байку, другой вдруг взбрехнул бодягу, но тоже, в общем, неплохо. Третий пожаловался было на свои семейные беды, тогда четвертый махнул на все это рукой:
— Кончай, братва, про свои болячки. Давайте лучше споем!
И в полный голос начал знакомую песню про вольного казака и красавицу персиянку…
Пели во всех вагонах, в дороге и на стоянках. Пели с самого первого дня, как только состав отошел от родного поселка, и люди, отплакав и отсмеявшись после веселых и грустных прощаний с близкими и друзьями, тесно расселись на ими же сколоченных нижних и верхних нарах, понемногу начали приходить в себя после суматошных дней сборов, ожидания и тревог, представили себе — кто с надеждой, а кто с тоской — то, что оставили дома я что ожидает их впереди, свободно вздохнули — и потянуло всех по российской привычке к песне.
Кто-то еще продолжал копаться на отведенном ему месте, поудобнее устраиваясь в тесном ряду заваленных сумками да мешками нарах. Кто-то еще шмыгал носом, вытирая последние слезы, вызванные разлукой. Кто-то завел разговор с давным-давно знакомым соседом, как будто только теперь по-настоящему встретившись с ним вне заводской работы, на вольной воле. А молодые голоса парней и девчат уже начинали пока нестройную (ладность придет потом, когда обживутся и станут одной семьей), но хорошо всем известную песню про удалого князя и старого Хазбулата или о том, как тревожно шумел камыш и как низко гнулись деревья в ту бурную ночь, когда девица, ослушавшись матери, всю ночь прогуляла с милым…
Штабную теплушку, в которой ехал Веритеев с другими членами штаба, поставили в середину состава: отсюда легче было связываться со старостами вагонов. Сюда же слышнее всего доносилось не только на остановках, но и на тихом ходу, с каким тянул тяжелый состав машинист Никитин, как и о чем поют, особенно в ближних вагонах.
— Все еще не свои, а чужие поем, — с досадой говорил Веритеев, невольно прислушиваясь то к бойким, слаженным голосам, то к нудным и заунывным, полным тоски и горя, а то и к нетрезвым, надтреснутым, хрипловатым. — Чаще жалостливые да разбойничьи, запьянцовские да мещанские, городские…
— И то, — соглашались с ним. — Может, наши хорошие песни когда и появятся, а нынче все больше эти. Либо об том, как ехал на ярмарку ухарь-купец, либо Камаринскую да про разных бродяг…
— А мы в Мануйлове больше про деревенское, про крестьянскую жизнь поем, — откликался Савелий, ехавший тоже в штабном вагоне: здесь он был как бы представителем тех самых сибиряков, к которым двигался эшелон. — Свою орловскую отчизну, можно сказать, забыли. Как и чалдоны, поем про Сибирь…
— Про деревенское это правильно и понятно, — соглашались с ним. — Деревня пока и для нас, рабочего класса, считай, у самого сердца. Земля, она всем родная, навеки такой и будет. О ней и песни не те, что иные в городах поют. Чуть не у каждого из рабочих пуповина все еще за крестьянское чрево держится. Ее корешки до старости остаются, будь хоть какой-никакой ты распролетарий!
— Я вот на что, если сказать, ушел на завод мальчонкой, в селе ни избы, ни родни, а нет-нет да потянет в свою Крыловку…
— Ну, а что гулевые да запьянцовские, тоже понятно: рабочие в городе на одной окраине с босяками росли, в одни бабки играли. Что сапожник, что швейка или там вор с Домниковки или с Хитрова рынка — одним с ними воздухом, чай, дышали, рядом в каморке родились и парнями стали. Наслушались этих — «Пей, гуляй покуда, рыжая паскуда» или там, скажем, «Где вы, ночи гулевые, поножовые…».
Они замолкали, прислушиваясь к долетающим сюда голосам. Теперь из ближней теплушки, где ехала молодежь и куда все чаще из штабного вагона уходили на длинные перегоны трое штабных «адъютантов», доносился печальный, тревожащий душу протяжный мотив. Песня рассказывала о том, как бредут по пыльной дороге под жандармским конвоем колодники и как в такт их усталым шагам звенят кандалы:
— Хорошо спелись, черти! — с удовольствием замечал Веритеев. — Им бы теперь в самый раз насчет революции и коммуны…
— Да-а… Поем мы и «Варшавянку» или, скажем, «Интернационал». Однако их так вот запросто, сидя в теплушке, а тем более дома, не запоешь! Вот и поют, кто что знает. Раньше, я помню, все брали из граммофонной трубы. В трактирах она как начнет, бывало, так целый вечер из улицы в улицу и гремит. Хочешь не хочешь — заучишь. А раз заучил — споешь…
— Слышь ты, как там распелись? И заводилы всему Мотька Вавилов с Антошкой Головиным. Глянь ты, что завели…
Кто-то тоненько, как дьячок, начинал:
Остальные подхватывали по-собачьи рявкающими голосами:
Песня с гавкающим припевом продолжалась минут пятнадцать. Потом два звонких девчоночьих голоска («Это Зинка Головина с Клавой Тимохиной!» — вслух отмечал Фома Копылов) — чисто и хорошо, всерьез заводили:
И вдруг вся ватага в три десятка голосов, среди которых опять выделялись басок Матвея Вавилова и мальчишеский альт Антошки Головина, ни с того ни с сего начинала дурашливо бубнить припев:
— И при чем тут Коминтерн, скажи на милость? — сердился и посмеивался Веритеев. — Однако же нравится дуракам! Бубнят про попа взахлеб…
— По глупой молодости, что с них взять?
В другом вагоне (его называли «бабьим») несколько пожилых работниц — заводские уборщицы, тряпкомойщицы, подсобницы из разных цехов, сторожихи — составили свой особый полустарушечий хор. Скрипучими голосами, не разбиваясь на подголосья, они часами тянули что-то совсем уж старое, обросшее мхом, как говорил Веритеев. Чаще всего пели запомнившиеся еще смолоду «роковые» и жалостливые о том, как обманутая своим любезным Маруся отравилась, о Ваське-ключнике, злом разлучнике, или о бабьей ревнивой мести: «Умри же, изменщик коварный!», о горестной бабьей доле в старые времена. Пели совсем уже неведомо как и откуда взятое нищенское скуление.
— Опять своего «Лазаря» затянули! — невольно вздыхали в вагоне бабы помоложе.
Но как раз «Лазаря»-то старухи и любили больше всего, его чаще всего и тянули с особенным рвением. А пристрастились к нему потому, что длинно: песни хватает на самый большой перегон от разъезда к разъезду. К тому же и однотонно. Значит, каждой под силу. И точно в лад постукиванию колес по рельсовым стыкам. Да еще по унылости мотива на молитву похоже, значит богоугодно. Слова тоже молитве «в масть»:
Конца не было этому «Лазарю». Вся история всемирного потопа, начиная с людских прегрешений, вызвавших божий гнев, кончая ноевым ковчегом с семью парами чистых и нечистых, долго и подробно рассказывалась в ней с тяжкими вздохами, с многозначительными повторами. Старухам нравилась эта история и тем, что горестна, безнадежна: «Ох, вовсе не без причины напоминает она людям о гневе божьем! Поешь — и становится жалко бедных людишек с их многочисленными грехами, с их пустым мельтешеньем. Погибнут они, погибнут они от пороков!» Жалко старым и самих себя, мало что понимающих в нынешнем смутном времени: хлещет людей со всех сторон жизнь волнами голода, войн, болезней. Вот-вот и снова хлынет на землю всемирный потоп, наступит кончина мира…
— Да будет вам, бабки, выть! — тоже невольно думая об этом, сердито говорила староста бабьего вагона Варвара Чижова, член партии, стерженщица чугунолитейного цеха, когда «Лазарь» становился просто невыносимым, сверлил мозги своей унылой обреченностью. — Завели бы чего веселее. Ну хоть про то, как полоску Маша жала, золоты снопы вязала…
— Эко чего захотела, бесстыдница! — упрекала ее Аграфена Коркина, самая старшая из старух. — Ты бы еще чего посрамней присоветовала! Там, чай, в те поры «из походу шел солдат, слуга народа»… знаем зачем!
— Ну, «Шумел-горел пожар московский!»
— Не-е…
— Тогда про разбойников, про Кудеяра.
— А-а… про разбойников можно. Давайте, девки, — обращалась Аграфена к старухам. — Уважим Варвару Лексеевну, споем ей про Кудеяра…
Они затягивали на торжественный, почти церковный мотив:
— Стой! Погоди! — спохватывалась самая набожная из них Антонида Спиридонова. — Эта, вишь, тоже не без охальства! Кудеяр-то, чай, с полюбовницей тешился…
— Ну и что? — после некоторого замешательства замечала Аграфена. — Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. А Кудеяр, он покаялся. По господней милости святым стал. Давай, мать, не бастуй, споем Кудеяра…
Они опять негромко тянули:
Проходя сквозь все эти песни, как сильная волна сквозь решетчатую ограду, — издалека, от хвоста состава, к штабному вагону докатывались нечеловеческие, отливающие металлом звуки оркестра. Это любитель музыки инженер Свибульский, поляк, всю дорогу деспотически репетировал с самодеятельным оркестром различные музыкальные пьесы. Ясно и молодо пели медные трубы. Синкопами перезванивались литавры. Гудел барабан. И к зеленеющим вдоль железной дороги полям и лесам уплывали то звуки вальсов и падекатров, то густо катились невидимые волны строгой симфонической музыки.
— А что-то поет наша интеллигенция? — не без ехидства спрашивал Иван Амелин, чаще всего занятый просмотром и подготовкой разных официальных бумаг: он отвечал за питание отряда в пути, и это хлопотное дело не оставляло ему ни минуты покоя.
— А что она может петь? У них в чести «Не осенний мелкий дождичек» да «Мой костер в тумане светит…».
— Красиво поют! — не соглашался с насмешливым тоном вопроса и ответа Веритеев. — Особенно, я заметил, стараются эта, как ее, Вероника, что ли, Пламенецкая, да дочки заводского «министра финансов» Петра Петровича Клетского.
— Ага! — подтверждал Фома Копылов. — Обе ухоженные, красивые барышни. Старшая Соня, а младшая Катенька… Головин Антошка, слыхал я, в нее влюбился..
— Да ну?
— А что?
— Да так, ничего. И как это Петр Петрович решился взять их в такую даль? — удивлялся Амелин. — С нашими-то заводскими парнями? Каждый «оторви да брось»! Уж несколько случаев было. Вчера я одну пару из-под вагона выгнал. Прямо там и пристроились.
— По согласию, что тут делать? На нарах все рядом лежат. Тут, брат, знаешь…
— Я-то, брат, знаю, а этот Клетский с чего? От жадности, что ли? Может, на то надеется, что побольше муки домой привезет, за себя и за дочек? Да только вот довезет ли девок до дома в целости, в том вопрос! На общих- то нарах, вповалку…
— Может, и довезет. Обе от папеньки ни на шаг…
— А поют уж верно, что хорошо! Папаша им вторит своим баском, а они и выводят, выводят. Старшая звонко так, высоко, а младшенькая пониже… контральтом.
— И уж совсем любота, когда заведут «Нелюдимое море»…
— Ага! Еще только зачнут в два своих крепеньких голоса про то, как «день и ночь шумит оно», а у меня в душе уж с чегой-то хорошее вот-вот подойдет… А уж когда споют про ладью, а потом в три полные голоса этак по-боевому закончат — мол, «Смело, братья! Ветром полный прям и крепок парус мой!», то так вот прямо и хочется в ту блаженную страну, какая ждет кажного из нас «за далью непогоды»…
— Что говорить, хорошие девки.
— И Петр Петрович ничего.
— Подходящий мужик, хоть из бывших.
— Ну, чем уж он бывший? Не барин, чай, был. Служил…
— А как удивил Оржанов?!
— Этот уж да! Надо же, братцы, какой голосище!
— Труба ерихонская, а не голос!
— В тот день я прямо перепугался: чего это, думаю? Кто?
— Я как в тот первый раз услыхал, думаю: ну, пропали! Вроде — обстрел. Не бандюги ли, думаю, в нас палят из того лесочка? Ан это Оржанов грохочет своим басищем.
И в самом деле: как-то во время многодневной, всех истомившей стоянки, возвращаясь в свой вагон от коменданта после очередного резкого разговора по поводу длительной задержки состава, Веритеев еще издали услышал поразивший его могучий, просто нечеловеческий бас.
Не однажды он слышал в последние годы Шаляпина — только что после одной из партконференций тот пел в концерте для делегатов не меньше чем полчаса. Пел знаменитые арии Мефистофеля, «Дубинушку», про кума да куму. Но чтобы так сильно, как этот, в теплушке?!
Между тем оттуда оглушительно, буйно, как бы расталкивая и ломая воздух, летело:
Бас грохотал, как гром во время грозы. Он забивал все другие звуки на шумной, многолюдной станции. Веритеев от удивления даже остановился:
— Кто такой? Сколько ни ехали, не было слышно, а тут вдруг взял да запел…
Со всех сторон с выражением любопытства и недоумения на лицах к теплушке бежали истомленные бездельем люди. Вскоре перед «вагоном интеллигенции» скопилась большая толпа, как во время концерта.
Пел ехавший с самодеятельными артистами руководитель заводского драмкружка Оржанов, известный в поселке тем, что играл проходные роли в спектаклях Московского Малого театра. Много лет спустя он получил звание Заслуженного артиста Российской республики, роль Скалозуба в «Горе от ума» стала его коронной, а в те далекие годы для едущих в эшелоне Оржанов был ничем особым не примечательный — просто рослый, скорее даже массивный молодой человек с густой каштановой шевелюрой, прямым крупным носом, крупным ртом и удивительно добрым, привлекающим к себе благожелательным выражением по-деревенски грубоватого лица.
В день отправки эшелона из поселка все видели, как провожала его в дорогу седая стройная дама в пенсне, с вуалеткой на черной соломенной шляпе. Переняв яркий шелковый зонтик с правой руки в левую, она, когда объявили посадку, перекрестила его этой правой маленькой ручкой в черной кружевной перчатке. И хотя в поселке было известно, что это мать артиста Малого театра Анатолия Ивановича Оржанова, бывшая учительница одной из московских гимназий, которая теперь руководит танцевально-музыкальным кружком в заводском клубе, обучает поселковых девчонок да мальчишек добру, — все равно большинство ехавших в эшелоне рабочих, а особенно трое «адъютантов» штаба, вообще ревниво относившихся к «этой недорезанной интеллигенции», в первое время сторонились Оржанова, относились к нему настороженно, почти враждебно.
— Еще бы! — говорил Антошка. — У его мамаши перчаточки на господских ручках… пенсне на курином носике… сетка на шляпе… барыня!
Иван Амелин в один из дней даже поссорился с Веритеевым, утверждая, что зря тот поручил Оржанову драмкружок. Ничему хорошему ни этот артист, ни «оржановская барыня» народ не научат.
— Что с того, что она показывает нашим парням да девкам, как надо кружиться в танцах? — напористо наседал он на Веритеева, — Что же касаемо до музыки, то в ее ребячьем кружке, считай, наших детишек почти и нет. Все инженеровы да инострановы. Нашим не до музыки с пеньем, а лишь бы сытыми быть!
— Ничего! — упорствовал Веритеев. — Вот съездим с тобой в Сибирь, потом подкормим сибирским хлебом наших ребят, глядишь — и они запоют не хуже, чем инженеровы…
— Жди!
— Надо будет, и подождем, а и рабочих детишек всему научим. Не одним же богатым…
Настороженное, а у Антошки с его друзьями даже почти враждебное отношение к «этим барам» было довольно стойким. Оно вырабатывалось годами, с детства.
Антошке не было четырнадцати лет, когда совершилась Октябрьская революция, но он уже успел не только узнать, но и как бы кожей всей — ощутить несправедливости бытия. Ему, рабочему пареньку, давно было ясно, что кем-то когда-то жизнь людей устроена не по правде, а в интересах господ. Дядя Сергей из-за них не вернулся с войны, лег в землю где-то под Перемышлем. Летом 1917 года на его глазах стражник зарубил саблей рабочего-большевика Титова. А в дни октябрьского переворота схоронили с почестями двух латышей из заводского боевого отряда.
Но главное даже не в этом. Главное в том, что отец, а до отца дед Иван, крепостной крестьянин, а до Ивана — прадед Ефим — все они работали на господ. И самому Антошке пришлось с подростковых лет подниматься чуть свет в полутемном закутке с жесткого тюфячка, что-нибудь сжевать на ходу — и бежать, торопиться, не опоздать бы. Зато посмотришь на дочек и жен инженеров и мастеров или на олухов вроде Эдвина Гартхена и Карла, сына мистера Фишкина, — оба пижона в шляпах, с тросточками в руках, — сердце так и зайдется: жируют! Всю жизнь жируют: им ветер в зад! Не хочешь, а злость возникает.
Нечто похожее испытывали Антошка, его товарищи «адъютанты» и многие из рабочих по отношению к Оржанову, Клетскому, инженеру Свибульскому и другим «господам», ехавшим, главным образом, в вагоне интеллигенции. Но вот пошли однообразные, одинаковые для всех дорожные будни. «Баре» и «голота» спали вместе на нарах. Сообща добывали дровишки. Разжигали рядом костры и возле своих вагонов варили в ведрах щи да супы. Помогали друг другу то в том, то в другом.
Постепенно все стало как-то подравниваться, притираться, перемешиваться. Завелись общие — и серьезные, и веселые — разговоры. Оказались общими песни. И выяснилось, к примеру, что «девки министра финансов» Клетского и сам он — совсем «без форсу», что мужик он начитанный, и уж если начнет о чем толковать — бери уши в руки и слушай. Вполне башковитый мужик!
Оказалось, что и сынок «оржанской барыньки» — парень тоже, считай, хороший, свойский.
«Спектакли, какие показывают у него в Московском театре, знает все наизусть и как зачнет представлять их в лицах, только держись!»
«А уж насчет анекдотов — животики надорвешь!»
«Артист — он и есть артист!..»
В довершение всего — теперь вдруг оказалось, что Оржанов еще и певец.
«Да с таким голосищем!»
«Ревет что наш паровоз, когда машинист Никитин требует открыть семафор!..»
— Чего же вы скрывали? — спросил Веритеев Оржанова, когда тот кончил петь и народ постепенно стал расходиться. — Такой голосище…
Оржанов смущенно пожал могучими плечами и промолчал. Внимание явно льстило ему, успех — несомненный. Но и расстраивало. Это было видно по тому смущенному, почти виноватому выражению, которое установилось на его порозовевшем от волнения мясистом и крупном, даже, пожалуй, по-мужицки грубом, но и по- своему привлекательном, мужественном лице.
— Нет, так у нас не пойдет! — все напористее нажимал на него Веритеев. — Если вас выпустить на концерте в той же Сибири, а может, и тут, на станции… это поможет вернее разных там просьб! За такой бас мы всех комендантов на станциях купим! Будут наш эшелон отправлять без очереди! — шутливо добавил он.
— Извините, но дело в том, — наконец признался Оржанов, — что у меня нет слуха. Совершенно нет. Что заучил с граммофонных пластинок, то и могу. Да и то…
Он виновато развел руками:
— Обделила меня природа. Мама еще в юности брала для меня хороших учителей, в консерваторию возила… «Дерево, — говорят. — Сильное, рослое, но — дерево».
— Как это «дерево»?
— Так. Мелодики нет. Звук есть, реву. А музыкальности — нет.
— А какая народу разница, заучили или поете по той… по мелодике? Ну-ка, спойте еще разок про род людской…
Оржанов замялся:
— Да я…
Из группы любопытствующих, продолжавших еще стоять перед теплушкой, протестующе понеслось:
— Что зря стесняться? Голос дай боже!
— Точь-в-точь Шаляпин!
— Давай, давай!
— Про-о-осим!
Растерянно улыбаясь, Оржанов с минуту помедлил, потом шагнул из глубины теплушки в самый проем широкой двери, набрал в легкие воздух по самое горло, выбросил правую руку вперед, как это делают все певцы, — и над толпой, над пристанционными шумами, над крышами пустых и набитых людьми других составов и деревянных домиков за привокзальной чертой сильно, насмешливо загремело:
— «Дубинушку» тоже поете?
— Пою…
— Чего я все думаю? — довольный, сказал Веритеев, когда возле теплушки утихли поощрительные хлопки и выкрики. — Драмкружок у нас есть? Хорошо. Спасибо вам. Оркестр — тоже есть. Вместе — они наш, так сказать, культурный резерв, опора во всех мероприятиях. Но оркестр оркестром, а песни — песнями. Чего у нас больше любят? Песни. Конечно, где про любовь, где частушки, а где и другие разные. Ну, а все ж таки песни! Послушал я, пока ехали: есть голоса! А теперь вот и ваш. Программа на целый концерт! Так что, сказать откровенно, есть мысль! Какая? А вот какая: Сибирь еще далеко, а когда долго держат, не отправляют, как нынче…
Бывает, что по занятости пути, а бывает — по саботажу меньшевиков и эсеров: «Вот, мол, вам, комиссарам московским!» Тут взять да и дать концерт в привокзальном клубе! В дело пойдет и «Златой кумир» и «Дубинушка». А тем более «Варшавянка» и «Смело, товарищи, в ногу». Уважим честных путейцев, расшевелим… Обоюдная польза! А? Давайте сейчас зайдем к коменданту…
— Но как же это, дядя Иван, получается? — неожиданно вмешался в разговор стоявший рядом Антошка. — Тут сказано, что «волю неба презирая» и «небес закон святой», когда бога нет? Вещь-то не наша…
— Да и царит он «во всей вселенной». Подумают, что до сих пор царит и у нас, — поддержал Антошку Гриня Шустин.
Веритеев растерянно хмыкнул:
— Хм… верно. Однако же, как говорится, репертуар… классика?
— Классика классов, какие остались там! — Антошка многозначительно кивнул в ту сторону, где виднелись последние теплушки их эшелона, что означало кивок на Запад. — Надо хотя бы, что «не царит», а «царил» в прошлом…
Молча слушавший их, вообще редко подающий голос Родик Цветков вполголоса предложил:
— С «царит» на «царил» — это можно сделать легко. Оно складывается само: «Чтил один кумир священный. Он царил во всей вселенной». А закончить можно хоть так:
— Какого еще «пленительного»? — насторожился Антошка.
— Так у Пушкина. Про звезду… декабристам.
— Ага… Ну и что?
— А то, что —
— Он… это… он… я сейчас.
Неожиданно для себя Антошка закончил:
— Правильно! — крикнул Гриня. — Так и петь.
— А что? И верно, не плохо, — согласился Веритеев.
— Тоже про сатану, — опять вмешался Антошка. — Раз его, как и бога, нет, то к чему? Лучше бы — «Капитал там правил бал…».
— Хм… ну-ка, Цветков, ты у нас стихоплет, прочитай теперь, что придумали, целиком, — попросил Веритеев. — Запомнил слова?
— Запомнил.
— Вот и давай…
Родик почти без запинки прочитал сообща исправленный текст арии Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст» с новым рефреном: «Свергнув царский капитал, сам он занял пьедестал», и все согласились: теперь хорошо. Остается артисту Оржанову крепенько все это выучить, запомнить новые слова, а когда придется выступать перед путейцами и в Сибири, так и петь.
— Запомнишь слова-то? — переходя на дружеское «ты», спросил Веритеев Оржанова.
Тот замялся было, но тряхнул каштаново-темными волосами, твердо сказал:
— Постараюсь. Сейчас запишу, потом напою…
…Но напеть ему в этот раз не пришлось.
Из-под соседнего состава, за которым виднелись купы тополей и крыши пристанционного поселка, выскочил Филька Тимохин. Минуту спустя оттуда же вынырнул пунцовый от ярости мужик. Как потом выяснилось, это был один из едущих в эшелоне малознакомых Веритееву рабочих. Ругаясь на чем свет стоит, рабочий стал гоняться за Филькой, а тот, цепляясь на бегу то за одного, то за другого из стоящих перед теплушкой Оржанова людей, подталкивал их навстречу преследователю и поощрительно выкрикивал:
— Наддай, дядя! Так-так… еще поднажми! Молодец. Понравилась курица? Сам просил…
— Я те за эту курицу… я те за эту курицу, — вперемешку с ругательствами хрипло бормотал на бегу рабочий. — Только дай мне догнать!
— А я и даю! Вот я… бери!
Поняв, что парня ему не догнать, рабочий в последний раз длинно выругался, погрозил кулаком: «Тебя я еще достану!» — и, качаясь от усталости, зашагал в хвост состава.
— Чего это он тебя? — спросил Антошка, когда Веритеев ушел вместе с Оржановым в штабной вагон для подробного разговора.
— Курицу я ему продал, — со смехом ответил Филька.
— Какую курицу?
— Хохлаточку. Пестренькую…
И под хохот стоявших вокруг девчат и парней во всех подробностях рассказал, как продал рабочему курицу. Не свою, а чужую. И продал не из корысти, из любопытства.
В тот день он был сыт «от пуза», забрел от нечего делать в пристанционный поселок — взглянуть, как живут здесь люди. Значит, шел себе и шел по улочке поселка вдоль палисадников, и вдруг у одного из домиков увидел в углу между крыльцом и калиткой, ведущей во двор, пеструю курицу. Она самозабвенно копалась в пыльной земле и, поклохтав, тыкалась в нее клювом.
— Ну, думаю, ты моя! — со смаком рассказывал Филька. — Взяло меня любопытство: прижму, мол, тебя в углу — и голову прочь!
— А она?
— А она, видно, ждет, как ей башку откручу. Растопырил я руки вот так, присел на корточки и стал на нее, ну, чуть не ползти. Боюсь, закудахчет, хозяин услышит, я — пропал. И только я, значит, нацелился на нее, как этот долдон, — Филька указал глазами на далеко уже отшагавшего вдоль состава рабочего, — он возьми да сзади и подойди. Вначале я думал — курячий хозяин. Хотел было пошутить, что вот, мол, с хохлаточкой вашей тут говорю на ихнем цыплячьем языке. А он мне впрямую, сам: «Твоя?» — «Моя», — говорю. «Продай!» — «Сколько дашь?» — говорю. «Деньгами?» — «Ну, хоть деньгами». — «Пять тысяч дам». — «Э-э, говорю, задарма! Да ладно, черт с тобой, говорю, давай твои пять!» — И только он отсчитал мне пять тыщ, вот эти, — Филька вытащил из кармана штанов и показал окружающим смятую пачку денег, — как со двора, из калитки, возьми да выйди хозяин. Видно, слыхал весь наш торг. Да как хворостиной даст мне по кумполу… эно, как оцарапал. — Он показал и царапину. — Я, значит, прочь оттель вот сюда. А мой покупщик — за мной. «Отдавай, кричит, деньги мои, гад ползучий!» И все норовит догнать. Раза два камнем кинул, да не попал. И обиделся. А чего? Сам виноват! Чужим попользоваться хотел, суп с курятинкой похлебать. Вот пускай теперь и хлебает…
— А деньги? — спросил Антошка.
— Эти-то? — Филька разжал грязную, как всегда, ладонь, с огорчением оглядел измятые «сотки». — Уж так- то бы мне они пригодились… денежек нет совсем!..
— Мало ли что!
— Ну это да, — согласился парень. — Я об них тогда и не думал. Вошло в башку подшутить над долдоном, когда он стал торговаться, и все. А тут — хозяин, я и бежать…
Он еще раз взглянул на деньги, вздохнул:
— Черт с ними, пойду отдам…
Все время, пока он шел вдоль состава к последним вагонам, оставшиеся у оржановской теплушки глядели ему вслед и подшучивали:
— Отдаст?
— Не отдаст!
— Возьмет да в последний момент и нырнет под вагон: Тимохин парень таковский…
Но Филька посрамил маловеров: все внимательнее разглядывая похожие одна на другую теплушки, он деловито задерживался чуть ли не возле каждой из них, кого-то о чем-то спрашивал, потом остановился совсем, подошел к дверям намеченной теплушки вплотную и протянул туда руку.
— Отдает! — довольный, сказал Антошка.
И вдруг Филька отпрянул назад: из теплушки выпрыгнул похожий издали на медведя знакомый уже рабочий. Филька кубарем откатился прочь, вскочил и кинулся под вагоны…
Платон Головин с эшелоном не ехал. Как секретарю партбюро, ему пришлось остаться в поселке, где несколько десятков рабочих и служащих должны будут заняться инвентаризацией заводского имущества, капитальным ремонтом, приведением в порядок не только изработавшихся станков, силовых установок, но также производственных и жилых зданий, складов хозяйственного двора.
Начнет или не начнет завод после этого работать в полную силу, прибудут или нет от Мак-Кормиков необходимые для выполнения условий договора с Москвой детали и машины или придется брать завод в свои советские руки — это решится летом, после поездки Круминга к хозяевам в Америку, а подготовить цехи к следующей зиме — необходимо в любом случае.
Кроме того, еще в январе по всему Подмосковью, включая поселок, был объявлен ударный месячник сбора металлолома для ремонта сельскохозяйственного инвентаря. На складах местных исполкомов уже скопились и продолжали скапливаться груды этого лома. В сельских кузницах не умолкал перезвон молотков: ковали и чинили лемехи для плугов, бороны, грабли, лопаты, вилы, обтягивали железом полозья саней и колеса телег, обували в новенькие подковы кое-как перезимовавших, отощавших за зиму лошадей.
А некоторое время спустя и весь сельскохозяйственный год был объявлен ударным: по прогнозам специалистов — двадцать первый вряд ли будет в центральной России урожайнее и лучше двадцатого. В связи с этим, по договоренности ВСНХ с Крумингом, на заводе тоже надо было сделать немало для нужд коммун, совхозов и коллективных крестьянских хозяйств округи. И как ни хотелось Платону двинуться вместе со всеми в Сибирь, пришлось свое место в эшелоне уступить дочери: бойкая девчонка спала и видела, когда наконец все сборы закончатся и она вместе с Клавой Тимохиной, которую тоже берут вместо отца, убитого прошлой осенью во время схватки с бандитами, отправится в неведомую Сибирь за хлебом.
— Уж я-то хлебушка привезу! — с таинственным видом хвасталась Зинка. — Мне только бы до Сибири доехать!
— На какие шиши ты его привезешь? — удивлялась Дарья Васильевна. — Что возьмешь на обмен за хлеб? Чуть не голые ходим!
— Я знаю, на что! Вот увидишь: сто пудов привезу!
— Ну, сколько ни привезет, а пусть едет, — решил Платон. — Хоть с пуд заработает там, и то хорошо, зимой будет легче…
Но Зинка лучше отца и матери знала, что говорила: кое-что из Филатычева клада она успела припрятать. Не сразу, чуть погодя, но спрятала надежно. Об этом не узнал никто, кроме Клавки. А та — не выдаст…
В тот день, когда блаженный старик, пока они с Клавой самозабвенно таскали друга друга за косы, сумел пробраться во двор и увидел свое разорение, а потом пошел, спотыкаясь как чумной, прочь со двора, — в тот день на короткий миг в душе Зинки шевельнулось было острое чувство жалости:
«Может, отдать старику чугун? Догнать его и сказать: раз твое — на, Филатыч!»
Шевельнулось — и сразу пропало: «Сам-то Филатыч бедных жалел? Как бы не так, пожалеет! — сердито решила Зинка. — Сосал как паук, черт пузатый. Из чугуна ничего ему не отдам…»
Но неожиданно для нее в тот же вечер Филатыч сам явился к Головиным. Пришел злой, разъяренный. Совсем не похожий на того несчастного старика, к которому Головины уже успели привыкнуть. Не стал топтаться на месте. Не бормотал бессмыслицу, как всегда. А просто без спросу взошел на крыльцо, шагнул в сени, где Зинка заканчивала мыть полы, зыркнул по ней ненавидящим взглядом — и прошел прямо в дом.
Забыв от удивления выжать над лоханью мокрую тряпку, девчонка застыла на месте:
«Это зачем же? Неужто явился требовать клад?..»
На цыпочках она подкралась к дверям, прислушалась. Так и есть: явился за кладом.
— Партейные, а воруете? — громко кричал Филатыч по-бабьи визгливым, противным голосом. — Что же это выходит? Рази так по закону? Бандиты вы, воры! Я наживал, я схоронил, я и право имею! Мое все, мое! Отдавай мой чугун, ворюга!..
Отец сердито и удивленно басил:
— Очнись! Что я тебе отдам? Какой чугун? Рассказывай толком. О доме, что ли, опять разговор завел? Погоди! Да ты сядь, чудило…
Дальше слушать Зинка не стала. С отцом шутки плохи: расспросит Филатыча, увидит в углу двора, что разрыто. А кто разрыл? И начнет расспрос не с Антошки, а прямо с нее. Антошке батяня верит, Антошка — в него. Вон и дрова Антошка-святошка увез назад в исполком. Взял у Родика Цветкова тележку, погрузил — и все до последнего полена увез. Так что батя с него не спросит, начнет с нее: «Ну-ка, девка, что там вырыла и куда схоронила? Показывай где…» И хочешь не хочешь — покажешь. Потом из клада и денежку не дадут…
Зинка выскочила из сеней во двор, сунулась под крыльцо, где был спрятан чугун с деньгами. И едва успела запихать в карман своей старенькой юбки пригоршню тяжелых монет с громоздкой пачкой кредиток, как голоса Филатыча и отца зазвучали в сенях.
Заскрипели над головой половицы, потом слегка зашаталось крыльцо под отцовскими сапогами. Скорчившись, втянув голову в плечи, Зинка притихла. А когда отец и Филатыч ушли в дальний угол двора — осматривать яму, — неслышно вбежала в сени, кинулась в «столовую», к своей койке, достала незаконченное шитье и с видом увлеченной делом портнихи заработала иглой.
Как она и ожидала, отец сразу же взялся за нее: расспросил, приказал достать чугун. При Филатыче внимательно рассмотрел содержимое чугуна: поворошил пальцами бумаги, взглянул на посверкивающие под бумагами золотые монеты и разноцветные камушки, но жадные руки Филатыча отстранил:
— Не лезь, не хватай. Слыхал про обязательную сдачу драгоценностей? Голод кругом. У буржуев на золото хлеб приходится покупать. Так что, сосед, делать будем с тобой вот именно по закону, как ты сказал. Только по нашему, по народному. Как? Сейчас опишем это вот при тебе, потом оба, а то и еще кого позовем, под бумагой распишемся. Ну, а утречком вместе отправимся в банк. Если тебе чего причитается, там дадут, если же нет — значит, нет.
И как Филатыч ни лез к чугуну, как ни пытался вырвать его у сильного, упористого Платона, как ни ругался и ни плевался, тот стоял на своем.
Под диктовку отца Зинка чуть не час составляла подробную опись содержимого чугуна, дивясь в душе, каким большим богачом был, оказывается, этот нищий Филатыч, если только в одном чугуне хранились такие штуки. «В навозе спрятал, в земле. А я нашла. Себе ухватить успела! — одновременно дивилась и радовалась она, не испытывая угрызений совести, а лишь туже зажимая между острыми коленями тяжело обвисающий карман. — Сколь хлеба можно будет купить в Сибири, мамке домой привезти…»
Правда, тайной пришлось в конце концов поделиться с настырной Клавкой: та без труда разнюхала обо всем. В дороге, когда эшелон двинулся на восток, скрыть такое оказалось невозможным. Больше того: для добычи еды Зинке самой понадобился в дороге надежный помощник. А скрытная, вороватая Клавка умела молчать. К тому же истово поклялась словечка не проронить о деньгах, молчать до самого гроба. И клятву выдержала до конца…
В день отъезда они устроились на нарах рядом, не отходили друг от друга ни на шаг, держали секрет свой крепко. Филатычевы богатства приходилось пускать на обмен с особенной осторожностью, прикрывая друг друга, втихую, чтобы никто из знакомых ребят не засек:
— Откуда это у вас?!
Да не сразу он и наладился, этот обмен. В первые дни девчонки ехали полуголодные: царские красивые деньги, даже пятисотенные купюры, торговки-бабы в России не брали. Стали их брать лишь позднее, в Сибири, — возможно, за красоту, а обесцененных советских тысяч у девчонок почти не было. Между тем фунт клеклого, тяжелого хлеба стоил четыре и больше тысячи, да и за них бабы отдавали редко, предпочитая менять на спички, иголки, соль. За коробку серных, вонючих спичек можно было выменять две бутылки молока, за кружку соли — каравай хлеба. Не удивительно, что вещи, взятые из дома, скоро кончились, и Зинке пришлось, замирая от страха, показать на одной из стоянок бабе постарше золотой пятирублевик.
Показала — и вовсе перепугалась: баба так дрогнула, так вдруг тяжко переполошилась, так быстро подхватила свои ведра да корзинки со снедью, так сильно поволокла девчонку за собой в деревню, расположенную на взгорье за станцией, что Зинке подумалось: «Сейчас сдаст в милицию — и конец!»
Хорошо, что Клавка заметила, кинулась следом, иначе Зинка вырвалась и убежала бы, оставив пятирублевик бабе.
В тот день из деревни они вернулись с двумя ведрами и мешком, полными хлеба, вареного и сырого мяса, масла, соленого свиного сала, картошки, — еле донесли. А в теплушке, увидев такое чудо, ребята восторженно хором ахнули:
— Вот это да!
— Мальчишки все-таки дураки! — шептались потом счастливые, сытые подружки. — Легко поверили, будто мы обе расплакались от голода, за это бабы нас пожалели и дали еду… смешно! Хорошо, что Филька едет в другом вагоне: этот бы не поверил…
Филька действительно ехал отдельно от сестры и друзей. И сделал это не без расчета.
В те дни, когда теплушки приспосабливались в поселке под жилье, он в один из свободных вечеров решил подшутить над работавшими в дальнем вагоне «рыжиками». Подкрасться к ним с самодельной хлопушкой, у самой двери бабахнуть и гаркнуть не своим голосом:
«Руки с топорами — вверх!»
Так он и сделал: подкрался, бабахнул хлопушкой… и чуть не покатился с ремонтного помоста под колеса теплушки.
Мужиков он всерьез напугал, и почему напугал — узнал в тот же час. Только вместо робкого страха — вызвал в них страх свирепый. Оказавшийся ближе других к дверям Игнат Сухорукий так наддал от страха по левой скуле, что «Епиходыч» кубарем покатился прочь.
— Я те дам «руки вверх»! — прохрипел ему вслед одновременно злой и напуганный Сухорукий. — Я те зря попугаю!
— А чего я такого? — долго потом оправдывался Филька, поглаживая ноющую скулу. — Нельзя и пошутить?
— Шутить надо с девкой. А тут…
Оказалось, что пятеро занятых ремонтом своей теплушки рабочих во главе со смекалистым Сухоруким — все пятеро рыжеусые, как и он (потом в дороге их так и звали — «рыжиками», даже Веритеев, поручая что- нибудь старосте вагона Сергею Малкину, говорил: «Ты там со своими рыжиками обсуди…»), — эти пятеро предусмотрительных мужиков решили сделать переднюю и заднюю стенки своего вагона двойными. Стоило оторвать прибитые «на живушку» две верхних доски внутренней стенки, как открывалась глубокая щель в три вершка шириной. Засыпь туда муки сколько влезет, доски снова забей — и никакая «заградиловка» не догадается, что ты везешь из Сибири домой не только законные, но сверх того обмененные на барахло пуды.
Правда, из-за этого нары получились короткими. Длинному Сухорукому было особенно худо спать на них, свесив ноги к самому полу. Но приходилось терпеть: грела надежда на будущие пуды…
Сразу же сообразив, что к чему, забыв и о ноющей после удара скуле, унижаясь и льстя, Филька в тот же день напросился в пай к хитрой пятерке. И хотя для него, довольно рослого парня, нары тоже были коротковаты, он собрался в дорогу, а потом и ехал до самой Сибири весело и легко.
«Да и о чем горевать? — про себя и вслух раздумывал он. — В заводской пекарне теперь и горсть муки не сопрешь: построжало там страсть! Дома — совсем уж нечего жрать. А в Сибири… не только в Сибири, но и в дороге, живи — не тужи! В дороге — все внове, все интересно. Поглядывай вокруг — и не теряйся! С нашей заводской братвой можно ехать хоть прямо в ад — к дьяволу и к его сватье ведьме».
— Так или не так? — обращался он к какому-нибудь из «рыжиков», которые то молча валялись целыми днями на нарах, то вели между собою вполголоса бесконечно унылые разговоры.
Этим особенно отличался Семен Половинщиков. Выступив в феврале на заводском митинге с панической речью против поездки в Сибирь, коли вообще «все пошло под откос» и «надо всем разойтись по домам, спасаться от голода, кто как может», он и теперь продолжал «гундеть», как выражался Филька. При этом парня искренно удивляло: с чего этот дядька Семен так сильно перепугался? Работа пока на заводе есть? Есть. Голодно? Голодно. Ну и что? Нынче голодно, завтра — нажремся, об чем разговор? Так нет же, гундит себе и гундит…
А Половинщиков все гундел:
— Помяните мое слово, мужики, скоро совсем пропадем. Загонят нас в Сибири туда, где лес да болота, приставят сторожей с ружьем. «А ну, велят, поворачивайся, холера тя забери, работай на тех сибирских крестьян!..» Сибирь-то ведь что? Она каторжная. Может, и в кандалы…
Тихий, маленький как грибок, рябой часовщик Кобяков только тяжко вздыхал в ответ и ерошил рыжую бороденку. А косой плотник Барков (его левое веко почти закрывало глаз) согласно басил:
— Глухая страна. Медвежья. Чего уж…
Сторож хозяйственного двора Коротнев пытался несмело спорить:
— Может, еще и не так? Может, выживем? Те комиссары, чай, тоже не без ума? Не пужай пока зря-то. Вот как доедем, тогда уж…
Они и пели что-нибудь только очень унылое, про несчастье. Пели не в лад, негромко, будто каждый про себя, сторонясь других:
Или о том, как бродяга-каторжник бежал с Сахалина «звериной узкою тропой», или затягивали все так же не в лад:
Слушать такое веселому Фильке было невмоготу.
— Чего, мужики, заныли? Чего тянете, как нищего за гашник? А все ты, дядька Семен! — укорял он унылого Половинщикова. — И вот загундел! А чего? Все будет в точку, это я тебе говорю! Согласен со мной, Игнат Митрич? — обращался он к Сухорукому, который вместо песен изо дня в день затевал нескончаемые споры со старостой вагона Сергеем Малкиным. — Да хватит вам молотить друг друга! И вот заладили, — передразнивал Филька спорщиков: — «Диктатура… рабочий класс, налог да разверстка», будто другого в жизни и нету! Ты лучше сиди или полеживай на нарах, пока кишки не позовут наружу, вот он и весь твой спор…
Но, увлеченный любимым занятием — затеять по любому поводу яростный спор, Сухорукий сердито отмахивался: «Отстань!» — и вновь напористо склонялся к Малкину:
— А теперь вот скажи: почему получается, что крестьянам твоя партия дает через налог поблажку, а нам, рабочим, поблажки нет?
Игнат прищуривал острые напористые глаза, резко склонялся к Малкину, как бы в ожидании минуты, когда тот попадется в поставленную для него ловушку. Но тот не обращал внимания на бойкую изготовку Сухорукого.
После позорной истории с зажигалкой, о которой Игнат помянул в кабинете Ленина, Малкин несколько дней по возвращении в поселок ходил как после болезни: все в его душе тревожно ныло, томилось от злости и стыда: «Партийный, а до чего дошел? — пытал он себя. — Зажигалочником стал! Последней шпаной! Перед товарищем Лениным опозорился! Ну нет, я это себе не прощу!» И первое, что Малкин сделал, это сунул проклятую зажигалку в кучу цветного лома, предназначенного для переплавки. Потом, собрав всю свою волю, — бросил курить. И хотя было невыносимым сидеть рядом с курящими, особенно с таким табакуром, как Сухорукий, он до судорог в животе терпел и все думал, думал о том, что услышал в тот стыдный и счастливый день в кабинете Владимира Ильича.
Постоянные приставания Сухорукого со спорами по всякому поводу — раздражали: тот, видно, «искал себя», иногда толковал про все вкривь и вкось, но все же искал, поэтому Малкин старался всячески подавлять в себе раздражение, благо характер был, слава те господи, уравновешенный, ясный. Когда приставания Сухорукого доходили до края, игры в молчанку не получалось, он терпеливо, чуть окая, отвечал:
— Поблажку? А что же, верно: даем крестьянам поблажку. Даем потому, что в нынешней обстановке иначе нельзя. Думаю, что и дальше… может даже, чем дальше, тем больше. Посадим крестьян, как сказано было товарищем Лениным, с лошади на машину, вот уж тогда…
— Про машину да про коммуну твою потом, — отмахивался Игнат. — Ты давай мне пока про нынче. А нынче, значит, задумано так: сработал крестьянин положенный ему по налогу фонд, собрал сверх него излишки — и на базар? Продал, опять собрал — и опять на базар?
— Ты же и купишь да сытно съешь!
— А на какие шиши? Не-е-ет, так у нас не пойдет! Я тоже хочу получать излишки и продавать… худо ли?
— Как же ты это мыслишь?
Во время одного из таких нескончаемых споров, как бы решившись наконец поделиться своим заветным, Игнат суетливо заерзал на нарах, придвинулся к Малкину вплотную, резко сказал:
— А что, если так? Перво-наперво, значит, наших американцев с завода по шапке. Пусть едут к себе домой. И будем мы на заводе заместо их. Что нам из Москвы велят сработать по общему плану, то мы сработаем как положено, честь по чести, на свое государство. Однако же сверх того — еще для себя. Молотилочки там, косилочки. Эти, которые сверх, мы сами и продадим. Тому же крестьянину, раз он частный и у него получились излишки, а значит, и денежки. Получим с него — и поделим промеж себя… ай плохо рабочему человеку?
Он с торжествующим видом оглядел Сергея Малкина и прекративших «гундеж», заинтересованных разговором «рыжиков»: вот, мол, каков он, Игнат Сухая Рука, соображает не хуже других. И государству добро, и ему… Было видно, что свой проект он обдумал давно, крутил его так и этак, пока не высказал: пожалуйте вам, готово!
— Эко-о ты! — удивился Малкин новому повороту спора. — И так вот будет на каждом заводе?
— А то? — с вызовом подтвердил Сухорукий. — На кажном.
— Значит, вместо бывших буржуев и торгашей бойкой торговлишкой оптом и в розницу начнут заниматься рабочие заводов? Крестьяне — наживаться в деревнях, рабочие — в городах? Кусок государству, кусок себе? Да-а, ловко придумал!
— А что? Ничуть не хуже, чем ты говоришь про коммунию!
— Но чем же эта твоя «спекулягия» отличалась бы от того, что было при царе, если наша пролетарская коммуния тебе не по душе?
— Как так не по душе? С чего же? Этого нет. Просто — зачем зря ждать, когда еще она будет, твоя коммуния, если нынче же вместе с налогом на деревенских можно сделать, как я говорю, и рабочему человеку? Государству — совсем не в убыток, само по себе, но и нам — само по себе…
Малкин сердито хмыкнул, помолчал, внимательно пригляделся к Игнату, с огорченным видом сказал:
— Да-а… мути в тебе полно, как в луже. Вон покаялся ты на митинге, что пошел за Драченовым по дурости, но вижу, что нет. Опять к нему завернул. Сидит он в тебе — торгаш-наживала, сидит! Ну, ладно. Теперь мне скажи: а что же такое, по-твоему, государство? Отколь оно? Для чего оно? Из кого составляется? Кем? Слыхал небось, да и сам выбирал, что у нас Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов?
— Ну… это да.
— Значит, да? А как оно будет править, рабоче-крестьянское государство, если крестьяне с рабочими окажутся как бы совсем посторонние, мимо него? Заводы-то будут чьи?
— Наши, рабочие…
— А с чего это государство тебе их подарит? Ему, брат, ведь надо не только молотилки да косилки делать, а и оружие для защиты. И армию поить да кормить, чтобы буржуи Россию не слопали. И питание для тебя. И народ весь обуть да одеть. Ребят в деревне и в городе — грамоте научить. А то и в инженеры вывести для тех заводов. И чтобы железные дороги. И правильная торговля, а не толкучий базар, где каждый тянет себе. Ну, в общем, чтобы вся жизнь в государстве шла ровно, своим чередом, — не назад, а вперед. И все это надо сделать, обмозговать, спланировать во всеобщем масштабе. Ты сам-то заниматься этим не будешь?
— С чего же я? Мозги у меня не те…
— Вот-вот. Значит, мозги у тебя не те, а давай в твой карман жирный пай за машины сполна, да еще на какие-то шиши корми тебя и пои, квартиру давай, обувай, одевай, об защите России думай? Неплохо придумал. Еще ловчее, чем те буржуи…
Слушать такие споры для непоседливого Фильки было еще тяжелее, чем унылые песни да вздохи «рыжиков». И он, безнадежно махнув рукой, пересаживался с нар, где гудели спорщики, на нары, где обособленно от всех сидел, а чаще всего, забравшись к себе на верхнее место, молча лежал недавно перебравшийся сюда из вагона интеллигенции кладовщик Теплов.
Когда формировался эшелон и каждый выбирал себе вагон по вкусу, ближе к знакомым людям, доверенный мистера Гартхена Верхайло попросил Константина Головина взять «моего лучшего кладовщика Теплова, человека в высшей степени порядочного», в свой вагон.
— Вы назначены старостой… можно сказать, хозяином самого достойного из вагонов в этом скотском эшелоне, — польстил он самолюбивому Константину. — При вас моему одинокому товарищу будет лучше. Очень прошу…
Константина назначили старостой «вагона интеллигенции» после долгого спора.
— Путаник он! — сердито возражал Платон против кандидатуры сына. — Путаник… если не хуже!
Но Веритеев не согласился:
— Выходит, мы так и будем отшибать его от себя к чужакам? Так, друг, не гоже! Ну, оступился… ну, залез не туда… теперь без передыху и будем его тюкать? И будем отшибать? Все-таки парень свой, одумается. Для того и включим его в дело: оно само заставит подумать…
Константин об этом споре не знал, назначение старостой счел уступкой «ортодоксов» его принципиальности. Это лишь укрепило его в своей правоте, польстило маленькому тщеславию, а лесть Верхайло добавила каплю меда. Поэтому он охотно пошел навстречу пустяковой просьбе:
— Конечно, возьму его в свой вагон! Тем более что ваш кладовщик мне нравится…
Так Терехов оказался вначале в вагоне интеллигенции. Такой вариант проникновения в Сибирь показался ему наилучшим, тем более что до этого его прямо-таки мутило от мысли, что недели две, если не больше, ему, сыну дворянина, одной из чистейших крупинок «соли земли русской», придется ехать в вагоне с грязными, некультурными мужиками… Бр-р, просто невыносимо! Не удивительно, что предложение Константина он принял с радостью, скромно устроился на верхних нарах, в дальнем углу, держался со всеми почтительно, как и подобает простому кладовщику в избранном обществе.
Здесь ехали два инженера — бельгиец и итальянец, финансист-плановик Клетский с миловидными, вполне благовоспитанными дочками Соней и Катей, пестро одетый, похожий на иностранца юнец, оказавшийся не то родственником, не то хорошим знакомым генерального юриста Мак-Кормиков в России Воскобойникова, главный врач заводской больницы Коршунов, немец Лангер, два уже немолодых русских цеховых мастера, экспедитор Сысоев и еще несколько человек, не заинтересовавших Терехова.
Но самой интересной, даже броской личностью, возле которой все как бы меркло (так казалось соскучившемуся по красивым женщинам Терехову), была Вероника Урусова, по матери — Пламенецкая, девушка лет двадцати трех, в меру крупная, статная, пышноволосая, с ярко поблескивающими на мраморно-белом лице озорными глазами.
Самое удивительное в ней было то, что она не жеманничала, как белокурая Сонечка Клетская, не дичилась, как младшая сестра Сонечки Катя, похожая на отца. Вероника была со всеми ровна, улыбчива, даже смешлива. Все в дороге казалось ей интересным, все вызывало живейшее любопытство. Ни высокомерия, ни рисовки. Держится так, будто совсем и не думает о себе, просто не замечает себя.
«И это аристократка? — прикидывал Терехов, не то злясь на нее за слишком уж простонародную открытость, не то восхищаясь ею именно за эту простоту: такое может позволить себе лишь подлинная аристократка! — А может быть, притворяется? Если так, игра превосходна!»
От вьющегося вокруг Вероники мелким бесом Константина он узнал, что та — последняя дочь мадам Пламенецкой, некогда состоявшей в свите императрицы Марии Федоровны. У мадам до Вероники было уже две дочери от первого мужа, итальянского дипломата Поджио («Обе теперь живут за границей», — уточнил Константин), еще две дочери — от второго мужа, французского военного атташе при царском дворе Блютера («Эти остались и живут в Москве»). Вероника — пятая дочь мадам от третьего мужа, дальнего родственника князей Урусовых, полковника царской армии, раненного на германской войне, а теперь ведающего транспортом на заводе. Девице двадцать три года. Знает несколько иностранных языков, работает машинисткой-стенографисткой по внешним связям.
— Американцы молодцы, — рассказывал Константин. — В заводском клубе каждую субботу либо новая фильма, либо вечер танцев, и Вероника не пропускает ни одной субботы. Пригласишь ее на танец — охотно соглашается! Не брезгует нашим братом «мужиком-демократом», — добавлял он с усмешкой, не скрывая своего увлечения Вероникой. — Совсем не похожа на дочь графини аристократки. А когда говоришь ей об этом, отшучивается. При этом довольно рискованно: «Наверное, мою маму в свое время соблазнил наш кучер Иван. Выходит, и во мне течет пролетарская кровь…»
— Нашла, дура, чем хвастаться! — сквозь зубы заметил Терехов.
Но это была единственная фраза, сказанная им от души за все время короткой жизни в вагоне интеллигенции.
С первого же появления здесь он старался держаться особняком. Еще когда ему удалось устроиться к Верхайло кладовщиком, он решил отпустить для конспирации бороду и усы, теперь они отросли, опростили его лицо: мужик мужиком. Но таким вот простеньким мужичком ему и хотелось казаться.
Для большей безопасности он и с Константином стал общаться все реже, держался все отчужденнее: этот самолюбивый «местный оппозиционер», как про себя стал называть Терехов старшего сына Головиных, оказался личностью мелкой. Фиглярничает, острит, из кожи лезет вон, чтобы понравиться эшелонным дамам, особенно Веронике.
Ну, барышня — хороша, ничего не скажешь. Иногда так и тянет обратиться к ней по-французски или по- немецки. И обратился бы, оказавшись во время продолжительной стоянки с глазу на глаз где-нибудь за составом. Может быть, даже и рассказал о себе. Немного, намеком. Но нет уверенности, что девица, сама того не желая, не выдаст каким-нибудь необдуманным словом. Забудется, при всех подойдет к нему и тоже по-немецки или французски спросит: «Господин штабс-капитан, скажите, пожалуйста…» — и все рухнет в одно мгновение…
— Нет-нет, — твердил он себе. — Ото всех подальше! И прежде всего от этого головинского отпрыска. Вон как он выкобенивается, старается рассмешить Веронику: «Жена, шипя от злости, ушедши к зятю в гости, а ейный муж, в отместку, увлек ее невестку, их сын повел в беседку смазливую соседку. А что потом произошло, до нас, к несчастью, не дошло». И это считается у него верхом остроумия… бр-р-р! А теперь с видом заправского Дон Жуана читает Веронике стишки какого-то из современных поэтических мэтров:
К чертям! Подальше от этого местного оппозиционера. Нет ничего ненадежнее перебежчика. А этот хочет перебежать от своих пролетариев к господам. Однако самое большее, на что он способен, это на какой-нибудь вздорный, в сущности, пустой выпад во время очередного митинга. На иное, а тем паче на то, ради чего он, штабс-капитан царской армии Ипполит Петрович Терехов, заклятый враг большевиков, сражался в добровольческой армии, потом полгода скрывался под видом послушника в монастыре и теперь, чудом выскользнув из рук Чека, едет в Сибирь для организации нового, и на этот раз, надо надеяться, самого боевого, всесторонне подготовленного для победы подполья, — на такое Константин Головин не способен. Решительно не годится: такие после победы над большевиками будут использованы лишь в качестве служилой мелкоты…
В дорогу Терехов оделся как можно скромнее, по- рабочему. За едой на остановках не гонялся — в надежде сладко поесть потом, когда приедет в Сибирь, в добрый час покинет опостылевший эшелон с этими грязными, ненавистными ему обовшивевшими людьми, осмотрится, уйдет в подполье, к своим, и начнет наконец святую, как он считал, освободительную борьбу за возвращение многострадальной России в семью цивилизованных государств.
Ехать в вагоне интеллигенции было удобно. А главное — безопасно: все-таки вокруг, считал Терехов, относительно порядочные люди, а не то быдло, которое горланит в других теплушках.
Он уже стал было совсем привыкать к своему новому положению интеллигентного пролетария, как вдруг это мирное житье нарушило появление младшего Головина.
В первый раз тот пришел к брату как к старосте вагона с каким-то поручением от начальника штаба Веритеева.
«И у этих штаб… начальники штаба! — презрительно подумал Терехов, стараясь при этом не показываться на глаза знакомому парню, хотя тот больше глазеет не на него и не на Константина, а на Веронику, весело болтавшую о чем-то с Сонечкой Клетской. — Придет час, и мы с такими „штабными“ поговорим на языке свинца!»
Уже тогда этот первый приход Антошки напугал Терехова, показался ему опасным: а если парень узнал? Узнал — и приведет с собой начальника штаба?
Однако никто в тот тревожный час сюда не явился. Зато некоторое время спустя Антошка появился снова — пришел с младшей дочерью Клетского Катенькой «просто так». Терехов едва успел залезть на верхние нары и сделать вид, что занят в своем углу пересмотром вещей.
Парень пробыл в вагоне чуть ли не полчаса, весело болтая с девчонками Клетского, но явно интересуясь и Вероникой, которая время от времени прогуливалась мимо дверей вагона в сопровождении инженера Свибульского и Константина Головина — этот с пафосом читал какие-то стишки невнимательно слушавшим его спутникам, явно занятым больше друг другом. Терехову стало уже казаться, что веселой болтовне на нижних нарах не будет конца. От напряженной позы тело задеревенело, невыносимо хотелось спрыгнуть вниз и размяться, когда наконец-то вдоль всего состава, как это делалось каждый раз перед отправкой, понеслось:
— По ваго-о-о-нам! — и младшему Головину пришлось сматываться, как он выразился, к своим…
Поняв, что это не последнее появление опасного парня в вагоне, где царствует Вероника, что парень не столько из-за Катеньки, сколько, похоже, из-за эффектной Пламенецкой будет ходить теперь сюда постоянно, да еще как-нибудь останется здесь на большой перегон, и тогда хочешь не хочешь, но покажешься ему на глаза, а глаза у этого комсорыльца остры, как шильца: взглянет и узнает.
И штабс-капитан решил: судьбу испытывать не только глупо, но и опасно. На следующей же остановке он перешел в вагон «рыжиков»…
Но и здесь оказался один из тех, кого били бабы возле монастыря. В первую минуту, увидев Фильку в дверях, Терехов трусливо заколебался: не нырнуть ли сразу под вагон и, плюнув на все, не попробовать ли добраться в Сибирь в любом попутном составе?
Но не успел он додумать тревожную мысль, как парень решил все за него сам:
— К нам? Новенький? Слава богу! А то тут с этими, — Филька кивнул в глубину вагона, где что-то гундели «рыжики», — и до Сибири не доедешь, сдохнешь с тоски!..
В тот час, когда старухи били его вместе с другими ребятами возле Николо-Угрешского монастыря, Филька так был занят собственной обороной, что даже и не заметил Терехова-«послушника», с усмешкой наблюдавшего за их избиением от монастырских ворот. Поэтому у него не появилось даже тени подозрения, когда Константин Головин, по согласию с Малкиным, привел в их вагон этого молчаливого, казалось, отрешенного от всего, что творится вокруг, обросшего небольшой, но окладистой бородкой, нового человека. Наоборот, Филька даже одобрил, как он выразился, этот вполне классовый шаг.
— Чего с той интеллигенцией коптиться? — говорил он, помогая Терехову устроиться на верхних нарах возле себя. — Я бы, к примеру, и часу у них не пробыл: скукота! То ли дело у нас: народ рабочий, свой. Если бы только не эти, — он кивал в сторону «рыжиков». — Да черт с ними, пусть гундят. Главное, брат, живи — не теряйся! Согласен со мной? Конечно, если бы вот побольше насчет жратвы…
Филька красноречиво тискал пустое брюхо, качал головой:
— Оно бы, конечно, лучше. Однако же как-нибудь. В Сибири наверстаем…
Поддавшись охватившему всех азарту — первым выскочить из вагона на очередной остановке, первым же обменять что-нибудь из взятого с собой барахла на еду и здесь же, возле бабьих торговых рядов, съесть обмененное, да так, чтобы «за ушами трещало», Филька в первые две недели «профукал» все, на что рассчитывал прожить до самой Сибири. Куски драгоценного плюша не в счет: эти заветные. Они — на муку. На сибирскую крупчатку для дома. А в пузе — с каждым днем все алее «кишка кишке кукиш кажет». При этом — не просто просит еды, а воет о ней: «Давай… доставай… скорее!»
Легко им, кишкам, вопить — достань! Бабы на полустанках, а особенно на крупных станциях, поумнели, видали и не таких: у этих не украдешь. Следят за каждым голодным во все глаза. Свои горшки да ведра с капустой, картошкой, с мясом да пирожками — только что не обнимают, когда начнешь притираться ближе. Ну, иногда хоть иди с протянутой рукой как нищий…
Хорошо еще, что у сестры Клавки с Зинкой Головиной, ехавших в середине состава, можно чем-нибудь разживиться: у этих то хлеб с молоком, то кусок вареного мяса. «И откуда оно у них? — дивился Филька, впрочем, не очень вдаваясь в поиски ответа на свой вопрос. — Чего-то все шепчутся, все чего-то скрывают. Обе — тощие пигалицы. Наверно, мало едят, вот еда у них и остается…»
Время от времени подкармливал едущих в эшелоне и старательный Иван Амелин. Уехав на попутном составе вперед, он организовывал на больших станциях обед из капустных щей и каши или выдачу продуктов сухим пайком. Как-то даже каждому досталось по паре яиц. Старосты с добровольными помощниками, среди которых, конечно, сразу же оказался и Филька, долго разносили по вагонам ящики и корзины с драгоценным грузом. Не скрывая довольной улыбки, Иван Амелин каждого из них напутствовал возле раздаточного вагона:
— Осторожно, ребята! Чтобы ни одного битого! Такая-то благодать…
Все в тот день предвкушали чуть ли не пирование, пока не выяснилось, что яйца порченые, есть их нельзя. В теплушке «рыжиков» Игнат Сухорукий кричал, суя к носу старосты Малкина воняющие яйца:
— Скажи своим воротилам, что за такие харчи мы в Сибири много работать не будем, предупреждаю наперед! Так-то вонять мы сами умеем…
Медлительный и спокойный Малкин терпеливо отводил длинную руку Игната:
— Я тебе не вестовой, чтобы передавать всякую дурость. Пойди да скажи сам. А не хочешь есть яйцо, возьми да выбрось. И мне ведь не лучше попалось…
Тихий, робкий Фрол Кобяков огорченно вертел в руках воняющий котелок:
— Мисочку всю испортил, вот беда! Теперь и чаю вскипятить не в чем…
А когда совсем стемнело и эшелон уже тронулся в путь, кто-то успел влепить в двери распорядительной горсть тухлых яиц. Они мокро щелкнули и разбрызнулись по стене, наполнив теплушку вонью. Вытирая измазанную зеленоватыми брызгами щеку, кладовщик равнодушно сказал своему помощнику:
— Бьют в голову Амелина, а попадают в мою! — и выглянул за дверь.
За вагоном никого уже не было. Сзади гудела в темноте станция, набитая голодными оборванными людьми из других эшелонов. Над тусклыми огнями станционных фонарей недвижно висело звездное небо. Теплый, еще не успевший остыть после дневного зноя ветер доносил запахи свежей степной травы. Из вагонов, навстречу ему, вырывались то бойкие, то протяжные и печальные песни. Состав двигался, убыстряя движение, а ночь, уже успевшая созреть на востоке, втягивала его в себя, как в огромный длинный тоннель…
Для голодного Фильки каждый такой несчастный день становился серьезным испытанием. И вдруг однажды, когда уже просто не оставалось терпения вынужденно поститься, прямо хоть налетай в открытую и хватай, — он краем уха услышал возле пристанционных торговых рядов озабоченный разговор.
— С этим просто беда! — говорила одна из баб. — Хоть сама из чего-ничего, а сделай! Давно уж девку пора крестить, а крестиков нету!
— И не скажи! — ответила ей другая. — Будто не християне!
Филька радостно дрогнул: батюшки-святы! О крестиках-то он и забыл! Как сунул их еще в день отъезда на нарах под изголовье, так ни разу не вспомнил. А тут вон, гляди ты…
Он торопливо шагнул к уставленному едой торговому ряду, и все еще не очень веря, что бабы толкуют именно о церковных крестиках, спросил:
— Каких это крестиков у вас нет?
— А тебе зачем? — подозрительно ответила крайняя баба.
— Затем, что есть у меня этих крестиков больше сотни!
— Ой… врешь!
— Истинный крест, не вру! — Филька перекрестился. — Хочешь сейчас же и принесу!
— Ой, батюшки… да неужто?
— Вот тебе и «неужто»! Раз сказано, значит — есть!
— Ой, парень… уж так ли? Давай принеси!
— Я на обмен! — он с жадностью оглядел заваленные и как бы даже отполированные снедью доски торгового ряда. — На это вот!
— Чего уж… беги скорейче!
Когда он вернулся с горстью сунутых в карман крестиков, его нетерпеливо ждали бабы всего торгового ряда. Прикрыв свои ведра, решета и крынки фартуками и тряпками, они переругивались с теми, кто тоже пришел сюда разживиться едой:
— Погоди, не лезь! Торговля пока закрыта!
— Вот парень идет… погодь, тебе говорю: вначале я с ним!
— И я!
— А я с ним первая сговорилась…
В тот день наконец-то Филька наелся «от пуза». И больше всего дивился тому, что за десять паршивых крестиков! Вот повезло! Спасибо бабке Ефимье и ее сундуку!..
— Теперь завей горе веревочкой, пролетарий, до самой Сибири! — говорил он Терехову и «рыжикам». — А если с бабами торговаться, то и в Сибири еще крестиков хватит: там небось в них и вовсе нехватка! Вот ведь как вышло: думал, что чем другим возьму, а что оказалось? Крестики…
С этого дня он стал есть, «как король». Ел все подряд, вареное и сырое: молоко, творог, яйца, картошку, мясо, капусту. После обильной еды постоянно хотелось пить. И хотя на стенах вокзалов на пристанционных столбах и заборах были наклеены плакаты с предупреждением не пить и не есть сырого, а врач Коршунов все чаще выступал на остановках с докладами о холере и тифе, многим, в том числе Фильке, лень было стоять в очереди за кипятком у своего санитарного вагона и привокзальных «кубовых». Даже дисциплинированный, пивший лишь кипяченую воду Родик Цветков, прозванный друзьями за любовь к стихам Рифмоплетом, присочинил к одному из плакатов — «Страшна в холерные года некипяченая вода» — скептическое четверостишие:
Филька лишь отмахивался от всяких предупреждений:
— Меня ничто не возьмет. Я от холеры заговоренный…
Но именно его-то первого и свалили холерные вибрионы.
Он уже чувствовал, что болен, но в тот день даже больной не смог удержаться и не подшутить над занудливыми «рыжиками».
Эшелон третий день стоял на запасном пути в Петропавловске, в двухстах восьмидесяти верстах от Омска. Был жаркий июньский полдень, в вагоне держалась томительная духота, и Половинщиков с Сухоруким, разморенные ею, сладко храпели на нижних нарах — головами наружу. В их глотках что-то все время тяжко перекатывалось и булькало, длинные рыжие усы ритмично двигались в такт прерывистому дыханию, похожие на хвостики зверушек, нырнувших мужикам в могучие ноздри. И это привлекло внимание Фильки. Мучимый жаждой, он уже взял было чайник, чтобы пойти на станцию за кипятком, когда увидел эти шевелящиеся усы, и забавное зрелище остановило его. Не поленившись слазить к себе в верхний угол, он достал ножницы, хотя ноги от слабости, казалось, вот-вот подогнутся, и аккуратно отрезал Половинщикову правый, а Сухорукому левый ус.
Дрожавшая от слабости рука в последнюю секунду дернулась, Сухорукий от боли вскрикнул, ошалело уставился на веселую рожу парня, потом ткнулся пальцами в остриженное место под левой ноздрей, дико взвизгнул — и вывалился с нар на пол, пытаясь в падении ухватить Фильку за штаны.
Тот с веселым хохотом прыгнул к дверям, соскочил на землю и, погромыхивая пустым чайником, трусцой побежал к кубовой.
Там он нашел еще в себе силы встать в очередь к крану, откуда брался кипяток, но дойти до кубовой уже не смог. Его тяжко и много вырвало, он повалился под ноги стоящих в очереди людей и впал в тяжелое забытье.
Санитары в белых балахонах уложили парня на носилки.
— Куды же теперь этого? — сердито спросил передний того, который шел сзади, равнодушно поглядывая по сторонам и на лежащего на носилках Фильку с обострившимся, как у покойника, носом. — В больницу не примут: некуда. Может, в сарай?
— Ага, — односложно сказал второй. — Все одно, как видно, помрет…
И Фильку свалили прямо на землю в темном дощатом бараке, за вокзалом, где уже лежало с десяток таких, как он.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В один из теплых майских вечеров, во время позднего ужина, только что вернувшаяся с работы Мария Ильинична устало сказала:
— Профессор Ротмистров дал в «Правду» большую статью…
— О чем? — насторожился Владимир Ильич, хорошо зная, что о несущественном «проходном» материале сестра говорить не будет.
— Об угрозе засухи…
— Ну это, к сожалению, становится ясным и без него.
— Статья называется: «Надо готовиться к ряду засушливых лет». К ряду…
— Гм… это уже серьезней. И что?
— Пока отложили.
— Слишком пессимистична?
— Не очень, а все же. С продовольствием и без того худо, настроения в массах ты знаешь, а тут еще «ряд засушливых лет». Есть от чего впасть в отчаяние…
Ленин отодвинул недопитый стакан с чаем, помолчал.
— Праздничного настроения статья, конечно, не вызовет. А печатать все-таки надо, — сказал он мягко. — Бояться правды, как бы жестока она ни была, неразумно. После всего, что пришлось пережить пролетариям и крестьянству за годы войны, вряд ли даже такая статья вызовет новую волну отчаяния. Скорее наоборот: заставит в Центре и на местах еще и еще раз тщательно взвесить наши ресурсы, надежнее приготовиться к новой беде.
— Значит, печатать?
— Печатать. И в том же номере… а лучше из номера в номер! — дать два-три вполне проверенных факта нашего движения вперед. И обязательно с точным адресом: где, когда, кто? Такие в портфеле редакции, полагаю, найдутся? Ну, вроде вчерашнего, о пролетарии-ветеране, проработавшем на заводе шестьдесят лет и теперь отправленном на почетный покой не только с двойным жалованьем, но и с усиленным пайком.
— Поищем.
— Кстати, Надя вчера рассказывала о массовом возвращении просвещенцев и профессуры к нормальным занятиям в школах и институтах. Да мало ли других? Нет ничего убедительнее живого примера.
Он легонько позвякал ложечкой в полупустом стакане.
— А статья, пожалуй, мне пригодится…
Наряду с великим множеством дел, он в эти дни обдумывал план доклада о продналоге на предстоящей Всероссийской партийной конференции. Нелегкий вопрос уже обсуждался под его председательством на заседаниях в ЦК. Был не только подтвержден необходимый минимум общего количества хлеба в 400 миллионов пудов, но продуман и механизм, который при напряжении всех сил должен обеспечить своевременный сбор налога в 240 миллионов пудов, централизованные заготовки недостающих 160 миллионов в обмен на промышленные товары в Сибири и на Украине и закупку продовольствия за границей на золото и драгоценности, хранящиеся в государственных сейфах.
Уже не первый год хлеб был главной задачей дня. О нем Владимир Ильич мучительно думал все время.
Конечно, не хлеб — двигатель общественного развития. Он лишь насущная необходимость жизни людей. Истинным двигателем может быть только машинная индустрия в руках работающих людей. Ради ее сохранения и возрождения, а затем и решительного подъема, сейчас делается все возможное. Умница Кржижановский и его сотрудники из Госплана разработали подробный, прямо-таки вдохновенный план ГОЭЛРО, этой второй программы партии, призванной вызвать к жизни мощные энергетические силы страны, построить крупную машинную индустрию, без которой немыслим социализм. Нарком внешней торговли Красин, его заместитель Лежава, их многочисленные помощники — изо дня в день ведут переговоры с торгово-промышленными фирмами Англии, Швеции, Германии, Америки и других капиталистических стран о поставках в Россию разного рода машин, станков, оборудования, промышленных полуфабрикатов. Только что Красин от имени Центросоюза заключил договор со шведским концерсиумом на поставку тысячи товарных локомотивов на сумму в сто миллионов крон. На первую четверть этой суммы уже с августа по октябрь текущего года наш полуразрушенный транспорт должен получить сто паровозов.
А это — не самый большой заказ! Ведется работа и по привлечению лояльных к Советам, надежных концессионеров для сдачи им в аренду на взаимовыгодных условиях тех отечественных предприятий, которые своими силами нам пока не поднять.
«Конечно, — мысленно отвечал Владимир Ильич тем, кто возражает против концессий, называет их уступкой капитализму. — От хорошей жизни концессии не будешь предлагать. Но когда жизнь голодная, когда надо всячески изворачиваться, — чтобы народ немного отдохнул, то приходится рассуждать иначе. Тем более, что при заключении любого арендного договора незыблемым остается тот факт, что мы являемся собственниками всех предприятий и недр в стране. А от своего права собственности мы никогда не откажемся…»
Да, много делается для спасения и возрождения страны. Но чтобы сейчас просто выжить, преодолеть немыслимо крутой перевал едва ли не самого разорительного и голодного года — для этого в первую очередь нужен хлеб. Он нужен людям как воздух! И с тех самых пор, когда еще в январе 1918 года Владимир Ильич горестно и призывно, почти молитвенно воскликнул в телеграмме чрезвычайному комиссару Украины Серго Орджоникидзе:
«Ради бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба, хлеба!!! Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно.
Ради бога!»
С тех самых пор ежедневно и ежечасно он думал об этом хлебе. Требовал и просил, сердился и заклинал:
— Напряжением всех сил, но — ХЛЕБА!
Еще раз ХЛЕБА!
Надо кормить страну. Надо кормить Москву: она — живое сердце страны, и если это сердце остановится…
ХЛЕБА!
Надо кормить армию и рабочий класс, спасать революцию…
ХЛЕБА!
Нарком продовольствия Цюрупа, его заместитель Брюханов, такие деятельные товарищи из ВСНХ, как Богданов, Свидерский, Куйбышев, секретарь ВЦСПС Андреев, транспортники, руководители партийных и советских организаций на местах, — делают все, чтобы собрать и доставить продовольствие в рабочие центры, хотя в условиях разрухи это не всегда удается даже при самом горячем желании.
А хлеба в такой огромной стране, как Россия в целом, еще достаточно, чтобы прокормиться до нового урожая. Однако вот в Центре-то, в руках правительства, ответственного за продовольственное положение страны, этого реального хлеба пока до крайности мало. Значит, надо его искать и везти с окраин. Прежде всего — из сытой Сибири. И рано утром, наскоро подкрепившись в полутемной кухоньке завтраком из двух бутербродов и чашки кофе, заботливо приготовленных Сашей, помощницей семьи Ульяновых в домашних делах, Владимир Ильич спешил по пустынному коридору в свой кабинет.
После внимательного просмотра скопившихся за короткую ночь бумаг он изо дня в день все чаще подходил к стене, где висела карта железных дорог России. Или же доставал из книжного шкафа энциклопедический справочник и старый географический атлас, уже успевшие слегка разбухнуть от частого пользования ими, и кропотливо изучал извилистые пограничья обширной Акмолинской области, в которую тогда входили все губернии среднего Приобья и Прииртышья. Всматривался, изучал — и думал, думал, стараясь как можно нагляднее представить себе реальную бесконечность этого еще в сущности нетронутого, богатого природными возможностями края: плодородные степи… сильные реки…
Хлеб там, конечно, есть. Нередко гниет, преступно скрытый от рабоче-крестьянской власти. Приходится изымать его силой, если без этого обойтись невозможно.
Пусть даже крепкий крестьянин немного тоже поголодает. Не так, как рабочие, но все же поголодает. Иного выхода нет: сейчас задаче обеспечения страны хлебом надо на время подчинить все!
Сытый крестьянин как мелкий хозяйчик сопротивляется против всякого государственного вмешательства, учета и контроля? В каждом таком хозяйчике частнохозяйственный капитал имеет своего контрагента? Значит, необходимы учет и контроль! Точно знать, точно учесть, принять самые энергичные и революционные меры для обеспечения республики хлебом, иногда не останавливаясь даже и перед варварскими средствами борьбы против российского варварства, но —
ХЛЕБА!
Надо непрерывно подталкивать и товарищей на местах, не всегда отчетливо представляющих себе необходимость… — да, архисрочную, прямо-таки фронтовую необходимость, от которой зависит исход сражения за хлеб! — необходимость быть до предела организованными и пунктуально требовательными, полностью сознающими свою поистине историческую ответственность за порученное дело!
Об этом приходится чуть ли не ежедневно напоминать, а потом проверять порученное, советовать, просить, угрожать… хотя тысячи других неотложных, сугубо необходимых дел тоже требовали внимания.
И он одну за другой рассылал срочные телеграммы:
Сибревком, И. Н. Смирнову.
«…Прошу Вас извещать меня чаще о бандах, о продработе и об отправке хлеба.
Ленин».
Наркомпуть, В. В. Фомину, 1 марта.
«1) Какие меры приняты для ускорения движения и надзора за движением семи маршрутов?
2) Где они сегодня?
3) Очищен ли путь Омск — Челябинск?
4) За последние дни сколько подано вагонов хлеба /через/ Ростов-Дон?
5) Омск?»
В. В. Фомину, 2 марта.
«…Меры нужны экстренные».
Когда напуганный сложностью положения в Сибири уполномоченный Совета Труда и Обороны П. К. Коганович, направленный в Омск для помощи сибирским товарищам, прислал в Москву паническую телеграмму о невозможности в создавшейся там критической обстановке восстаний и саботажа выполнить задания Центра по заготовке хлеба и других продуктов, Ленин переслал эту записку народному комиссару продовольствия Цюрупе с гневной надписью:
«…Пустое нытье и отговорки… Глупая хныкающая баба».
А несколько дней спустя направил в Омск короткое, как приказ, предписание:
«Ввиду обострившегося продовольственного положения предписывается усилить погрузку продовольствия для центра и ни в коем случае не допускать перерыва погрузки в дни праздников».
Не очень уверенный в сметке и деловитости местных товарищей, 4 мая он послал туда же еще одно распоряжение, начинавшееся строгой фразой:
«Ввиду критического состояния снабжения центра в связи с прекращением погрузки на Сев. Кавказе в порядке боевого приказа под ответственностью Сибревкома и Сибпродкома предлагается в течение мая месяца отправить в центр три миллиона пудов хлеба».
Дальше шло тезисное изложение того, как практически организовать эту работу по волостям и уездам Сибири:
«…первое, впредь до открытия навигации в прежнем боевом порядке грузить хлеб на всех станциях желдорог, в том числе и предназначенных к водным перевозкам — Семипалатинске, Ново-Николаевске. Второе, по открытии навигации в первую очередь подвезти хлеб на погрузку центру во изменение ранее составленного плана перевозок. Третье, немедленно приступить к заготовкам хлеба в близлежащих к желдорогам районах в порядке товарообмена, бросив на это товары, имеющиеся в Сибири, за счет погруженных и уже отправленных в последние дни из центра в Сибирь. Четвертое, районы рекомендуется принять следующие: Петропавловский, Славгородский, Новониколаевский, Барнаульский. Пятое, отправка центру в порядке пунктов первого и второго двух миллионов пудов, пункта третьего — один миллион. Шестое, заготовку в порядке товарообмена в указанных и других районах с целью пресечения спекуляции производить, не отменяя разверстку».
А в телеграмме, посланной два дня спустя, подчеркнул:
«…Обращаю внимание на исключительно тяжелое положение в продовольственном отношении центра, требую полного и безоговорочного исполнения требований центра и Компрода».
Все это делалось им уверенно, энергично, продуманно, без преуменьшения беды, но и без отчаяния. Он верил и знал, что, несмотря на беспримерные трудности, силы революции теперь уже не иссякнут, — в партии, в массе пролетариата и трудового крестьянства, в их разуме и сердцах, при любых условиях найдутся резервы для преодоления трудностей, для длительного и в конечном счете победоносного движения вперед — к коммунизму.
— Сохраняя в руках пролетариата транспорт, крупные заводы, экономическую базу наряду с политической властью, — говорил он еще на Десятом съезде партии, — мы сможем добиться этого и безусловно добьемся. Ибо — не в отчаянии несем мы неслыханные жертвы, но в борьбе, которая одерживает победы!
Террористы и кулаки жгли хлеб, резали скот не только там, где уполномоченными были такие, как враг Суконцев, а и в других местах, где заготовками занимались преданные революции честные люди. Эти были по необходимости требовательны, а нередко и необдуманно резки, но не по злому умыслу, а от ненависти к силам сопротивления новым порядкам со стороны зажиточных, сытых крестьян, многие из которых, недовольные изъятием хлеба по нормам разверстки, были замешаны в февральском восстании. Не удивительно, что то тут, то там производились не всегда обоснованные аресты середняков, не сдавших хлеб по разверстке. Это грозило новым взрывом недовольства «справных хозяев», которые к тому времени составляли более половины крестьянских хозяйств, были главной производительной силой Сибири.
К Дзержинскому из местных органов ЧК все чаще стали поступать тревожные сигналы, и Феликс Эдмундович доложил о них Владимиру Ильичу.
Молча выслушав немногословный доклад, Ленин еще раз внимательно прочитал одну из телеграмм, только что присланную из Омска. Сердито спросил:
— Значит, вместо кулаков и скрывшихся в подполье белогвардейцев наше командование воюет с середняками? А что же наш уважаемый «наркомвоен» Троцкий? Одобряет все это? И чем там заняты Сибревком и комиссар ревкома товарищ Чуцкаев? Тоже «добру и злу внимают равнодушно»?
— Положение в Сибири, конечно, не из простых, — заметил Дзержинский. — Судя по всему, у некоторых армейских командиров и продработников сдали нервы…
— Если бы только нервы! — Ленин резко поднялся со стула. — Не столько нервы, сколько та наиопаснейшая для дела «ррреволюционность», к которой все еще привержены некоторые излишне бойкие работники, начиная с Троцкого. Они полагают, будто любой крестьянин — бедняк ли он, середняк ли — всегда лишь хозяйчик, а по- сему-де обязательно враг революции. И раз это так, то по отношению к нему возможна-де только одна политика: подавление силой. Но это же наивреднейшая глупость! Не глупость, а преступление! И там, в Сибири, судя по всему, кое у кого явно не хватило разума!
Он трижды сердито постучал себя пальцем по лбу:
— Даже весьма! Представляете, чем это может кончиться? В критическое для революции время идти на ножи с сибирским середняком? Верх тупоумия! При этом — самоубийственного!
И решительно повернулся к столу:
— Аресты надо немедленно прекратить. Армейские части вернуть в казармы. Послать на места побольше пропагандистов и агитаторов! — и склонился к листу бумаги.
Дзержинский молча следил за тем, как быстро бежит перо Владимира Ильича по белому листу, как вслед за пером, словно живые, возникают цепочки слов и фраз — строки ленинской мысли, его тревоги и воли.
«Прошу обратить внимание на сообщение Дзержинского о Сибири, — говорилось в записке, адресованной тем, кто отвечал в Москве за действия сибирской армии. — Опасность, что с сибирскими крестьянами наши не сумеют поладить, чрезвычайно велика и грозна. Чуцкаев при всех его хороших качествах несомненно слаб, совершенно не знаком с военным делом, и при малейшем обострении может грозить там катастрофа…»
Написав об опасности катастрофы, Ленин имел в виду не опасность новых восстаний. Для их подавления вполне хватило бы тех воинских частей, которые там еще оставались после разгрома колчаковщины, и тех, которые были дополнительно введены в феврале. Год спустя это подтвердилось во время подавления нового, еще более широко подготовленного кулацко-белогвардейского мятежа, в котором принял участие и штабс-капитан Терехов.
Опасность была в другом: в потере доверия среднего крестьянина к Москве в результате произвола властей на местах, а значит, и в невозможности вовремя и в необходимых количествах собрать в богатой Сибири хлеб, на который в тот год делалась главная ставка в борьбе за спасение центров страны от голода. Об этом Ленин говорил не раз, и это действительно было бы катастрофой.
Из опубликованного к тому времени декрета ВЦИК крестьяне уже знали о сути новой экономической политики партии. Каждый по-своему принимал ее. Одни — в надежде на облегчение, другие — на вольный рынок и на наживу.
Но до нового урожая, когда декрет о переходе от разверстки к налогу (десятипроцентному в центральных губерниях, двадцатипроцентному в Сибири) будет осуществляться на практике, голодной стране еще надо было дожить. А жить в городах центральной России было не на что: «костлявая рука голода», как писали тогда в газетах, все туже сжимала горло Республики. И чтобы остаться в живых — необходимы были решительные, практически эффективные меры: излишки хлеба там, где они еще есть, должны быть во что бы то ни стало изъяты и вывезены в голодающие центры Республики…
Эшелон двинулся в Сибирь на, исходе мая, и только месяц с лишним спустя его приняли на запасной путь станции «Омский пост» — в двух верстах от широкого Иртыша.
Отсюда к берегу шла подсобная железнодорожная ветка к торгово-погрузочным пристаням, лесопильному и шпалопропиточному заводам. А за мостом, за рекой — раскинулся город Омск: низенькие лачуги предместья, трубы заводов над темными плоскостями крыш, церковные маковки, а вдоль открытого правого берега Иртыша до самого устья Оми шеренга двух-, трехэтажных купеческих и господских особняков.
Небольшой пароходик спешил оттуда сюда, к пристаням, похожий на отставшего от стаи белого гуся. Степной ветер стлался над Иртышом. Облака бежали по синему небу. Но приехавшие в эшелоне лишь мельком взглянули на город и пароходик. Выскочив из теплушек, одни привычно устремились в поисках еды к белевшему аккуратными домиками хутору немцев-переселенцев в степной стороне за Омским постом. Другие, особенно те, кто был помоложе, и те, кто не в силах был дольше терпеть чесоточный зуд и расчесы от множества насекомых, — те толпами ринулись с насыпи к Иртышу. Они вброд переходили на остров, заросший тальником, сбрасывали с себя на ходу давно не стиранную одежду, полоскали ее в холодной воде. Потом, расстелив на кустах для просушки, на глазах у всех голышом, привыкнув уже не стесняться друг друга, лезли в реку сами. Крякали и стонали в ней, обжигавшей холодом тело, но и смеялись от радости, что ты гол, что струя стремительно обтекает тебя, ты можешь и плавать, и растираться мочалкой или песком, чувствовать себя сильным, противоборствующим течению, которое все время норовит отнести от острова прочь, к высокому мосту, укрепленному на восьми бетонных подпорах, шесть из которых стоят в воде…
И пока одни безрезультатно искали в хуторе у равнодушных к ним кантонистов что-нибудь из съестного, а другие плескались в реке или сохли в тальниковых зарослях, где ветер был не так резок, — в штабном вагоне велся важный для обеих сторон деловой разговор между членами штаба и представителями Сибревкома и Сибпродкома.
— Ждали мы вас… сильно ждали! Надеялись! — сказал от имени губернской партийной организации комиссар Веселовский, почти с нежностью оглядывая сидевших перед ним на нарах руководителей эшелона. — Как могли, подготовились. Произвели на местах учет машин, посевных площадей, всякого поголовья. Немало хороших людей потеряли при этом, а не все еще сделано. Продолжаем. Для подготовительных работ и вывозки хлеба из волостей мобилизовали четыре сотни рабочих верблюдов, пять тысяч конных подвод. Примерно наметили, кому, куда и по сколько ваших рабочих выделить для коммун, артелей и личных хозяйств. Кулаков с богатыми кантонистами мы в расчет не берем: эти пусть управляются сами, с них спрос особый. Москва обещает прислать из Центра еще два-три эшелона. Кроме того, к моменту уборки пошлем на места и своих рабочих и горожан. Но что это для Сибири? Она, матушка, — океан! Поэтому главное тут — машины: серпом и косой урожай сибирский не уберешь! Оттого-то на вас особенная надежда, как на спецов по сельским машинам. Старых «мак-кормиков» и других систем у нас в волостях много, да где изработались, а где стоят, потому как деталей нет.
— И почти все у частных хозяев, особо у кулаков, — вмешался в разговор совсем еще молодой человек в черной кепке и неопределенного цвета куцем пиджачке, которого Веселовский представил, как комиссара по продовольствию Славгородского уезда товарища Большакова. — Отобрать бы… свести бы эти машины вместе, — почти мечтательно добавил он. — Пустить бы их сразу все сообща… тогда бы другое дело!
— Если бы да кабы, — усмехнулся Веселовский. — Однако пока приходится каждую молотилку или косилку использовать там поштучно, в каждом личном хозяйстве в отдельности. Потом поштучно же из хозяйства за это взимать зерном…
— И тут, кстати, я хотел бы сразу уточнить, — опять вмешался в разговор Большаков. — На что мы можем рассчитывать в смысле машин и деталей к ним? Что вы фактически привезли с собой по ранее согласованным спискам?
— Все, что обещали, то и привезли! — весело ответил Веритеев. — По этому самому списку. Тютелька в тютельку!
— Ой, хорошо! — не удержался молоденький Большаков.
— Дело в том, — объяснил Веселовский, с улыбкой взглянув на славгородского комиссара, — что недавно в одной из своих телеграмм товарищ Ленин рекомендовал нам не распыляться, а сосредоточить внимание на более перспективных по урожаю уездах. Он указал на четыре: Петропавловский, Славгородский, Новониколаевский и Барнаульский. И это правильно: именно там ожидается лучший урожай, оттуда и должно, по нашим расчетам, поступить наибольшее количестве хлеба. Особенно обнадеживает уезд товарища Большакова. Хотя, в отличие от прошлого года, в этом году у нас в Сибири вообще ожидается хороший урожай.
— А в нашем Славгородском, — не скрывая гордости за свой уезд, добавил Большаков, — прямо-таки небывалый!
— Это уж да! — опять подтвердил Веселовский. — С другими уездами не сравнить, включая и Омский. Вон я поглядел, многие из вашего эшелона сразу же побежали в немецкий хутор… напрасно! Там они не найдут ничего. Никто из здешних кантонистов куска не продаст и не даст. Не от жадности, а потому, что хутор — на магистрали. Все, что там было более или менее лишнего из съестного, давно уже продано или отдано в обмен другим из проходивших через Омский пост поездов. Да и вольные цены тут, на больших станциях и базарах, вряд ли ниже московских. Белая мука — двести сорок тысяч за пуд, ржаная — сто пятьдесят и сто восемьдесят. Мясо — три с половиной тысячи за фунт.
— А в Славгородском уезде, — опять вмешался Большаков, — проезжего люда нет. И холеры нет. Там вы не только поработаете, но и полностью разживетесь всем, что каждому нужно.
— Учитывая это, — заключил разговор Веселовский, — Сибревком решил не задерживать эшелон здесь, в Омске, а сразу же, так сказать, с ходу, направить в полном составе в Славгородский уезд. Сегодня мы накормим ваших рабочих обедом, после этого расскажем об условиях, планах и общем порядке работ, а завтра подпишем соответствующий договор, и вы тронетесь в путь. Товарищ Большаков поедет с вами, чтобы в дороге еще раз поговорить обо всем подробно…
В договоре, подписанном на следующее утро, было среди прочего сказано, что руководство эшелона от имени завода «передает в распоряжение Омского губотдела следующие предметы:
1) сто штук косилок, двадцать пять штук жатвенных аппаратов, 251 комплект ножей к разным машинам и
2) около 2000 пудов запасных частей к сельскохозяйственным машинам конструкции названного завода, а всего с понижением сумм на 50 % по прейскуранту 1914 года на сумму 12 503 рубля.
Указанные товары являются премией, выданной рабочим завода за выработанную ими сверх программы продукции сезона 1920—21 годов, поступившую в их распоряжение согласно декрету СНК от 7 апреля».
«За вышеозначенное количество машин и запасных частей, — говорилось в договоре дальше, — Омский губпродком обязуется сдать из своих ссыпных пунктов в местах работы отряда рабочих завода, производящих уборочные работы и починку сельскохозинвентаря, не позднее 10 ноября 1921 года 20 000 пудов пшеницы (зерна или муки) и 625 пудов сливочного масла экспортного первый сорт.
Означенные продукты Омский губпродком отправляет маршрутным порядком в сопровождении рабочих завода по адресу: станция Люберцы Московско-Казанской ж. д. с соответствующими документами, как обменный продукт натурпремий рабочих, который ни на месте погрузки и разгрузки, ни в дороге не подлежит конфискации, реквизиции и временному задержанию, согласно декрету СНК от 7 апреля и постановлению Сибпродкома № 455.
Кроме того, я, Омский губпродкомиссар, обязуюсь с помощью продовольственного аппарата и других органов оказать полное содействие по предоставлению соответствующего количества вагонов и тары, чтобы доставить продукт от места ссыпных пунктов до вагонов, погрузку в вагоны и отправление таковых до станции назначения, а также исходатайствование всех соответствующих документов, гарантирующих срочность и целость доставки до места назначения…»
А еще день спустя в газете «Советская Сибирь» появилась заметка, почти статья, в которой сообщалось о том, что «из Москвы прибыли рабочие Люберецкого завода, снятые с работ в полном составе и с завкомом во главе.
Всего прибыло 1200 человек, большинство высококвалифицированных слесарей, кузнецов, механиков, столяров и т. д. Среди них есть женщины.
Рабочие приехали в Сибирь дружной, товарищеской семьей, с заводским театром, своим оркестром. В Москве их в изобилии снабдили деревенской литературой и наставлениями по работе среди крестьян.
Здесь, в Омске, москвичей встречали в клубе Лобкова. От отдела по работе в деревнях Сиббюро РКП прибывших приветствовал тов. Веселовский и от Сибпродкома Махонин.
В своих выступлениях во время встречи руководители эшелона и рабочие выразили полную готовность отдать все силы боевому проведению возложенных на них задач по ремонту машин и уборке урожая.
Собрание закончилось пением „Интернационала“ и большим концертом, данным силами заводских артистов и оркестра».
А эшелон тем временем двигался дальше на восток, к большому железнодорожному узлу Татарску, чтобы оттуда круто свернуть на юг — в кулундинские степи.
Сытые и веселые люди в предвкушении скорого конца утомившего всех пути нетерпеливо поглядывали из дверей теплушек на проплывающие мимо картины сибирской степи, возбужденно делились впечатлениями от всего, что узнали и увидели в Омске, спорили и гадали: что их ждет впереди? Какой он, тот Славгород?
Наконец показались домики долгожданного городка. Паровозный машинист дал мощный гудок. Заводской оркестр грянул марш. Изнуренный длинной дорогой паровоз в последний раз прокрутил серые от пыли колеса, выпустил клубы дыма и пара, заскрежетали тормоза — и вагоны остановились.
Из них, нетерпеливо подталкивая друг друга, стали выпрыгивать на землю истомленные ожиданием рабочие.
Но и это не было концом пути: эшелон простоял здесь в полном составе еще три дня, пока тысяча сто шестьдесят восемь человек, не считая шести умерших по дороге от холеры и отставших от состава Фильки Тимохина и кладовщика Теплова («Ну, эти нагонят. Небось пошли на какой-нибудь станции за едой и отстали. Такое не раз бывало»), — не были разделены на четыре главных отряда, каждый из которых, в свою очередь, разбили на две дружины, а дружины — на рабочие шестерки, которые затем и были после жеребьевки отправлены в окрестные деревни и села.
И пока эшелон стоял на станционных путях в ожидании окончательного распределения приехавших на работы, возле него возникло нечто вроде нечаянной ярмарки: сюда не только из соседних, но и из дальних селений уезда, прослышав о приезде тысячи рабочих («Аж из самой Москвы!» — «Да не с пустыми руками, а с машинами и запасными частями к ним!» — «И не просто рабочих, а мастеров по этому делу!»), стали прибывать на телегах мужики с празднично одетыми деловыми бабами, восседающими на мешках с мукой и семечками, в окружении кадушек, кринок, ведер и корзин с караваями ситного хлеба, с медом, смальцем, живыми поросятами и горластыми петушками.
Бабы приезжали для обмена с богатыми москвичами. Мужики — приглядеться к приезжим, послушать, поговорить и в конце концов выбрать себе такого, чтобы и сила была, и мастак по машинам и чтобы новости знал, какие там, в Центре. Словом, так, чтобы вышло все честь по чести: сколь заработает, столь и получит…
Ярмарка началась, как и всякая другая, прежде всего с торговли: на возах крестьян, приехавших встречать эшелон из окрестных селений, высились груды мешков с подсолнухами и мукой, бочонки с медом и салом, живые гуси, куры и поросята. И все это тут же рядом, не нужно никуда бежать: выменял да и сунул в вагон, на свое обжитое место. А то еще неизвестно, удастся ли потом, когда начнутся работы, заниматься обменом. Да и останется ли к тому часу что-нибудь на обмен? Лучше уж сразу — выменял, что можно, и больше об этом думушки нет…
Торговля шла весело, бойко. И чем шумнее она становилась, тем в более тяжелом, прямо-таки мучительном положении оказывались заводские музыканты: деспотический инженер Свибульский не позволял ни одному из оркестрантов «покинуть свой пост» и заняться обменом, как остальные.
— Время для личных дел у вас еще будет потом, когда мы начнем гастроли по деревням! — сказал он строго, посверкивая очками на длинном, слегка кривоватом носу. — А пока извольте работать. Да-да! — погрозил он капельмейстерской палочкой. — Я самым решительным образом требую выполнять свой долг. Дисциплина прежде всего!..
Бедные оркестранты молча, с горестной завистью поглядывали на то, как их знакомые и друзья спорят с прижимистыми бабами, а потом волокут к вагонам давно не виданное добро, и час за часом уныло дули в медные трубы, бренчали струнами балалаек и мандолин, гулко били по тугим бокам большого барабана, чтобы сбежавшиеся со всего городка девчонки крутились с парнями из эшелона в вальсах и других любимых танцах тех лет.
Оживление на привокзальной площади с каждым часом лишь нарастало. Но большинство мужиков приехало сюда вовсе не ради веселой ярмарки и обмена. Пусть этим займутся бабы. Они ведь какое племя? Ей, бабе, считай, пятьдесят, а то и больше, внуки, а то и правнуки есть, так нет же: едва где увидит цветастую тряпку или красивую ожерелку, так батюшки ты мои… все позабыла, только продай!
Ну и пускай их, тех баб. У мужика — дела поважнее.
И каждый из них, приехавший в городок верст за сорок, а то и больше, прибыл сюда не ради каких-то тряпок: стоя ли возле своей телеги, прохаживаясь ли по многолюдной пристанционной площади, заглядывая ли в вагоны, в которых приехали москвичи, каждый из мужиков прежде всего тайком и впрямую приглядывался к приезжим: «Чем они дышат, эти самые люди, о коих уполномоченные из уезда еще загодя сказывали больно уж хорошо? Добро бы, коль так. Однако пока торопиться не будем. Тут как бы не промахнуться. Хм… пожалуй, вот этого я бы взял: видать — работящий. А этого нет — жидковат».
«Девчонки-то здесь к чему? Да и бабы тоже: хватает своих».
«А этот вон, в шляпе… умора! Видать, из бывших господ…»
Нельзя сказать, чтобы все москвичи так сразу и понравились крестьянам. Скорее — наоборот. Суетливость, с которой многие старались поменять стираные, реже — новые, чаще — перешитые для обмена рубахи, штаны, кофточки, платки, сапоги, полушалки, а барыни побогаче — те прямо-таки царские туфельки, ожерелья, колечки, женское белье из тончайшего шелка, от чего нельзя глаз отвести, и не будь мужика — любая из баб отдала бы за них до последнего всю телегу, пешком бы домой пошла и все примеряла бы по дороге, все любовалась бы каждой вещью… эта несолидная суетливость явно изголодавшихся приезжих вначале показалась крестьянам — сытым, устойчиво живущим на щедро родящей просторной земле, привыкшим к степенной сдержанности, — она показалась им несолидной и неприятной. Конечно, голодных можно понять. А все же…
Поздними вечерами и ночью, когда суета замирала, гасли костры возле вагонов и большая часть приехавших забиралась на свои нары, когда возбужденные ярмаркой бабы все еще потихоньку бегали друг к другу от воза к возу: «Что наменяла? Ну, покажи!» — «Темно уж… а ты?» — «Ой, бабоньки, что мне одна ихняя барышня принесла», а мужики обрывали их: «Да хватит вам, дня, что ли, нету? Завтра наговоритесь…» И к самим мужикам сон не шел, и в эти тихие поздние часы возле телег с задранными оглоблями, с привязанными к задкам лошадьми, сочно хрупающими овес и сено, — в эти часы начиналась другая жизнь. Жизнь прикидок и размышлений. Откровенных бесед и споров.
— Да-а, — неопределенно начинал какой-нибудь из мужиков, свертывая очередную махорочную «бонбу». — Вот, значит, оно и так.
— Чего уж, само собой! — отвечали ему. — Вестимо…
— Приехали, значит?
— Ага…
— Вагоны, какие с машинами, поглядел? Цельных три около паровоза. Машинист сказывал, что в них всего чего хоть…
— Так ить Кузьмин с Большаковым распределили уже все допрежь, кому что.
— А все ж таки поглядеть бы.
— И то…
— Ну, а как они, пролетаи-то! Кого из них для себя приглядел?
— Чего приглядел я? Разно….
— Верно, что разно. Однако же с первости не суди. Голодны, чего с них взять?
— Один менял с моей бабой штаны да рубаху, только раз и надеть. Незавидный такой, один рыжий ус короче другого, будто обгрызен. И сам из себя не свой. «Город кончился, говорит. Помират, мол, с голоду город. Вот, говорит, спускаю с себя последнее. Теперь, сказывает, Расее вряд ли подняться из той разрухи, куды там!» А сам все торгуется, гоношится, хватат то да се, а всего-то штаны с рубахой, и те вот-вот поползут…
— Про то, сват, и речь: оттуда приехали, из голодной Расеи. Там у них знашь как люто!
— Тоже и мой, который менялся. Я ему про Москву, как, мол, там? Про машины, какие в вагонах, а он мне: «Черт их мне, те машины? Главное подкормиться, домой привезти. Пропадай она пропадом, ваша Сибирь!»
— Верно, такие есть. Но больше не этих, а вроде как большаков. Я вот с одним нарочно схлестнулся: «Мол, довели большаки Расею!» А он чуть подумал, прикурил от моей, сурьезно так говорит: «Плохо, конечно. Да рази в том наша, рабочих, вина, дорогой товарищ? Война разорила вконец, буржуи терзают со всех сторон. Однако это скоро закончится, говорит. И ваше крестьянское дело, мол, тоже пойдет на поправку. Вон мы к вам на помощь явились. Эно отколь. Ваш инструмент, значит, в полный порядочек приведем ото всей души. А вернемся домой с добрым хлебушком — и зачнем поднимать завод. В целом подъем России вверх совершать зачнем. А то, что обмен идет вроде как на базаре, об том, мужик, не суди: такой уж момент. Последние, мол, рубахи с себя снимаем. Город, конечно, изголодался. Детишки мрут. Жены досиня отощали. А у вас, я гляжу, говорит, тут полная сытость. Поэтому, говорит, помочь нам надо, крестьяне! Помрем — опять вас Колчак с беляками живыми зачнут глодать. А выживем, укрепимся, машины станем в количестве выпускать, керосин добывать, спички делать… а как же? Власть теперь наша, рабочая да крестьянская, говорит. Неужели ее не поддержите, мужики?»
— Это и мой сказал!
— Мой тоже. «Чай, мы, говорит, совместно страдали при Николашке, совместно против германца бились, совместно помещиков да буржуев спихнули, совместно и жить будто братья будем. Вы, говорит, в деревне, мы — в городе — сообща пойдем до мирового полного поворота. Власть теперь наша, мол, общая. Делить нам друг с другом нечего. А земли у вас эно сколь! Вы — хлеб городам, мы — все другое. Главное, говорит, чтобы нам не мешали буржуйские страны. А также контра внутрях: лезет, мол, нечисть из всех углов, успевай отбиваться…»
— Да уж… чего там!
— Есть, конечно, и среди них, какие послабже. Однако же в целом, ух, спайка у их… железо!
— Одно только то возьми, что меж нами экие тыщи верст, а взяли да и явились цельным заводом!
— Будто полк: со знаменем да оркестром. У всех одно дело, одна задумка…
— С каждым начальством могут вполне столковаться: надо — и все!
— Потому он и называется — класс…
— Огулом хаять их нечего!
— Это уж да!
— Однако послухаем, поглядим…
Разговоры шли и с глазу на глаз, и в стихийно возникающих группах — у возов и вагонов, на всем пространстве погруженной в светлую звездную темноту привокзальной площади — майдана, по-местному.
А среди спорящих или мирно беседующих молча ходил комиссар Кузьмин.
Сутулый, одетый в давно обветшавший френч и такие же старые галифе, хмуроватого вида, неторопливый, он не привлекал ничьего внимания. Попыхивая самодельной трубочкой, останавливался где-нибудь сбоку то у одной группы, то у другой. Послушает, постоит, подымит ядовитейшим самосадом — и двинется дальше.
И делал он это не без расчета. После обидной промашки с Суконцевым для работы в Мануйловской волости хотя бы на время он так и не смог до сих пор найти подходящего по всем статьям уполномоченного от ревкома. Всех, кого можно было мобилизовать для такой работы здесь и в Омске на время страды, давно уже мобилизовали и распределили по местам. А те, кого он мог бы «выбить» дополнительно из крайне ограниченного местного и губернского актива, казались ему не очень надежными, слабоватыми «на политику». Поэтому, договорившись предварительно с Веритеевым и Большаковым о назначении одного из москвичей хотя бы временным уполномоченным в Мануйловскую волость, он и ходил теперь среди беседующих с крестьянами рабочих, внимательно приглядываясь к тем из них, которые меньше других «барахлились» днем и более активно, убежденно разговаривали теперь в эту необычную, волнующую ночь о главных вопросах текущей жизни.
А разговоры сводились, в общем, к одним и тем же вопросам:
— Наступит ли послабление? Или, может, об том одни обещания?
— И как полагать обо всей России: выживет, нет ли? Какой уж год еле-еле… может, на том и конец?
— А что слыхать опять про войну? Замирятся наши с буржуями наконец-то, да и надолго ли? Слыхано было, опять чегой-то на нас оттель стали целиться… устоим ли?
— Будет ли ситчик и прочее все другое, какое бывало прежде? Идет ли на то в городах движенье? Или же деется все для того, чтобы вызнать все о крестьянстве для полного изымания?
Надо было ответить на каждый из этих вопросов спокойно и терпеливо. А были и такие, вроде Половинщикова, которые либо отмахивались от прямого ответа, либо панически отвечали, что «поднять заводы до прежнего — и не думай, куда там!» — хотя даже эти вызывали у мужиков невольное уважение:
— Бульботит он худое, видать, оттого, что совсем оголодал, потому и веры не стало ни в бога, ни в черта. Однако в Сибирь приехал, не побоялся, и тут со всеми на равных. Не то что мы со своим Износковым или Кузьмой Титовым, Порфирием Карпычем Дониным или Андроном Семенычем Ильичевым!
— Ему комиссар велит помолчать: не то, мол, бормочешь ты мужикам, а он себе гнет свое, не боится.
— У них и плохой, похоже, сильнее, чем наш хороший…
Такие прикидки мужиков между собой Кузьмин тоже не пропускал. Но внимание привлекали прежде всего приезжие. И среди них он в конце концов особо отметил пригодными для своего дела троих: Сергея Малкина, Амелина и Фому Копылова.
Двух первых Кузьмин запомнил еще до «ярмарки», когда шел разговор о распределении рабочих по крестьянским хозяйствам. Узнав о том, что кулаки и кантонисты не будут приниматься во внимание, что рабочих распределяют по середнякам и бедным хозяйствам, один из москвичей — высокий, сутулый, не очень складный мужик, с неровно обстриженными рыжими усами по фамилии Сухорукий вступил с ходу в спор:
— Неверно! Что мы получим за труд по уборке у бедных и средних крестьян? Мышкины слезы! Зато у богатых, а также у колонистов всего полно! Ходили к таким в пути на обмен, видали! А раз это так, то к ним и надо распределять! И мы, и они, и само государство внакладе тогда не будет! Ведь главное что? Главное — сделать дело, за коим приехали. То есть хлеба собрать побольше, домой его увезти, а разное там что другое пускай решают сами сибиряки!
— Сколько я тебя слушаю всю дорогу, Игнат Митрич, — негромко, но даже слегка побледнев от решимости сказать Сухорукому прямо в лицо то, что он о нем надумал в вагоне, ответил, не выдержав, Малкин, — и все больше вижу: бывает, от дурости своей несешь ты такое, что прямо кажется, будто враг!
Сухорукий свирепо крикнул:
— Чего?
— Говорю, ну истинно — враг! Враг революции, нашей рабочей власти. Ты не ярись, погоди! — Резким движением руки Малкин остановил качнувшегося было к нему длинного жилистого, драчливого мужика. — Раз хоть послушай, чего о тебе я давно подумал. То у нас на заводе ты лезешь против всего, чего предлагает ячейка или завком. То в эшелоне тебе все не так. То теперь здесь желаешь помочь не крестьянам, а колонистам и кулакам…
— Так я же об чем? Об нашей рабочей выгоде!
— Вот-вот! Чтобы побольше увезти с собой! А как увезти? Какой по себе тут оставить след — веру ли у сибирских крестьян в нашу братскую помощь или же рознь? То есть чтобы совсем уж из веры в нас выбить? Об этом тебе и в голову не войдет! А это значит, что ты есть враг!
— Я те вот дам…
— Я сам тебе дам!
Некоторое время они стояли друг против друга, вот- вот готовые сцепиться в драке.
Потом, отдышавшись, но весь еще полный обиды и злости, Сухорукий свирепо крикнул:
— Раз ты обо мне, Малкин, так неправильно говоришь, то вот пусть слушают, что я на это тебе скажу, как члену нашего штаба. Слушай: не пойду я работать ни к богатому и ни к справному из крестьян. Это раз. Хлеба ихнего мне не надо. Туды меня теперь отправляйте, где будет беднее и тяжелее всего. Это два. Хватит слушать всякие там обиды. Кто враг, а кто нет, мы еще поглядим! А я докажу. Последние силы тут положу, а докажу, что не враг, а первое дело — желавший иметь заботу о выгодах нас, рабочего человека. Это три. Мне что? Ничего мне не надо. Нам с бабой много ли жить осталось? Как- нибудь перебьемся. А я тебе — докажу! Увидишь…
Эту внезапную стычку Кузьмин запомнил хорошо и теперь с особенным вниманием прислушивался и присматривался к тому, как в разных концах эшелона и на майдане с мужиками разговаривают о своих делах и делах страны такие люди, как Малкин, Амелин или Фома Копылов.
— В чем задача нашего эшелона у вас, товарищи крестьяне? — неторопливо говорил Сергей Малкин у одного из возов. — А в том, чтобы помочь вам встать на ноги в своем хозяйстве. Поля тут большие, видали мы, пока ехали. Руками такие поля не взять. Выход один: машиной.
— Это уж точно!
— Ну вот. А вам, товарищи крестьяне, на практике известно, что сельскохозяйственный инвентарь, проще сказать машины, нуждается в постоянном ремонте. Тут, значит, нужен вам глаз да глаз! А почему? Потому что, кроме изнашивания дерева и металла в этих машинах от разных ударных нагрузок при работе, они страдают также и от природных химических соединений вроде дождей и составов почвы. Испытывают и воздействие от центробежных сил при неравномерности рабочих нагрузок на ту или эту деталь, от силы движения, а также от общего взаимодействия частей. Понятно?
— Вроде бы…
— Отсюда их порча и недостаток. У плугов, к примеру, лемехи, их режущая почву кромка. Проще сказать, лезвие. Оно вместо режущей нормы в 0,8 или 1 миллиметр становится толстым чуть не втрое и, значит, как ни паши, идет все одно ненормальное отклонение при вспашке. Понятно?
— Ага!
— Так же и все другое. Сеялки, к примеру. Где происходит смятие и притупление дисков сошника, а где излом рифелей высеивающей катушки. Все это мы у вас осмотрим, в точности установим и, если можно, исправим. Понятно?
— Еще бы!
— В разного рода жатках, к примеру, тоже. В них надо либо сменить, либо же на заводе, который в городе, отштамповать заново части для двигателя. Проще сказать, сделать зубчатые передачи, которые передают движение от ходового колеса к режущему орудию. Потом у одних вместо отработавших свое пластин в прорези жатвенных пальцев надо вставить новые, у других — наварить сломанные об камень либо ступившиеся ножевые полотна. Ясно?
— Ага.
— Ну и, конечно, накрепко закрепить на тележке приемочную платформу. А если это сноповязалка, то привести в порядок вяжущий аппарат. В общем, сделать все надо по-заводскому, по технике, точно. Чтобы машина работала в полную силу, а в машине — каждая деталь.
Малкин помолчал, внимательно оглядел мужиков, с каким-то новым значением спросил:
— Теперь вот скажите: что такое деталь машины?
И сам же ответил:
— Проще сказать, железка. Верно? Как говорится, нуль. А без детали машина? Мертвое тело! Вот и рассудите, мужики, — неожиданно повернул он разговор в другую сторону. — Если уж общая сцепка всех частей нужна для каждой машины, то для ладной работы всего крестьянства такое надо тем больше! Ведь каждый крестьянин в отдельности что? Деталь. А, скажем, село? Прямо скажу машина! И, значит, что? Значит, в каждом селе вам надо соединиться вроде машины, работать артелью, всем сообща! Конечно, — быстро добавил он, заметив протестующее движение одного из хорошо одетых мужиков, — можно работать и в одиночку, в одну деталь. Скажем, серпом. Но сколько ты им нажнешь, товарищ Учайкин? — обратился он к рыжеватому, плохо одетому мужику.
От неожиданности тот смутился:
— Ну, сколь? Серпом на одну десятину надо не мене трех мужиков и пять, скажем, баб…
— У тебя эти мужики с бабами есть на помочь?
— Откель же?
— То-то и оно! А если сообща, машиной?
— Машиной, оно конечно! — вмешался другой мужик. — Машиной у наших соседев, у колонистов, немец за неполный день убирает вчистую пять десятин!
— Вот тут и прикинь, — снова повернул Малкин разговор на главную тему. — Серп по сравнению с жаткой все одно, что крестьянин по сравнению с артелью. Это я точно вам говорю, есть такие артели у нас в Московской губернии.
— И у нас в Сибири кое-где есть.
— Об чем же тогда разговор? Машина — она сильнее любой детали! А вот ты теперь представь, — снова обратился он к Учайкину, — если этих машин, иначе сказать артелей, будет в России и тут, в Сибири, много и все они будут работать от главного, ходового, колеса, короче схавать — от Москвы, то есть от планов революционной партии РКП во главе с товарищем Ульяновым-Лениным, против голода и разрухи? Что тогда будет с голодом и разрухой? Будет их полное преодоление. А ведь оттуда, из той Москвы, и идет теперь по всей по России главное, ходовое, движение. Но может ли быть во всю пользу такое движение, если каждый крестьянин будет сам по себе, как деталь? А вот если объединиться, если всем сообща… чтобы деревня будет, скажем, как сеялка или жатка… Куда тогда буржуям и мироедам деваться? Останется одно: караул кричать!
Мужики засмеялись.
Он передохнул, оглядел мужиков, почти будничным тоном закончил:
— Артель, мужики, главный вам выход. В ней, брат, ничто тебе нипочем! В союзе большого можно достигнуть…
В другой группе беседующих речь велась о разверстке и о налоге. Выслушав объяснения Ивана Амелина, один из мужиков задиристо спросил:
— А почему это мы, крестьяне, должны отдавать налог? Я хлеб растил, я ему и хозяин. А тут государству то по разверстке, то вот теперь по налогу…
— А почему мы должны делать для вас жатки, самовары, ножницы, ситчик, керосин и чего другое?
— Как почему? — опешил мужик.
— Да так! Тебя как величать-то?
— Юрлов я, Амвросий.
— Вот так, брат Амвросий! — сердито сказал Иван. — Должен! Мы городское — тебе, ты деревенское — нам!
— Выходит, — обиделся тот не столько на сам ответ, сколько на тон, которым ответил ему Амелин, — царю с господами дай хлеб, а теперь комиссарам… за что?
— Значит, царю отдавал, а рабоче-крестьянскому государству стало вдруг жалко? А за что этот хлеб отдаешь — вполне даже ясно! — резко и не без издевки ответил Амелин. — За матушку-землю налог отдаешь. За нее, кормилицу! Ты ее, скажи, покупал? Нет, скажи: покупал у Советской власти? Хоть копейку за нее уплатил? Красную Армию, чтобы все не забрали белые и разные там другие, создавал? Оружием да шинелями обеспечивал? Нет!
— Зато я кормил!
— Ага, ты кормил. И правильно делал. Если бы не кормил, и земли бы у тебя не стало: отняли бы ее Колчак с атаманом Анненковым. А теперь подумай о государстве. Значит, не только о комиссарах, как ты говоришь, но и об тех, кто живет во всей России от края до края, кроме крестьян. Кто ту армию создает, чтобы земля у тебя осталась? Кто ей оружие делает на заводах? Кто для шинелей сукно должен ткать? А кто те шинели должен шить? А кто должен пить-есть, чтобы растить всех других людей от титечных лет до станка на заводе или где вообще в городах? Ведь эти люди тоже оно, государство. А есть-пить, брат, надобно всем. Вот и выходит, что ты за землю и должен отдать государству разверстку, а теперь налог тем хлебом и разным другим продуктом, какие нажил на той земле. Землю тебе дало рабоче-крестьянское правительство сразу в семнадцатом. Оно же тебя отбило от Колчака и теперь от разных таких охраняет. Чем же и поддержать его, как не хлебом через разверстку или налог? Твоим хлебом оно накормит рабочих, то есть нас в городах и наших семейных, и армию… Так иль не так?
Юрлов растерянно промолчал. Потом упрямо спросил:
— С рабочих, чай, не берут, только с нас?
— Как не берут? Во-первых, берут, — с трудом подавляя в себе растущее раздражение, терпеливо ответил Амелин.
— Это как же берут? — удивился мужик.
— А так. Скажем, я за станком наработал нынче на тыщу рублей. А оплату мне и другим начисляют с таким расчетом, чтобы вышло, к примеру, полтыщи. Это называется, я сработал добавочный продукт. Значит, вторые полтыщи идут государству на все про все. Называется это еще, брат, прибылью. Слыхал небось?
— А чего же? — Юрлов усмехнулся, но это была не усмешка злости, какая проскальзывала на его упрямых губах всего пять минут назад, а усмешка хитрого соучастника, примирительная усмешка. — Чай, того и хотим мы, придерживая свой хлеб, чтобы продать его с прибылью, а на эту прибыль необходимое что купить…
— Вот-вот! Ты за свой труд хочешь все до копеечки получить, чтобы полную прибыль себе одному иметь, а мы, между прочим, не все за свой труд получаем, однако на это вполне согласны! А как иначе? Если все, что я сделал, все сам себе и присвою, то что же останется на приварок народу, попросту — государству? Управлять эно каким хозяйством — заводами, денежными делами, армией, производством желательных тебе товаров, кормить сирот, стариков, торговать с другими полезными государствами — кто-то ведь должен?
— Вестимо…
— На это средства нужны? Скажи мне, нужны?
— А как же?
— Вот потому с вас, крестьян, и брали разверстку, вместо которой будет теперь облегченье налогом. Понятно?
Юрлов усмехнулся теперь совсем дружелюбно:
— Ох и ловкач ты!
— А что же? — легко усмехнулся и Амелин. — Нужен, брат, государству твой хлеб. Без этого никуда. Налог берут со всех, кто в труде. И нельзя не брать. Город дает одно, крестьянин — другое. Вроде обмена. А с тех, кто хочет жить за чужой спиной, без добавочного продукта, как паразит, чтобы чужими руками прибыль ту добывать, с такими у нас разговор другой. Не нынче, так завтра, а мы таких приведем в порядок. Добро будет только тем, кто трудится и взаимно идет друг другу на помощь — хлебом или там сальцем, кожей да шерстью, а кто — молотилкой, ситчиком или там шинами для телеги, гвоздями и чем другим…
В середине привокзальной площади большая толпа мужиков теснилась вокруг Фомы Копылова и Савелия Бегунка.
— Вы, рабочие, вон зовете себя пролетариями, — с откровенной усмешкой подкалывал Копылова степенный, сытый мужик («Бурлакин Илья из Мануйлова», — отметил про себя Кузьмин). — А у нас в селе иные так говорят: потому, мол, рабочие так зовутся, что они пролетай, которые пролетают как дым в трубу. Токо что красовался, в глаза себя всем пускал. А завтра, глянь, как вылетел, так и сгинул. Пролетел, рассеялся, будто не был…
Мужики — кто настороженно, кто недовольно, а кто и согласно — переглянулись: может, и верно, в эшелоне приехали пролетай?..
Явились, наговорили крестьянам зовущих слов, вроде чего-то и сделают, а потом пролетят отсюда обратно в свою Москву, и останешься ты один на один с Мартемьяном да с бандой Васьки Сточного. Голый, безо всего…
Копылов в свою очередь тоже некоторое время молча оглядывал окружавших его людей. Но худое, давно не бритое, скуластое лицо его не выражало ничего, кроме озабоченной и вместе с тем спокойной уверенности в своей правоте. Сдвинув засаленную кепчонку на левое ухо и этим как бы отгораживаясь от всего, что сказал и что скажет еще стоящий слева от него Бурлакин Илья, он вдруг усмехнулся, но усмехнулся без подковырки, как это сделал один из ближних мужиков, а как-то весело и легко:
— Что же. Спорить не буду: есть у нас и такие пролетаи, верно.
Он вдруг повернулся к Бурлакину:
— А где их, сват, нет? И у вас они есть. Иной раздуется как пузырь, кажется, что гора… вроде мануйловского кулака, о котором нам по дороге рассказывал ваш земляк товарищ Савелий. А пройдет срок, от пузыря того не останется ничего полезного, доброго для людей. Вон даже главный в России царь Николашка, — добавил он, отметив про себя шумок одобрения в толпе мужиков, — и тот на поверку оказался таким пролетаем: был — и весь вышел, слава те господи! Лопнул, будто пузырь…
Переждав с минуту, дав мужикам еще пошуметь — тем более что шум теперь был веселее и согласнее, он громче и строже пояснил:
— Что же касаемо нас, то тут гражданин… не знаю, как вас величать?
— Бурлакин, — подсказали ему.
— Так вот, гражданин Бурлакин, про нас, рабочих, вы брякнули зря. Конечно, есть у нас в городах и такие. Но в целом пролетарский класс — это, граждане крестьяне, старший ваш брат. Как объяснил еще товарищ Карл Маркс, пролетарию нечего терять, кроме цепей, а приобретает он в борьбе весь мир. Так оно есть, так и будет во всемирном масштабе. При этом учтите, что победит он в борьбе с угнетающими не один и не как господин, а вместе с вами, с его братьями…
Мужики снова многозначительно переглянулись.
— В целом рабочий класс, то есть мы, пролетарии, — продолжал между тем все тверже и напористее Копылов, — это среди трудящихся самый отчаянный и надежный. Попросту главный. Он, как бы вам вернее сказать, вроде того металла, который в косилках да в молотилках. Разных там деревянных частей в них много, это известно. Однако же что они без винтов да гаек, без железных ножей, барабана или там, скажем, чего другого, которое из металла? Значит, не эти деревянные части есть главное в деле. Одними ими не скосишь, не обмолотишь. Другое дело — железо, которое скрепляет все те деревяшки. Соединяет их в цельную, проще сказать, готовую для работы машину. То есть то, что управляет, что косит и обмолотит, что смысл машине дает… Так или не так?
Он опять переждал с минуту, пока мужики погомонили, поспорили между собою, чувствуя, как в его собственной душе что-то все это время ощутимо сгущается и воспаряется, подмывает взять да по-митинговому и сказать что-нибудь такое восторженное, такое призывное, какое говорится только в бою во время атаки.
При этом на ум шли какие-то необычные складные фразы, вроде: «рабочий класс — старший брат для вас», «рабочий — к труду и борьбе охочий», «за ним пойдете — счастье найдете».
Он с усмешкой перебирал в уме эти фразы и сам себе дивился: глянь ты, какая штука! Откуда чего идет! Сроду песен не складывал, а нынче само все складывается, как в песне! Однако вслух этих песенных фраз не сказал. Вслух он совсем уже твердо и веско добавил, когда в толпе мужиков опять все стало потише:
— Кабы мы были дымом, то пролетали бы вместе с нами таким же дымом и фабрики да заводы. Не было бы ни ситчику, ни чего из железа или там чугуна, чтобы кашу сварить. Ни тем более плуга или косилки. Не было бы и народной большой России с рабочим классом. То есть была бы только вон эта трава вокруг, — он кивнул в сторону раскинувшейся за вокзалом степи с невидимыми сейчас березовыми колками. — Ну и, конечно, свой хлеб и, скажем, капуста. А ни гвоздя, ни железины. А над всеми вами сидел бы да понукал какой-нибудь богатей с жандармом. Эти уж верно, не пролетят. Они вопьются в шею трудящихся крепче клеща. Они вам покажут, кто дым, а кто для их буржуйского дела сгодится. Так что ни вы без нас, товарищи дорогие, ни мы без вас добра не добьемся, счастливой доли не сыщем. Родниться нам надо. Объединяться. Одной семьей надо жить, вот, брат, какая штука…
В суете и веселье нечаянной ярмарки Антошка Головин чувствовал себя, пожалуй, еще более несчастным, чем оркестранты инженера Свибульского.
И не потому, что не мог отдаться азарту обмена. Для этого у него кое-что все же было. Очень немного, но было. Однако Антошка даже и не стал, в отличие от Зины и Клавы, заниматься ярмарочной сделкой.
Его тяготило и мучало другое.
С недоумением и даже отчаянием он обнаружил, что за месяц с лишним пути от поселка до Славгорода прямо-таки смертельно влюбился сразу в двух — в Катеньку Клетскую и Веронику.
Ее он тоже знал хорошо: красивая, выделяющаяся манерами и нарядами даже среди инженерских дочек, она нередко приходила в заводской клуб на субботние танцевальные вечера.
Ходить туда комсомольцы вначале чурались: буржуйский… американский. Но после закрытия кинотеатра в поселке стало так скучно, что волей-неволей Антошке и его друзьям пришлось вначале настороженно, бочком, но все-таки время от времени заглядывать в этот буржуйский клуб.
Оказалось, что там по субботам буржуев совсем и нет: вместо них толчется много знакомых рабочих ребят и девчат, в том числе комсомолок, и что танцуют они не какие-нибудь чужие, а давно известные танцы — вальс, краковяк, цыганочку.
Большинство рабочих парней стояло вдоль стен, не решаясь приглашать на танец даже знакомых девушек, а тем более таких, как сестры Клетские или Вероника. Вначале не решался на это и Антошка. Но не приметить красивую, рослую девушку он не мог.
Приметить — да… но чтобы влюбиться?! В эту во всем чужую (а что чужая — разумелось само собой) девицу дворянских кровей? Дочь бывшей фрейлины и полковника царской службы? Стыд и позор!
С Катенькой было проще.
Правда, Петр Петрович Клетский тоже из бывших. Но и прежде, а особенно за время общения в пути — многие представления не только о «барышне» Катеньке, но и о «министре планирования и финансов» решительно изменились не только у Антошки, но и у таких надежных партийцев, как Веритеев и другие члены штаба.
В дороге люди узнаются куда как быстрее и непосредственнее, чем в других условиях, — по множеству мелочей. Притворство здесь почти невозможно. А Петр Петрович, не говоря уж о Катеньке, и не думал в чем-нибудь притворяться — Антошка это чувствовал твердо. Наоборот, вел себя по-домашнему просто… В вагоне, где Клетские ехали, ему даже дали прозвище: «Наш шеф-повар», и Петр Петрович явно гордился этим.
На каждой длительной остановке, едва эшелон принимали на запасной путь, что означало стоянку на два- три дня, возле вагонов немедленно начинали пылать костры.
Не сильные, с буйным пламенем и золотыми роями искр, а ровные, осторожные, рожденные подобранными за станцией палками, щепочками, обломками старых досок, поленьев или же недотлевшими головнями, оставленными здесь ранее проехавшими людьми. На этих кострах одни наскоро, другие весело, не торопясь, кипятили чай, варили обед или ужин. И каждый такой костерок постепенно становился чем-то вроде каминного камелька, возле которого хорошо пошутить, побеседовать, помолчать, отдохнуть, наконец — всласть наесться мясного супа, пшенной или ячневой каши, а то удовлетвориться и ломтем посоленного хлеба, запив его кипятком.
Почти в каждом вагоне определился и главный «кухарь», который делался как бы хранителем и жрецом огня.
Именно таким в вагоне интеллигенции с первых же дней стал Петр Петрович. Волхование у костра, особенно по вечерам, доставляло ему нескрываемое удовольствие. И он не уступал его никому. Разжечь костерок, а затем держать огонь в надлежащем режиме, как несколько высокопарно выражался при этом шеф-повар, стало неотъемлемым правом Петра Петровича. Да и еду из купленной на привокзальных базарчиках снеди он готовил как истинный кулинар: по старым рецептам, вкусно. Сам процесс приготовления пищи доставлял ему удовольствие, был предметом невинной, почти мальчишеской гордости.
Из взаимных расспросов и разговоров едущих в этом вагоне выяснилось, что родился Клетский в относительно обеспеченной семье торговца книгами в Москве, в Охотном ряду возле церкви Параскевы-Пятницы. Книжный развал отца с годами пользовался у москвичей все большим успехом, семья жила все богаче. Петенька закончил вначале гимназию, потом, по совету отца, поступил в Коммерческое училище. Но тут отец умер. С книжными делами отца он знаком был мало — с ними пришлось расстаться, подрабатывать на жизнь уроками. Училище удалось закончить лишь десять лет спустя, на исходе века. Зато молодой, образованный коммерсант легко устроился счетоводом в Торговый дом братьев Маркиных, где после шести лет работы оказался во главе коммерческой части чугунолитейного завода.
К тому времени Петр Петрович преуспел и в семейной жизни: на одном из балов в пользу голодающих он познакомился с Анечкой Корзиной, единственной дочерью не крупного, но вполне состоятельного московского фабриканта. Молодые люди влюбились друг в друга. Петр Петрович в качестве зятя Корзиных перешел к тестю на должность главного финансиста.
На втором году нового века у них с Анечкой родилась первая дочь, Сонечка; через два года вторая, Катенька. И жить бы семье Петра Петровича в холе до конца дней, не случись в России рабочая революция. Фирма тестя лопнула как радужный, эфемерный мыльный пузырь, и Петр Петрович оказался не у дел. В их шестикомнатную квартиру вселили еще семью. Не приспособленная к трудностям жизни Анечка умерла от тяжкой испанки, пришлось продавать носильные вещи.
Казалось, все рухнуло. Но тут неожиданно появился ясный просвет: по роду прежней работы Петру Петровичу приходилось сталкиваться с адвокатом «Международной компании жатвенных машин в России» господином Воскобойниковым, и тот помог педантично честному в финансовых вопросах Клетскому устроиться на завод американской компании под Москвой — на вполне приличную должность. А главное, с хорошей благоустроенной квартирой здесь же, на территории завода.
Девочки выросли. Старшая, Сонечка, успевшая окончить девять классов одной из московских гимназий, стала работать в заводской конторе секретаршей директора Круминга. Младшая, Катенька, бойкая деловитая девочка, училась в последнем классе советской школы второй ступени. Не посоветовавшись с отцом, она вступила в комсомол и целыми вечерами хороводилась, как не без упрека говорил Петр Петрович, со своими одноклассниками.
Именно Катенька чаще всего и снабжала костры отца нехитрым горючим. Правда, не без помощи ее товарища по комсомолу Антошки Головина.
Наблюдая за ними, Петр Петрович пока помалкивал. Да и что он мог сказать своей Катеньке? Отваживай, дескать, этого беловолосого молодца, метко прозванного Подсолнухом? Своевольная девчонка спросит: «А почему?» Действительно, почему? К тому же парень вовсе и не плохой. У них… как это там говорится? Да, комсомольская дружба. Ну, может быть, увлечение: юное сердце влюбчиво. Ну и что? Все это — полудетское, неизбежное. Невинные взлеты чувств. А жизнь — велика. Сто раз пройдешь через ее порожки, пока найдешь свой истинный дом…
Поездку в Сибирь Клетский воспринял как исполненную надежд перемену в бедном однообразии еле-еле тлеющей заводской жизни, а волхование у костра — как милое, почти счастливое развлечение. Сидя на складном деревянном стульчике, предусмотрительно взятом из дома, он аккуратно и вовремя подкладывал в костерок палочку или сучок, помешивал в закопченном ведре ароматное варево и от удовольствия мурлыкал что-нибудь под нос. В особо благодушные минуты позволял себе даже некоторую игривость. Чаще всего, хитровато поглядывая на нетерпеливо дожидающихся обеда дочерей и соседей, напевал на бойкий шантанный мотивчик патриотическую сатиру — «Мальбрук в поход собрался», и в тех местах, где должны были звучать не совсем пристойные слова о провале завоевательского похода Мальбрука, он с хитроватым и поэтому с не менее непристойным видом подчеркнуто бубнил:
— Ну, папа! Как тебе не стыдно! — пунцово краснея, укоряла его пышненькая, синеглазая Сонечка. А бойкая, смешливая Катенька просила:
— Ох, папка… давай еще! И я тебе подпою!
Катенька и в самом деле давно уже нравилась Антошке. Нравилась ее стройная небольшая фигурка, обрамленное темными волосами умненькое лицо с карими, бойко поблескивающими глазами. А главное — никакого форса образованной барышни в отношениях с такими рабочими парнями, как он. Девушка не пропускала ни одного танцевального вечера, не отказывалась от предложений любого парня, если он был вежлив и трезв. А особенно охотно соглашалась, как ему казалось, когда стал ее приглашать на танцы он, Антошка Головин.
В танцах ему нравилось не столько то, что танцуешь с девчонкой, сколько ритм самого слаженного движения, гибкая легкость тела, мгновение за мгновением как бы плавно взлетающего и плывущего над исшарканным ногами полом вместе с другими девчатами и парнями. А рядом с тобою — Катенька. И ты тайно любуешься тем, как легко и воздушно, лучше всех, это делает она, порозовевшая от удовольствия.
Он даже думал иногда, что не только он ею, но и она тоже тайно любуется им, легким и ловким парнем. Это возбуждало в душе странную сладкую радость. Домой с таких вечеров он уходил всякий раз взбудораженный и счастливый. А потом с нетерпением ждал новой субботы, с удивительной ясностью представляя, как вновь пригласит Катеньку на какой-нибудь падекатр, чтобы затем целый вечер двигаться с нею по кругу среди других ребят и девчат…
О том, что он «втюрился в Клетскую девку», Антошка неожиданно для себя узнал от Фильки еще в поселке. Как-то поздно вечером, когда они вместе возвращались из клуба домой, тот с ухмылкой сказал:
— А ты ничего… мастак!
— В чем? — не понял Антошка.
— Да в этом, с Катькой. Втюрился, вижу, в Клетскую девку? Как два голубка: гули-гули-гули…
— Ты что, обалдел? Это я-то? В Катюшу? — удивился и даже попробовал возмутиться Антошка, до этого искренно считавший любовь выдумкой, вроде религии.
И вдруг его будто ударило: а ведь, похоже, и верно! Он даже остановился: Катенька? С Катенькой — хорошо. Она лучше всех заводских девчат. О ней он думает всякий раз накануне субботы.
Так, значит, верно? Любовь?
В тот вечер, ворочаясь до полночи на своем сенном тюфячке, он окончательно решил, что влюбился, раз Катенька — лучшая из девчат. Вспоминал, как впервые пригласил ее на танец, и она в ответ улыбнулась: «Пожалуйста!» И как затем, когда они вышли в круг, он начисто забыл все, что нужно было делать, чтобы не сбиться, хотя до этого заучил про себя главные танцы назубок. Оказывается, под падеспань надо мысленно напевать: «Жена мужа в Рязань провожала, говорила ему — „не скучай“, а сама с казачком танцевала падеспань, падеспань, падеспань»; под падепатинер: «Поедемте кататься, я вас люблю, вам нечего бояться: за все я заплачу»; а под падекатр — другую тайную песенку.
После этих танцев он чувствовал себя легко, как бы парящим на крыльях. Что же это, как не любовь?
С этим чувством он целый месяц ехал и в эшелоне. И вот зашел в разнесчастный день в вагон к Константину, увидел впервые так близко девицу из «бывших», дочь всем известной в поселке старой барыни на вате Пламенецкой… Увидел… поразился ее сияющей красоте… и — что же за наваждение? Не может быть! Но есть же…
Страдая от стыда и почти ненавидя себя за это, вообще за все, что так неожиданно и ужасно стало терзать его с того дня и что казалось ему недостойной слабостью, даже изменой всему, к чему он привык в своей комсомольской жизни и что считал самым главным в ней, Антошка как-то смущенно спросил Фильку, когда на одной из остановок они вместе шли к торговому ряду — промышлять еду:
— А стихи про любовь ты знаешь?
— А как же! — легко отозвался Филька. — Чего-чего, а уж это…
— Ну да?
— А чего тут особого? — в свою очередь удивился парень. — Взял «Чтец-декламатор», выбрал… Главное тут — влюбиться.
— Значит, влюблялся?
— Я влюбчивый, страсть. Влюбляюсь бесперечь. Чуть не каждый день. Как увижу девчонку, какая красивше, так и готов. Один раз даже сам стихи сочинил.
— Не может быть!
Филька остановился и, сморщив кожу на лбу, некоторое время напряженно думал. Потом громко продекламировал:
— Это кто же такая? Не Панюшкина? — с живым интересом спросил Антон.
— Не. Не она, а эта…
Некоторое время, сосредоточенно уставившись взглядом в землю, Филька молчал. Было видно, что он силится и не может вспомнить, кто же такая Анюта? Это сердит его, ввергает в недоумение: как же так — влюбленным был и забыл? Но ничего определенного на ум не приходит, и парень решительно отметает все в сторону: забыто — и ладно.
— Была одна такая, — ответил он наконец, зацепившись за то, что сохранила память яснее всего. — Артистка. Ух и красива, стерва! Приезжала в заводской клуб из Москвы с концертом. Да ты ее, может, видел? Был в клубе в то воскресенье?
— Не был, наверно.
— И зря. Пела как бог!
— А стишки? — нетерпеливо ввернул Антон.
— Мои-то? Ну, как нагляделся я на нее, как прослушал эти… — Филька попробовал напеть: — «А-а-а — шаль с каймою…. ми-и-илый мо-ой!», — но из этого ничего не вышло, и он досказал со вздохом: — Так и влюбился. А уж потом и стишки…
— А теперь ты в кого? — нетерпеливо спросил Антошка.
— Теперь-то?
Филька вздохнул. Это было для него необычным.
— Теперь, брат, в кого же еще? В нее…
— В Пламенецкую? — догадался Антошка, и кровь так сильно ударила в голову, что он едва не качнулся.
— Ага. Хотел опять сочинить стишки, да на этот раз ничего не вышло. То есть опять получилось вроде: «К тебе душой стремлюся, но встретиться боюся». Да разве это стихи? Пришлось в нынешний раз купить стишок за горбушку ситного у этого… как его… ну, который в том же вагоне едет, не заводской, а родственник этого… вспомнил: Эрик Воскобойников. У него… в самом-то деле он Пашка, а придумал для своих стишков фамилию покрасивше: «Эрик Сияльный». Так, мол, делают все…
— Он разве поэт?
— Ага. Говорит, что где-то даже его стишки помещали. Но мне не понравились: мои про Анюту лучше…
— Прочти.
— Пашкины? Покупные?
— Ага…
— А я их забыл. Бред сивой кобылы, а не стишки!
— Ну все-таки, — не отставал Антошка.
Филька хотел было решительно отказаться, но взглянул на пунцовое от волнения лицо приятеля, усмехнулся, вздохнул:
— Уж больно они, понимаешь ли, заковыристы. Сгоряча я их тогда заучил, а потом, когда хотел записать для этой… для Вероники, чтобы потом отдать… Ну, в общем, как стал писать, так и плюнул. Хотя — стой! Вроде… чего-то зашевелилось!
С минуту Филька натужливо выдавливал из глубин памяти не понравившийся ему «бред сивой кобылы» «Эрика Сияльного». Потом с трудом, чуть не после каждого слова плюясь и запинаясь, прочитал:
Да ну ее знаешь куда? — вдруг рассердился Филька. — Говорю тебе — бред! И вспоминать не хочу! Отдал ему за них, понимаешь ли, кроме хлеба еще и ножик… до сих пор себя кляну! А он мне насчет любви как о «зуде чесоточной сыпи…». Об этом дальше написано в его стишках. Вот пусть сам и чешется, черт паршивый…
Антошке такая любовь тоже была противна. Но от одного обостренного сознания, что любовь может даже такого нахального парня, как Воскобойников, довести до того, что начнешь сочинять стихи, от одного этого он все равно после разговора с Филькой несколько дней продолжал ходить как в тумане: внезапный напор чувства влюбленности в Веронику сделался лишь сильнее. Кончилось тем, что Антошка начал было и сам сочинять стихи о любви. Незадолго до отъезда эшелона из поселка он прочитал «Три мушкетера» Дюма, и теперь в голове все вертелось вокруг королевы и бравых вояк, одинаково готовых в любую минуту для поединка и для любви. В конце концов, с превеликим трудом, он осилил несколько строк:
Но дальше дело не пошло. Пришлось довольствоваться невнятным бормотанием: «Как увижу тебя, тра-та-та- та». И опять: «тра-та-та-тра-та-та!»
В этот последний перед распределением день, уже в Славгороде, желание как-то обратиться к новой возлюбленной (и лучше всего, конечно, стихами) сделалось просто неотвратимым: завтра, когда произойдет жеребьевка и все разъедутся по своим местам, будет поздно. Те, кто останется в городе, известны без жеребьевки: Петр Петрович с Катенькой и Соней, а также некоторые мастера и инженеры, в том числе иностранцы, — эти будут налаживать производство на местном заводе и на двух-трех фабричках. Остаются в городе музыканты Свибульского и драмкружковцы Оржанова: они будут колесить из села в село с «Судом над Советской властью», с постановкой «Кровные враги» и с музыкой.
А куда определят его? Куда попадет Вероника? Если в разные волости, до самой осени? Разлука на несколько месяцев… этого выдержать невозможно! Сегодня же, вот сейчас необходимо передать ей, скажем, с Зинкой, стихи про свою любовь…
И Антошка решился.
Вначале он попросил сочинить ему стихи о любви Ро- дика Цветкова, прозванного в поселке «рифмоплетом». Но тот, оказалось, был занят по поручению Оржанова переделкой какой-то пьесы для драмкружка, поэтому начисто отказался:
— Сейчас у меня не стиховой период. Как-нибудь потом…
Волей-неволей пришлось обратиться к «Эрику Сияльному». Страдая от стыда, Антошка разыскал в толпе высокомерного Пашку Воскобойникова, отвел его за угол сарайчика недалеко от вокзала и, запинаясь, попросил по- товарищески выручить насчет стихов.
Выслушав его робкую, еле произнесенную вслух просьбу, «Эрик» презрительно фыркнул:
— Тебе… и о любви?! Тоже влюбился, что ли?
— Ага…
— Ну и ну! — поразился пижон Воскобойников. — Комсомолец, да еще железный, и вдруг — о любви! Докатился! — протянул он с видом умудренного высокими материями человека, заставшего железного Антона за пустяковым, просто неприличным делом. — Не ожидал от тебя.
И назидательно добавил:
— Любовь — это для чувствительных барышень вроде Сонечки.
— А для Фильки написал?
— Ну, те были сделаны давно. С тех пор я вырос. Советую и тебе: плюнь. Все эти ахи да вздохи, мармелады и прочее — не для нас. Особенно таких, как ты; докатился!..
Антошке стало совсем уж не по себе: верно, что докатился! Кто же, выходит, оказался на поверку пижоном и недорезанным буржуйчиком? Вовсе не Пашка, над которым они с Филькой всегда открыто посмеивались, поглядывали на него свысока, как на зазнавшегося, гнилого барчука. Теперь получилось, что сам ты не только не лучше, но хуже этого «Эрика Сияльного»!
Чтобы хоть как-то выбраться из постыдного положения, он с фальшивой и глупой в таких обстоятельствах ухмылкой на круглом, обожженном огнем стыда лице торопливо спросил:
— А теперь чего сочиняешь? О чем?
— Во всяком случае, не об этих пустяках. Любовь… хм!
Воскобойников усмехнулся:
— Ты-то в кого влюбился? Может, в эту вон Веронику? Девка она что надо. Я сам бы с удовольствием, — и произнес похабное слово.
Вначале Антошка похолодел от страха:
«Угадал, черт Сияльный! Главное теперь, не показать вида, а то засмеет». А когда услышал грязное слово, его охватила неудержимая злость:
«Вот поганый, что говорит! Да я тебе, стихоплет…» И неожиданно для себя изо всех сил ударил Воскобойникова в левую скулу.
Ударил — и испугался: вот тебе раз! А когда тот, не удержавшись и взвизгнув от боли, закачался и стал валиться набок, Антошка с чувством отчаяния и вины успел подхватить его на руки.
Так вместе они и свалились на тропку возле сарая.
К удивлению и радости Антошки, ему помог подняться с земли, а потом и. загородил спиной от лезущего с кулаками Воскобойникова не кто иной, как Филька Тимохин. При этом весело, не без насмешливости, пошучивал:
— Спрячь, стихоплет, кувалды свои в карман, скоро пригодятся косить-молотить у крестьян в деревне. Отзынь, говорю! Давай отсель в свой вагончик…
И когда тот, ругаясь, ушел, на вопрос Антошки: «Откуда ты? Жив?!» — беспечно ответил:
— Не одолела холера! Говорил, что ничто меня не берет? Я от болезней заговоренный!
…В тот день, когда санитары свалили его в бараке на землю, он дотемна пролежал среди мертвых — от слабости в полусне, в забытьи. А ночью не то проснулся, не то очнулся: холодно стало. Глянул в раскрытую дверь — на небе сверкают звезды, краешком посветила луна…
— И так помирать мне, Подсолнух, не захотелось, — рассказывал Филька, по обыкновению то размахивая перед собой длинными, нескладными руками, то прихватывая Антошку цепкими пальцами за рукав, за пуговицу или склоняясь к самому уху. — Так я перепугался могилы, что взял да выполз оттуда на волю. Выполз — гляжу и слушаю: ночь. На железке — стуки да бряки. В жилухе — собаки лают. В пузе — урчит, тянет ослободиться. Сделал что надо — и пополз на карачках дальше. И только выполз с этого двора наружу, привалился к чьему-то забору, как сразу наткнулся прямо на бабу. На Ефросинью Антипьевну. Как после узнал, старушка. Спасительница моя. Сердце у ней оказалось — чистое золото. «Ползешь? — говорит. — Живой? Значит, не время…» Ну я и пробыл у ней цельных семь ден. Травой какой-то поила, пузо мне укрепляла. За это ей десять крестиков дал… уж так-то рада была! А я, как пришел в себя, взял ноги в руки и — догонять. В Омске спросил, где наши? «Дальше, велят, езжай». Я и догнал. Вон с тем поездом, который дует в Семипалатинск. Первым делом глянул на свои нары. И что же?
Филька ожесточенно сплюнул:
— Раздел меня кладовщик Теплов! Взял я, понимаешь, один богатый материал, называется плюш…
Он запнулся и прилгнул:
— У бабки в сундуке нашел. Думал, срублю за него мешков пять муки. А что вышло? Теплов этот, черт, молчал всю дорогу, чего-то прятался ото всех, слова не скажет зря. Я думал — какое горе. А вот чего оказалось!
Крестики, слава те господи, не нашел, а плюш этот… ух, Подсолнух, какой был плюшик! В узорах весь и блестит! — не сдержался Филька от запоздалого восхищения. — А тот кладовщик… ну, не гад ли, скажи? «Рыжики» говорили, что в Омском сбежал. Боялся, видно, что я его там настигну. И я бы настиг! Я бы ему, бандюге…
Парень огорченно почмокал толстыми губами, вздохнул:
— Вот ведь как вышло. Да-а-а… что ни возьми, а не везет мне во всем. Правильно дразнят, что Епиходыч…
Вокруг ходили и гомонили разные люди. Топтались лошади, томясь у возов без дела. За вокзалом не столько ботал, сколько уже просто устало вздыхал истерзанный барабан и без отдыха подвывали медные трубы оркестрантов инженера Свибульского.
Ярмарка продолжалась, хотя уже явно все шло к концу — и азарт обмена, и взаимные расспросы да споры рабочих и мужиков, а в упродкоме переговоры Веритеева с уездным начальством о том, кто и куда направляется на работу. Вот-вот и машинист даст гудок, призывающий всех к вагонам — на последний перед работами митинг…
— Дядьку Сухорукого не видал? — вдруг опасливо спросил Филька.
— А что? — удивился его беспокойству Антошка.
— Да я, понимаешь ли, ус у него остриг…
— Слыхали! — Антошка хлопнул приятеля по плечу. — Но ты не горюй! Во-первых, так им и надо. А во- вторых, усы у них опять почти отросли.
— Мало ли! Сухорукий — все помнит. Половинщиков — ладно, сильно драться не будет. Сейчас вон хотел было мне наддать… да куда ему! А дядька Игнат — тот мужик в силе. С ним дело другое. Ладно бы только дал мне разок по роже. А то возьмет и попрет из ихней теплушки. А мне терять ее неохота, поскольку она с секретом: муки в ней больше домой привезу…
С минуту он раздумывал, внимательно оглядывая толпу. Потом решительно предложил:
— Пойдем вместе поищем Игната. При народе он зря драться не станет. А там, глядишь, и простит: в тот день, когда я остриг, больной все же был. Значит, был не в себе. Оттого и усы отрезал. Верно, Подсолнух? Так что давай поищем дядьку Игната…
Сухорукого они нашли на выходе с площади в город. Взъерошенный и сердитый, тот упрямо твердил Веритееву и Большакову, только что закончившим последнее совещание и направлявшимся теперь со списками в руках к вагонам:
— И не уговаривай, не поеду! Плевал я на вашу жеребьевку! Раз твой партейный Сережка Малкин обозвал меня врагом, то пусть так и будет: к мужикам в работники не пойду. Мне ихней муки не надо. Нам с бабой хватит и того, что сам наменяю. Так что, брат, отправляй и меня, и моих мужиков, которых вы обозвали «рыжиками», на прессовку сена. Есть тут, по жеребьевке кто едет на сено? Ну вот. На сено и отправляй. Туда мы поедем всем скопом в своей теплушке. А Малкин Серега пускай комиссарит в Мануйлове. Пускай возглавляет и хоть обсыплется той сибирской мукой! Я ему «врага» не прощу. Нипочем. Отправляй, говорю, на сено!
— Черт с тобой, — не выдержал наконец Веритеев. — Поедешь на сено, только отстань. Видишь, куда иду! — и взмахнул перед красным от злости лицом Сухорукого пачкой бумаг со списками отправляемых на места рабочих. — Митинг будет. Нынче же после него и уедешь…
Час спустя отряд Фомы Копылова из двенадцати вагонов, включая вагон «рыжиков», и в самом деле первый двинулся к разъезду Скупино. В трех-четырех теплушках ехали квалифицированные рабочие для ремонта и налаживания машин к предстоящей уборке в ближних к разъезду селах. В остальных были те, кто направлялся для разных подсобных работ, в том числе Зина с Клавой, Вероника, Филька и Костя Шустин.
В тот же день отряд Ивана Амелина спустился на юг, ближе к Семипалатинску.
Третья группа во главе с председателем завкома Игнатьевым растеклась живыми ручейками «шестерок» по селам и деревням иртышского побережья. С четвертой поехал в урочище Коянсу, включая Мануйлово, Сергей Малкин, назначенный также и временным уполномоченным ревкома по уезду. А большая часть эшелона осталась в Славгороде во главе с Веритеевым: здесь специально подобранные бригады рабочих разных специальностей, инженеры, плановики, счетоводы и организаторы производства должны были «поставить на ноги» механический завод и еще два-три небольших предприятия. Кроме того, на особую группу Петра Петровича Клетского, принявшего должность главного финансиста и плановика отряда, была также возложена задача вести и общий учет работы всех дружин эшелона.
В группе Клетского оказался и Константин Головин.
Из всех «адъютантов» Веритеева только Родика Цветкова оставили в Славгороде — в составе драматического кружка.
— Понимаете, Иван Николаевич, паренек оказался очень способным, — убеждал начальство озабоченный предстоящими гастролями своего драмкружка по деревням и селам уезда артист Оржанов. — Что мы везем с собой? «Суд над Советской властью». Вернее — за Советскую власть, против ее противников. Но текст его был рассчитан на подмосковного зрителя! Значит, в прежнем виде уже не годится. Я попробовал переделать его сам — не вышло. Попросил Цветкова, и парень справился! Оказалось, с нами ехал какой-то мужик из Сибири по прозвищу Бегунок. Родик поговорил с ним и вот, представьте себе, сумел переделать «Суд» на местного зрителя. А наши спектакли? Не будем же мы играть московский старый репертуар? Тут тоже произошла любопытнейшая история…
Еще в Москве, задолго до отъезда в Сибирь, в Московский Малый театр однажды пришел одетый в затрепанную шинель молодой («явно, что прямо с фронта», — заметил Оржанов, рассказывая историю Веритееву), немногословный человек с пьесой, написанной от руки на разных листках бумаги. Назвался Тарасовым Николаем, работником какого-то губземотдела. Адреса не оставил. Сказал, что зайдет за ответом сам, да так и не зашел. Видимо, судьба опять забросила куда-нибудь далеко и надолго. Пьесу для постановки не взяли: агитка.
— Но чем-то она меня тронула, — говорил Оржанов, — я захватил ее с собой в эшелон. Называется «Смертельные враги». Действие происходит, правда, на Украине, а не в Сибири, в последний год гражданской войны. У отца-кулака два сына: Кронид — весь в отца, стал белогвардейцем, младший — Василь, полюбивший дочь бедняка Ксану, оказался свидетелем кровавых зверств белых, алчности и волчьей злобы отца и брата. В довершение всего, Кронид надругался над Ксаной. Кулаки во главе с отцом после прихода красных из-за угла убивают активистов, готовят восстание. Но партийцы и рабочие города помогают крестьянам справиться со всем этим, и все кончается открытым судом над смертельными врагами Советской власти…
Для полной убедительности Оржанов показал Beритееву пухлую стопку бумаги:
— Мы и роли в дороге распределили, не одну репетицию провели. Мне, к сожалению, придется играть кулака, а Василь хорошо получается у Цветкова. Так что прошу оставить Родю со мной… Кстати, знаете, чем он занимается все время в пути? — с улыбкой заметил Оржанов. — Сочиняет трактат!
— Что, — что?
— Трактат под названием ПУОМИР. Как-то на остановке зашел я к нему в вагон, сидит на нарах один, пишет. Спрашиваю: «Стихи сочиняешь?» — «Нет», — говорит. А на нарах, вместо бумаги, обрывки старых обоев, школьных тетрадей, неиспользованных бухгалтерских счетов — все, что смог наскрести в поселке. Родик стеснительный, покраснел, однако признался, что вот уже целый год сочиняет свой ПУОМИР — Проект Устройства Общества После Мировой Революции…
— Хм… ну и что? — с интересом спросил Веритеев.
— Прочитать мне не дал. Только сказал, что первая часть — вступление по Марксу, а дальше идет изложение технического и социального расцвета при коммунизме. Сказать по правде, я в этих делах не очень. Однако же любопытно!..
Этот разговор и решил вопрос об оставлении Родика в Славгороде.
Антошку Веритеев тоже оставил было в Славгороде своим порученцем. Но тут вмешался Бегунок.
— Я у них, у Головиных, сколько в поселке прожил? — горячился Савелий, уговаривая Веритеева вначале отпустить Антошку с отрядом Сергея Малкина в Мануйлово, а уж потом сделать своим порученцем. — Сколь одних щей у Платона выхлебал! Сколь картошки у Дарьи Васильевны съел? И чтобы теперь Антон у меня не пожил? Нельзя, Иван Николаич, никак нельзя! — укорял он озабоченного начальника эшелона. — Говоришь, он тебе в городе надобен для посылок? Ладно. Сколь поживет у меня в Мануйлове, столь и будет После — к тебе вернется. А пока давай его вместе со мной туды…
Антошке ехать в Мануйлово не хотелось. Что он там будет делать один? Другие ребята направляются в Скупино. Петр Петрович с Катенькой и Соней остаются в Славгороде. Не будет и Вероники… В таких обстоятельствах самое лучшее — остаться у Веритеева в «адъютантах»: по надобностям штаба удастся съездить и в Скупино, повидать ребят и эту… ну, Веронику… А у дядьки Савелия? Что у него?
Однако Савелий так настойчиво уговаривал Веритеева, так искренно радовался возможности отплатить Головиным за гостеприимство в заводском поселке, что отказать ему не хватило духу. И после того, как распределение состоялось и все побежали к своим вагонам — кто за вещами, чтобы двинуться в степь, кто — чтобы ехать дальше на юг к другим станциям и разъездам, а кто и затем, чтобы помочь собраться другим, а потом самим повольготнее разместиться в опустевших теплушках на весь срок работы здесь, на запасном станционном пути, — когда все это произошло, отряд Сергея Малкина тоже двинулся в степь — за озеро Коянсу.
В отличие от Бегунка, Антошка покинул городок со стесненным сердцем: из головы не выходил нечаянно подслушанный вчера разговор между Константином и Вероникой.
До этого брат всю дорогу от поселка до Славгорода откровенно обхаживал красивую, лучше других одетую, бойкую на язык барышню по всем правилам ловкого ухажера. А вчера, когда выяснилось, что его оставляют в городе с «группой слежения и учета» Петра Петровича, где он должен будет заниматься сбором и обобщением сведений о работе всех дружин эшелона, а Вероника тем временем уедет в Скупино — на сено, — Константин решился на прямое любовное объяснение.
Произошло это после обеда, в разгар суматошного дня. В поисках Катеньки, расстроенный предстоящей разлукой Антошка решил заглянуть в вагон интеллигенции: не там ли Катенька отдыхает от ярмарочной кутерьмы?
Но там никого не оказалось. Зато по другую сторону вагона, где простирался пустырь, слышались знакомые голоса: брат объяснялся Веронике в любви. Он говорил приглушенно и нервно, а она, видимо не принимая его объяснение всерьез, либо молчала, либо отвечала так спокойно и громко, что Антошка слышал каждое слово.
Уйти у него не хватило сил. И когда Константин предложил Веронике тоже остаться в городе в качестве его законной супруги да еще при этом, судя по всему, дал волю рукам, она резко сказала:
— Уберите руки! Прошу вас…
Потом вдруг весело засмеялась:
— Значит, вы делаете мне предложение? Предлагаете стать законной супругой? Забавно!
И пренебрежительно, как показалось Антошке, добавила:
— Но вы опоздали. Я уже дала согласие Казимиру Адольфовичу Свибульскому.
Дальше Антошка слушать не стал. Бесцельно шатаясь между телегами и людьми, он уныло казнил себя:
«Ну вот… значит, дала согласие инженеру Свибульскому. Будет его законной супругой. А Костька — утерся. Так ему и надо: ишь ты, чего надумал! А я?»
Сам он, конечно, совсем и не связывал свою полумальчишескую влюбленность с мыслями о женитьбе. Влюбился — и все. При чем тут женитьба? Тем не менее услышанное у вагона поразило его: оказывается, Вероника выходит замуж.
И это как-то вдруг стало стремительно отстранять ее от него. Делало ее посторонней и недоступной. Почти чужой: какая может быть любовь, если там Свибульский?
Чувствуя себя обманутым и обиженным и сам как бы обманывая кого-то (себя? Веронику? Брата?), он со вздохом решил:
— Ну и пусть! Пусть женятся, кто и на ком желает!
И это принесло ему утешение. Завернув к вокзалу и еще издали увидев Петра Петровича с Катенькой и Соней в группе полузнакомых ему инженеров, он уже почти совсем обыденно подумал: «Без любви обойдемся!»
С этими мыслями он и отправился в группе Сергея Малкина к озеру Коянсу.
После недавних дождей степь зеленела, дышала свежестью, благодатью. Босым ногам, соскучившимся за зиму о ласковой земной прохладе, было так хорошо ступать на мягкое и душистое, что пышным половичком покрывало эту нелегкую для земледельца, но легкую для пешехода землю. И час за часом Антошка с улыбкой оглядывал степь — с острыми гребешками камышовых зарослей по берегам озер, с яркой зеленью жимолости, шиповника, боярки, кустарниковой калины, клевера, ситника, вьюнков, аржаника на добротных местах, сайгачьей травы, полынников, ковыля на сухих буграх, кудрявых колков из березок, осин, осокоря, а изредка и дубков, то тут, то там возвышающихся над степью.
— Когда-то здесь тоже были леса, — рассказывал Бегунок. — Стояла тайга. Потом пришли люди, начали строиться, обживать эту степь, изводить леса на избы, на топку печей. Лучшую хвойную часть извели до самого корня. Не оставили даже и материнских стволов. Теперь разве только редкая птица донесет сюда в своем чреве сосновое семя, да и тому укорениться тут уже негде. Вот и остались одни колки, рощицы из осин и берез. Семена у них легкие, ветер разносит всюду…
Антошка стал было уговаривать Савелия добежать до Мануйлова на своих на двоих:
— Уж больно степь хороша! Так и хочется по ней пробежаться!
Но тот отказался:
— Не дойдем. Верней, что я не дойду. Вишь, как в грудях все еще значимо хурлычит? Раньше-то я, бывало, — откашлявшись, похвастался Бегунок, — туды да обратно в единый день лётывал. А теперь…
Вез их на своей телеге Агафон Грачев — новый председатель Мануйловского волсовета. Он по дороге и рассказал, как явился к ним в Мануйлово полномочный Суконцев, как Белашова девчонка Устинья подслушала разговор Суконцева с Мартемьяном.
— Тут Тимоха Макаров и замыслил сделать засаду, — весело говорил Агафон. — И так пощелкал чуть ли не всех бандюг, что теперь у нас стало вольготно. Правда, самому Сточному опять удалось уйти, а Суконцева взяли. Оказался лютым вражиной. Отправили прямо в Омск. Туда же и Мартемьяна с его племяшом, который вовсе и не племяш. А с ними и кривоглазого Кузьку…
Грачев рассказал и о том, что случилось в урочище Ченгарак с батраком Толебая Архетом.
— Еле живого привез его к нам Хаким. Однако выходил фельдшер Иван Семенович. А Толебая судили. Сидел. Теперь, говорят, послали его на работы: кормить варнака задаром тоже, чай, не расчет. Пускай на общество поработает. А в пользу Архета, как инвалида, у Толебая реквизнули последних коней, скотину и землю. Главное поделили в ауле, которым земля позарез нужна по их бедности, а что осталось, то присудили Архету. Пущай хоть теперь человеком будет! — закончил Грачев обстоятельный и горячий, идущий от возмущенного сердца рассказ.
Из разговора под мерный топот копыт и фырканье лошади выяснилось и то, что во время налета банды Сточного изба Савелия Бегунка сгорела дотла. От нее остался только остов печки да два венца обглоданных огнем нижних бревен. Сильно обгорели и избы его соседей.
— Гранату бросили, варнаки! — выругался Грачев, имея в виду Сточного. — Так что нам тоже даром не обошлось. Но ты особо не унывай: всем миром поможем! А пока то да се — в доме Износкова поживешь, вместе будем кумекать насчет коммуны… а может, — добавил он тише, — теперь уж не знаю как…
— Это какой коммуны? — не понял Савелий.
— Мануйловской, какой же еще? Тут, сват, дело такое: когда Износкова и его бандюг увезли из села, собрались мы, кто был партизаном и победнее, и вынесли свои боевой приговор: напряжем, мол, все силы и, как авангард мировой революции на селе, объединимся в одну трудовую коммуну с принудительным вовлечением всех, кто за великое Знамя Труда!
— Ну и как?
— А так, чтобы рядом с моим-твоим возрастало народное общее, отчего и пойдет перемотка всей деревенской жизни на красное веретено коммуны!
Грачев помолчал, закурил самокрутку, не то виновато, не то сердито добавил:
— Однако теперь вот послушал я ихние разговоры на ярманке, — он кивнул в сторону телеги, на которой ехал Сергей Малкин, — и сильно вошел в сомнение: они, московские, больше насчет артели. Спросил я их главного… Веритеев он, что ли?
— Ага.
— И Веритеев об том же. «Не рановато ли, говорит, про коммуну? Может, вначале все же артель? А то, говорит, рази ваши мануйловские бабы пойдут на общих курей?..» И верно ведь: не пойдут! Моя вон — и та за курей своих в драку полезет…
— Платон мне тоже советовал про артель… — сказал Савелий. — По-ихнему, по-московски — колхоз…
Грачев вздохнул:
— Ну, может, и так. Тогда будем вначале кумекать насчет артели. Хозяйство у Мартемьяна было, слава те боже, в полной исправности, есть с чего начинать. Правда, коней и скотину развели по дворам, которые победнее. Однако если что, назад соберем: хозяева нам известны. Машины взять под горячую руку я, слава богу, не дал, уговорил работать ими в эту страду в черед, пока иметь сообща. Так что, если артель, мы на те машины и обопремся. Да и энти вон, кои с Москвы, теперь нам помогут! — Он опять кивнул в сторону подвод, на которых с песнями да с веселым говорком ехали «дружинники» Сергея Малкина. — Которые из справных мужиков с понятием, вроде Петра Белаша, те тоже без принудиловки на артель согласятся. Белаш — мужик вдовый, сын со снохой погибли при Колчаке, так что силы прежней в хозяйстве нету. Как ему в артель не войти? Думаю, что войдет. И еще такие найдутся…
— А не войдут, — сердито сказал Савелий, — без них сгоношим!
— И то, — подтвердил Грачев. — И назовем ее, сват, как надо: «Знамя Труда»…
Некоторое время они ехали молча. Потом Савелий огорченно покачал головой, поглядел на шагавшего за телегой Антошку, крякнул:
— Уговорил я парня пожить у меня в избе, а избы-то и нету! Хотел хоть так оплатить за добро его бате да тетке Дарье. Ан вишь ты, какое дело…
— Ничто! — откликнулся Грачев. — У Петра Белаша поживет. Тому помощник на лето ой нужен! Я говорю: хозяйство большое, а прежней силы уж нет. Возьмет в рабочую помочь со всей душой, об этом я нынче договорюсь. Петр, он не жадный, как, скажем, Бурлакин. Заплатит за помочь по полной московской норме. — Грачев опять указал глазами туда, где ехали «дружинники» Малкина. — А вернее, что сверх того. Так что твой парень не прогадает..
— Так-то оно так, а все же…
— Ты теперь тоже вроде московский, — после молчания с улыбкой заметил Грачев, толкнув Савелия локтем в бок. — Эко, брат, тебе подфартило: самого Ленина видал да слыхал. Приедем — расскажешь об том на сходе. И вот, брат, не знаю, так ли, не так ли, а будто товарищ Ульянов-Ленин тоже в Сибири был, когда Колчака погнали. Сам, говорят, и в плен его взял. А к нам, видать, не доехал: надо было вертаться в Москву, дел накопилось невпроворот…
В середине июля предположения о возможной гибели посевов от засухи подтвердились. В ряде губерний европейской части России хлеб сгорел на корню. Об этом «Правда» поместила краткую, но выразительную заметку:
«В ряде мест (Юго-Восток) хлеб выжжен. То же на Кавказе, в части украинских губерний. Зато в других местах, — добавляла газета, — он гораздо выше среднего, местами великолепен. При таких условиях придется тщательно обдумывать, взвешивать, перебрасывать силы…»
Демьян Бедный напечатал стихи, в которых повторялась та же мысль:
И с первых дней лета стратегическая переброска сил, о которой говорилось в «Правде», началась повсеместно. Направляла ее созданная по инициативе Владимира Ильича правительственная Комиссия помощи голодающим. Одновременно Центральный Комитет РКП(б) обратился ко всем членам и организациям партии с призывом быть готовыми к своевременной уборке урожая, напрячь все силы для своевременного и полного сбора установленного правительством налога.
А в один из июльских дней «Правда» вышла с набранной крупным шрифтом лозунговой шапкой:
«Кто за восстановление промышленности — помогайте сбору продналога!»
«Кто за поддержку тружеников фабрик и заводов, шахт и рудников — помогайте сбору продналога!»
«Кто за помощь голодающим рабочим и крестьянам Поволжья — помогайте сбору продналога!»
«Кто за подготовку богатства и счастья всех — помогайте сбору продналога!»
«Товарищи крестьяне! Сдавайте продналог!»
«Товарищи рабочие! Идите на продовольственную работу!»
Решением президиумов ВЦИК и ВЦСПС объявлялась мобилизованной половина членов коллегий наркоматов и третья часть работников профсоюзов. Возникло и ширилось «движение помощи» по всей стране.
«В Москве, — сообщала „Правда“, — общее собрание красных шоферов автомотовелобригад решило отчислить однодневный паек в пользу голодающих». Сотрудники Наркомвнешторга отчислили в июне в фонд помощи половину месячного пайка и обязались в дальнейшем ежемесячно отчислять пятидневный заработок. Все большее количество отдельных лиц передавало в государственный фонд золотые и серебряные вещи.
Стало поступать и закупленное на золото продовольствие из-за границы. В одной из корреспонденций «Правды» говорилось, что в Петроград пришли иностранные пароходы «Ферман» и «Маргарет» с 17 тысячами бочек сельди, ожидаются «Именау» с 8 тысячами тонн красной меди, «Отель Яр» с грузом муки, «Тир» со 100 тысячами пудов муки, «Олимпия» с консервированной свининой и сухими овощами, «Алиана» с 60 тысячами пудов муки и 6 тысячами пудов жиров…
Вскоре во всех газетах было опубликовано написанное Владимиром Ильичем взволнованное Обращение к российскому крестьянству с призывом прийти на помощь городам и пострадавшим от неурожая губерниям Центра, добровольно выделить по одному фунту из каждого пуда зерна нового урожая в фонд государства. А второго августа Ленин особо обратился к имевшим большие запасы продовольствия украинским хлеборобам:
«Правобережная Украина в этом году собрала превосходный урожай. Рабочие и крестьяне голодного Поволжья, которые переживают теперь бедствие, немногим более слабое, чем ужасное бедствие 1891 г., ждут помощи от украинских земледельцев. Помощь нужна быстрая. Помощь нужна обильная. Пусть не останется ни одного земледельца, который бы не- поделился своим избытком с поволжскими голодающими крестьянами…»
Обратился он с воззванием и к рабочему классу мира:
«Те, кто испытывал на себе всю жизнь гнет капитала, поймут положение рабочих и крестьян России…»
Воззвание вызвало горячий отклик в сердцах простых людей Америки и Европы. За лето и осень трудящиеся Польши собрали и передали в фонд помощи России девять миллионов марок, в Чехословакии — семь с половиной миллионов крон и на миллион крон продовольствия, коммунисты и рабочие Германии — миллион восемьсот тысяч марок и на миллион марок продовольствия, трудящиеся Франции — около миллиона франков, Голландии — сто тысяч гульденов, Италии — около миллиона лир, Испании — пятьдесят тысяч марок.
Помощь шла от сердца к сердцу, вспыхивая как искра великого пламени братства и взаимной поддержки.
Не остались в стороне и те, кто совсем недавно вооружал и поддерживал Деникина, Колчака и Врангеля, пытался силой захватить наш Дальний Восток, надеялся и сейчас, в тяжелый для Советской России час, под видом гуманной помощи добиться главной своей цели: свергнуть рабоче-крестьянскую власть, восстановить в России прежний антинародный порядок.
Пойти на это впрямую, на глазах миллионов сочувствующих Советам честных людей, было уже непросто. Требовался более тонкий обходной маневр. И такой маневр был предпринят.
Первым включился в кампанию своекорыстной «помощи» министр торговли Соединенных Штатов Герберт Гувер, матерый антисоветчик, потерявший в результате русской революции немалые капиталы, вложенные в уральскую промышленность. Руководимая им «Американская администрация помощи» странам, пострадавшим в первой мировой войне (АРА), еще в 1919 и в 1920 годах пыталась по-своему «помочь» Советам в надежде на реставрацию старых порядков, но из этого тогда ничего не вышло. Мистеру Гуверу, видимо, показалось, что теперь наступил более благоприятный момент.
Предложенный им Советскому правительству проект договора о поставках медикаментов, продовольствия и предметов бытовой необходимости не оставлял сомнений в истинных намерениях американских «гуманистов» из АРА. Владимир Ильич понял это сразу и в предельном возмущении распорядился в одном из писем секретарю Оргбюро ЦК партии Молотову — для сведения членов Политбюро:
«Тут игра архисложная идет. Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугубая.
Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел…
Скрытых интервенционистов надо поймать…
Гувер и Браун наглецы и лгуны».
А два дня спустя, 13 августа, в письме Чичерину предложил вместо помощи «подлых американских торгашей» в кредит — купить у них продовольствие за наличные. Для этого — немедленно внести в Нью-Йоркский банк золотом 120 % того, «что они в течение месяца дают на миллион голодных детей и больных», и чтобы при этом «ни малейшей тени вмешательства не только политического, но и административного» американцы не допускали и ни на что не претендовали.
Решительно возражал он и против того, чтобы пожертвования организаций и отдельных лиц, которые шли со всех концов Америки в Нью-Йорк, направлялись в Россию через АРА.
Переговоры с гуверовским директором Брауном вел в Риге недавно назначенный заместителем наркома иностранных дел невозмутимый и настойчивый Литвинов. Много лет прожив в качестве политического эмигранта в Швейцарии, Франции, Англии и Скандинавских странах, лишь в начале этого года вернувшись из Дании, где он, как член советской торговой делегации, много месяцев просидел в ожидании визы для въезда в Лондон, да так и не дождался ее, он хорошо знал таких господ, как Гувер, Браун и иже с ними. Поэтому теперь спокойно и терпеливо выжимал из хитро составленного проекта АРА все, что могло повредить Родине, пока, наконец, 20 августа заново составленный договор не был подписан и поставки продовольствия не начались.
Одновременно велись переговоры с «Международной комиссией помощи», созданной при Лиге наций твердолобыми Великобритании. Председателем ее Верховный совет Антанты назначил бывшего военного министра Франции, французского посла при царском дворе, сенатора Жозефа Нуланса, одного из организаторов антисоветского «заговора трех послов», мятежа белочешского корпуса и правых эсеров в 1918 году, а также заговорщиков из «Союза защиты родины и свободы» и «Союза возрождения».
Ждать истинной, честной помощи от такой комиссии было бы еще большей наивностью, чем от гуверовской АРА. Внимательно изучив условия, на которых проанглийская Лига наций согласна помочь России, Ленин писал Чичерину:
«Тут нужна война жестокая, упорная.
…Мы должны ответить Нулансу архирезким отказом…»
Возмущение бесчестным, торгашеским поведением правительственных чиновников Великобритании, Франции и Америки было так велико, что даже дома, в редкие часы отдыха, Владимир Ильич постоянно возвращался мыслями к спору с ними.
— Вот наглейший образец хваленой буржуазной морали, в данном случае еще и сдобренной изрядной дозой империалистической алчности! — говорил он Анне Ильиничне или Маняше во время воскресных прогулок в Горках. — Рви горло слабого, обирай ближнего, наживайся как можешь! Вместо «не убий» — убий, вместо «не пожелай жены ближнего, ни раба его, ни осла его» — пожелай… вернее, схвати за горло и отними…
— Но почему Англия с Францией по отношению к нам даже хуже Америки?
— Америка пока сыта. Из войны она вышла с многомиллиардными доходами. Пока союзники швыряли своих солдат под снаряды и пули, она, как опытный ростовщик, успешно торговала оружием, военным снаряжением, давала партнерам в долг, развивала промышленность. В итоге из должника Британии, каким она была всего семь лет назад, Соединенные Штаты по окончании войны превратились в свирепого кредитора союзников. Теперь Америке грозит лишь кризис перепроизводства товаров, ожирение от переедания. А ее союзники, особенно Англия, в силу злобной близорукости твердолобых, оказались в огромном проигрыше, завязли в долгах дяде Сэму. И вместо того, чтобы разумно и дальновидно обдумать свое новое положение, они — я имею в виду господ Бриана, Черчилля и Керзона — делают ставку на новую войну с нами, на получение царских долгов, хотя даже простой расчет показывает, что возвращение, скажем, Англии 6 миллиардов рублей золотом, которые задолжало ей царское правительство, никак не покроет убытка в 19 миллиардов, истраченных ею на первую мировую войну и вмешательство в наши дела. В результате наживается опять дядя Сэм, без ростовщической помощи которого ни Британия, ни Франция, ни пан Пилсудский обойтись теперь не могут.
— Зачем в таком случае мы ведем с ними переговоры, заставляем бедного Леонида Борисовича биться лбом о чугунную стену?
— Гм… К сожалению, пока мы живем в системе капиталистических государств, а все в мире взаимосвязано. Жить и развиваться в изоляции нельзя. Коммунизм придется строить не в белых перчатках, а засучив рукава, используя малейшую возможность для продвижения вперед. В том числе используя излишки тех же капиталистов. Они нуждаются в нашем сырье, в рынке сбыта своей продукции, мы — в этой самой продукции. Остальное — дело конкретной политики.
— Но Нуланс…
— Нуланса прочь! Если господа твердолобые будут и дальше гнуть свое, мы прекратим всякие переговоры с их бесчестной, политиканской комиссией…
Переговоры эти длились несколько месяцев, и все время Нуланс был, по выражению Владимира Ильича, «нагл до безобразия». Его требование допустить в Советскую Россию тридцать экспертов якобы для проверки истинной нуждаемости России в продовольствии являлось по сути не чем иным, — говорилось позднее в официальной ноте Чичерина, — как попыткой заменить помощь голодающим собиранием сведений о ее внутреннем положении «при неприкрытых целях устройства мятежей и облегчения продвижения иностранных армий».
Справедливость возмущения Советского правительства требованиями Нуланса была так очевидна, что господа из Военного совета Антанты вынуждены были на время ретироваться. Вместо их комиссии в Женеве был создан Международный комитет помощи России, председателем которого стал известный путешественник и ученый Фритьоф Нансен, почетный член Российской академии наук.
«Доктор Нансен, — сообщала „Правда“, — назначенный Женевской конференцией главноуполномоченным по оказанию помощи России, заключил с Советским правительством соглашение, в силу которого в Москве образуется комитет под названием: „Исполнительный комитет международной помощи России“».
Седовласый, с крупными седыми усами на красивом, еще моложавом лице, Нансен не раз и прежде бывал в России, искренно хотел помочь ей.
Благодаря его усилиям в голодающее Поволжье было прислано немало продовольствия, медикаментов и одежды. Но все же главной надеждой, главной заботой Владимира Ильича оставалось получение хлеба в самой России, прежде всего в Сибири, у честного трудового крестьянства.
— Оно не может не понимать, — говорил он, — что в своей революционной борьбе именно рабочий класс понес и продолжает испытывать лишения, каких никогда не знала история. Государство у нас рабоче-крестьянское, и возникает вопрос: как же должны быть распределены эти неизбежные при крутом историческом повороте лишения? Возложить их лишь на рабочих, на города? Или часть — и на другие слои населения, включая крестьянство? Мы — нищие. Голодные, разоренные нищие. Между тем у средних крестьян хлеба еще немало. Сейчас мы всячески идем навстречу крестьянству, замена разверстки налогом — прямое тому свидетельство. Но и оно должно пойти нам навстречу! Как? Для этого есть немало вполне разумных путей. К сожалению, в силу своей классовой сути не всякий… вернее, совсем не всякий крестьянин способен преодолеть в себе расчетливость собственника. Поэтому для более надежного сбора недовыполненных поставок продовольствия, а также для убыстрения сроков уборки нового урожая мы будем вынуждены прибегнуть к таким, скажем, вполне разумным и своевременным мерам, как размещение части воинских гарнизонов по волостям и уездам. Эти части должны получать от крестьян на время сельхозработ в их хозяйствах усиленное довольствие. Кому не понравится такое положение… а оно не понравится многим! Ну что же, товарищи крестьяне, выход есть: давайте скорее хлеб- налог. И как только дадите 50–75 %, мы начнем уводить эти воинские части назад в города. Зато тем из крестьян, которые добровольно и в срок, а тем более если досрочно, выполнят свои обязательства, тем мы предоставим преимущественное право на получение такого дефицитного продукта, как соль, или на получение за хлебные излишки товаров промышленности. А в некоторых случаях даже и на оплату этих излишков золотом и серебром из фондов Госхрана…
— Время — не терпит, — говорил и писал он в то лето. — Твердо, открыто, ни в чем не лукавя с крестьянством, веря в его государственный разум, не допуская растерянности и страха, — нужно делать это нелегкое дело, все подчинив основной задаче: обеспечению голодной страны Большим Хлебом.
Плохо идет обмолот ранее заскирдованной и оставленной в поле пшеницы?
Сибирский крестьянин не заинтересован в этом, а рабочих отрядов, посланных в деревню, слишком мало, чтобы справиться с этой работой без крестьян?
В таком случае, — советовал он, — пересмотрите вопрос, обсудив всесторонне: если обмолот хлеба невозможен без того, чтобы часть отдать крестьянам в виде ссуды или оплаты за обмолот, если эта ссуда будет употреблена на посев и будет гарантирован обмолот остального продовольственного хлеба, разрешаю частично отступить от данного мною распоряжения…
Опасность военного нападения извне еще не миновала? В любую минуту ненавидящие Совдепию милитаристы могут напасть на Красную Россию? Армии нужен хлеб?
Да. Поэтому самоочевидно, что «тяжелое продовольственное положение должно менее всего отразиться на питании Красной Армии, которая в значительной степени уменьшена уже в своей численности», — обращался он ко всем губпродкомам и исполкомам. — «…Все местные органы — в первую очередь губисполкомы — должны обратить всемерное внимание на снабжение армии, приходя на помощь всеми средствами, находящимися в их распоряжении».
И снова:
Сибревком, Сибпродком.
«Обращаю внимание на исключительно тяжелое положение в продовольственном отношении центра, требую полного и безоговорочного исполнения требований центра и Компрода».
Омск, Сиббюро ЦК РКП(б).
Копия Сибревкому и Сибпродкому.
«Катастрофическое состояние с продовольствием для армии, столиц, крупнейших фабричных центров принудило ЦК РКП месяц тому назад принять чрезвычайное решение: именно напряжением всех сил, использовав все возможности, добиться вывоза из Сибири в среднем 100 вагонов хлеба в сутки центру или три миллиона пудов в месяц, даже в ущерб местным внутрисибирским интересам. Это ответственное решение диктовалось всей сложившейся обстановкой в Республике. Наличие хлебов по Сибири, при условии доведения до указанного Вам минимума местного потребления, делало это задание реально осуществимым. Телеграммой 18 мая Сибревком и Сибпродком признали полную осуществимость отправки в течение месяца центру до 7 июня трех миллионов пудов хлеба, однако фактически за этот срок Вами отправлено всего около 1600 вагонов, и погрузка первых дней июня не показывает никакого повышения. Столь недостаточная отправка хлеба, лишь немногим превышающая пятьдесят процентов необходимого минимума, все более обостряет продовольственное положение Республики и создает крайне нежелательную напряженность в голодающих рабочих центрах, чреватую серьезными политическими последствиями. Учитывая изложенное, ЦК предлагает в порядке боевого приказа героическим напряжением всех сил, всех без исключения партийных, советских органов Сибири под ответственность Сиббюро и лично предсибревкома Смирнова, предсибпродкома Калмановича обеспечить регулярную и полную отгрузку минимум до 100 вагонов хлеба центру ежедневно. Задание должно исполняться безоговорочно. Получение, твердую гарантию фактического исполнения сообщите немедленно ЦК, копия Ленину, копия Наркомпрод, распределение.
Предсовнаркома Ленин».
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
До приезда Копылова в Скупино затерянный в степи разъезд с глинобитным сарайчиком вместо вокзала был тихим, почти безлюдным. Степь простиралась вокруг от горизонта до горизонта. Лишь кое-где ее прорезали овраги, заросшие шиповником да бояркой. Плавно вздувались иссушенные солнцем холмы, сверкали малые и большие озера. А среди них возвышались обычные в этих местах колки — округлые рощицы тощих осин и берез с шапками сорочьих гнезд на гибких ветвях.
Из года в год степь менялась по ей присущим законам. Еще недавно бурая, неприглядная после зимы, весной она становилась ярко-зеленой, радующей многоцветьем от края до края. Потом вдруг жухла от суховеев, делалась мятой, желтой. А после июльских дождей зеленела опять. Но это была уже не весенняя зелень цветущего разнотравья, а зелень зрелых и жестких трав.
Июль и август снова высушивали ее. К тому времени уже на сотни верст вблизи деревень и сел поднимались горбатые стога сена. Они толпились в степи, как стада огромных животных, низко опустивших морды к земле да так и застывших в усталой, сытой дремоте в ожидании дня, когда осенние дожди в последний раз заставят зазеленеть степь густой предзимней отавой и они, как бы пришедшие сюда из допотопных времен на зимовку, наедятся отавой впрок — до нового лета.
В такую пору степь становилась зеленой и желтой, кроваво-красной от горько-соленых трав, и фиолетово-синей, и грязно-бурой, но все равно прекрасной для степняка — будь он крестьянин или кочевник.
Теперь здесь затаборились дружины косцов, темнели крытые камышом просторные шалаши. По вечерам повсюду окрест горели костры. Ночью лошади звучно фыркали под безоблачным звездным небом. А чуть розовел рассвет — между суховатыми гривками длинных узких увалов и в западинках возле озер — вновь начинали посвистывать косы. На просторных местах кружились по длинным эллипсам конные косилки. За ними до самого горизонта протягивались валки свежескошенной травы. Часть ее после просушки копнили и укладывали в стога до новой травы, остальное свозили к прессам, работавшим в разных концах степи от утренней зари до вечерней.
Как масло на горячей сковороде, с каждым днем все заметнее уменьшались, таяли стога — и те, что были сметаны только что этим летом, и те, что были навиты вокруг разъезда по всей степи еще в прошлое лето. Вскоре от многих из них остались лишь зеленовато-серые засоры. Другие — все ниже оседали к земле, прогрызаемые с боков или разворошенные вилами сверху, чтобы пойти в прессовочные машины.
Шумнее всего было возле разъезда. Вокруг трех мощных прессов, понуждаемые погонщиками, весь день устало ходили по кругу с завязанными глазами выносливые казахские лошаденки, таща за собой похожие на оглобли длинные рычаги ходовых передач.
У ближнего к вокзальчику пресса лошадь попеременно подстегивали, чтобы она резвее шла, неразлучные Зина и Клава. На шумной ярмарке в Славгороде они успели заложить свои места на верхних нарах мешками с мукой и другими продуктами так, что спать теперь приходилось почти упираясь лбами в крышу вагона. А кое-что из Филатычевых богатств у них еще оставалось в запасе.
Но это уже на дорогу домой, — решили девчонки, посовещавшись. Лишь бы скорее назад уехать. А как и когда уедешь? До дома — ух далеко, а всякие «заградиловки» — ух как близко! Вдруг да в теплушку войдет какой посторонний, взглянет: «Много, девки, везете…» Страшно об этом подумать… В Скупино обе ехали то замирая от страха, что именно так вот вдруг и случится, то чаще как бы почти невесомо паря на крыльях ликующей радости, оттого что, слава те господи, — наменяли! У каждой — пудов по двадцать белой муки. Да сало топленое в двух пузатых корчажках. Да по мешку отборных подсолнухов — будет что полузгать дома зимой. Да каждой по валенкам баба одна за пару царских пятисотенных бумаг отдала. Валенки — новенькие, по ноге. Придет зима, ничто нипочем…
Ходить целый день за лошадью под палящим солнцем было жарко, утомительно, однако девчонки работали добросовестно, в отличие от «рыжиков» — Половинщикова и Кобякова, которые были погонычами у второго пресса, где командовал рассердившийся после ссоры с Малкиным на весь свет Игнат Сухорукий.
У третьего, самого дальнего, «копыловского» пресса четырехногим «движком» ведали Филька и Вероника.
Железо прессов звенело и скрежетало. Ровные охапки сена одна за другой двигались по металлическим рамам к прессовой камере. Нажимные плиты туго стискивали их, и в это же время ловкие руки бригадиров успевали захлестнуть готовые кипы крест-накрест проволокой.
Полуторааршинные брикеты выталкивались из пресса на землю. Их подхватывали железными крючьями другие рабочие или казахи-подсобники, волокли двухпудовые кипы прочь — к другим спрессованным кипам.
Когда лошади в изнеможении останавливались, не в силах больше крутить скрипящие шестерни, их заменяли другими, и всякий раз при этом, разморенные жарой и утомительным движением по кругу, «рыжики» просительно обращались к Сухорукому:
— Игнат Митрич, ослобони! Сил наших нету! Пущай кто другой хоть на часик…
Но озлобившийся на весь мир Сухорукий сердито, почти исступленно кричал в ответ:
— Давай, говорю, давай! Поехал на сено? Вот и работай! Мы не враги, как считает Малкин. Ишь чего захотели! Я из вас лень-то выбью! Я докажу, кто из нас пролетарий! Давай поворачивайся…
И вновь час за часом выносливые лошаденки ходили по кругу, и снова «рыжики» покорно плелись за ними с погоночными дрючками в руках.
Ровно скрипели и, словно собаки, тонко повизгивали шестерни. Звенело и скреблось до блеска отшлифованное железо. Крутилась и схлестывалась в руках прессовщиков проволока. Тяжелые кипы сена вываливались на землю, к ногам подсобных рабочих, и вдоль вагонов, по всей длине разъездного пути, день за днем росли груды этих тяжелых, как камни, но остро пахнущих степью блоков и пирамид.
Большую их часть грузили на железнодорожные платформы для отправки туда, где была в них нужда. Из остальных выкладывались квадратные и высокие, как дома, вместительные закрома-времянки для приема урожая, ожидаемого из ближайших деревень и сел.
Руководивший работой уполномоченный Омского ревкома Тарас Кузовной — быстрый, жилистый, забывший о сне и отдыхе тридцатидвухлетний матрос в изношенных брюках клеш и мокрой от пота просолившейся тельняшке, с парабеллумом на правом бедре, — неутомимо мотался по степи на пегом коньке, подбадривал, подгонял, умолял и требовал:
— А ну, братва, веселей! Времени у нас нехватка: вот- вот и начнут подвозить зерно. Так что давай! Поднажми, ребята…
Лето стояло погожее и сухое. Солнце с утра выходило из-за широкого горизонта в чистое небо и потом весь день до заката плыло по нему открыто, посверкивая лучами на отполированных плоскостях машин, на убегающих за горизонт рельсах, а за разъездом — на обрамленных зарослями камыша зеркалах озер.
Там, над пресной и солено-горькой водой, кружились стаи диких гусей и уток. Они то сыпались с неба в воду, как будто кто-то бросал пригоршни черных семян, и тогда по ее зеркалам скользили тысячи серых и темных точек, то снова взмывали в небо и там кружились и перекликались, зовя друг друга в степь, на поля крестьян, на кормежку.
Машинист паровоза, время от времени пригонявший в Скупино цистерну питьевой воды и пустые платформы для загрузки их прессованным сеном, быстренько загонял паровоз с платформами на запасной путь, и пока рабочие загружали их, отправлялся со старенькой одностволкой к озерам. В шуме работы выстрелов не было слышно. Но час-полтора спустя машинист возвращался, увешанный дичью, усталый, но и счастливый. А перед тем как уехать, всякий раз оставлял Кузовному либо пару кряковых уток либо гуся.
— Подкормись, Михалыч, — говорил он при этом. — Небось с утра ничего не ел…
Юрты казахов, верблюды и лошади которых были мобилизованы для работы на этом разъезде, стояли в полуверсте от железной дороги на плоской сухой поляне между небольшим озерком и лесом. Одинаково одетые в поношенные бешметы, темные шельбары, с круглыми шапочками на бритых головах, степняки вначале казались приезжим похожими друг на друга, как близнецы, особенно в первые дни, когда каждое из становищ — рабочие — у вагонов, казахи — возле своих очагов — держалось особняком. Потом работа стала сближать их. Любопытство тянуло степняков к вагонам, рабочих — к юртам. Начались расспросы, общие разговоры, пошло обращение по именам. Вечерами возле вагонов стали засиживаться степняки, расспрашивая, что делается в России, а возле казахских юрт в час ужина засиживались рабочие, с наслаждением лакомясь варенными в кипящем кобыльем сале кусочками баурсака или колобками бараньего сыра, курта.
Особенно зачастил к казахским кострам прожорливый Филька.
Одновременно шел и обмен — не только с казахами, но и с крестьянами из ближних селений. Каждый день у состава шипели на сковородках яичницы, булькали в ведрах и в котелках мясные супы и каши, исходили паром закопченные чайники.
Подсаживаясь к кострам, загорелые до черноты степняки молча прислушивались к разговорам и песням, присматривались к тому, как едят москвичи. Один из них — низкорослый, неопрятный, с трахомными веками — особенно пристрастился к костру у бабьего вагона. Обращаясь то к одной, то к другой из женщин, скаля в улыбке желтые зубы и смачно причмокивая, он не то шутя, не то всерьез предлагал:
— Маладой, иди в женка. Кибитка есть, свой хата есть. Харашо будит, а?
Те отшучивались, а он, ничуть не смущаясь, настойчиво повторял:
— Деньги есть. Считай, теперь нету? Есть меня деньга. Лошадей тоже есть. Коров есть. Овца есть…
И показывал на пальцах сначала сорок, потом шестьдесят, а когда над ним начинали смеяться, то и двести лошадей и коров:
— Столько Мамбет есть, иди!
Филька с деланным сожалением объяснял ему:
— Глупые! Не хотят идти за тебя, Мамбет. Вон бабка Аграфена Коркина… видишь красотку? Она говорит: «Вымойся поди, тогда, может, выйду». Так ты и верно, пойди да мырни вон в то озеро, вымойся. Глядишь, бабка и согласится. И всего-то ей семь десятков. Зато знаешь, как она «Лазаря» тянет? Длиннее всех! Пойдет за тебя — ты тоже будешь тянуть…
Мамбет, улыбаясь, слушал, оглядывал баб одну за другой, чаще всего останавливая взгляд раскосых маленьких глаз на Зине Головиной или Клавке, тянулся пальцами к их загорелым крепким ногам и еще настойчивее предлагал:
— Тыща коней у Мамбет. Вся твоя будет. Юрта белый есть, многа-многа овца… иди!
Вероника вначале держалась особняком. Ее дорожных «кавалеров» — Константина и Свибульского — здесь не было, с остальными из вагона интеллигенции она не сдружилась, а к Зине с Клавой и к Родику Шустину еще не привыкла. Но не таков был Филька Тимохин, чтобы терпеть обособленность кого-либо из общей компании. Успев наменять на крестики в Славгороде и здесь мешков восемь муки, часть их уложив в изголовье на нарах, а часть, по разрешению Сухорукого, засыпав в тайник между стенками вагона, он теперь чувствовал себя «лихачом-богачом, которому черт нипочем». Бойкий на язык, лишенный застенчивости, он не постеснялся с первых же дней прибытия на разъезд перейти с Вероникой на «ты», пригласил ее «на довольствие» к общему костру, чем очень порадовал: одиночество тяготило ее, а навязываться самой — было не в ее правилах. Кончилось тем, что Филька стал как бы ее шутейным оруженосцем и ухажером.
Теперь и надоедливый Мамбет предпочитал садиться ближе к Веронике. Ей он показывал на пальцах уже не двести и не тысячу, а бессчетное количество лошадей и коров. Одетый в рваный ватный халат, с толстыми ногами в стоптанных ичигах, низенький и коренастый, с постоянно растянутым в неясной улыбке ртом, он вначале забавлял ее, как живой водяной или леший, и она иногда даже кокетничала с ним, если он начинал особенно настойчиво уговаривать:
— Ой, ой, хороший ты девка. Якши! Женка иди. Золото будет. Сыт-пьян будешь. Детка роди!
Вероника смешливо охала, откидывалась назад и кричала, вытирая рукавом веселые слезы:
— Епиходыч, милый, не могу больше! Уведи ты его ради бога! Рядом с ним сидеть невозможно: пахнет, как из помойки. А он мне — «детка роди»!
Мамбет невозмутимо смотрел хитрыми, маленькими глазками на нее, смотрел и на других смеющихся женщин, прищелкивал языком, толкал Фильку кулаком в плечо, показывал на Веронику:
— Продай. Твоя много дам, — и подносил к самому лицу растопыренную пятерню.
В один из вечеров оказавшийся здесь Фома Копылов неожиданно для всех сердито велел Мамбету:
— А ну, пошел отсюда! Давай-давай, говорю, откатывайся!
И в ответ на удивленные вопросы женщин пояснил:
— Тарас Кузовной говорит, что у этого гражданина совсем недавно были тысячные табуны коней, не говоря о скотине. Да и во время учета весной у него оказалось больше двух тысяч одних лошадей. Бай, одним словом. Жил как помещик. Первую жену, говорят, еще в прежние годы собственноручно прикончил: не понравилась…
Он повернулся к Веронике:
— Не понравитесь, прикончит и вас.
Вероника расхохоталась:
— Как интересно! Наконец-то есть здесь хоть один настоящий мужчина! А я для него — богиня! Одного слова достаточно, чтобы укротить его пыл!
Фома усмехнулся:
— Попробуйте. Только после не плачьте. А их, таких, здесь двое: этот да еще один, называется Толебай Алтынбаев. Посмотришь, нищий и нищий, а в самом деле…
— А этот где?
— Там, — Копылов указал в сторону казахского становища. — Бирюк бирюком, того и гляди выскочит из-за стога с ножом в руке…
Толебай действительно жил под присмотром красноармейца в становище и работал со всеми вместе. Его юрта — даже не юрта, а скорее нищенский шалаш-времянка из пяти жердин, обложенных сеном, — стояла особняком от юрт других степняков. И одет он был хуже всех. Не потому, что не во что было ему одеться, а потому, что это было как вызов. Вызов тем, кто низвел его, джигита и богача, до положения жалкого джетака, батрака. Вызов захватившим власть иноверцам урусам, большой-бекам, большевикам. Им нужны сено и хлеб — и он вынужден против воли служить им в этом. Им нужна земля, чтобы отдать ее бывшим его рабам, и они эту землю отняли у него. Не кто иной, как бывший джетак его отца Абдуллаев, взял эту землю и роздал нищим. Так пусть же и он, Толебай Алтынбаев, будет последним нищим. Самым нищим из нищих. Оборвышем из оборвышей. Пусть будет так…
Единственное, что еще сохранилось у него из прежних богатств, был таспих — четки, искусно выточенные неведомым мастером в священной Мекке из цветного благородного камня. Тридцать три теплых, кажущихся живыми драгоценных орешка бегут во время молитвы от пальца к пальцу. Тридцать три раза бегут они друг за другом. А сотый из них — кончает молитву, и она, горячо произнесенная про себя, сразу же возносится к всемогущему, милосердному аллаху, прося и требуя послать самые лютые кары на головы большой-беков.
Прежде всего — на голову Ашима Абдуллаева…
Шиит, не признающий священными никакие иные книги, кроме Корана, он с особенным рвением соблюдал здесь часы молитвы, и это приносило успокоение. Но вот однажды он близко увидел Веронику возле становища, где пасся табун мобилизованных для сеноуборки лошадей.
Кроме обязанностей погонычей, понуждающих ленивых коняг бойчее ходить по кругу, чтобы прессы все время были в работе, Зина с Клавой и Вероника с Филькой должны были также рано утром пригонять из табуна, пасшегося за рощей в полуверсте от разъезда, по паре отдохнувших за ночь лошадей, а вечером — отгонять их обратно в табун. И это оказалось для них, особенно для Вероники, в прошлом отличной наездницы, истинным праздником. С чем сравнишь удовольствие по-мальчишески вскочить на невзрачную, но привыкшую к вольному бегу лошадку, свистнуть или гикнуть изо всех сил, а потом на глазах улыбающихся казахов и завистливо подшучивающих знакомцев из эшелона промчаться от табуна версты две по степи, потом завернуть к разъезду или вечером лихо проскакать от прессов к табуну?
Оказавшийся на этот раз невольным свидетелем утреннего отбора лошадей для трех русских девок и худого, нескладного парня, Толебай пораженно остановился: какая одна из этих трех русских девок красивая девка!
Не девка, райская пэри!
Золотоволосая, синеглазая, стройная как тростинка..
Две другие девчонки уже уехали на своих конях, а она все уговаривала молодого табунщика Нури:
— Поймай мне того, тонконогого. Не бойся, Нури, я езжу хорошо: у нас были английские и арабские. Этот перед ними… смешно! Я только проедусь вон до того лесочка — и назад.
— Не-е, — отвечал Нури, улыбаясь и явно любуясь золотоволосой красавицей. — Амбай сильно злой. Баришна не лубит. Его и сам комиссар мала-мала боится…
— А я не боюсь! Ну что тебе стоит? Я сегодня даже во сне видела, будто скачу на Амбае…
Нури качал головой.
— Нелзя. Если Амбай разобьет такой девушка, мне комиссар голова оторвет. Я вместо Амбай дам тебе тот Бакси… сильно красивый, как сырмак…
И как ни настаивала упрямая пэри, Нури арканом — привязанной к длинному шесту веревкой — выхватил из табуна действительно похожего на сырмак — на пеструю, словно ковер, кошму, — белогривого конька, набросил на него старую, всю в узлах, веревочную узду. Огорченная девушка что-то сердито сказала ему, потом по- мальчишески вскочила на коня, отказавшись от помощи Нури, пронзительно вскрикнула — и понеслась от рощицы в степь.
Да-а, очень красивая девка, — подумалось Толебаю, и все в нем вдруг дрогнуло. Смелая и веселая девка. Наверное, сладкая девка. Девка без мужа, А он — в полной силе. Он должен иметь эту девку.
И в один из вечеров, после работы, Толебай изменил своему одиночеству.
В тот вечер к ним в становище пришел «потабуниться» Филька, друживший с Нури. На степь уже ложилась теплая беззвездная ночь. От недалекого леса катился осторожный, чуть слышный шорох: деревья и камыши у берега озера покачивал южный ветер. Мглистая стена леса выделялась на темном небе за матовой озерной водой, как верблюжий горб. Во тьме, за костром, фыркали стреноженные лошади, лежали уставшие за день верблюды, вытянув шеи с худыми змеиными мордами. Отсветы пламени делали стеклянными их длинные, внимательные глаза.
Филька едва ли не час сидел у костра и лакомился таявшим во рту баурсаком. Наконец Нури в последний раз зачерпнул из казана полную пиалу солоноватого, приправленного салом чая и еще ближе придвинул к Фильке черепушку с баурсаком. Тот взял пригоршню теплого, недавно сваренного в кобыльем сале теста, с натугой, но все еще и с наслаждением отхлебнул из пиалы.
Хозяева очага тоже пили истово, молча, держа чаши прямо перед собой. Их длинные жиденькие усы намокли в зеленоватой душистой воде. Они то и дело обсасывали их жирно поблескивающими губами. Огонь под казаном покачивался от ветра и шипел.
Разморенный теплом очага, баурсаком и чаем, а больше всего подчеркнуто добрым гостеприимством Нури и его земляков, Филька блаженствовал. Выпив четвертую пиалу, он положил ее перед собой дном кверху и так же, как это делали все, облизал свои пальцы, а потом вытер губы рукавом рубахи.
— Ух ты, как здорово! — сказал он, довольный, и громко рыгнул. — Так, братцы, жить можно. Это не то что у нас в Москве. Спасибо, отец! — обратился он к старому казаху, отцу Нури. — Чаек у тебя подходящий. Если не выгонишь, завтра опять приду. А пока, как у вас говорится, адью мерси салем алейкум!
…Толебай нагнал его на полдороге к вагонам.
Филька вначале перепугался: ему показалось, что этот страшный степняк, о котором сдружившийся с русскими Нури рассказывал с возмущением, как о бае-насильнике, сейчас будет делать «секим башка». Но оказалось, что Толебай очень просит ему помочь.
— В чем помочь?
Вот тебе раз! И этот метит на Веронику! Вскружила башки им девка. То один, то другой…
— Так, значит, ты насчет крали? — спросил Филька, принимая привычный вид шутника и рубахи-парня. — Это мы можем…
— Имя ее скажи, — не обратив внимания на шутейный тон парня, почти приказал Толебай.
— Имя ее особое: Вероникой зовут.
— Ве-ро-ни-ка, — с поразившей Фильку страстностью тихо и протяжно повторил Толебай. — Гурия рая! Ве-ро-ни-ка… кайяш матур ой! В жены ее хочу!
И парня опять поразила какая-то странная, нежная и жестокая страсть, с какой этот рослый, суровый «кыргыз» произнес вначале непонятные, а потом совсем уж откровенные слова. Но он все еще не догадывался, кто перед ним, что за прямолинейная злая сила скопилась в этом оборванном человеке, поэтому в прежнем тоне, хитровато подмигивая, будто Толебай мог это видеть в ночной темноте, поощрительно спросил:
— Может, желаешь познакомиться? Я это мигом!
Тот быстро бросил:
— Хочу!
— Только, брат, не задаром. Девка большого стоит!
— Ты плохой, — жестко выговорил Толебай, и Филька не столько увидел, сколько почувствовал, как резко дернулось его мощное тело: степняк не то хотел ударить его, не то так вот, рывком, уйти, но сдержался и глухо пообещал: —Лошадь получишь.
— Мало! — продолжая розыгрыш явно втюрившегося в Веронику степняка, деланно возмутился Филька. — За такую девку — и лошадь.
— Да, ты плохой, — опять жестко и презрительно повторил Толебай, и парень дрогнул:
— Ну, ладно, лошадь так лошадь. За знакомство, пожалуй, хватит. И, значит, мы так: девку с тобой знакомлю, а там уж как хочешь. Понравишься — хорошо, нет — ваше дело. А лошадь — моя!
— Лошадь твоя. Приведи завтра здесь… там вон.
— Заметано. Жди к вечерку у стога, который с краю. Но только, брат, чтобы все аккуратно! — добавил он, почему-то слегка пугаясь жесткого немногословия Толебая. — Чтобы ни-ни. Приведу, познакомлю — и все! Будь здоров.
Утром он рассказал Веронике о своем уговоре с Толебаем как о забавном деле, сулящем лишнее развлечение. И девушка согласилась:
— Бывший богач, хозяин здешних степей… интересно! Охотно с ним познакомлюсь…
Весь этот день Толебай работал молча, ожесточенно, поражая не только ленивых «рыжиков» и Сухорукого, но и трудолюбивых казахов тем, с какой неутомимой силой вонзал железный крюк в каждую новую кипу, как быстро волок ее к порожним платформам и почти без усилий швырял наверх под ноги рабочего укладчика.
Но и ушел он раньше других. Сухорукий хотел было сделать ему замечание, но удержался: после такой сумасшедшей работы мужик имеет право уйти пораньше…
Когда начало темнеть, Толебай тайком от неприятного ему Нури и других соседей по стойбищу не прямиком, а вдоль поросшей камышом излуки озера ушел к крайнему, еще не тронутому прессовщиками стогу. А немного погодя туда же от вагона отправились и Вероника с Филькой.
Толебай увидел их издали, и все в нем круто подобралось, хотя внешне это не отразилось никак. Разве только быстрее задвигались пальцы, перебирая драгоценные бусины таспиха, да резче пролегла черта между густыми бровями, взлетающими от переносицы к вискам.
Когда Вероника была уже близко, он сделал от стога навстречу ей несколько крупных, твердых шагов и неподвижно застыл на месте — сильный, статный, знающий себе цену, уверенный и в своей мужской красоте.
Почти нищая, пропахнувшая потом старая одежда не могла скрыть и не скрывала, а лишь подчеркивала силу и статность его фигуры, выражение мужества и властности на его красивом смуглом лице. Он это знал и ясно видел теперь, следя за тем, как девушка медленно, почти робко, как ему казалось, с забавным выражением полудетского любопытства на белом лице, приближалась к нему.
«Моя красота замечена ею, — довольный, подумал юн. — Гурия не могла ошибиться в том, что здесь перед ней стоит не джетак, а хозяин, мужчина мужчин, удостоивший ее красоту вниманием…»
Он уже не видел ни Фильки, наблюдающего за ним с широкой ухмылкой на круглом лице, ни стогов вокруг. Не слышал и шума, доносящегося из вагонов. Он видел и слышал только ее, стоящую перед ним и такую доступную, только протяни руку — и она твоя. И очень удивился, даже оскорбился, когда совсем рядом раздался Филькин веселый голос:
— Ну, что я говорил? В жены тебя берет!
Этот противный голос вернул Толебая из состояния невыносимой, наполненной звоном крови, бешеной глухоты. Дрожь, которая помимо его воли стала было бить его, толкая на безрассудство, так же быстро ушла, как и пришла. Он скрипнул зубами и с ненавистью поглядел на Фильку.
Но тот не обратил на этот взгляд никакого внимания.
— Даст мне за тебя, я думаю, кроме лошади еще и пару верблюдов, — продолжал шутейно уговаривать Веронику парень. — А может, и штук десять барашков. Помещиком сразу сделаюсь, истинный бог!
Вероника весело засмеялась. Чувство чисто женского удовольствия оттого, что ты нравишься, и нравишься страстно, пусть даже такому инородцу, было вместе с тем я сознанием веселого, в сущности глупого, но и очень забавного приключения: «Боже мой, как странно и интересно! Каменный век! И я в нем — богиня!»
— Это правда, что я тебе нравлюсь? — спросила она Толебая, все еще кокетливо улыбаясь.
— Да, — коротко и гневно ответил тот.
— И ты хочешь взять меня в жены? — Она совсем близко подвинулась к Толебаю, с веселым любопытством оглядывая его с ног до головы. — Ты?!
— Я, — ответил он глухо.
Страсть, вдруг охватившая все его тело, на секунду лишила голос обычной силы.
— А почему ты выбрал именно меня? У нас в эшелоне много других женщин, — кокетливо удивилась она.
Чувствуя, как все в нем бешено напрягается для любви, Толебай молча глядел на нее, не отрывая жадного взгляда.
До этой минуты он видел ее только издали, мельком, когда вместе с другими приезжими, чаще всего с этим вот парнем, которого Толебай, как пустого и глупого болтуна, не взял бы и в пастухи, она проходила мимо стогов, не замечая его. Теперь Вероника стоит с ним рядом. От нее к нему исходят дивные ароматы духов. Нежные ямочки на щеках — невинны, как у ребенка. Голубые глаза на белом лице — подобны цветам. Губы — розовы и пухлы. Они, наверное, удивительны в поцелуях…
— Ты не ответил мне, — привычно отмечая про себя, что нравится ему, и невольно польщенная вниманием такого страстного жениха, уже совсем кокетливо, почти капризно спросила Вероника. — Почему ты выбрал именно меня?
— Ты мне нравишься. И я беру тебя в жены! — с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить ее и не унести на руках в степь, глухо ответил Толебай.
Вероника опять засмеялась:
— А если я соглашусь принять твое предложение? Ты мне тоже нравишься….
Он уже видел, что девушка не принимает его всерьез. И так же мгновенно, как перед тем его охватила страсть, так теперь его охватила расчетливая, привычная злость. Пусть девчонка смеется, пусть пока не принимает его всерьез. Когда он увезет ее в степь, она все поймет… только бы в степь, на волю!
— Если ты согласишься, тогда мой родич Мамбет, которого ты знаешь, — начал он резко…
— Да, знаю.
— Он приведет и скажет, где будут ждать вот этого парня лошадь, верблюды и овцы.
— И ты не обманешь?
— Нет.
— Ты, значит, богатый?
Он снисходительно усмехнулся.
— В этой степи нет ничего, что я не мог бы купить.
— В том числе и меня?
Толебай вспыхнул, скрипнул зубами, но промолчал.
— Тут дело ясное, — принимая все за игру и очень довольный тем, что занимает в этой игре одно из центральных мест, снова вмешался Филька. — Сомневаться не приходится. Раз сказано, что Мамбет пригонит коня да верблюда, так уж тому и быть. Ты, Ника, зря не смущайся. Толебай, как видишь, красивый, влюбленный… чего еще?
— Ну что же, — делая вид, что все еще сомневается, но уже готова поверить, тоже включилась в игру Вероника. — Если выкуп такой хороший, я, может быть, соглашусь…
Бушующая в Толебае то скрытая, то безудержно рвущаяся наружу волна бешеной плотской страсти опять ударила в голову.
Ему, полному дикой могучей силы степняку, человеку древнего рода и богачу, привыкшему к власти над другими людьми, к раболепию слуг и доступности женщин, а теперь по воле большевиков третью неделю живущему здесь после суда над Архетом, среди разного сброда, под строгим присмотром, и не в раздольной степи под всевидящим оком аллаха, а возле железной дороги, по которой день за днем дымящие паровозы тянут длинные поезда, вся эта жизнь подневольного человека, без прежней роскоши и свободы, без женщин, которые теперь лишь сладостно снятся ему по ночам и от этого живые становятся только желаннее, — ему сейчас Вероника казалась самой прекрасной, самой желанной, сулила возможность скорейшего утоления страсти… может быть, даже сейчас же, теперь же, пусть на глазах у этого глупого парня.
Откровенная шутливость девчонки в конце концов не имеет значения: все встанет на свои места потом. Все встанет. Девчонка — прелестна. Тело ее красиво. Шея — как у весеннего лебедя. Груди подобны спелым плодам. Ноги — стройны и округлы…
От мучительного напряжения воли, которая едва удерживала его от того, чтобы и в самом деле не прыгнуть и не схватить лукавую пэри, — ему стало душно. Он тяжко повел налитыми силой плечами, глухо выдавил:
— Я повышаю цену выкупа вдвое…
Девушка с шутливо-торжествующим видом взглянула на Фильку:
— Тогда тем более…
Тот перебил ее:
— Правильно! За такую комиссию, брат, меньше нельзя!
— Будет и десять барашка, — с презрением подтвердил Толебай.
— Ух, молодец! — восхитился Филька, уже всерьез соображая, как бы действительно получить на таком сватовстве с десяток жирных барашков. Лошадь с верблюдом ему ни к чему, а вот барашки…
— Тогда, значит, братцы, так, — деловито обратился он одновременно к Толебаю и Веронике. — Завтра вечером окончательно встретимся тут же, у стога. Как кончим работу, как перед этим твой Мамбет приведет мне барашков, так тут мы и встретимся. Как говорится, мой товар — твои деньги….
…Но эта вторая встреча у стога не состоялась.
О ней узнал Тарас Кузовной и не просто рассердился, а рассвирепел и запретил даже думать о чем-то подобном.
— Ишь чего выдумали. Такое в башку придет только спьяну, да и то после штофа хорошего первача! — ругал он виновато ухмылявшегося Фильку. — Как тебя тут дразнят? «Битым»? Не-ет, мало тебя били! Надо было лупить, как Сидорову козу, только тогда, глядишь, поумнел бы! Все ему шуточки! Я тебе пошутю! Ты у меня вылетишь отсюда в Славгород! Там с тобой разберутся, долго думать не станут!
Все еще ругаясь, он пошел к прессам, где молчаливый, весь день сосредоточенно думающий о чем-то Толе- бай споро, но без вчерашнего возбуждения, скорее даже равнодушно, таскал железным крюком прессованные кипы сена к порожним платформам.
Полный предостережений и угроз выговор начальника он выслушал стоя, не проронив ни слова. Лишь и без того хмурое, до черноты загоревшее лицо его становилось все жестче и темнее, да указательный палец ритмично постукивал по отшлифованному сеном толстому железному крюку, будто Толебай все время мысленно перебирал свои драгоценные четки, посылая аллаху молитву за молитвой — в отмщение ненавистным большевикам.
Привлеченные криком начальника, перестали работать и остальные казахи.
Остановил свой пресс и Сухорукий. Озлившись в Славгороде на Малкина, он теперь вымещал свою злость на «рыжиках», не давая ни им, ни себе передышки. Но на этот раз шум у второго пресса был особенным, необычным, и мрачный Игнат велел Семену Половинщикову, который в изнеможении повалился было возле пресса на кучку сена:
— Пойди узнай, чего там у них. Кузовной зря лаяться не будет. Давай, давай. Чего разлегся! Лежать будешь в вагоне, когда поедем обратно. Сейчас работай…
А Толебай стоял и молчал. Казалось, он даже не слышал того, что втолковывал ему сердитый начальник, выразительно постукивая ладонью по оттягивающему ремень оружию.
Что ему, Толебаю Алтынбаеву, эти угрозы? Он их не боялся и на суде. Тем более ничего не боится здесь. И если боится, то лишь одного: потерять себя, свое лицо господина этих степей. А здесь он себя теряет. Даже ничтожнейший, глупый парень Филька зло посмеялся над ним. Теперь его ругает начальник — тоже ничтожный, покрытый пылью и потом, грубый мужик. Такого всего год назад Толебай отшвырнул бы носком ичига, а теперь должен стоять и молчать. Терпеть унижение на глазах любопытствующей толпы поверивших русским нищих единоверцев вроде Нури, чтобы потом опять таскать от прессов проклятые кипы…
Зачем ему это? Не пора ли решиться и с еще уцелевшим в укромном месте табуном чистопородных коней тайно уйти из этих степей в другие — к отцу в Джунгарию? А через год или два — опять вернуться сюда хозяином, властелином? Вернуться — и отомстить…
Не дослушав того, что ему продолжал внушать рассерженный Кузовной, Толебай неожиданно для всех резко повернулся и шагнул к пирамиде спрессованных кип, аккуратно сложенных в виде колодца, приготовленного для ссыпки зерна.
Удивленные этим казахи и русские рабочие расступились.
— Ты что? Куда? — не понял и Кузовной.
И вдруг пронзительно закричал:
— Стой… погоди. Не смей!
Но было уже поздно: Толебай положил левую ладонь на одну из кип и изо всех сил, с размаху пронзил ее острым крюком. Было видно, как ярко-красная кровь брызнула из-под железа на землю…
В тот же день до предела разъяренный вызывающим поступком байского сынка, но и бессильный как-либо наказать его за этот дикий поступок, Кузовной отправил посеревшего от боли, но намертво замкнувшегося в себе, как бы отрешенного от всего, не отвечающего ни на угрозы, ни на уговоры Толебая в Славгородский лазарет в сопровождении красноармейца.
— Будь начеку! — предупредил он разморенного июльской жарой бойца нарочно в присутствии Толебая. — Глаз с него не спускай. Такой волчина может чего хотишь! Сдай с рук на руки Кузьмину и об исполнении передай Никитину. — Кузовной кивнул в сторону паровоза. — Он мне потом сообщит. Давай ехай…
Когда машинист уже готов был дать прощальный гудок, чтобы тронуться с очередной партией платформ, груженных кипами сена, к паровозу подбежала потрясенная случившимся Вероника и упросила Никитина передать инженеру Свибульскому написанную по-французски записку с просьбой отозвать ее из Скупина под любым предлогом:
«Здесь я сойду с ума! Жить среди дикарей — нет, просто невыносимо!..»
Все это время Толебай молча сидел на платформе возле красноармейца, привалившись спиной к зелено-желтой стенке из спрессованных кип. Лицо его было опущено вниз, к изношенным ичигам, и не выражало ничего, кроме высокомерного равнодушия ко всему, что происходило вокруг.
Не изменил он угрюмо-высокомерной позы и после того, как состав из шести платформ двинулся от глинобитного вокзальчика на юг, в сторону Славгорода. Паровоз тянул состав медленно, экономя топливо и воду. Но вот и вокзальчик, и люди возле прессов скрылись за редкими гривками побуревших от зноя колков, пошла знакомая с детства степь. И только тогда Толебай огляделся.
Разморенный зноем молоденький конвоир сладко и мучительно дремал, приткнувшись рядом к щели между бортом платформы и крайней кипой. Из трубы паровоза валил ядовитый дым. Ставшая за эти дни ненавистной степь с ее совсем недавно милыми сердцу озерами и колками возбуждала горькую злобу. Где-то вон там, верстах в шестидесяти отсюда, лежит родное озеро Коянсу. Там теперь властвует большевик Абдуллаев, пасет табунок бывших алтынбаевских коней ничтожнейший раб Архет…
Толебай по-волчьи лязгнул зубами: люди в ауле, наверное, сразу же позабыли о нем, их единственном господине. Даже мулла Альжапар сбежал из аула. Такое стерпеть нельзя. Он должен исполнить волю аллаха и наказать изменивших обычаям и клятвам. И хотя пронзенная крюком ладонь горела как на огне, боль все сильнее простреливала руку до самого плеча, на одном из поворотов, когда сладко храпевший конвоир, не выпуская винтовки из рук, не проснулся даже от толчка, Толебай тихо спрыгнул с платформы на каменно спекшуюся землю.
Вначале он торопливо бежал, яростно наступая сильными ногами на свою короткую тень. Потом перешел на шаг, все чаще подхватывая левую руку правой. А после бессонной ночи, охваченный жаром, шатаясь, он еле шел. Но все-таки шел, злобно кляня себя, когда сил не хватало.
В полдень второго дня ему посчастливилось набрести в одном из овражков на хорошо знакомую траву «живучку», которой в ауле джетаки пользовались для лечения ран. Ее мохнатые стебли и венчики колокольчатых синих соцветий высушил зной, но Толебай, упав на живучку жадно раскрытым ртом, торопливо разжевал ее, потом разбинтовал посиневшую раздувшуюся ладонь и, стиснув зубы, сунул в развороченную крюком рану смоченный слюной комочек.
Что началось серьезное заражение, он понял еще вчера. Но лишь бы дойти до аула. Лишь бы дойти до белой своей юрты, рассчитаться с Ашимом, встретиться с глазу на глаз и с предавшим обычай Архетом. В ауле старая Аксамай опытнее врача. Она вылечит, вылечит…
Обливаясь липучим потом, с каждым часом слабея, он продолжал свой мстительный путь по залитой солнцем степи, пока не поймал себя на провалах памяти.
Куда и зачем он идет?
Шел он сейчас или валялся без сил вон там, по-волчьи воя от боли?
А ставшая смертельно пугающей, страшной боль уже ударяет не только в плечо, но и в шею. И в голову, в мозг. Добирается и до сердца…
Не надо было… не надо было бежать… Надо было в больнице вылечить руку, а уж тогда… уж тогда… тогда…
В последний раз он очнулся на самом исходе дня. Огромное тускло-красное солнце медленно опускалось за зеленую кромку камыша возле невидимого Толебаю, лежавшему на земле, незнакомого озера. Но он все равно упрямо подумал о Коянсу: это оно, их родовое озеро.
А вон там, на его берегу, над белой юртой Алтынбаевых, там теперь нестерпимо краснеет флаг — знак силы и власти советского комиссара Ашима Абдуллаева…
Из двухнедельной поездки по волостям и селам, в которых разместились отряды Ивана Амелина и Игнатьева, Веритеев вернулся в Славгород дочерна обгоревший на степном жарком солнце, но довольный: все шло пока хорошо. Не без задорин и кочек, но — хорошо. Крестьяне взбудоражены встречей и разговорами с москвичами. Везде возникают ярмарки, вроде той, какая случилась в Славгороде в день прибытия эшелона. И довольны мужики не столько даже ремонтом машин, приездом помощников в предстоящей страде, сколько возможностью побеседовать по душам с приехавшими аж из самой Москвы, расспросить их:
— Чего теперь думают там про нас?
— А вправду ли тот налог, али так, для виду?
— А как оно в целом-то по Расее: выдюжим? Отобьемся?..
Попробовал было в Знаменке богатей Пузанов («И надо же, фамилия точно по его комплекции: пузан пузаном!»)… начал было этот Пузанов на сходке вести агитацию под видом заботы о мужиках, сказал:
— Энти желают помощь нам оказать, чтобы сибирский хлебушко вывезти в свои города. Вот откуда их к нам любовь! А мы как жили без них, так дальше и проживем. Хлебушка, слава те господи, нам тут хватит и без ремонта машин да артелей. А потому предлагаю вручить господину товарищу комиссару наш приговор об том, что не нуждаемся мы, мужики, в ихней помощи! Расея пущай сама по себе, мы тут сами по себе. Управимся. А граждане комиссары пущай уезжают отсель хоть к анчуткам в другие места. В наших им быть совсем ни к чему…
Сказал, да на этом его «пузаново» и закончилось. Вначале его припечатал Иван Амелин. Мужик он резкий, за словом в карман не лезет. Потом пошло от самих мужиков:
— Ишь вылез, пузатый черт! Верно сказал Амелин, что гидра!
— Тебе, Силант Митрофаныч, что? Как салом набит. Чисто кабан под светлое рождество. А у нас?
— Да чего его слухать? Гнать его надо, контру!
— Хочет, как прежде, на нас сидеть!
— С языка — медовит, внутрях — ядовит!..
А тут еще кстати приехал Оржанов со своим театром и вечером показал спектакль «Кровные враги». Тут уж совсем Пузанову крышка: из дому выходить перестал, не то что выступать на сходках…
Да-а, — раздумывал Веритеев, — дело пошло. Ребята приводят в порядок косилки, жнейки да молотилки. Кузнецы в каждом селе звенят от зари до зари. Ведется и разная другая работа, какая требуется сейчас в крестьянском хозяйстве. Все сыты, здоровы, с нетерпением ждут начало страды. Вот-вот и хлеба войдут в свою полную спелость, тогда — поворачивайся! А до этого надо еще успеть побывать у Сергея Малкина да в Скупине у своих «сенников».
Надумав завтра же отправиться с паровозом Никитина в Скупино, он решил вначале заглянуть на главное предприятие городка, механический завод: интересно, как идут дела в самом городе? Директор завода Егор Адрианов мужик неопытный, больше все воевал, дело имел с винтовкой да пулеметом. Назначен руководить предприятием по партийному доверию, а не по опыту в рабочих делах. Так что здесь вся надежда на добросовестность своих поселковых — инженеров, мастеров, слесарей, наладчиков да бухгалтеров вроде Петра Петровича Клетского. Эти, похоже, вполне надежны, а кто их, однако, интеллигенцию, знает?
Директор завода — совсем еще молодой простоватый мужчина в вылинявшей гимнастерке и потертых галифе, заправленных в запыленные сапоги, встретил его как родного.
— Ты только подумай, браток! — говорил он, возбужденно расхаживая по бедно обставленному кабинету и явно радуясь приходу Веритеева. — Ну прямо чудо, как все тут вышло! Пришел я сюда, на завод, на этот самый раззор…
Он повел взглядом бойких карих глаз по запыленным окошкам кабинета, тем самым как бы показывая Веритееву и все остальное, что за окнами, на выжженной летним солнцем территории завода.
— Ну, думаю, влип ты, брат, по самые уши! А почему? Потому что ведь до того я был кто? Пензенский. Рос в глухой деревеньке Пестровке. Ну плотничал с батей, верно. А потом? Потом, браток, фронт на германской. Ранение. Еще раз ранение. А как быть Октябрю, так я вначале кинулся было домой, в свою Пестровку. Ан в Пензе, глянь ты, белые чехи. Ну ладно. Идем всем полком с боями за Волгу, к Уфе. Потом, когда я уже в партии стал, двинулись на Челябу да на Ишим и на Омск — громить колчаковскую гидру. И только мы, значит, их разбили, как нас оставили в гарнизонах. Стали трудармией, в помощь Сибири своим трудом. Тут бы я, парень, не сплоховал: деревенское дело знаю. Да только меня вначале послали в Омск, в совпартшколу. Учился. Закончил. Думаю: ну — домой. Ан стал директором этой бандуры! А сам в заводском деле ни-ни! Турка!..
Он опять повел веселым взглядом по пыльным окнам.
— И только тут сел, как страх меня взял такой, какого не было и на фронте. Ежели бы в деревне или там в плотницком каком деле… Так нет же, сюда! А раззор тут открылся немыслимый, хоть беги! Но и бежать стало некуда: «Давай, говорят в губкоме, налаживай!» — «А с какого боку налаживать?» — говорю. «А с того, где важнее», — мне говорят. «А как я узнаю, где тут важнее? — спрашиваю. — Рабочим я не был, солдат и солдат». — «А ты, говорят, член партии, большевик Вот и давай, брат, налаживай…»
Он помолчал, покачал головой, усмехнулся.
— Раньше я думал: как происходит оно у рабочих? А ничего, мол, особенного: приходят они на завод, прямо идут к станкам, делают в свое время, что им велят, а к ночи — домой. Деревенское дело казалось куда мудренее. А когда взялся — батюшки вы мои! Что им велеть-то? И из чего? И сколько чего? И для кого? Да так, чтобы не прогореть, не вылететь дымом в трубу вместе со всем заводом, если сделал не то и не так! Такого я раньше и в уме не имел!.. А тут еще жулики оказались. Главный- то инженер и какие другие по производству — загодя подались неизвестно куда. Тот, кто хозяйством ведал, контриком оказался: загнал всю прежнюю продукцию другому заводу и тоже дал тягаля. В шкафах — одни лишь бумаги. А я в тех бумагах — ни в зуб ногой. Полный раззор — и все! Ну, думаю, чума их возьми, инженеры да разные там бухгалтеры и какие другие — не что иное, как чистая контра! Рубать их под корень! А тут возьми да приехал ваш эшелон… ух, выручил ты меня!
Адрианов сел на скрипнувший стул.
— Оно ведь я думал как? Завод или там фабрика — дело простое: есть станок, железо для производства, кузница, печи, вкалывай себе — и дело с концом. А когда оказался на этом директорском месте… ну будто в темном лесу! Сначала, когда и твой эшелон приехал, я думал, что тоже одни господа, белоручки, особенно Клетский такой, Петр Петрович. А они такими, брат, башковитыми оказались! Переписали все оборудование, записали и то, какое надо еще. Определили заводской, как говорят, профиль и эту, номенклатуру, что ли, бес ее раздери? Притом — на каждом рабочем участке и по цехам, а также что, когда и по чьему заказу выработать в каждом цеху. Да не только на месяц, а и на целый год. Отсюда — какая и в чем потребность. И фонд. И прибыль в процентах… видал? Теперь я этих ваших интеллигентов только что на руках не ношу! А если придется — и понесу, истинный бог!.
В дверь постучали — не сильно, но и не тихо.
— Входи, чего там, люди свои! — все еще находясь в состоянии веселого оживления от шумного разговора, крикнул Адрианов.
Вошел Петр Петрович Клетский. Вошел точно так, как стучал: с достоинством, даже, пожалуй, несколько чопорно, как подобает входить знающему себе цену чиновнику в кабинет начальства. И одет он был соответственно этому несколько чопорному достоинству. Несмотря на знойную, пыльную духоту, давно уже навалившуюся на эту часть Сибири, да так и не отпускающую ни на час, на Петре Петровиче ладно сидел хорошо отутюженный чесучовый пиджак. Кипенную белизну сорочки оттенял строго повязанный черный галстук. Даже зажатая под мышкой служебная папка из знакомого Веритееву американского прессшпана казалась исполненной спокойного глянцевитого достоинства.
— Проходи, Петр Петрович, присаживайся! — быстро поднявшись со стула, на который он только что было сел, почтительно предложил Адрианов и шагнул навстречу. — Тут вот у меня товарищ…
— А мы знакомы! — весело заметил Веритеев. — Здравствуйте, Петр Петрович…
Тот не сильно, однако вполне заметно кивнул седоватой, гладко причесанной головой и деловито прошел к столу.
Некоторое время Петр Петрович что-то подробно объяснял директору, иногда приглашая заглянуть на колонки цифр и сделанные от руки не то диаграммы, не то графики каких-то работ. Потом сказал:
— Я полагаю, что выговор в приказе совершенно необходим.
— Но, может быть…
— Нет, нет! — перебил Адрианова Клетский. — То, что это моя дочь, сути не меняет. Людей необходимо учить порядку…
— Не знаю… Ну, хорошо, — поспешил заверить директор. — Я сейчас же сделаю, раз уж вы так, — и проводил Клетского до двери.
Когда тот ушел, Адрианов с удивлением спросил Веритеева:
— Видал? Дочь его Катерина допустила в расчетах ошибку. Девчонка, чего с нее взять? Одна заклепка, понимаешь ты, вдруг при подсчете оказалась немыслимо дорогой. Проверяли и так и эдак. А вышло, что Катерина вместо этой, — он заглянул в оставленную Клетским бумажку, — вместо 0,03 тысячи рублей девчонка проставила 0,3 тысячи. Стоимость детали сразу и подскочила. Теперь вот ей выговор…
Дверь в кабинет снова открылась — на этот раз без стука. В ней показалась потная, веснушчатая физиономия посыльного, паренька лет тринадцати.
— Дяденька Веритеев, — кое-как отдышавшись после сильного бега, сказал посыльный, — товарищ Кузьмин просит к нему по важному делу…
— Ух, жалко, мало поговорили! — искренно пожалел Адрианов, прощаясь с Веритеевым. — Заходи еще, браток, своих в цехах посмотри. Зайдешь?
— Зайду.
— Ну, бывай…
Дело, по которому комиссар пригласил Веритеева к себе, оказалось неожиданным и неприятным: из Новониколаевска, ставшего к тому времени вместо Омска центром этой части Сибири, в Славгород пришел запрос о местонахождении кладовщика Теплова.
— Ты его должен знать, — сказал Кузьмин в своей обычной несколько вялой манере, когда Веритеев познакомился с сутью дела. — Вот и давай теперь им займемся. Знаешь такого? Теплов Даниил Андрианович.
— Не помню.
— В твоем эшелоне был.
— Стой, погоди. Это который в Омском посту пропал? Был такой!
— А личность не помнишь?
Веритеев огорченно развел руками:
— Где там! Разве тысячу всю упомнишь? Вот старосты вагонов, те должны знать. Был он, кажись, в вагоне Сергея Малкина. Правильно, у него. А Малкин в Мануйлове.
— Хм. Значит, надо ехать в Мануйлово. Дело отсрочки не терпит: приехал контрик по фальшивому документу и в Омском посту пропал. Куда он ехал? К кому? Зачем? Да-а, завтра же, брат, и едем…
После этого разговора остаток дня Веритеев терялся в догадках: что за шум вокруг какого-то кладовщика Теплова? То, что тот пропал в Омском посту, ничего не значит: в нынешней кутерьме на дорогах — такое в порядке вещей. Старосты, помнится, всякий раз докладывали штабу, кто снят с холерой, а кто отстал. Этот, вишь ты, пропал. Но не будешь же из-за каждого пропавшего держать эшелон на станциях? Отстал — догонит, не маленький. А заболел — снимут. И либо ты выздоровеешь, либо помрешь. Узнавать в такой тяжелой дороге о каждом не у кого, да и некогда. Коли выживет, догонит, как Филька Тимохин. А вот Теплов… И что это за Теплов? Ехали больше месяца, не было слышно, а тут вдруг нате вам: о беглом кладовщике запрашивает сама Москва…
И уж полной неожиданностью оказалось для Веритеева, когда они с Кузьминым приехали в Мануйлово, поговорили вначале с Малкиным, потом с Антошкой Головиным, что розыск Теплова ведется, судя по всему, по заявлению Платона Головина и что в это замешан Платонов сын Константин…
Платону Головину не досталось за лето и малой доли той вольной жизни, которой больше месяца прожили в дороге уехавшие с эшелоном в Сибирь, да и в Сибири все еще отходили душой от домашних тягот в новой, необычной для всех обстановке. В поселке наоборот: каждая неделя лишь прибавляла сложностей и забот.
Прежде всего волновала судьба завода.
Круминг вернулся из Чикаго ни с чем: хозяева компании не изменили своей позиции недружелюбного к Советам выжидания. Как и в прошлом году, для них оставался открытым главный вопрос: признавать ли Советское правительство законным и прочным, а значит, развивать с ним взаимовыгодные отношения? Или же по-прежнему считать Советы социальной аномалией, результатом грубой узурпации власти в России кучкой якобинцев, крах которых неизбежен, и, значит, выгоднее ждать, когда все само собою встанет на прежние места?
На складах в Чикаго скопилось огромное количество сельскохозяйственных машин и запасных частей. Отправить все это в Россию можно и нужно было хоть завтра. Но иные соображения оказались для хозяев компании все же сильнее: два неурожайных года подряд поразили в России многие миллионы людей немыслимым голодом. Страна поражена неизлечимой болезнью, — казалось им, — слепа и глуха. Подобно нищенке, — полагают они, — бредет она темной грозовой ночью, не видя, что следом за ней, с боков и сзади, давно уже крадутся и готовы к прыжку стаи сильных зверей. Еще шаг… еще один шаг… возможно, еще один шаг — и она упадет.
Какой же смысл расчетливым господам в такой прекрасный момент поддерживать умирающую Россию посылкой машин и сырья? Дождемся ясного дня, погасим чадящий светильник ее эфемерных идей «всеобщего счастья», обглоданные кости соберем и зароем в землю. Все, что было у нищей в суме, само собою достанется нам…
Исходя из этих соображений, Крумингу было категорически запрещено предпринимать по возвращении в Москву какие-либо серьезные финансовые и технические акции в русском филиале компании.
— Главное и единственное, что вам следует делать, — сказал ему управляющий головными предприятиями в Чикаго, — это, по возможности, ничего не делать. Выжидать. Только тянуть, делая для приличия вид, будто вот-вот из Штатов в Москву прибудут долгожданные распоряжения пустить завод на полную мощность. Контрмер большевиков бояться не стоит. Между тем, насколько нам известно, вы были слишком либеральны с ними, — заметил при этом управляющий, строгостью взгляда досказав гораздо больше, чем было в словах прямого упрека. — Сентиментальность мешает делу. А они сейчас бессильны предпринять что-либо в ответ. Национализируют наконец завод? Но какой для них в этом смысл? Пока предприятие наше, у них еще есть надежда на его оживление, а остановленный — он мертвец! Они закрывают сейчас даже более нужные им заводы из-за нехватки топлива и сырья. Так что любезничать с большевиками ни к чему. — тоном приказа повторил шеф, прощаясь с Крумингом. — Пройдет всего год, не больше, а там все решится само собой…
Круминг вернулся в Россию мрачный и злой. Не только потому, что съездил безрезультатно и теперь придется подло хитрить и лгать руководителям ВСНХ, вселять в них пустые надежды. Но и потому, что это означало для него- возможность важных перемен в личной судьбе и, значит, необходимость всерьез позаботиться о себе, о своей семье.
Надеяться после закрытия завода опять на карьеру в Чикаго, где и без него хватает специалистов? При этом американцев, а не латышей? Наивно.
Остаться в России? Пустое мальчишество. Уже привык к иному стилю и смыслу жизни.
Жить на своем ранчо в 25 милях от Чикаго, заниматься хозяйством как фермер, все надежды возлагать на сбыт своей фермерской продукции? На это он неспособен.
Тогда, наконец, продать ранчо и вернуться к своей юности — в Ригу? Устроиться там на хорошую службу… если такая найдется? Крайне проблематично…
Всю дорогу, раздумывая об этом, но так и не придумав ничего определенного, он в конце концов остановился на самом простейшем решении: выполнять приказ управляющего — тянуть. Но тянуть как можно честнее, не нанося прямого ущерба русским. Одновременно — готовить семью к отъезду.
Куда? Пока, разумеется, в США.
А потом? Потом будет видно…
Чтобы не волновать сотрудников преждевременными и явно пессимистическими прогнозами по поводу будущего, он по возвращении на завод не стал созывать представительного совещания, подобно тому, как это сделал перед отправкой эшелона в Сибирь, хотя видел, что все нетерпеливо ждут от него ясного и доверительного разговора.
Ничего, пусть пока поволнуются…
Тем не менее двум-трем ближайшим помощникам он «по секрету» посоветовал в любом случае не вешать нос на квинту, убежденный, что сказанное им в тот же день узнают и остальные.
Подробностей о своих переговорах в Чикаго Круминг, разумеется, не сообщил и Платону Головину, который до осени оставался на заводе в качестве представителя не только партийной организации, но и профсоюза.
Однако Головин сам без труда понял, что означает молчание и замкнуто-сосредоточенный вид всегда общительного директора. Предположения подтверждались и тем, что по возвращении из Чикаго на заводе не было отдано ни одного, свидетельствующего о расширении производства, распоряжения, не поступило ни одной сколько-нибудь серьезной бумаги на этот счет и из Чикаго.
— Значит, — решил Платон, — Мак-Кормики свертывают дело. Договор с ними идет к концу, и вот-вот надо будет принимать завод в свои руки.
Ну что же, плакать не будем…
Недели через две после возвращения Круминга из Чикаго, окончательно убедившись, что все, похоже, так и случится, Платон поехал в Москву — сначала в губком партии, а потом и к новому председателю ВСНХ Богданову. А еще неделю спустя Богданов сам вызвал Головина в Москву: было приказано продолжать самый подробный учет и тщательнейший ремонт всех энергетических, силовых установок, станков, помещений и территории завода с таким расчетом, чтобы в случае чего предприятие было принято правительственной комиссией в полном порядке.
— Никакой компенсации его бывшим хозяевам мы выплачивать не будем, — добавил Богданов. — Прямое участие в интервенции на нашем Востоке мистера Ванса Мак-Кормика, возглавлявшего русское отделение грабительского «Военно-торгового совета», и без того нанесло такой колоссальный ущерб России, что по сравнению с ним потеря компанией завода — жалкая крупинка. На одних лишь поставках оружия и продовольствия Колчаку через этот «Военно-торговый совет», не говоря уже о прямом грабеже Востока и Сибири, американские господа заработали неисчислимые миллиарды долларов. По предварительным подсчетам товарищей из Сибири только в Омской губернии этот ущерб превышает миллиард четыреста миллионов золотых рублей…
Некоторое время Богданов сердито перебирал бумаги на заваленном ими столе. Потом добавил:
— Мы направляем к вам в помощь товарища Кукушкина. Введите его в курс тамошних дел. Он и будет в случае чего принимать завод от Круминга…
Для Головина это были трудные, беспокойные дни. А в середине лета к этим рабочим трудностям прибавилась еще одна, связанная с Константином.
В начале июля в поселке было созвано широкое совещание представителей всех уездных и волостных организаций и предприятий, посвященное решениям только что закончившегося Третьего губернского съезда Советов и вытекающим отсюда задачам на местах. Платон Головин уже знал, как это знали и все коммунисты уезда, что по указанию ЦК партии и лично товарища Ленина начата коренная перестройка работы промышленности и всего хозяйства страны на новый лад в связи с практическим переходом к нэпу. Кустовые объединения и специализация предприятий встали в повестку дня. Поэтому крупные предприятия объединяются в тресты. Капитализм накопил в этом смысле немалый опыт, а учиться даже у врага — не зазорно для коммунистов. Только шапкозакидательский благонамеренный дурак может думать иначе. Те из заводов и фабрик, которые сейчас нерентабельны или не могут быть использованы в ближайшее время, — сдаются в аренду производственным коллективам и частным лицам. В свою очередь это означает серьезные изменения методов и форм руководства промышленностью, всем народным хозяйством. Соответственно должен меняться и стиль идейно-политической, культурной и воспитательной работы партии, профсоюзов, Советов и комсомола…
Головину эти вопросы были до крайности интересны. К тому же докладчик, приехавший из Москвы, был человеком известным, знающим и толковым, с хорошо подвешенным языком. Говорил он действительно хорошо и об очень важных вещах, мыслил серьезно и широко. Слушать доклад было истинным удовольствием.
Интересен был и второй доклад — о ближайших производственных и сельскохозяйственных задачах района.
— Только что, — сказал докладчик, председатель местного Совдепа, депутат Моссовета Корпачев, — товарищ Ленин лично распорядился не тянуть с уборкой урожая также и в центральных губерниях, учитывая засушливый характер нынешнего лета. В особо срочном ударном порядке товарищ Ленин предложил закончить уборку урожая и сбор налога у нас, в Московской губернии, для чего мобилизовать как можно больше рабочих и служащих, «грабя», как он выразился, наркоматы и ведомства за счет по-чиновничьи разбухших штатов…
Головин, пока слушал оба доклада — от Москвы и от уезда, — заново перекроил в уме и собственную речь, с которой собирался выступить в прениях. Поэтому, когда объявили перерыв и все двинулись из душного зала кинотеатра на улицу (новый ремень для своего движка Новиков еще не нашел, кинотеатр не работал), Платон тоже вышел вместе с толпой знакомых людей в самом хорошем расположении духа. И вскоре столкнулся со старым приятелем, председателем волисполкома Байковым.
Поздоровались, обрадовались друг другу. Посетовали на то, что работы невпроворот, увидеться некогда, хоть живут чуть не рядом. Расспросили друг друга:
— Как дела?
— Как здоровье?
— Что слышно про эшелон?
И тут Байков между прочим спросил:
— А как твой Теплов, которому ты просил выправить документ?
— Какой документ? — удивился Платон.
— Как какой? — в свою очередь удивился Байков. — Справку: кто да откуда. Ну, паспорт. Константин твой приходил ко мне с этим Тепловым. Говорит, по просьбе отца, то есть твоей. Ну я по доверию и выдал…
Платона бросило в жар:
— Я просил выдать?
— Ты.
— А какой из себя был этот Теплов? — помедлив, спросил Платон, уже догадавшись, что Константин тайком от него помог получить документ тому самому чужаку, о котором рассказывал Антошка и из-за которого они рассорились с сыном насмерть.
— Да я уж забыл. Ну, в общем, бритый такой… красивый. Видно, не из простых. И глаза у него какие-то…
Все время, пока затем в душном и тесном зале участники совещания занимались обсуждением поднятых в докладах важных для всех вопросов, из головы Платона не выходило сказанное Байковым.
Значит, вон до чего дошел Константин! Чужака не просто обедом кормил, но еще и документ на легальное жительство выправил. Тот теперь отправился с эшелоном в Сибирь. Зачем? Не связной ли из белого подполья? Не своих ли ждет? Все может быть: похоже, там опять собирается черное воронье. Ну нет, такое оставить нельзя, — с тоской и злобой раздумывал Головин. — Надо идти к товарищу Дылеву: пусть займется Тепловым через ЧК. А кстати и Константином. Да… тут уж выхода нет, раз дело дошло до края, — и Константином…
…Теплов между тем, перебравшись на правый берег реки, обживался в Омске. На местном базаре, покупая нехитрую снедь, он разговорился с одной из торговок, и та сдала ему дешевую койку в своей бездетной семье на окраине города, подле Оми. Теперь оставалось на несколько дней притихнуть, прислушаться, присмотреться, а уж потом начать действовать.
В деньгах Теплов не очень нуждался: помог Верхайло. Удостоверение личности — тоже в порядке. В случае чего — «Отстал от рабочего эшелона, потом приболел, теперь начну догонять своих».
Верхайло же снабдил его четырьмя надежными адресами, заметив при этом, что за зиму проверить их точность случая не представилось, поэтому лезть сразу нельзя: «Пооглядитесь сперва, а потом уже…»
Прожив с неделю у оборотистой бабы, Теплов наконец решил проверить две первых явки: Елизария Мишина, псаломщика одной из местных церквей, и оставшегося не у дел Павла Рубцова, бывшего купеческого приказчика. Обе попытки не увенчались успехом: псаломщик недавно умер от тифа, Рубцов оказался «выбывшим в неизвестном направлении». Пришлось рискнуть и пойти по третьему адресу.
Как-то уже под вечер, под видом «приехавшего из глухой деревни родственника дорогого братана, а ноне, слышно, что комиссара Андрюхи Суконцева», он зашел в Центральное правление потребительской кооперации, где, по словам Верхайло, Суконцев должен заведовать каким-то отделом. Выслушав высказанную фальшиво-простонародной речью просьбу — повидаться с братаном или же дать его адрес, ежели он в отъезде по каким делам, пожилой мужчина, говоривший с Тепловым, заметно дрогнул, насторожился, потом попросил подождать, пока он сам сбегает за товарищем Суконцевым, который сейчас якобы у начальника. И Терехов понял: с «братаном» что-то стряслось, — возможно, засада.
Выскочив на улицу, он свернул в ближайший переулок, оттуда дворами — на шумную улицу, с улицы — на не менее людную пристань, где успел вскочить на катерок-пароходик, уже отходивший к пристани Омский пост.
Ему удалось вернуться на попутных составах до Петропавловска, найти там по последнему из данных ему Верхайло адресов надежное пристанище.
А год спустя он принял участие в очередном восстании, организованном белым подпольем. И здесь ему совсем не повезло: восставшие были разгромлены красными без особого труда. С двумя такими же, как и он, фанатиками «Великой России» Терехов был загнан в какой- то сарай, подпертая бревном дверь уже качалась и трещала под напором чекистов. И тогда ему сослужил последнюю службу подарок отца — игрушечно-маленький дамский браунинг в мягком замшевом чехолике с никелированной металлической защелкой, какие были на модных сумочках дам. Терехов оттянул пружинящий затвор, загнал крохотный патрончик из обоймы в ствол и выстрелил себе в висок.
Еще до приезда Веритеева и Кузьмина в Мануйлово, временный уполномоченный уездной «тройки», он же начальник рабочего отряда Сергей Малкин, успел вместе с Грачевым и другими активистами села распределить по подготовленным в Славгороде спискам рабочих отряда по отдельным крестьянским хозяйствам, потом наладить в волости и работу своих «шестерок» по ремонту машин для предстоящей страды.
В этом ему неожиданно помогла кровавая история с Износковым и Сточным. Она как бы заново обнажила жестокие противоречия между трудовым крестьянином и кулаком. Наглядно показала середняку, с кем надо ему идти, если он хочет добра себе и стране, если не намерен опять оказаться во власти колчаковцев и богатеев. И выбирать стало, в сущности, нечего. Речь могла идти лишь о том, на что идти до конца, а на что осторожно, с оглядкой, как бы не прогадать.
Для мануйловцев, едва успевших за тридцать тяжелых лет обжиться возле благодатного озера Коянсу, выбор этот значительно упростился: вместе страдали от прежних властей, пока обживались в Сибири, вместе боролись с такими, как Анненков и Сточной, выходит, что вместе надо теперь держаться и дальше, тем более что Советская власть повернулась лицом к деревне, как пишут теперь в газетах.
И особенно яростным агитатором за такую совместность, вплоть до немедленного объединения в артель, был Бегунок. По возвращении в село после долгой отлучки выступать ему теперь приходилось едва ли не каждый день: мужики на сходках, а их в эти дни было много, всякий раз просили Савелия повторить рассказ о поездке в Москву. И хотя рассказанное им в Мануйлове знали почти наизусть, Бегунка в покое не оставляли. Да и он не уклонялся от просьб, вполне понимая своих сельчан.
— Подлиньше давай! — просили Савелия мужики. — Больно ты зря горяч. Нигде зря не свертывай! Кто да коды из нас туда попадет? А сильно послухать охота: что там, в Расее? Разно болтают. А что оно есть по правде — толком не знает никто!
— Особо про Ленина еще раз обскажи!
— Про Калинина тоже! Ить темные мы, если вправду баять!
— Неграмотные как есть!
— Царь да Колчак нам грамоту шомполами на заднице ох как сильно писали, а что на свете деется, и не знаем! Так что уж давай, сват, подлинные, не торопись…
Но Бегунок не мог говорить «не торопясь и подлиньше». Сбиваясь и повторяясь, все время размахивая перед собой мокрой от пота шапкой, больной, он все чаще кашлял и задыхался, и, когда после очередного приступа одышливо приходил в себя, мужики терпеливо, с уважением молчали.
Бегунок рассказывал мужикам о тяжкой дороге от Славгорода в Москву. О том, как дорога на тыщи верст была разрушена беляками. Об эшелоне и о заводе. О том, как чуть не убил его «паликмахтер». И наконец, как ходил день за днем по Москве, пока не услышал Ленина. И какая нынче она, Москва, голодная да холодная. Живет лишь с одной надеждой на нас, мужиков, об чем говорил и товарищ Ульянов-Ленин, об чем просил рабочих завода сказать мужикам Михаил Иваныч Калинин, а также об чем сейчас просит и он, Савёл Бегунок, своих и чужих мужиков, ежели те желают добра России…
Вопросы да разговоры по этому поводу длились долго. Обессилевший и счастливый Савелий крутил цигарку за цигаркой, а Сергей Малкин, давая ему отдохнуть, дополнял рассказанное другими подробностями, всякий раз сводя свою речь к одному:
— Савелий верно вам говорит, мужики: надо всем сообща. Усадьбу Износкова взять в основу артели… а тут вам есть на что опереться! Дом-пятистенок, чем не контора? А эти его машины? Полный набор! Скотина тоже, если ее не делить, а использовать сообща. Да и земля… эно, сколь десятин по трем заимкам у Износкова было! Хлеб на ней как стена: ух, в это лето выдался урожай! И тут бы я так сказал, мужики, — во время одной из сходок решил он высказать впрямую то, о чем они с Грачевым и Бегунком говорили между собою уже не раз: — От лица уездной власти, а также с согласия сознательных сельчан, с коими приходилось мне до этого говорить, я бы просил вас не поскупиться в нынешний год. Как вы знаете, засуха там, в России. От голода люди тыщами гибнут в губерниях, что по Волге: засуха все пожгла, колосочка не уродилось. Так неужто вы поскупитесь Износковым хлебом? У вас у каждого на год хватит, а тем, какие на Волге? С голоду пухнут. Прошу вас о братском, святом приговоре: весь хлеб с Износковых заимок, весь целиком, отослать в Москву, товарищу Ленину. Мы, рабочие, уберем его нашими же машинами — и в Москву. Согласны с этим, товарищи мужики?..
В толпе зашумели. Кое-где недовольно, со злостью: по расчетам уездной «тройки» и без того выходило, что за каждого из приехавших в эшелоне полагалось отчислить из урожая в фонд государства по 35 пудов муки за взрослого рабочего, 25 пудов — за женщину-работницу и 15 пудов — за подручного подростка. Кроме того, лично проработавшему в крестьянском хозяйстве следовало без вмешательства упродкома выдать 10 пудов муки…
Но тут неожиданно выступил редко подающий голос на сходках, уважаемый в селе старый Петро Белаш.
— Кабы такие пуды шли этим ребятам, — он кивнул в сторону Малкина, — тогда бы, может, оно и было нам не с руки. Многовато, проще сказать. Однако если каждый приезжий получит десять пудов, а остальной наш сибирский хлебушко пойдет в сусеки Советской власти для всенародного прокормления, особо же голодающим… то тут чего уж? Верно ведь, мужики? Все мы слыхали, об чем рассказывал Бегунок про московскую голодуху. А теперь еще и на Волге. И раз уж дошло там до края, а хлеб Износкова вроде как даровой, тут надо и нам, мужики, идти на подмогу. Не токо Износковый отослать, но дать и тот фунт, который просят с каждого пуда. Я отдам два… Зря врать не будем: есть у нас хлебушко, и в Мануйлове есть, и в Знаменке, и по всей по степи. Без него не останемся, что уж. А у приезжих машины. Мне, к примеру, они ни к чему: свои на ходу. А у кого нету? У Грачева или у Бегунка? Притом учтите, какая у нас погода: нынче солнце, а завтра как понесет, как завихрит, как заладит непогодь на неделю… сгибнет все на корню, убрать не успеешь. Потому-то помощь этих приезжих, считай, дороже хлеба, какой остался на десятинах Износкова. Зря тут спорить не надо, а прямо принять приговор — и все…
В тот день на сходке была принята зачитанная Агафоном Грачевым резолюция:
«Мы, трудящие крестьяне села Мануйлова, заслушав товарища Малкина о задачах трудящих крестьян Сибири перед трудящим крестьянством России, о постигшем их голоде от нового неурожая, единогласно приговариваем:
1) Износковый урожай — отослать в Москву.
2) Каждый из нас с полной душой отчислит фунт с пуда в пользу неурожайных губерний России, а также выполнит свой трудовой долг по сдаче хлеба рабоче-крестьянской Советской власти.
3) Видя, что гидра контрреволюции не дремлет, вроде Васьки Сточного, а мировой капитал нажимает на всех трудящих, чтобы не дать революции ходу, мы приговариваем напрячь наши силы в борьбе, для чего обоюдно согласны для соединения всех сознательных в трудовую артель под названием „Знамя труда“.
4) Машины для этого есть, а коней Износкова привести обратно со всех дворов. Об скотине пока подумать…
Да здравствует мировая революция!
Да здравствует союз трудящих крестьян с боевым рабочим классом России!
Да здравствует „Знамя Труда!“».
Антошка Головин вместе с веселым парнем Матвеем Вавиловым все эти дни работал у Белаша. Они понемногу подкашивали на сухих уклонах созревающие ячмень и овес, по очереди дежурили на баштане на острове рядом с Мануйловом, где из года в год вызревали арбузы, дыни и тыквы большинства сельчан, заготовляли сено для четырех лошадей и двух коров Белаша (после гибели сына в боях с Колчаком и совсем недавней смерти снохи от тифа, тот все еще продолжал вести хозяйство в прежнем объеме) и либо ночевали в степи, либо за полночь возвращались в село на огромном рыдване «о два коня».
Навитое на громоздкую повозку сено высилось как гора. Притянутое веревками к передку и задку рыдвана, гнетó из толстой жердины не давало сену валиться и рассыпаться. Оно плыло над пыльной дорогой легко и ровно, а над ним и вокруг него — незримо колыхалось душистое облако запахов от высушенной солнцем степной травы, разогретой земли — ароматы спелого лета.
Еду им готовила Устя.
Бойкая, хлопотливая девчонка явно была довольна появлением в осиротевшем дядином доме двух парней. Все делала с удовольствием, споро. И когда бы они ни вернулись в село, на столе обязательно оказывались наваристые щи, жареная картошка с соленой свининой или бараниной, шанежки, свежий ситный.
Мотька Вавилов чаще всего после ужина уходил в село «побалакать с ребятами». Старого Белаша тоже нередко тянуло к бывшему износковскому подворью, где от зари до зари не прекращалась работа, велись очень важные для него разговоры рабочих с мануйловцами. Антошка с Устей оставались вдвоем. Несколько раз девчонка просила Антошку слазить с ней в погреб или сходить в омшаник, и он поражался в душе тому, сколько добра накоплено там. В погребе и омшанике стояли бочонки с медом, смальцем и топленым маслом. На крючьях висели окорока и самодельные колбасы, стояли мешки с семечками и горохом, бочки с квашеной капустой, солеными арбузами и огурцами. Штабелями, высились мешки с крупой и мукой.
Куда это все Белашу? Взял бы да роздал тем из мануйловцев, кто победнее. А лучше — отправил бы все в Москву. Ведь мужик он хороший, не жадный, всего все равно не съесть…
Как-то он сказал об этом Усте. Девчонка подумала, пожала плечиками:
— Пусть сохраняются, раз его. Другие сами себе добудут…
Антошка явно нравился ей. С каждым днем она все заметнее выказывала эту свою симпатию — и суетливой заботливостью, желанием побыть с ним рядом, поговорить, посмеяться над его почти белыми волосами, торчавшими во все стороны над круглым мальчишеским лицом, как повернутая к солнцу в полдень «тарелка» спелого подсолнуха.
А однажды вечером в субботу, когда все вымылись после трудной недели в бане и Антошка направился ночевать на сеновал, хотя ночами было уже прохладно, она окликнула его со своей набитой сеном телеги.
— Пошел спать?
— Ага.
— Поди-ка…
Он подошел.
— Давай вот сюда… садись!
Она подвинулась, откинула полу тулупа, уступая рядом место.
— Спать надо, чего ты? Поздно.
— Сядь, говорю… ложись.
— Как ложись? — не понял Антошка.
Устя смутилась, помолчала, поднялась на локотке:
— Хочешь со мной свыкаться?
Он снова не понял:
— Это как?
— Свыкаться-то?
Девчонка смелее, даже с оттенком превосходства над московским парнем, не знающим самых простых вещей, пояснила:
— Это когда спят вместе…
— С тобой? — удивился Антон.
— Ну да! А что! Ай не нравлюсь?
Антон побагровел от волной нахлынувшего стыда:
— Ты что, очумела?
— А чего? Ничуть я не очумела!
— Как это спать вместе с тобой?
— А что в том такого? — И быстренько пояснила: — Да ты не думай, что надо спать вместе совсем, как женатый мужик с бабой спит. Так у нас не дозволено в девках. За это могут не только исколошматить, но и до смерти пришибить. И тебя, и меня.
— Зачем же тогда нам спать?
— Как зачем? Я те нравлюсь?
Устя одновременно счастливо и смущенно вспыхнула:
— Разве со мной те не гоже? И поцелуешь меня, а я тебя…
Она помолчала.
— И можно почти совсем, да только так, поласкаться. Коли, конечно, нравится кто кому…
— Нравится или не нравится, а нельзя, стыдно. Да и тесно вместе-то, — простодушно добавил Антон. — Я вдвоем на одной койке с детства спать не люблю. Теснотища. Какой уж тут к бесу сон? Ты начнешь рядом ворочаться, я захочу во сне почесаться или там повернуться, а тут под боком, нате вам, ты!
— Места нам хватит. Телега эно какая. Тулупище — теплый. А хочешь, можно на сеновале. Вертись, сколь хошь! — поспешно добавила Устя. — Зато как холодно станет, а ночью теперь уж бывает зябко, так и прижмешься, согреешь свой бок-то…
Некоторое время Антон растерянно молчал. Что-то в нем дрогнуло, налилось томительной теплотой, подступило к самому горлу, потом оглушило. Сердясь на эту свою внезапную слабость, он с нарочитой развязностью фыркнул, взглянул на хорошо различимую в звездной ночной светлоте Устю, покраснел до корней волос, торопливо сказал:
— Он тебе, дядя Белаш-то, такое тут даст свыканье, что начихаешься! Тебе косы повыдернет, а меня со двора долой!
Устя искренне возмутилась:
— Ох и дурак! Ничо нам дядя Белаш не скажет. И не прогонит. У нас, говорю тебе, парень с девкой, кои хотят потом пожениться, всегда до того свыкаются.
Антон спрыгнул с телеги на землю:
— А с чего это мы с тобой будем жениться?
Устя обиделась:
— Аль я тебе не по нраву?
— При чем тут по нраву?
— А вот и при том! Дядя Белаш вчера мне сам сказал: «Вот бы тебе, Устинья, добрый жених. И мне бы помощник на старости лет. Парень он башковитый…» Так что об дяде ты и не думай. Нам дядя Белаш и слова не скажет!
— Не-е, — уже твердо сказал Антошка. — Мне спать одному способней…
Не только здесь, на крохотном лоскутке огромной Сибири, где разместились в крестьянских хозяйствах рабочие эшелона, но и на плодородных землях Алтая, между Уралом и Иртышом, в деревнях и селах Обско- Иртышского междуречья тысячи людей готовились к предстоящей страде.
Еще загодя, весной, из Москвы и Петрограда, из пораженных засухой городов и сел Поволжья, а перед самой страдой и из промышленных центров Сибири были направлены сюда уборочные отряды рабочих, служащих и крестьян. Задача была единой: в наикратчайшие сроки собрать драгоценный сибирский хлеб. В первую очередь ту его часть, которая шла в государственный фонд, должна была обеспечить хлебом страну, начавшую нелегкое, но и великое восхождение к сияющим впереди вершинам.
Лето было устойчивое, сухое. Лишь иногда налетали вдруг влажные ветры, клубились тучи, кратковременные дожди, словно конники в час атаки, секли косыми клинками струй созревающие хлеба. Потом опять поднималось солнце, подсохшие нивы снова вставали в степи стеной до самого горизонта. Их молочная прозелень давно уже перешла в полузрелую «щуплую» желтизну, зерно в отяжелевших колосьях все заметнее наливалось желанной стекловидной крепостью.
Пока не пришло ненастье, дорог был каждый час. И когда Петр Белаш, взявший на себя добровольную обязанность помогать Сергею Малкину в деревенских делах, в один из августовских дней прошелся вместе с бригадиром по бывшим Износковым угодьям, попробовал зерно на зуб и на ноготь, сказал: «Теперь вот пора!» — дружина Малкина первой в Мануйлове начала уборочную страду: хлеб с бывших полей Износкова надо было как можно скорее отправить в Москву.
В эти же дни повсюду — на крестьянских заимках, на степных раздольях, в низинах и на увалах, между березовыми колками и зеркалами соленых и пресных озер — началась долгожданная и счастливая, словно праздник, работа.
Пароконные жатки с мощно взлетающими над нивой, похожими на лебединые крылья ветвями грабель, стройные ряды косцов, подобные воинским подразделениям огромной, на сотни верст растянувшейся армии, слаженные группы жнецов с серпами в руках — все это задвигалось, загудело, засверкало белизной рубах, многоцветьем бабьих платков, кофт и юбок, двинулось по степи как в атаку на живые стены хлебов.
Скошенные колосья ложились ровными валками на стерню. Валки превращались в снопы. Снопы вставали в суслоны. Суслоны после просушки шли на тока под железные била молотилок, под дубовые молотила цепов.
Сибирь добывала хлеб. И вскоре по рекам — к пристаням, к железнодорожным узлам — двинулись баржи с зерном. Тысячи верблюдов и лошадей повезли его в хорошо укрытых телегах, плетенных из ивняка коробах, в огромных рыдванах и арбах к элеваторам, в амбары, временные закрома, в сложенные на открытом воздухе из досок и блоков прессованного сена емкости и в другие хлебохранилища.
А когда этот хлеб был убран и вывезен с опустевших полей для отправки в Москву — из Мануйлова, Скупина, Знаменки, Алексеевского, Топольного, Чернокутья, Курьи и других селений, — к Славгороду одна за другой потянулись телеги с тем, что рабочие эшелона заработали во время страды и что удалось обменять у крестьян на взятые из дома вещи.
Землю уже поджимала холодная осень. Колеса телег, нагруженных мешками с мукой, корзинами, глиняными корчажками, туесами, оставляли на индевевшей за ночь земле далеко убегающие следы. Мохнатые сибирские лошаденки шли ровным привычным шагом. И то ли потому, что на дорогу от степных деревень и сел до Славгорода им нередко требовался целый день, то ли потому, что счастливые обладатели набитых снедью мешков побаивались за свое великое счастье, — только чаще всего эти разрозненные подводы добредали до места ночью.
Под сверкающими в небе скопищами осенних звезд, а нередко и в непогоду, в тревожной ветреной мгле, настороженно переговариваясь с возницами, тяжело дыша от натуги, рабочие торопливо перетаскивали добычу из телег в родные теплушки, на нары, возились там до утра, чтобы уложить все плотнее и незаметнее.
Пожалуй, только Антошка Головин прикатил из Мануйлова засветло: его довезла из города на двухколесной тележке-сидовушке опечаленная расставанием Устя.
Довольный своим «батраченком» Белаш погрузил в сидовушку не столько за работу, сколько за симпатию к парню, от доброго сердца, три пятипудовых мешка муки, мешок подсолнечных семечек и плотно запечатанный бочонок со смальцем. Трижды расцеловался с понравившимся ему вихрастым, белоголовым Антошкой, сказал:
— Если в Москве чего не получится, приезжай. Приму заместо родного сына. Господь с тобой! — и со вздохом перекрестил.
Потом с Антошкой расцеловался Савелий. Прибежавший с износковского подворья с гаечным ключом в руке Малкин сунул в карман какие-то бумаги для Веритеева. И несколько минут спустя бойкий Малыш стремительно вынес раскатистую тележку со двора Белаша на протянувшуюся вдоль Коянсу сельскую улицу…
Антошка ехал из села к составу и радовался: порядок! О муке, к примеру, нечего больше и думать: всего набралось четыре мешка. Кроме того, подсолнухи, смальц. Нет и мыслей о Веронике. Прошел всего месяц… ну, может, два, — дивился он про себя, — а ее как будто и не было на свете! Да и что она ему, эта самая Вероника? Придумал тоже: любовь… Катенька — это да! В заводском клубе будем встречаться с ней по субботам. Да и в Славгороде, откуда оркестр не выезжал все лето, развлекая горожан, может, еще удастся покружиться в простеньком, но таком увлекательном падекатре…
Но для танцев в городке уже не оказалось ни времени, ни настроения: не было здесь ни ярмарки, ни песен, ни широко раскрытых дверей, ни оживленного снования по городскому майдану — все, за чем ехали, сделано, все, на что надеялись, сбылось. Теперь — скорее домой.
А путь до дома далек. Вон, говорят, в Татарском свирепая «заградиловка». В центре России отряды сняли, а по Сибири они все еще стоят. Даже и здесь возьмет кто-нибудь… например, комиссар Кузьмин, да и пойдет по теплушкам:
«Что, мол, ребята, везете? По норме или же как?»
Кузьмин — он строг и глазаст. Всего ожидать возможно…
Кузьмин и в самом деле не упускал из вида ничего, что делалось возле стоявшего на запасных путях состава. Ни одиночных подвод, ни суеты у теплушек при его приближении, ни приглушенного разговора по вечерам. После того, как неожиданно возникло «дело Теплова», был снят с работы в группе учета причастный к «делу» Константин Головин (ему предстояло ответить не здесь, а в Москве, каким образом и зачем он помог Теплову получить вид на жительство), Кузьмин держался настороженно: нынче всяко бывает, народишко всюду пестрый…
Но ничего особо подозрительного пока не замечалось. Ясным было только одно: приезжие набрали явно не по законным нормам. У большинства — не по десять и не по двадцать, а куда как больше пудов. Особенно в той теплушке, где эти «рыжики» во главе с Сухоруким. Хоть бы смахнули веником мучную пыльцу, пробившуюся изнутри на внешние стенки вагона. А то как взглянешь, так сразу и видишь: засыпали мучку в двойные стенки!
Как-то утром Кузьмин попробовал было заглянуть в их теплушку. Но дверь ему не открыли:
— Голые мы, вошей побить решили…
Он усмехнулся, миролюбиво сказал:
— Ну, ну, побейте. Сибирские вам в Москве ни к чему.
Но в тот же день сообщил о своих наблюдениях комиссару Веселовскому, приехавшему из Новониколаевска на проводы эшелона:
— Много везут…
— А как работали? — спросил тот.
В разговор вмешался председатель продтройки Большаков, не хуже Кузьмина знавший, что делалось в эшелоне:
— Работали в основном хорошо. И в городе, и в степи…
Веселовский покурил, подумал.
— И что же теперь?
— А это уж вам решать, — ответил Кузьмин. — Зависимо от сибирских планов.
— Планы наши, конечно… — раздумчиво протянул Веселовский. — Можно сказать, впритык. Иметь лишнее — не мешает. Тем более, думаю, что зимой опять из Москвы пойдут телеграммы…
— Там небось каждый пуд — это прямо спасение! — вновь заступился за приезжих Большаков, успевший сдружиться не только с Веритеевым, но и с многими из рабочих. — Эти ребята народ подходящий, чего уж…
— Что верно, то верно. В Москве нелегко, — сказал Веселовский. — А мы, я думаю, как-нибудь справимся. Проживем. Пускай их везут…
— Пускай так пускай, — согласился Кузьмин. — А только в Татарском их обязательно потрясут.
— Это уж да! — подтвердил Большаков. — Арефйй Орлов ни богу ни черту спуску не даст!
— Бумагу выправим, ничего, — решил Веселовский. — А кто-нибудь из вас пускай проводит эшелон до Татарска. Лады?
И в тот день, когда эшелон отбывал в Москву, на общем митинге Веселовский сказал:
— Товарищи рабочие! Ваша помощь крестьянам Славгородского уезда получилась как раз к великому празднику, к четвертой годовщине Октября! От лица Сибревкома и Сибпродкома благодарим вас за эту помощь! Голодные и уставшие приехали вы сюда из далекой, но дорогой нам Москвы. Много трудностей перенесли в дороге, а потом по станицам и хуторам, где не все еще так, как надо. Но ваша рабочая пролетарская сплоченность сделала свое дело! Преследуя цель — усилить вооруженность крестьян пригодными для работы машинами, а также вашими трудовыми руками, вы сделали все возможное, чтобы поднять в это лето уборку хлеба на должный уровень! Отсюда и результат. Кроме того и, может, еще важнее, что вы внесли свет братской смычки рабочих с массой крестьянства, сблизили эти массы с далеким рабочим центром России, тем самым привели и к укреплению Советской власти на местах ради общей всемирной победы! Исходя из сказанного, мы заверяем вот этим мандатом с подписями и печатью, — он высоко поднял руку с большим и белым, как лебединое крыло, листом бумаги, — что хлеб, который каждый из вас увезет сегодня домой, есть хлеб, заработанный честным трудом, увозится в Центр по закону, а потому должен дойти до ваших семей беспрепятственно.
Да здравствует братский союз рабочих и крестьян!
Да здравствует мировая революция!
Ура!..
После того, как грохот тысячи голосов затих, Веритеев протяжно и зычно крикнул:
— По ва-а-го-о-онам!
Машинист дал торжественный, гулкий гудок.
Состав медленно тронулся — и опять поплыли перед глазами ехавших в эшелоне необозримые просторы Сибири. Только теперь не в сиянии майского и июньского солнца, а в сиротливом предзимнем убранстве: охлестанные ветром колки из осин и берез, голые, как бы заброшенные поля, белые заплаты снега на яминах и в оврагах, вспухшее тучами непроглядное небо.
Но это не огорчало сидевших в теплушках людей: состав шел с востока на запад, к родному поселку, к родным и близким, домой…
Однако не такой была у Фильки Тимохина «злодейка-судьба», чтобы отпустить его домой в полнейшем благополучии. Она следила за ним внимательно.
— Сколь себя помню, эта хитрая стерьва ни днем ни ночью глаз с меня не спускает! — жаловался он Антошке, когда они приехали в поселок, развезли заработанное в Сибири добро по домам, вдоволь наговорились с родными и отдохнули. — Влюбилась, похоже, сил моих нет! — добавлял он с привычной, на этот раз невеселой ухмылкой. — Чего ни задумаю, как ни ловчусь, обязательно невпопад. А все — от нее, от стерьвы. Вот уж и верно, что Епиходыч. Особенно в энтот раз на Урале…
И в самом деле. Когда эшелон уже благополучно миновал сибирские земли, начал одну за другой терпеливо и осторожно преодолевать серпантинные петли железнодорожных путей на укрытых первым снежком уральских перевалах, «судьба» нанесла Епиходычу свой последний за время поездки и едва ли не самый чувствительный удар.
Началось с того, что у перегруженной добычей теплушки «рыжиков» загорелись буксы. Загорелись пока не сильно: не столько горели, сколько дымили. Шли на подъем, машинист решил, что после этого не самого крутого перевала он вполне успеет потихоньку дотянуть состав до очередной станции. И возможно, что дотянул бы. Но именно здесь, на не очень крутом подъеме, после которого начинался спуск в долинную предуральскую часть России, судьба и сыграла свою последнюю шутку. Едва большая часть состава перевалила высшую точку подъема и вагон «рыжиков» тоже вполз на нее передней парой колес, вдруг лопнул и отвалился передний крюк. Вагон дрогнул, остановился, а те, что шли впереди, легко покатились за паровозом вниз по уклону.
Никитина будто ударило. Не столько разумом, сколько всем своим телом он сразу понял: обрыв. Выглянул в боковое оконце и обомлел: между его частью состава к хвостовыми вагонами зияла белесая пустота. Головной вагон оторвавшихся теплушек еще стоял неподвижно. Он как бы раздумывал: удержаться или пойти? Потом тихонько тронулся с места и медленно пополз назад — в загибавшуюся влево лощину…
Никитин мгновенно закрыл пар и дал тормоз. Тут же дернул сигнальный рычаг — и над укрытыми снегом лесистыми шапками Уральских предгорий понеслись усиленные эхом истошные, возвещающие о несчастье гудки.
За стенками теплушек было холодно: к ночи явно наваливался мороз, поэтому двери теплушек не открывали. Во многих из них топились печурки, выкраденные по дороге счастливчиками из безлюдных составов. Те из ехавших в эшелоне, кому не повезло, либо зябко кутались теперь на нарах в свою летнюю одежонку, либо набивались в другие теплушки к более удачливым друзьям и грелись возле уютно урчащих пламенем походных «буржуек». Поэтому большинство из них не сразу поняло, что случилось.
— Я, понимаешь, лежал на нарах. Мечтал про себя, — рассказывал Филька. — Ух, думал, удивлю же я мамку с бабкой, когда все выгребу из теплушки, перетаскаю домой. Обе с ума сойдут. А тут вдруг чтой-то как бахнет да звякнет, будто железина о железину. Вижу — остановились. Потом шагнули назад. И только я хотел спросить у Сереги Малкина, который сидел у печки внизу, чего, мол, такое? — как слышу — тревога. Малкин — дверь настежь, кричит: «Оторвались! Бери, ребята, поленья! Все что под руку подвернется! Суй под колеса, а то пропадем…» Я и не помню, как выскочил вслед за всеми. Тоже сую… и, думаешь, что? Свои старые сапоги! Разжился в Сибири новыми, крестики помогли, а старые все же повез обратно: может, думаю, пригодятся хоть на заплатки? Вот и сую их под колесо. А рядом ребята с поленьями, с палками, даже с камнями, которые валялись возле пути. Кто-то матрац, который взял еще из дому для удобства, тоже свернул и сунул. Вроде как Петр Петрович, бухгалтер. Только дурак Половинщиков мечется круг других, воет от страха: «Ох, батюшки, так я и знал! Ох, погибаем… теперь уж все!» Я взял да и спихнул его от вагона в кусты: пускай в снегу полежит, остынет…
Не успевшие раскатиться вагоны не сразу, но все же остановили. Сигналы тревоги услышал дорожный мастер этого отрезка пути: обрывы тут случались нередко, мастер их ждал постоянно. Вместе с двумя своими рабочими он поспешил на дрезине к месту происшествия. Сняли здоровый крюк у крайней задней теплушки, поставили его вместо лопнувшего, и Никитину пришлось вернуть состав на станцию, расположенную в лощине.
После осмотра выяснилось, что баббитовая прокладка в не раз уже горевших буксах расплавилась, на шейке оси — царапины. Гнать перегруженную теплушку через роковой перевал с ненадежным крюком, а потом и до Москвы с ненадежной осью было опасно, А тут еще, чтобы избавиться от эшелона, начальник станции предложил Веритееву заменить теплушку другой — тоже с нарами, но без двойных стенок, которыми оборудовали свою «рыжики» по совету Игната Сухорукого.
— Ему, понимаешь, что? — злился Филька на Сухорукого. — После ссоры с Сергеем Малкиным в Славгороде он будто сбесился. В Сибири ничего слишком-то не менял. Что дали ему за работу, то и повез: «Не желаю, бубнил, хватать, как другие!» Это он про Сергея: тот вез целых тридцать с лишним пудов. Пятнадцать за уборочную да пятнадцать, дали ему вроде в премию как уполномоченному от уезда. А у Игната всего пятнадцать. Вот он и придирался. Всю дорогу Малкина будто пилой пилил, а себя выставлял сознательней всех партийных. «Я и не то еще докажу! — говорил. — Еще узнают, что я и есть настоящий распролетарий!» И своих «рыжиков» до последнего страху довел, не дал отовариться всласть. «Что за труд полагается, говорил, то и твое. Остальное не трожь: раз нынче в России неурожай, каждый пуд сибирский ей пригодится». Ну чисто блаженный! — дивился Филька. — Так вот и вышло, что та мука, которую я и другие ребята засыпали в тайники, осталась там, на Урале. Не высыпешь же ее прямо на пол? Хотел было снять штаны да рубаху, туда насыпать, да где там: дело к зиме, и без того еле-еле терпел сибирские холода, а без штанов уж совсем хана…
Впрочем, деятельный, жизнелюбивый Филька недолго печалился об оставленной на Урале муке: того, что он привез, получив за работу на прессовке сена и наменяв на бабкины крестики, вполне хватало до самой весны. И это — не считая Клавкиной доли…
Все лето он чувствовал себя до предела уставшим.
Временами полнейшая разбитость лишала сил. После очередной бессонницы, в разгар рабочего дня, в его деловых записках, письмах и разговорах все чаще проскальзывало: «Я болен». «Мне нездоровится. Я быть не могу». «Очень жалею, что по случаю болезни не мог побеседовать с Вами». «Принять никак не могу, так как болен». «Я устал так, что ничегошеньки не могу». А в середине июля, когда в нагретой солнцем квартире и в кабинете нечем было дышать, общее недомогание, и особенно головные боли, вынудили взять месячный отпуск.
Условный отпуск, как это было у него всегда, — с обязательством участвовать в заседаниях Политбюро, не упускать из вида принципиальные вопросы Совнаркома, Совета Труда и Обороны. Так же было и в этот раз: отпуск был разрешен 13-го, а 15-го и 16 июля он уже участвует в заседаниях Политбюро. Председательствует на заседаниях СТО, а затем Совнаркома. Пишет ряд проектов постановлений и резолюций.
Эта работа продолжалась и все отпускное время. Изо дня в день — важные, срочные телеграммы. Участие в заседаниях. Принципиально необходимые письма по вопросам хозяйственной и политической жизни страны, по вопросам международной политики. Среди них — письмо о резолюции конгресса профсоюзов в Германии, об итогах третьего конгресса Коминтерна, о свободе печати. Написал он в эти дни и Проект постановления Политбюро ЦК партии о переводе армии на хозяйственную работу, распоряжения о задачах практического проведения в жизнь новой экономической политики, о закупке семян и продовольствия за границей, о техническом вооружении шахт Донбасса, о распределении хлеба между Москвой и Петроградом, о помощи голодающим Поволжья…
Отойти от государственных дел совсем — он не мог. Не только из-за предельно обостренного чувства ответственности и долга, особенно в момент, когда страна вступала в новую сложную полосу развития и, значит, требовалась предельная точность предвидений и решений. Но и потому, что работа ради Революции, ради счастья родной страны была для него высочайшей радостью жизни.
Еще в январе 1918 года, выступая на Третьем съезде Советов, он говорил:
— Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишать самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем, — и разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил?
Ту же мысль повторил он и теперь, в 21-м году, накануне четвертой годовщины Октября:
— На нашу долю выпало счастье НАЧАТЬ постройку Советского государства. НАЧАТЬ этим новую эпоху всемирной истории!
Высокая радость, которую возбуждало в нем непосредственное участие в творческом преобразовании старой российской жизни на социалистический лад, не оставляла его. Он испытывал ее все время. Именно она удесятеряла его могучие силы, помогала преодолевать не только недомогание, но и бесконечное многообразие выпавших на его долю дел.
Человек-Революция, натура цельная, страстная и бесстрашная, человек высочайших нравственных и идейных устоев преобразователя и бойца — он всегда, неизменно хранил эту радость в своей душе.
А дел было много. И первое среди них — обеспечение страны хлебом. Весной Владимир Ильич не переставал внимательно следить за тем, как идет посевная, а летом — как готовятся к жатве. А когда наконец страда началась, он зорко следил за тем, хорошо ли ее проводят там, на местах, — на Юге, на Украине и в особенности в Сибири?
Хлеб — это жизнь, упускать его из вида нельзя.
И по вечерам, а нередко и ночью, после непрекращающегося ни на минуту наплыва посетителей, телефонных звонков, телеграмм, устных и письменных переговоров, распоряжений, просьб, запросов и поручений, когда ему не спалось от потока тревожных мыслей, он в ночной тишине — либо в Горках, либо в своей четырнадцатиметровой кремлевской комнатке, при тускловатом свете настольной лампы вел придирчивые подсчеты:
— Сколько нужно хлеба для Москвы и Питера? Сколько для всей страны, если учесть катастрофу в Поволжье и в некоторых других губерниях? На что рассчитывать в Сибири? на Украине? на юге России, включая Кавказ?
В распахнутое окно повеивал наиболее постоянный в Москве освежающий западный ветерок. Он доносил из Александровского сада, из-за Кремлевской стены, запахи зелени, нежное посвистывание каких-то ночных пичужек.
Внизу, под окном, время от времени слышались приглушенные голоса дежурных курсантов, шарканье их ног по булыжинам мостовой. За стеной комнаты, справа, спала или тоже занималась своими наркомпросовскими делами Надежда Константиновна. Нередко и слева, из окна Марии Ильиничны, лился в темноту неясный пучок желтоватого света: секретарь редакции «Правда», Маняша тоже озабочена множеством своих дел…
Ленин не обманывался на тот счет, что хлеба полностью хватит до нового урожая; прогнозы специалистов не оставляли на это надежд. Поэтому трезвость расчетов — прежде всего. И, готовясь к новой полуголодной зиме, он подробнейшим образом лично сам заранее рассчитал: в каких количествах и каким образом необходимо за нынешнее лето и осень заготовить продовольствия, чтобы без серьезных ошибок обеспечить страну до будущей жатвы?
— Главная ошибка нас всех была до сих пор в том, — говорил он в начале жатвы, — что мы рассчитывали на лучшее и от этого впадали в бюрократические утопии. А надо рассчитать на худшее. Надо взять за эталон нормального в данных условиях пайка тот минимум, который рассчитан для армии. То есть тщательно рассчитать все наши наличные и предполагаемые налогом ресурсы помесячно, а за отсчет взять армейский паек. В организацию расчета и распределения тоже взять хозяйственную работу в армии. Произвести под эгидой Госплана скрупулезнейший, точный расчет — по количеству едоков на предприятиях и в учреждениях. Ненужные или нерентабельные предприятия — закрыть… а их наберется от половины до четырех пятых теперешних. Остальные — пустить в две смены. Сохранить пока только те, коим хватит топлива и хлеба. Для служащих — сокращение свирепое: меньше будет бюрократической волокиты. Все, что сейчас мы освоить не сможем, — в аренду или кому угодно отдать, или закрыть, или бросить, забыть до прочного улучшения…
«Создавшаяся обстановка, — телеграфировал он в середине августа руководящим органам Сибири, — обязывает меня взять на себя общее руководство по выполнению Вами боевого задания СТО, ежедневно контролировать Вашу работу во всех ее стадиях. Приказываю установить с 15 августа регулярную отправку в Москву в адрес Наркомпрода по одному маршруту в сутки, не ниже тридцативагонного состава каждый. Маршрутам присваивается наименование совнаркомовских… Маршруты отправляются в сопровождении ответственных комендантов, с охраной бригады, смазчиков, ответственных за исправное состояние ходовых частей… Получение немедленно подтвердите и укажите должности, фамилии сотрудников, руководящих этой работой, с указанием области ведения каждого».
Одновременно он поручил Центральному статистическому управлению вести строжайший учет государственного продовольственного распределения и сам набросал примерную форму учета.
Хлеба немного, его надо беречь. Выдавать только там, где это крайне необходимо.
— Одна из самых важных задач хозяйственного строительства и безусловно самая злободневная теперь, — говорилось в одной из его телеграмм, отосланной на места, — это сокращение числа заведений и предприятий, находящихся на государственном снабжении. Только минимум самых крупных, наилучше оборудованных и обставленных предприятий, фабрик, заводов, рудников надо оставить на госснабжении, строго проверив наличные ресурсы.
Телеграмма заканчивалась строгим предупреждением:
«За недостаточно тщательное сокращение числа предприятий буду отдавать под суд».
Иного выхода не было. Снятым с централизованного снабжения заводам следовало самим заботиться о рабочих: закупать для них хлеб в урожайных губерниях, добиваться в местных исполкомах получения земли под рабочие огороды. «Потрудитесь сами достать все, — сердито писал он председателю Правления каменноугольной промышленности Донбасса, — и соль, и на соль хлеб, и пр. Инициатива, почин, местный оборот, а не попрошайничать: если бы мне дали… Стыд!»
Владимир Ильич следил и за тем, как шла подготовка к севу озимых — для урожая будущего года. В его телеграфном запросе на этот счет в начале сентября подчеркивалось, что необходимо — «в порядке боевого приказа за сорокавосьмичасовой срок с момента получения настоящей телеграммы дать по телеграфу следующие сведения: 1) утвержденная площадь озимого клина; 2) количество засеянного озимого клина; 3) количество десятин, поднятых под зябь; 4) количество семян, полученных по нарядам из центра, путем товарообмена; 5) количество фактически распределенных семян; 6) порядок распределения; 7) какие меры приняты к спасению животноводства, достигнутые результаты…»
Организационно и практически к исходу лета вопрос о хлебе был для него, в сущности, ясен. Требовался лишь максимум деловитости, инициативы на местах. А на исходе года, как бы подводя итоги своим заботам о хлебе, он попросил Дзержинского лично поехать в Сибирь для оказания помощи местным заготовительным организациям в снабжении Центра.
Самым неотложным и важным теперь становился главный вопрос политики: возрождение промышленности, слаженный и быстрый перевод всей хозяйственной, идейно-политической, воспитательной и культурной работы на рельсы новой экономической политики.
Между тем очень многим, даже, казалось, подготовленным для любых поворотов товарищам, сделать это было совсем не просто. Некоторые из них, в частности, так еще и не поняли исторического значения плана ГОЭЛРО, считали чрезмерными его, Ленина, заботы о быстрейшем вводе в действие Каширской и других электростанций. Значит, придется затрачивать много сил не столько на практические дела, сколько на разъяснения, убеждение, перестройку других.
Сам он по свойствам своей целенаправленной, во всем определенной и вместе с тем поразительно динамической, диалектической натуры, выработанной за десятилетия сознательной жизни, был готов для любых поворотов. Его гениальный по прозорливости ум легко угадывал каждый оттенок водоворотов, течений, струй в бесконечном потоке жизни.
Еще в годы вынужденной эмиграции, а тем более после Октябрьского переворота, привыкнув заглядывать далеко вперед, докапываться до всех пружин и законов жизни, он старался не только предугадать, но и точно сформулировать необходимость определенных практических действий, чтобы в решающий момент не оказаться в положении путника, бредущего вслепую, а тем более поводыря, за которым идут поверившие в него люди.
Жизнь не терпит такой слепоты. И тех, кто не готов для движения вровень с нею и даже чуть впереди нее, того она сбрасывает с дороги. Примеров тому не счесть.
С ранней юности вырабатывал он в себе эту настойчивость в постижении сути вещей, стремление всесторонне анализировать, сопоставлять явления жизни в их общем потоке, улавливать закономерности и капризность движения, предвидеть каждое опасное отклонение, быть готовым к нему и, значит, в какой-то мере управлять им.
Так, еще в дооктябрьские годы он подробно, до мелочей продумал и сформулировал способы захвата революционным народом государственной власти в царской России, чтобы тем самым предельно облегчить затем его блистательное осуществление.
Так, еще летом 1917 года во всех подробностях обдумал он, как и что именно нужно сделать, чтобы сразу же после захвата власти, без малейшей остановки, как бы с разгона, ибо время не ждет, начать политико-экономическое преобразование страны, уверенно вести миллионы людей по хорошо обдуманному пути с его неизбежными колдобинами, оврагами, лесной глухоманью.
Еще не погасли сполохи Октября, еще продолжалась навязанная Советской России война, впереди занимались новые пожарища интервенции, мятежей, голодной блокады, а он, ушедший с головой в работу по руководству страной, почти без сна, неведомо как, находил минуты, чтобы обдумать и записать на листках пожелтевшей бумаги планы не только ближайшего, но и отдаленного будущего.
Теперь его самого иной раз удивляло: как это все оказалось возможным? Однако вот оказалось же. В самом начале 1918 года, под вой метелей за окнами комнаты в Смольном, как бы на одном дыхании была написана и тогда же издана в Петрограде брошюра — набросок Большого Плана, в котором впервые появились такие слова, как совхоз, колхоз, экономический фундамент социализма. В ней, в этой маленькой брошюре, в сущности, было сказано все, что нужно было сказать о политических и хозяйственных задачах партии и рабочего класса на ближайшие десять лет. Многие положения, сформулированные в те дни, были приемлемы и теперь, в 1921 году, хотя, естественно, требовали уточнений, более широкого, практического развития в соответствии с реальными условиями жизни. Однако суть их не изменилась.
И вот наступило время великой стройки.
— Пора, когда надо было политически рисовать великие задачи, прошла, и наступила пора, когда их надо проводить практически! — говорил он все настойчивее и чаще.
— На нас сейчас история возложила работу: величайший переворот политический завершить медленной, тяжелой, трудной экономической работой!
— Борьба здесь предстоит еще более отчаянная, еще более жестокая, чем борьба с Колчаком и Деникиным. И, конечно, неизбежно, что часть людей здесь впадет в состояние весьма кислое, почти паническое.
— Тем более необходимы сплоченность, выдержка, хладнокровие, деловитость. Опасности мы не преуменьшаем. Мы глядим ей прямо в лицо…
Да, время требовало не слов, а конкретного дела: начиналась упорная работа по упорядочению хозяйственного развития страны, всех систем руководства народным хозяйством.
В промышленных центрах, прежде всего в Москве, проводилось объединение родственных предприятий в тресты и управления. Вводилось централизованное руководство ими, декретировалась строгая плановость в работе, государственная регулировка производства и сбыта продукции, оценка работы предприятий по их рентабельности.
В силу вступал хозрасчет. Вместо уравнительной оплаты труда вводилась оплата по результатам труда.
В связи с развитием торговли шло упорядочение денежного обращения, укрепление ходового рубля по его валютному золотому значению.
В конце сентября вопрос о порядке и сроках введения стабильного рубля был рассмотрен на заседании Совнаркома. Там же был принят и проект декрета об учреждении Государственного банка Республики.
Местные бюджеты выделялись из общегосударственного. Советам давалось право взимать налоги для расходов на местные нужды.
Вводилась плата за жилье, коммунальные услуги, транспорт.
В развитых капиталистических странах заказывались и покупались турбины для электростанций, врубовые машины для угольной и горнорудной промышленности, нефтеналивные суда, электроплуги, подшипники, торфонасосные установки, оборудование для текстильных и бумажных фабрик.
Миллионам людей, и прежде всего руководящему составу, надо было учиться новым формам хозяйствования.
— Учитесь. Это учение очень серьезное, мы его должны проделать, — говорил Владимир Ильич на Девятом съезде Советов. — Это учение чрезвычайно свирепое. Оно не похоже на чтение лекций в школе и на сдавание тех или иных экзаменов. Это есть проблема тяжелой, суровой экономической борьбы, поставленная в обстановке нищеты, в обстановке неслыханных тяжестей, трудностей, бесхлебья, голода, холода, но это есть то настоящее учение, которое мы должны проделать…
Необходимо было сжаться в железный, твердый кулак, чтобы наверняка ударить по неорганизованности, бесхозяйственности, растрате средств и энергии впустую.
— Надо учиться травить за волокиту, комчванство, бюрократизм чинодралов, безрукость, фразерство, митинговщину, — не раз повторял он в те дни. — Надоела лень, разгильдяйство, мелкая спекуляция, воровство, распущенность.
— Все у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте ведомств, — говорил он А. Д. Цюрупе, который во второй половине года был назначен его заместителем в Совнаркоме. — Бумажки — наша беда. В этом бумажном море тонет живая работа. Если не следить, не подгонять, не проверять, то при наших проклятых обломовских нравах не сделают никакое дело!
Он не терпел и раньше, а с некоторых пор просто возненавидел обломовщину и «чисто фразерское отношение к делу», «производство пустейших тезисов» вместо конкретного дела, подмену персональной ответственности за него «словоговорением».
— Митингуй, но управляй без малейшего колебания, — говорил он в октябре на съезде политпросветов. — Управляй тверже, чем управлял до тебя капиталист. Иначе ты его не победишь. Ты должен помнить, что управление должно быть еще более строгое, еще более твердое, чем прежде!
— Начиная революцию, мы наивно полагали, — признавался он в одной из своих речей, — что произойдет непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах. Но это оказалось утопией. Такое производство и распределение произойдет в будущем, это несомненно. Но до этого нам придется пройти еще не малый путь, чтобы создать прочный фундамент социалистической экономики. Шаг за шагом, вершок за вершком — иначе двигаться по такой трудной дороге, в такой тяжелой обстановке, при таких опасностях, такое «войско», как наше, сейчас не может. Кому «скучна», «неинтересна», «непонятна» эта работа, кто морщит нос, или впадает в панику, или опьяняет себя декламацией об отсутствии «прежнего подъема», «прежнего энтузиазма» и т. п., — того лучше «освободить от работы» и сдать в архив, чтобы он не мог принести вреда, ибо он не желает или не умеет подумать над своеобразием данной ступени, данного этапа борьбы. Мы же будем усердно, внимательно, усидчиво учиться новому повороту…
Он видел жестокий охотничий обклад из черных пиратских флажков, сооруженный опытными загонщиками. Слышал их голоса. Отлично видел, кто, где и зачем подстерегает красного зверя.
Но ясно видел, где и когда, все тщательно взвесив и рассчитав, ни пяди не уступив безрассудству, но и не поддавшись боязни, необходимо и можно в исполненную вдохновенной решимости минуту сделать смелый прыжок.
Продуманно и настойчиво готовил он страну к желанному рывку вперед.
— Кто боится поражения перед началом великой борьбы, тот может называть себя социалистом лишь для издевательства над рабочими, — писал он в статье, опубликованной в августе «Правдой». — Опасности мы не преуменьшаем. Мы глядим ей прямо в лицо. Мы говорим рабочим и крестьянам: опасность велика — больше сплоченности, выдержки, хладнокровия. И как бы тяжелы ни были мучения переходного времени, бедствия, разруха — мы духом не упадем и свое дело доведем до победного конца!
А на исходе года, в ноябре, в статье «О значении золота», призывая родной народ «сохранить трезвую оценку положения, сохранить бодрость и твердость духа, отступить хотя бы и далеко назад, но в меру, отступить так, чтобы вовремя приостановить отступление и перейти в наступление», убежденно отметил:
— Есть уже признаки, что виднеется конец этого отступления!
А еще позже, на Пленуме Моссовета, скажет об этом так:
— Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед!
Да, спасительный выход из обклада голода и разрухи уже светлел впереди. Надо было готовиться к решительному прыжку…