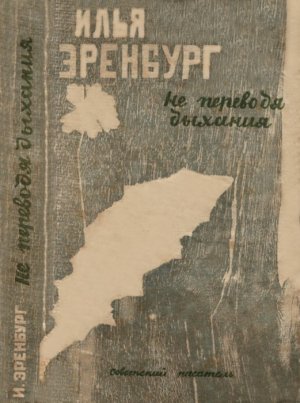
1
— Что это? — спрашивает Варя.
Мезенцев морщит лоб и, как будто он должен объяснить «глюкоза, терпентин, канифоль», сосредоточенно говорит:
— Кажется, петунья.
Варя хохочет. А ведь ничего нет смешного в этой петунье — нарядная — платье с оборочками. Уж если смеяться, лучше над анютиными глазками: рабфаковки, которые слушают «терпентин, глюкоза» — даже не верится, что это цветы на стебельках. Но Варя смеется над петуньей. А, может быть, и не над петуньей? Может быть, над Мезенцевым?
— Пе-тунья… Так это, Петька, твои цветы: Петькины петуньи…
Мезенцев неодобрительно приподнимает одно плечо.
— Ничего не вижу смешного. Названье.
Как Варвара. Вот у вас здесь смешные слова. Шурка вчера меня спрашивает: «Варька-то-твоя дроля?» Я даже сразу не понял, что это. У нас говорили «милаша». Дроля!.. Вот это действительно смешно.
Но Варя теперь не смеется. Она вся насторожилась. Она смотрит не на Мезенцева — в сторону. Может быть, на петуньи? Какие они яркие и всех цветов! Но нет, не в петуньях дело. Противная Шурка! Зачем ей все знать?.. Впрочем, и это неважно: ну спросила… Что же «важно»? Резеду сразу и не заметишь, но как она пахнет, да и табак — голова кружится… Тихо-тихо Варя спрашивает:
— Что же ты ей ответил?
В тишину вмешался визг соседней лесопилки: тишину он распилил, как свежий ствол, и казалось, слезы — капли смолы — доходят до садика, тишина, распиленная, плачет и ждет Варя, а Мезенцев все еще крепится.
Откуда тут взялись петуньи, среди стружек и скрежета? Об этом может рассказать братан той самой Шурки, которая задает мечтательным комсомольцам чересчур прямые вопросы. Этот «братан» — зовут его Васькой — в отличие от своей сестрицы чужим счастьем не занят. Он занят общественной нагрузкой. Ему одиннадцать лет, и нюни он презирает. У него на столе серая потрепанная тетрадка. На обложке напечатано: «Пионеры и школьники, суслик злейший враг социалистических полей». Эта сентенция пояснена портретом «врага»: «враг» премило сидит на задних лапках, передней почесывая мордочку. Правду сказать, глядя на тетрадку, «общественник» частенько мечтает: хорошо бы словить такого суслика, чтобы он жил на подоконнике и чесал себе морду. Во-первых, он здорово служит, совсем как пудель Ганшиных. Во-вторых, можно разузнать у Ивана Никитыча, как по-сусличьи «есть» или «пить». Он. наверно, знает. Он ведь рассказал Ваське, что бурундуки говорят «трун-трун». Впрочем, все это мечты поздним вечером, когда мама кричит: «Опять за столом уснешь? Ноги помой и спать!..» Это не «трун-трун», это понятно всем. Что касается содержания тетрадки, то оно далеко от вопросов борьбы с полевыми вредителями. Это протоколы школьных собраний, и на одной из страниц, перепачканной чернилами — это рыжий Котик отличился — имеется объяснение петуний:
«Слово я предоставляю себе. В других городах ребята давно взяли шефство над деревьями. Очень просто. Каждый сажает какое-нибудь дерево, и значит, он смотрит, чтобы хулиганье не поломало дерево и чтобы ему хорошо рослось. А мы здесь окончательно зеваем, и я вношу предложение, чтобы включиться в кампанию озеленения. Вокруг столовки 34-го завода чорт знает какое безобразье. Конечно, озеленить у нас не так просто, кажется всем ясно, что здесь вместо земли торф, одним словом, это тебе не Крым. Но я предлагаю, чтобы натаскать землю и устроить возле столовки настоящий сад. Я предлагаю закончить озеленение в один месяц и всем начать таскать землю, кроме слабых и девчонок, а девчонки могут потом устраивать клумбы или сажать разные цветочки. Но только через месяц пусть все видят, как мы выполнили план. Сейчас я предоставляю слово Маньке Соколицкой.
Манька. Я категорически протестую против слов Васьки, будто девчата не могут таскать землю. Очень просто что могут, и будем таскать получше вас, вот что! Так что от имени всех девчат я даю обязательство и прошу Ваську в случае чего заткнуться.
Предложение о саде принято единогласно, а воздержавшихся не было».
После этого и следует клякса: рыжий Котик на радостях толкнул Ваську. После этого и появились петуньи, да не одни петуньи: левкой, табак, анютины глазки, душистый горошек, резеда — цветов много. В июне, когда петуньи цветут, звезды скромно прячутся. Звезды расцветут в августе. Расскажет ли до августа Мезенцев, что он ответил любопытной Шурке?..
Звезд много и чудесные у них имена: Лебедь, Сириус, Вега, Медведица и, наконец, радость всех этих «дролей», красавица Полярная звезда.
Зимой мороз выведет цветы на двойных рамах, и бабы, те, что теперь ползают по лесу, собирая чернику или голубику, сядут за коклюшки. Коклюшки вырезаны из черемухи или жимолости. Они весело постукивают, и текут, как сны кружева: медведка, мизгиричок, чистянка, речка.
Много на свете звезд, снежинок, ягод. Много и стихов: частушки и коротушки, старины, баллады, триолеты, ле и вирелэ, дроля Полярной звезды Пушкин и старый лезгин, который, покачиваясь, поет свои песни о Ленине, сказательница Степановна, та, что знает заговоры и причитания — у нее два зуба, триста бывальщин и все слова о нежном северном солнце, она и Пастернак.
Был поэт Фет, и он написал: «К зырянам Тютчев не придет». Свет Полярной звезды приходит к нам через миллионы лет. Мы теперь видим ее свет дочеловеческого времени. Может быть, и умерла эта звезда, ее древний свет, как воспоминание, прорезает черные дикие миры. Но вот, в деревянном Сыктывкаре, в столице народа коми или, говоря по-старому, зырян, в клубе «Красный лес» прошлой зимой комсомолец Сидоров, захлебываясь от волнения, декламировал: «Не о былом вздыхают розы и соловей в ночи поет…» Так Тютчев пришел к зырянам, так скрипели под снегом правительственные избенки новой столицы, и не о былом, совсем не о былом вздыхали снежные розы, когда кончив чтение, Сидоров вышел с Василисой на улицу, и оба они затерялись среди сугробов, среди звезд, среди счастья.
О чем же поет в ночи соловей? И главное — почему Мезенцев так долго не отвечает Варе? Скрипит, визжит, сходит с ума лесопилка — надо торопиться: гудят иностранные лесовозы. Много флагов с полосками, кружечками, звездами. Но куда им и до петуний, и до кружева «мизгиричок», и до той звезды, которая скоро засветится на лбу Мезенцева! Что же он молчит? Нельзя вечно слушать справки о количестве распиливаемого леса!.. Ну?
— Шурке я ничего не ответил. Ей бы только болтать А тебе, Варя, тебе я скажу…
Нет, Варя не хочет слушать, она перепугалась и быстро говорит:
— Пойдем лучше к реке.
Река большая, реки нет: она сливается с небом, день сливается с ночью, рука с рукой, жизнь с жизнью. Разве это ночь?
Мезенцев помнит другие ночи, темные и душные, полные шорохов, внезапных вскриков и такой черноты, что не узнаешь, кто рядом, не глаза ищут — губы. В Воронеже за речкой товарищи гуляли с девчатами. Густая ночь, будто вино, мутила его голову. Он шел один к реке. Он старался думать о хлебозаготовках или о работе с допризывниками, но в эти ясные дневные мысли вмешивался шопот, хруст веток, чужое счастье. Там были ночи, и там не было Вари. Варя оказалась здесь, на берегу большой белой реки, сама белая и большая.
Они встретились в клубе. Она тогда расспрашивала его о Москве. Кто бы мог подумать, что потом он начнет смутно гадать — придет ли сегодня Варя на собрание; что окажется — нужно спросить ее, как работают сорокинские станки, обязательно ее, не Кольку и не Шугаева; что ему «случайно достанутся два билета» — так он сказал, на самом деле он едва их вымолил у Штейна — и что в кино он не пойдет, потому что у Вари будет ночная работа? Кто бы мог подумать, что после разговоров о станках или о запанях вдруг окажутся петуньи и вопрос Шурки?
А ночи нет, и ничто не может прикрыть смущение Мезенцева. Хорошо еще, что Варя не смотрит!.. Мезенцев недоуменно глядит вокруг себя, как будто он здесь впервые. Все розовое и непонятное. Воздух настолько прозрачен, что, кажется всмотрись и увидишь море: мир на ладони. Но поверить ничему нельзя: даже самые обычные вещи загадочны и призрачны. Пароходики похожи на сказочных птиц: еще минута и они нырнут в воду или взлетят ввысь. Почему небо залито таким румянцем? Смеркается сейчас? Светает? Впрочем, не все ли равно? Это и есть северная ночь, она создана, — ну, улыбнись, бедняга Мезенцев, — она создана для «дролей».
Мезенцев не улыбнулся, но, осмелев, он наконец-то заговорил:
— Я тебе, Варя, скажу… Дело в том… Да ты и сама знаешь…
В отчаяньи он махнул рукой и отбежал к штабелю леса. Доски пахли смолой. Варя подошла к нему и закрыла глаза. Они оказались в лесу. Визжала попрежнему лесопилка, но даже она могла теперь сойти за тютчевского соловья, за того самого, который никогда не поет о былом.
Когда они вернулись в тот мир, где есть слова, где у всех вещей свои прозвища, где визг лесопилки — это какая-то часть годового задания, а петуньи — гордость «общественника» Васьки, где Шурка готова обежать весь город, лишь бы узнать, какая у кого дроля, где имеется «любовь», о которой написано столько книг, что, кажется, на бумагу нехватит всех лесов севера, — когда они вернулись в большой белый свет — этот свет был вторым или третьим днем шестидневки — они начали говорить. Они говорили о разном, слегка рассеянные и стесненные. Они говорили громко, хотя в их сердцах еще стояла большая ничем не потревоженная тишина. О происшедшем возле штабеля можно было догадаться только по тому, как внезапно замолкая, они улыбались, да еще по беседе рук, беседе отдельной, и сосредоточенной, где были и горячие признания, и клятвы, и паузы.
По реке шли пароходы, они тащили сплоченный лес. На баржах лежали балансы, пропсы, дрова. У пароходов были разные имена: «Марксист», «Лютый», «Массовик», «Крепыш». Важно проплывали огромные стволы. Вся широчайшая река была наполнена одним: так идет весной лед, так шел лес. Он шел с берегов Двины, бурливой Сухоны, Юга, Вычегды, Вологды. Он шел, повинуясь воле людей, но он еще жил теплой жизнью ствола, казалось, он еще способен терпеть и шевелиться. Это было работой Лесоэкспорта, и с берега это походило на стихийный перелет лесов.
В сорокаградусные морозы, когда падали вороны с их птичьими сердцами, сжавшимися от немилосердного холода — люди раздевшись, чтобы было сподручней, рубили эти деревья. В лачугах кипели щи, сушились валенки, стоял пар и кто-то хрипло пел песню о красных партизанах. Снег скрипел под полозьями. Деревья ползли к берегу охваченной льдами реки.
Потом вскипело солнце, дрогнул лед и деревья отчалили от родных берегов.
— Варя, мне вот двадцать три. А ты знаешь, сколько такому дереву? Сто. Я не вру. Мне Штолов сказал, никак не меньше ста.
Какая странная судьба у дерева! Оно показалось на свет сто лет тому назад. Также было весело и ярко в весеннем лесу, гудела мошкара, чирикали птичьи выводки. Никто не заходил в чащу, только светлые летние ливни няньчили молоденькое деревцо. Оно не знало людей. Ему было все равно, что дроля Полярной звезды Пушкин упал, простреленный насмерть. Оно не думало о том, что Пушкин упал, как прекрасное дерево. Оно не слышало плача крепостных девок, которых насильно выдавали замуж. Оно знало в жизни одно: оно росло вверх. Век прошумел шутя, среди снежных метелей и гогота диких гусей. Пришли люди, и вот дерево плывет по реке: это труп. Но оно пойдет на авиационный завод. Оно снова взлетит вверх, выше самых высоких сосен, выше мошкары, выше диких гусей. Нет, это не труп, это нежное тело, к нему можно прижаться, как к любимой: оно вспомнит тогда о лесном шуме и лаской оно ответит на ласку. Это узнали Варя и Мезенцев, стоя возле свежераспиленных досок.
Варя говорит:
— На 22-м дали образцы: ящики для бананов. Это на экспорт. Знаешь, Петька, а я никогда не видала бананов. Какие они?
Мезенцев снова морщит лоб — «глюкоза, терпентин». Он отвечает неуверенно:
— Кажется, круглые.
Они задумались: до чего мир велик! Растут где-то бананы, совсем как у нас шишки на елках. Может быть, эти бананы пахнут вроде резеды? А здесь нет бананов. Мезенцев говорит:
— Апельсины, те круглые. Я в Москве пробовал. Вкусно! У нас их в Батуме разводят. Поеду в Москву, обязательно для тебя раздобуду. А бананов, по моему, и в Москве нет, но это пока что. Будут и бананы. Вот я был у Ивана Никитыча. Знаешь — ботаник? Он говорит: «Здесь все может расти». Понимаешь — арбузы на северном полюсе. И ничего нет удивительного: поналяжем, и вырастут.
Они смеются. Они теперь видят лед, а на льду большие полосатые арбузы. Если разрезать, внутри красное…
Варя говорит:
— Апельсины твои, они, верно, хорошо пахнут…
В столовке, где, обедает Варя пахнет треской и капустой. Жизнь груба и шершава, как кора дерева. Трудно, ох, как трудно рубить лес, трудно вить вицы, плотить древесину и, стоя в воде, баграми подхватывать неповоротливые стволы, трудно на лесопилке быстро оттаскивать длинные доски, крепкие руки нужны и крепкое сердце! Но ведь если приналечь — так ботаник сказал, так думает и Варя, — если хорошенько приналечь, будут у нас даже эти круглые бананы. Рука Мезенцева, широкая надежная рука, снова крепко сжимает руку Вари. Она смеется: до чего велик мир!
Кажется, посмотри получше — Варя забавно щурится — все увидишь. На реке барашки. Вот и Мудьюг — «Остров смерти». Пятнадцать лет назад сюда привезли рабочих. Офицеры, пьяные от крови, от тоски, от страха хрипло кричали «ура». Выстрелы пугали чаек. Рассерженные волны били камень. Но Мудьюг держался. Его взяли не волны — люди. Тогда еще не было на свете Васьки, и никто тогда не думал о петуньях. Дальше — играют нерпы. Поморы, взбираясь на острова, поросшие мохом, палками бьют смешных линючих гусей. Еще дальше — залог мужества — полюс. Льды, льды, льды.
Вдруг Мезенцев меняется в лице. Сердито он говорит:
— Древесины сколько! Запань, что ли, прорвало? Или сваливают плохо? Теперь в море попадает… А иностранцы, наверно, караулят…
В Белом море покачивается лесовоз «Ставангер». Поморы говорят: «Норвеги-то на охоту пришли». Встретив русское судно, капитан прокричал в рупор: «За лесом! В Архангельск!» Но капитан не повернул на Архангельск. Лениво покачиваясь, он пьет кофе. Он думает о своей семье. Это далеко отсюда: чистая улица, домик рядом с киркой, внутри пальмы, этажерки. Старшей дочке пора замуж. Это фрекен с голубыми глазами. Она любит теннис и смех. Может быть, она также любит Петера? Или долговязого Карла? Но это не касается капитана. Капитан знает: любовь — это замуж, простыни, столовое серебро, кресла, кроны и кроны. Качается пароход и качается капитан, и лениво капитан прикидывает: если набрать здесь древесину — это тысячи три, а то и четыре.
Утром в правлении Лесоэкспорта было сонно и тихо. Голубев глядел на карту, расцвеченную флажками: два английских, три норвежских, один датский, один греческий. Сейчас догружают «Эдду»… На минуту Голубев задумался. Какой странный край! Свою молодость он провел далеко отсюда, на горбатой уличке старого Киева. Вчера он был на бирже — грузили «Эдду». Он слышал запах дегтя, треска и медового табака. На палубе стояла молодая женщина — может быть, жена или дочь капитана. Голубев натолкнулся на ее синие глаза и вздрогнул: Эти глаза он видел прежде. Но где?.. И вот сейчас, глядя на карту с флажками, он вспомнил: «фру» и «фрекен». Книжки… Это было давно — на горбатой улице. Он терял дух от быстрой ходьбы и счастья. Он говорил Соне Головинской о той стране, где любят неудачно и красиво, где нет ни купцов, ни пошлости, только одинокие чудаки, сосны и фрекен с синими глазами. Соня в ответ обидно смеялась…
Воспоминания прерывает телефонный звонок. Голубев кричит:
— Прорвало?
Он швыряет трубку и, выбежав в соседнюю комнату, ошарашивает всех громовым чертыханием:
— Прорвало! Значит, снова, чорт бы их всех взял, накрадут эти норвежцы почем зря! Да чтобы их!..
Качается капитан и ждет. Потом приходит старый боцман:
— Начнем?
Вокруг только море и чайки. Быстро подбирают матросы беглую древесину. Капитан усмехается:
— Чудаки эти русские! Говорят, говорят. «План»! А настоящего порядка у них нет.
Капитан видит чистую уличку, домик, этажерки. Там настоящий порядок. В воскресенье все идут в кирку. На бургомистре цилиндр. Кто побогаче — впереди, кто победнее — позади. Там знают цену каждому эре. Там не выпустят лес зря. По меньшей мере на пять тысяч! Придется только поделиться с хозяином. А дочке право же пора замуж!..
Мезенцев теперь говорит не то с Варей, не то сам с собой:
— Какое безобразье! Если с запанью что вышло, почему не вызвали комсомольцев? Не смотрят, гады! Потеряй он копейку, сейчас же повернет назад, пять верст пройдет, только чтобы подобрать. А здесь, миллионы, но вот вдолби ему в голову, что это его миллионы.
Он поворачивается к Варе и нето растерянно, нето радостно говорит:
— Эх, Варя, сколько нам придется еще поработать!…
Потом понизив голос, добавляет:
— Иногда, стыдно это, но я тебе скажу, иногда прямо руки опускаются.
Варя гладит милую крепкую руку: разве такая может опуститься? Мезенцев отбирает руку — он увлекся, рассказывает.
— Вот и с колхозами, так было. Приехал я этой весной в Хохол, гляди, пожалуста, Егорыч везет меня со станции, остановился, поднял подкову и говорит важно — прямо тебе хозяйственник из Тяжпрома: «Это для колхоза. Там пригодится». Хотел было я его спросить: как же так, Егорыч? Ты ведь кричал, что колхоз штаны спустит, что бабы все будут под одним одеялом спать, а сеять незачем — все одно большевики отберут. Вот тебе перемена. А дальше еще чудней. Оказывается, постановили они устроить у себя канализацию. Так и записали, чтобы «вода шла с шумом, как в городе». Горшечные мастерские у них, вот теперь и делают трубы. Потом устроили дом отдыха для своих колхозников. Гляжу — Егорыч тут как тут, сидит, слушает, патефон. Выражение — сказать не умею. Наверно, так он в церкви когда то попа слушал. — А теперь философствует: «Звуки, — говорит, — красивые». Нет, ты пойми, Варя если со стороны — получается вроде как в газете: ну еще одно достижение. Но я ведь там был, когда раскулачивали. Меня они, подлецы, убить хотели. Как все обступят. Маркова вопит: «Сопляк! большевикам продался! Своих мучаешь!» В овражек потащили! Раздели. Посмотри, нет здесь — на плече — видишь? Это с тех пор осталось. Я в больнице с месяц провалялся. А теперь повели в правление колхоза: «Чайку попей. Это, — говорят, — мед с нашей колхозной пасеки». Мне сначала даже больно стало: почему вы, черти, медом потчуете, а о том, что у меня на сердце осталось, ни гу-гу? Ну, а потом я подумал: к чему разговоры? Одних повысылали, другие сами все поняли, нечего старое вспоминать.
Я об этом и не говорю никому. Вот только растревожила ты меня сегодня, я и разболтался. Хочется тебе все сказать, все открыть, кажется ста ночей и то нехватит. Скверное это было время! Нет это я зря сказал, — хорошее! Всегда — настороже. Сплю, и то рукой смотрю — здесь ли револьвер? Вот я не знаю, где ты тогда была? Как у вас там вышло?
Варя ничего не отвечает. Мезенцев смотрит на нее, еще раз спрашивает. Тогда Варя тихо говорит:
— Неохота вспоминать. Ты лучше о себе расскажи.
Ничего нет печального в ее словах, но печаль сразу охватывает Мезенцева, как туман. Он с трудом дышит.
— Варя, да что же это с тобой?
Тогда Варя отходит от него на несколько шагов и, опустив глаза, тихо спрашивает:
— Скажи, Петька, ты мне веришь?
Мезенцев удивлен. Он даже глупо заморгал. Он бормочет:
— Это ты к чему?
— Нет ты скажи — веришь?
— Ну, верю. А дальше-то что?
Варя радостно подбежала к нему, взяла за руки, оба повернулись вокруг себя, будто они танцуют.
— «А дальше-то что»? Дальше — работать. Погляди — шестой час. Скоро мне на завод. Я теперь первая должна приходить: меня вот на красную доску записали.
Мезенцев усмехается:
— Чудная ты. Скрытная. Загрустила, а чтобы сказать почему — этого нет. Вот и насчет красной доски промолчала. Поздравить тебя, и то нельзя. Я так не умею. У меня, Варя, все наружу. Мне сейчас хочется всем сказать, что и как. Даже этим доскам.
Оба смотрят на штабель. Это, конечно, не просто доски. Они были лесом: прежде, когда у них были ветки, и они были лесом еще недавно, с час назад, когда они помогли Мезенцеву и Варе сказать то, чего никак нельзя высказать. Смеясь, Мезенцев говорит:
— Значит так, товарищи доски!.. Мы с Варей… Ну, и так далее. Одним словом, вы сами понимаете.
2
Та ночь была исключительной для Мезенцева и Вари, но город не подозревал об этом, город жил своей привычной жизнью, и если эта привычная жизнь все же должна быть названа загадочной, то в этом повинны розовый свет и бессонница, кипы бумаг, мечты одних, горе других, может быть особенность белых ночей, как известно, вносящих путаницу в исчисление времени и в семейный распорядок, а может быть, и магнетические свойства пятихвостой звезды, видимой даже среди самой белой ночи.
Погрузка на лесовоз «Эдда» заняла ровно семь часов. Бригада Сорокина побила рекорд, и Голубев из Лесоэкспорта весело жал руку курносому Пашке Сорокину. Голубев теперь не думал ни о Гамсуне, ни о пропавшей древесине. Глядя на Пашку, он отдыхал.
А Пашка ухмылялся:
— Рекорд, говоришь? Смешно! Будто мы в эту самую стратосферу слетали.
Голубев рассмеялся:
— Не так глупо, Пашка. У каждого своя стратосфера. Живем, что называется, здесь, а схватит за сердце, можем и взлететь.
Этот разговор происходил под вечер. Потом Голубев осматривал транспортеры. Потом было заседание. Голубев защищал проект моста. Шульц возражал: сейчас не под силу, эпоха штурмовщины миновала, надо учитывать человеческие возможности. Голубев, сердясь, приводил цифры и кашлял. Наконец, не вытерпев, он сказал:
— Кстати, о человеческих возможностях. Мезенцева ты отведешь: это якобы исключение. Хорошо. Погляди на погрузчиков. На Сорокина. Говорят, он еще недавно хулиганом был. Песни пел и только. А теперь? Вот тебе и полет в стратосферу…
Шульц недоверчиво поглядел на Голубева и, наклонившись к нему, сказал:
— Ты, Иван Сергеевич, переработался. Я завтра подыму вопрос о путевке. Надо все-таки беречь себя.
Голубев замахал руками:
— Пойми: мост — это такая экономия сил!..
После заседания Голубев пошел на биржу: ночью грузили греческий лесовоз «Дельфы». Грузили плохо, и Голубев ругался. Потом он пошел к себе. Маша оставила на столе стакан холодного чая и две картофельные котлеты. Голубев начал быстро есть, но вдруг он почувствовал, что ноги его куда-то уходят. Он виновато улыбнулся и прилег. Фрекен, Киев… Тьфу, какая ерунда!.. Все поплыло. Ему показалось, что он засыпает. Но тотчас же он привскочил: сердце отчаянно колотилось в груди. Он вытер рукавом мокрый лоб. В голове пронеслось: вот тебе и стратосфера!.. Норвегия… Да, а что же с древесиной? Он пересилил себя и сел за стол. Пять минут спустя он уже писал доклад: четыре новые запани. Надо привлечь комсомольцев. Выбрать наиболее надежные места. Правильно поставить медведки… Он отложил перо и задумался… Мало людей! Тогда он увидал перед собой веселое лицо Мезенцева. Он улыбнулся и начал снова писать о медведках. Пошлем Мезенцева!..
В эту минуту и Варя смотрела на Мезенцева. Гудели пароходы, визжала лесопилка, как лес по реке неслась жизнь.
Чем отличается такая ночь от обыкновенного дня? Немного больше тоски и восторга, сердце чуть настороженней, розовей небо. Но по-дневному надрываются лесовозы: «ууу». Погрузчики, чтобы было им легче работать, кричат все в лад: «Раз трудно, два крепко», скрипят лебедки, грохочут автовозы.
По широким улицам, полным света и людей, в этот час глубокой ночи идет иностранец. На нем широкое пальто с кожаными пуговицами. Это, может быть, капитан лесовоза или турист. Он хорошо говорит по-русски, видимо и раньше он живал в этой стране. Зовут его Иоганн Штрем. На углу двух, улиц, возле большого строения, люди суетятся. Штрем вслух говорит: «Ломают». Он переходит через площадь и снова видит людей: они тащат кирпичи. Штрем говорит: «Строят». Ему неуютно в этой большой, беспокойной и ветреной стране. Зачем его сюда послали? Краузе — злой человек: он выбрал Штрема. Какие-то дурацкие семена… Краузе теперь работает со шведами. Краузе на этом зарабатывает. Но при чем тут Штрем?.. Ему и так надоело жить, а здесь еще разговоры, рапорты, цифры. Штрем громко зевает среди розовых зорь, кирпичей и пыли.
В его записной книжке адреса и цифры перемежаются бесцельными записями. Так вчера он записал: «Сплошная бессмыслица. Внешторг вывозит все: лес, кишки для колбас, всемирную революцию. Вношу предложение: пусть вывозят сюжеты для писателей. Если бы я умел сочинять романы, я разбогател бы. В Тотьме был собор. Я его помню по поездке 1926 года. Там все было очень пышно: купцы постарались. Мне показывали: повсюду золото, и пели, конечно, „аллилуйю“. Собор снесли. Кирпичи погрузили на баржи. В Архангельске из этих кирпичей построили Лесной институт. Ш. сегодня рассказал мне, что один из тотемских попов, кажется его зовут Тихомиров, агитировал на базаре: „Надо жечь дьявольские склады“, и так далее. Попа послали на лесозаготовки. Дальнейшее легко себе представить: никакой аллилуйи. Поп тупо спрашивает: „Рубка выборная?“ Потом громко чавкает: щи. Кстати, я был в этом Лесном институте. Деревенские девки. Прошлым летом доили коров. Теперь слушают лекции: о Марксе и о терпентине. Из кирпичей можно выстроить что угодно. Но спрашивается: на кой чорт это нужно? И главное: при чем тут я?»
Штрем останавливается. Старинная стена, оконца с решетками, а в них, как серьги, вставлены тяжелые чугунные кольца. Это таможня петровского времени. Ее ломают. Люди торопятся. Добротные толстые стены тают, как будто они изо льда. Ударная бригада Шурки сегодня осталась на ночь. Штрем долго смотрит на кольца, на чуб Шурки, на груду мусора, позолоченного ранним солнцем. Штрем кривится: «Вот это они любят. У них и в песне сказано: „Мы разроем до основанья, а затем…“ Затем — это неважно. Впрочем, и „затем“ известно: Лесной институт. Или ясли. Или какая-нибудь селекционная станция для дурацких семян. Скучно! Хоть бы сдох этот Краузе! Но вот чубастому весело…» Трудно сказать, негодует Штрем или завидует. Он поднял воротник пальто — его встревожила утренняя сырость — и пошел дальше.
О судьбе старой таможни говорили в ту ночь еще два человека: музейный работник Хрущевский и художник Кузмин. Впрочем, говорили они не только об этом, но также о белой ночи, о лесорубах, о красоте. Они кричали, обличая друг друга, в ярости они швыряли окурки на пол и отбегали по очереди к окну. Каждый из них говорил о своем.
Хрущевский уже немолод. В студенческие годы он был эсером. Он не признавал тогда ничего, кроме Михайловского и конспирации. Его сослали на север. Он женился на дочери мелкого купца, обзавелся семьей, осел, дошел до глубокой хандры, а потом влюбился запоздалой несчастной любовью в искусство. Он не умел ни писать пейзажи, ни играть на скрипке. После революции он стал работать в музее. Он захотел спасти от гибели прекрасные лохмотья мертвого мира. У него астма, восемь детей, маленький оклад и тяжелая работа. Он умоляет секретаря рика: «Басма — она ведь ничего не весит, а это — красота, шестнадцатый век!..» Он заклинает колхозников, которые устроили в деревянной церкви Спаса-на-лугах склад зерна, пощадить старые фрески. Нехватает ни хлеба, ни сахара, ни сил. Жена говорит: «Лучше бы ты в Лесоэкспорт пошел, там хоть распределитель хороший». Но Хрущевский все еще борется. Он говорит сейчас Кузмину:
— Кому мешала эта таможня? Окна с кольцами, да ведь это уникум! Энгельс сказал: «Чтобы понять новый мир, надо знать старый», Ленин Бетховена любил. Может быть, Бетховен помог ему бороться? Я убежден, что в Москве это понимают. Но на местах!.. Недавно я ездил в Великий Устюг. Воскресенская церковь — Главнаука признала — «вне категории». Какие там изразцы! Церковь разгромили — воры искали золото, чтобы снести в торгсин. Все переломали. Думаешь, один раз? Три раза ее громили. А охрану не хотят поставить. Вот этими сапожищами я должен был ступать по строгановским иконам, по рукописям, по книгам. Разве это не безобразье? Скажи ты, художник, не все ли равно, кто здесь изображен: ударник или святой с собачьей мордой? Погляди только, как выписаны складки!
Странный человек этот Кузмин! Говорят, что он художник, но никто в городе его картин не видал. Между тем с утра до ночи Кузмин работает в своей каморке. Там, среди тюбиков красок, старых холстов и огурцов — он любит грызть огурцы — Кузмин смеется, размахивает руками и в отчаяньи часами сидит, не двигаясь.
Он работал прежде на прядильне. Вечерами он рисовал. Как-то приехал корреспондент «Правды севера», поглядел на рисунки в стенгазете и усмехнулся:
— Здорово! Надо учиться. Из тебя этакий художник выйдет…
Корреспондент уехал, но вслед за ним уехал и Кузмин. Ему повезло: он поступил в художественную школу. В свободное время он ходил по музеям. Когда он впервые увидел Рембрандта, что то внутри захолонуло, и Кузмин начал бессмысленно смеяться. Чернышев спросил:
— Что это с тобой?
Кузмин ничего не ответил. До ночи он бегал по улицам, натыкаясь на прохожих. Он осунулся за день. Потом с новым жаром он накинулся на работу.
Профессор как-то сказал ему:
— Эти штуки вы бросьте. Это формализм. Почему у вас глаза не на месте? Глаза должны быть на уровне ушей, вы это сами знаете. А делать зеленые щеки попросту глупо.
Кузмин попробовал защищаться:
— Но ведь это тень. Поглядите сами — это действительно зеленоватое…
— Тень серая, а это не тень, это футуризм.
Тогда Кузмин вышел из себя. Он закричал:
— Какой вы художник? Вы фотограф! Ваши знаменитые картины, да они скоро на портянки пойдут. Чорт знает что! Рембрандт, Веронезе, Тинторетто, а потом приходит такой халтурщик с аршином: «Где уши, где глаза?» Это вам не паспорт выписывать: «Нос обыкновенный, глаза серые, особых примет нет». Как вам только не стыдно? У нас на фабрике скатерти, и то делали с вдохновением. А вы вот революцию пишите на заказ. Я вас попросту презираю.
Кузмина торжественно изгнали. Он вернулся к себе на север. Чтобы как-нибудь просуществовать, он теперь делает для музея макеты лесорубки или рисует таблицы: деревьев, мышей, сов. Живет он впроголодь, но не сдается. Одни говорят, что у него «не все в порядке», другие уверяют, будто это «мистик». В городе имеются два признанных художника. Они пишут театральные декорации, и в дни торжественных праздников они украшают здание крайкома. Но Кузмин с ними не встречается: он предпочитает лесорубов. Он часто ездит на запани. Там он рисует, калякает с рабочими о том, о сем, балагурит. Среди рабочих он слывет весельчаком. Иногда зовет его к себе Хрущевский: они спорят ночи напролет. Хрущевский никогда не видал работ Кузмина, но что-то его привлекает в самом облике художника. Хрущевскому, однако, кажется, что Кузмин не хочет учиться. Вот и сейчас он не смотрит на святого Христофора со столь замечательно выписанными складками. Он предпочитает смотреть в окно: река, баржи, лес. Он упрямо говорит:
— Не то, все это не то. Конечно, обидно, что зря ломают, но и это деталь. Сто пропадут, триста останутся. Или наоборот. Дело не в количестве. Скажешь, мало людей погибло? Дело совсем в другом. Ты посмотри сюда — какой сейчас свет! Я говорю, что необходимо волнение. У нас есть бури и штиль, но для искусства должна быть легкая зыбь. Ты вот сказал: не все ли равно, что изображено? Это вздор. Можно сойти с ума от образа. Как написано — это потом. Это для тебя, для исследователей, для истории искусств. А мы должны быть чуточку сумасшедшими. Знаешь, когда тема только-только появляется, это опасно. Если во время не родить — задушит. Весной на бобриковской запани я видел похороны. Девушку зашибло древесиной. Гроб здесь же сколотили. Капли смолы. Солнце. Рядом стоял парень. Не слезы, но то, что могло бы стать слезами. Со стороны — карнавал: река — гроб-то положили в лодку, чем тебе не Венеция? Флаги, героика: «Сплавщики клянутся над этой могилой закончить работу к первому августа!» Значит, и смерти нет. Но вот для одного человека это была не просто ударница, но Маша или Шура, я уж не знаю, как ее звали. Если нет смерти, есть горе. А если сказать, что в жизни нет горя — это и есть настоящая смерть. Я почему держусь за такую тему? Я хочу показать, что горе тоже наше, жизнь тогда становится полней, это против смерти — понимаешь? Я говорю очень плохо. А написать?.. Вот здесь это сидит. Композицию вижу, краски, а чего-то еще нехватает.
Хрущевский раздраженно смотрит на Кузмина:
— Учиться тебе надо. А как вы все научитесь без стариков? Послушай, что я видел — это все в том же Устюге. Знаешь деревянную скульптуру? Барокко? Мы притащили десяток христов из разных церквей: надо сберечь. Некоторым там уже ноги пообломали. Поставили в сарай. Сидят они все рядышком, как будто это приемная комиссариата, и призадумались: что же такое приключилось?.. Ответь мне, Кузмин: что же приключилось? Только, пожалуйста, без уверток. Ты сам знаешь: на религию мне наплевать. Я о другом говорю: как нам теперь быть с искусством?
Кузмин кричит:
— Искусство не музей, это — вот такая ночь, ударница в гробу, то, что другие шли с песнями, что один — я его хорошо помню, большой в меховой шапке, он с нее мух сгонял, — что он хотел заплакать и не смог, вот что я теперь хожу как помешанный — это все искусство.
Небо в огне, и Кузмин у окошка горит, как будто жгут его на костре. Но Хрущевский не смотрит на Кузмина, он раздраженно бормочет:
— Чорт знает что несешь! Мальчишка ты! О чем теперь в Москве говорят? О классиках, о Греции, о Рафаэле. Старое искусство…
— Нет старого искусства. И нового нет. Есть просто искусство. А плакаться глупо. Погляди лучше, какая у нас необыкновенная жизнь! Скажешь, уродливо? Конечно, уродливо. Но ты распили, погляди внутрь. У дерева это называется сердцевиной. Замечательное слово! Я тебе скажу, что после тех похорон у меня болит сердцевина. Можешь спросить кого хочешь — лесоруба, сплавщика — это тебе каждый скажет…
Хрущевский так и не узнал, что именно ему скажет любой сплавщик или лесоруб — под окном кто то крикнул: «Сергей Васильевич, вы не спите? Про находку слыхали?» Минуту спустя Хрущевский уже был внизу. Он побежал к таможне, к тому самому чубастому Шурке, который привлек внимание Штрема.
Он подбегает к Шурке. Он едва может говорить от волнения:
— В стене нашли… Деревянная статуя… Семнадцатый век… Венера… Черная… Куда вы ее дели?.. Да что ж это такое!.. Не понимаешь?..
Шурка смеется:
— Кукла? Как же. Была Только ее ребята поломали. Я ведь не знал, что она, значит, особенная. А голова тут валяется. Сейчас подберем.
Поискав, он находит среди мусора голову Венеры. Под отбитым носом кто-то ножом вырезал залихватские усы. Хрущевский болезненно сжимает обезображенную голову. Кажется, еще минута, и он заплачет. Его горе доходит до Шурки, и Шурка ласково говорит:
— Надо бы сначала сказать, а то откуда нам знать? Да ты не убивайся! Вот закончим, значит, с главным производством, будем тогда и куклы делать. Получше этой сделаем.
Но слова Шурки не могут утешить Хрущевского. Он попрежнему не сводит глаз с куска черного дерева. Тогда Шурка вынимает папиросу, мечтательно улыбается и говорит:
— Закури. Знаешь, какие на свете чудаки бывают? Вроде тебя. Вот у нас в деревне — Пахомов. Прошлой осенью помер. Плотничал он, но только как свободное времечко выпадало, сейчас же за куклы. И баб, и лошадь — он все мог. Я ему говорю: «Ты зачем это делаешь?» А он строгий старик был: «Не понимаешь? Чтобы веселей было. Нельзя, мол, только кашей жить». Он, знаешь, даже Ленина сделал. Похожий, только голова очень большая. Я его спросил: «Что же ты голову не по мерке сделал?» А он рассердился: «Будто ты сам не знаешь, что Ленин умный был». Да брось ты эту куклу! Ребята постарались: рук, ног нет, не склеишь. Ты потерпи: у нас еще таких баб тебе понаделают…
Штрем тем временем все бродит и бродит по длинным улицам. Он забыл о чубастом Шурке. Он не знает, что ему делать. Он хотел было зайти в клуб для иностранных моряков, но, подумав, он поворачивает к ресторану: сегодня требуется водка. Штрем умеет быть в жизни сухим и точным. Но иногда ему становится невтерпеж: он забывает о делах, становится болтлив, даже назойлив, пьет виски или пиво, заговаривает со встречными и, очутившись где-нибудь в Гамбурге или Роттердаме, вымаливает у злой, уродливой проститутки толику человеческой ласки. Сегодня его расстравила белая ночь. Да и вообще за последнее время он потерял равновесье: все — «зачем» и «к чему»? Хорошо бы сейчас спиртом перебить чересчур ровный ход мыслей!
А в клубе, куда не пошел Штрем, было шумно и весело. Позабыв о штормах, о ночных вахтах, об окриках капитана, моряки танцовали с русскими девушками.
Белокурый Джон прижимает к себе Марусю Степанову. Маруся с зимы занимается английским. Она ласково поглядывает на своего кавалера: у него хорошие серые глаза. От его груди, кажется, идет соленый дух моря. Он, наверно, английский коммунист. Она улыбается, и в ответ улыбается моряк. Он думает о том, что в этой непонятной стране красивые девушки. Правда, они не умеют как следует танцовать, и потом здесь запрещено нарядно одеваться — так сказал капитан, — но девушки здесь все же хорошие.
Маруся спрашивает:
— У вас тоже есть клуб?
— О, да.
— А у вас тоже танцуют?
— О, да.
Тогда Маруся, слегка обиженная, поводит плечами.
— А когда же вы сделаете у себя революцию?
Джон ничего не отвечает. Он думает, что девушка шутит. Помолчав, он говорит:
— У нас вообще много веселого. Например, на рождество можно под омелой целоваться с любой девушкой.
Теперь молчит Маруся: она не поняла, о чем говорит моряк. Стыдно признаться, но она еще знает очень мало английских слов.
Потом они выходят, доверчиво прижимаясь друг к другу. Кругом розовое полыхание. Маруся вздыхает: почему этот моряк не здешний? Можно было бы танцовать с ним, вместе гулять, спорить о книжках и даже… Она еще сильнее розовеет, но теперь в этом не повинен рассвет. Чем он не дроля? Марусе девятнадцать лет: ей пора в кого-нибудь влюбиться. Шурка говорила, что Варя теперь гуляет с Мезенцевым. Конечно, Мезенцев славный парень, но у этого моряка глаза куда нежнее…
Вот и угол Поморской улицы. Здесь они должны расстаться. Но Джон крепко держит девушку за руку. Та смутилась и не двигается. Тогда, помявшись, Джон вытаскивает из кармана две пары шелковых чулок.
— Пойдем?
С минуту Маруся стоит неподвижно: что это значит? Потом она вырывает руку и кричит:
— Сволочь!
Она бежит прочь. Все в ней — обида. Особенно она сердится на себя: как она могла сравнить с Мезенцевым? Он, наверно, фашист. Или убийца. Варя правильно говорила: не нужно больше ходить в этот клуб. Она будет заниматься английским дома. Со словарем. Или можно ходить в клуб, но не танцовать. Только говорить: о книгах, о производстве, о кризисе. Почему он ее обидел?..
Маруся живет вместе с Женей Пятаковой. Она кричит:
— Женька, молодец ты, что не пошла! Нет, ты подумай, какая сволочь! Чулки предлагал, чтобы с ним переспать.
Немного отойдя, она спрашивает:
— А ты что делала? Дрыхла?
Протирая глаза, Женя отвечает:
— Не знаю… Теперь сколько времени? Два? Значит, только-только уснула. Заковыристая это книжка «Консуэлло». Я не могла оставить, пока не дочитала. Но конец ужасный. Ты послушай…
Перед открытым окошком суетятся воробьи. Женя тихо рассказывает Марусе о страданиях несчастной певицы.
— Когда такой плохой конец, я свой придумываю. Вот у них остались дети. Я так, Маруся, думаю: детей кто-нибудь да возьмет. Ну, родственники, что ли. Хоть дети счастливы будут. Как, по твоему, выходит так или не выходит?
Маруся, засыпая, отвечает:
— Конечно, выходит. А насчет моряка… Все-таки у них в Англии когда-нибудь да будет революция!..
Джон долго стоял на углу Поморской, сжимая в большом кулаке чулки. Он никак не мог понять, что же приключилось? Кажется, все шло по-хорошему и вдруг… Непонятная страна!
Джон грустно бредет по улицам. Он проходит мимо ресторана. Завистливо он смотрит на парочку. Это русские. Девушка в носках, как та, с которой он танцовал. Вот этому повезло! Джон сердито плюет и вполголоса говорит:
— Все вы стервы!
Но девушка не слышит, а услышь она — не все же девушки в городе изучают английский язык…
В ресторане большая пальма из темно-зеленого коленкора. Рядом с пальмой стоит официант. Он уныл и неподвижен, он похож на памятник.
Инженер Забельский и заведующий распределителем Белкин сосредоточенно пьют водку. Белая ночь тревожит их красные воспаленные глаза, и они отмахиваются от света, как от мошкары. Белкин даже пробовал возмутиться:
— Гражданин услужающий, что это за безобразье? Штор, я спрашиваю, почему нет? А если такое освещение мне пить мешает?
Но официант не двинулся с места. Он только угрюмо пробормотал:
— Что есть на карточке, то подаем. А скандалить здесь не полагается, здесь иностранцы кушают.
Потряхивая вилкой с селедочным хвостом, Забельский говорит:
— Позавчера хоронили Забукина. Да ты его знал, Иван Сергеевич. Помнишь, в Лесоэкспорте бухгалтер? В больнице умер, пузо ему резали. Везут, значит, открытый гроб, сослуживцы идут за гробом позади и обсуждают, что сегодня выдают в горте, жена ревмя ревет, словом, все, как полагается. Вдруг Зубакин[1] как возьмет, да как привстанет из гроба. Должно быть, врачи промахнулись: резали, а не дорезали. Вот покойничек услыхал шум и заинтересовался: какое такое событие? Ну если бы ты видел, что тут было! Жена, сослуживцы давай маху, кто куда. Кац даже на фонарь залез. А милиционер выхватил револьвер и кричит: «Стой, подлец! Стрелять буду!» Это, значит, мертвецу. Ну как тебе такое нравится?
Белкин тупо смотрит на Забельского, опрокидывает еще стопочку и говорит:
— Очень нравится. Я это всегда говорю: большевики и умереть не дадут спокойно. Ты читал, что они теперь придумали? Мертвое сердце бьется. Так в «Известиях» и напечатано. Покойников, черти, воскрешают! Я от них всего жду. Начали с лягушек, потом перейдут на ударников. Проснешься утречком, а здесь тебе декрет: «Трудовому населению умирать строго воспрещается». Понял?
Забельский охмелел. Он вздрагивает и шепчет:
— Брось, Вася! Замолчи! Слышишь, замолчи! Я кричать буду.
За соседним столиком сидят Штрем и шведский капитан Томсон. Швед пьет молча, говорит Штрем, говорит он глухо и отрывисто:
— Знаете, о чем беседуют наши соседи? О смерти. Это я здесь слышу впервые. Я эту страну ненавижу за то, что здесь никто не думает о смерти. Сплошной детский сад! Рожают детей, строят заводы, и довольны. Скажите, капитан, что вы об этом думаете? Не о русских, о смерти.
Томсон раздраженно прожевывает кусок балыка: этот болтливый немец мешает ему мирно поужинать.
— Я? Ничего особенного. Вообще умру. А сейчас я вовсе не хочу об этом думать.
— Отмахиваетесь? Напрасно. Все равно придется задуматься. Это чертовски трудная роль — умереть. Лучше с репетицией. Я раз испытал. Это было здесь, в Петербурге. В семнадцатом году. Впрочем, об этом не стоит сейчас говорить. Но факт — страшно. Я вам расскажу о другом. Четыре года назад. Я был женат. Полное счастье. Потом жена умерла от родов. Вы понимаете, что это? Я сидел рядом и держал ее руку. А рука уже была мертвая. Я знал на этом теле каждую родинку, оно мне было как мое. И вдруг — труп. Я на редкость крепкий человек, но я свалился без чувств, как девчонка. Мне показалось, что я тоже умер. А когда я пришел в себя, первым делом я обрадовался: я не умер! Я ее страшно любил, но это так. Вы, может быть, скажете, что я негодяй. Успокойтесь — все таковы. Только редко кто признается. А дойдет дело до смерти, каждый предаст, и кого угодно. Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность. Эти идиоты ломают, строят, надрываются, что ни человек у них, то герой. А зачем? Ведь все равно и они умрут. Как жалкие капиталисты. Как рабы мистера Форда. Как мыши. Не все ли равно, в какую тряпку завернут труп? Пахнет одинаково. Простите, что порчу вам аппетит. Этой зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Позвал он меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь. Кошка у них, так он смотрит, чтобы не забыли ей дать молочка. Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал: раз — два. Это вовсе не садизм. Но подумайте: над своей жизнью мы не властны. Вот выйду на улицу, а меня автомобиль раздавит. Но если ты распоряжаешься чужой жизнью: «расстрелять» — как-то сразу в своих глазах растешь. Получается суррогат бессмертья. Для человека, который думает, это единственный выход.
Томсон вытер лицо салфеткой и раздраженно крикнул:
— Счет!
Официант тотчас же из памятника превратился в волчка. Кружась и что-то пришептывая, он поднес Томсону бумажку. Тот заплатил, а потом, устремив на Штрема свои бледноголубые младенческие глазки, спросил:
— Вы что же, фашист?
Штрем рассмеялся. Он впервые рассмеялся за всю эту ночь. Его смех походил на лай охрипшей овчарки.
— По призванию я поэт. А на самом деле — представитель торгового дома Краузе. Вполне прозаично. Что я чертовски боюсь смерти, это правда. А остальное — мечты, плюс пятнадцать рюмок водки. Я, например, еще никого в жизни не убил. Как видите, попросту неудачник.
Томсон встал. Штрем попытался улыбнуться:
— Спокойной ночи.
Он остался один, глупо приговаривая: «Спокойной ночи… Нечего сказать… спокойная… Ночь как ночь…» Ресторан быстро опустел. Выволокли пьяного Забельского, он упирался, и Штрем, зевая, глядел, как с пальмы сыпалась на официанта густая черная пыль. Наконец Штрем вышел на улицу. Он направился в сквер возле реки. Он знал, что в гостиницу ему итти незачем: там его поджидают английский роман с таинственным сыщиком, обои, испещренные раздавленными клопами, и остромордая злая бессонница. Он больше не искал ни встреч, ни споров. Утомленный, он грузно опустился на скамейку. Он даже не сразу заметил, что рядом с ним сидит молодая женщина. Она тоже глядела на реку. Ее лицо показалось Штрему знакомым. Он ее видел в гостинице. Наверно, командировочная. Но что она делает ночью одна в этом сквере? Штрем вежливо приподнял шляпу и сказал:
— Если не в ваших принципах разговаривать с чужими людьми, простите.
Женщина повернулась к нему и равнодушно ответила:
— Нет, почему же… Я привыкла говорить с незнакомыми: я ведь актриса. Но что вам от меня нужно?
— Абсолютно ничего. Гляжу на реку. Как вы. Раздражен, обессилен. Вероятно, как вы. Такие ночи не сходят даром. Притом личное счастье для меня невозможно. Зачем-то я здесь. Ломают и строят. Иногда это невыносимо скучно, как детская игра в кубики. А иногда хочется взять и выстрелить. Остаются мысли о смерти. Это единственные мысли, достойные живого человека. О чем думают ваши соотечественники? О ширпотребе. Посмотрим, что с ними станет лет через двадцать. Когда у человека всего много, он начинает чувствовать идеальную пустоту. Впрочем, у меня ничего нет: ни денег, ни семьи, ни амбиций. Но я понимаю, до чего это соблазнительно: не быть. К вспомогательному глаголу подставить коротенькое отрицание. Но почему я вам это говорю? Вы не бойтесь — ухаживать за вами я не стану. Во первых, вы для меня чересчур красивы, а во-вторых, у всякого подлеца свои представления о честности. Заговорил я с вами со скуки. Потом я сегодня выпил. Но вот вы мне сказали, что вы актриса. Давайте поговорим. Я когда-то знал актрис. Они были страшно глупы, и потом они каждый день требовали подарков. Но разве это актрисы? Это дерьмо! А одна актриса меня действительно напугала. Знаменитость, вы, наверно, слыхали — Дузе. Она гастролировала в Мюнхене. Я посмотрел, и у меня под ложечкой засосало. Это или слишком умно для меня, или, простите, какое-то сплошное ребячество. Как можно сдирать с человека кожу? Лучше найти такое средство, чтобы обрасти корой на манер черепах. Честное слово! Вот эта Дузе была настоящая актриса. Жаль, не привелось с ней поговорить. Да и вообще с кем я разговариваю? С купцами. Или чиновниками. Вы, наверно, большая актриса, и вы сумеете…
Штрем больше не думал о том, с кем он говорит. Он и не прислушивался к своим словам. Он говорил длинно и бесцельно: так шумел ветер в этом большом, еще не засаженном сквере, поднимая столбы тонкой едкой пыли.
Но Лидия Николаевна не понимала, что происходит в душе Штрема, и, услышав «большая актриса», она перепугалась.
— Что вы! Какая же я большая актриса! Я ровно ничего не умею. Я только в прошлом году кончила студию. Да и вообще я, кажется, совсем бездарна.
Начав разговор, Штрем не ошибся: его случайная соседка тоже была и взволнована, и обессилена этой белой ночью. После спектакля Лидия Николаевна не пошла в гостиницу. Она бродила одна по площади и набережным. Было в этом непривычном для нее свете нечто чрезмерно жестокое: она видела не только лица прохожих, пароходы и небо, но всю свою жизнь. Зимой ей исполнится тридцать. Глупо в такие годы начинать все сызнова. Вопрос ясен: кто-то виноват в этом, нето она, нето жизнь, но они не подошли друг к другу. Сначала жизнь называлась школой. Другие ребята увлекались пионерским отрядом, играми, манифестациями. Она была в стороне. Она списывала в тетрадку стихи Блока о снежной маске. Потом она влюбилась в Курганова. Он говорил: «Мужские клеточки устроены не так, как женские. Тебе нужен герой, а мне женщины». Она плакала, но приходила на свиданье задолго до условленного часа. Курганов тогда был жизнью. Она сказала: «Я боюсь сознаться, но я так счастлива!» Курганов ответил сухо: «Надо записаться на аборт». Потом жизнью был пианист Певнев. Потом она поступила на службу. Ее послали в Челябинск. Там она встретилась с Кощенко. Они расписались в загсе. Муж был санитарным врачом. Он мыл руки и ворчал: «Сколько в этих бараках вшей! А почему ты на ужин ничего не приготовила?» Она спрашивала! «Что в газете?» Он отвечал: «Читай сама», или: «Не твоего ума дело». Ей было очень скучно, и она начала встречаться с журналистом Лембергом. Лемберг говорил о пятилетке, о чугуне, об апатитах. Потом он неожиданно сказал: «У тебя идиотские подвязки, надо же такие придумать!» Муж узнал и выгнал. Она пришла к Лембергу с ночной рубашкой и примусом. Лемберг сказал: «Теперь не такое время, чтобы отдаваться чувствам. Потом ты сама видишь: в этой конуре мы никак не поместимся». Она осталась одна.
Она вспомнила свои детские мечты: стихи Блока, спектакли в театре, маски, рифмы, сны. Она попробовала еще раз пойти на мировую с жизнью. Она записалась в театральную школу. Училась она яростно и бестолково. Ее звали на вечеринки, она не шла. Товарищи говорили: «Бездарь, а задается». Никто ее не любил.
Потом она кончила студию. Она думала, что будет играть Шекспира. Но в провинциальном театре, куда ее послали, она играла мелкие роли в глупых комедиях. Один раз ей почему-то зааплодировали. Она улыбнулась, а потом, пройдя в уборную, расплакалась. И вот какой-то чужой человек говорит ей: «Вы большая актриса»…
— Я очень плохо играю. Да и какой у нас репертуар? Я должна повторять дурацкие стишки: «Комсомольцы выступают, и любой работой пьян, так что прямо предъявляют свой великий встречный план». Ведь это набор слов! Публика зевает. И никому это не нужно: ни мне, ни им. Я прежде думала, что театр — это настоящее чудо. Великая актриса страдает, любит, побеждает. В партере люди плачут и смеются, для них мир растет, они живут все пять актов чужой жизнью… Глупые мечты!.. Я теперь знаю, что просто в провинции некуда вечером деться, вот и идут в театр.
Штрем плохо слушал ее. Он думал о своем. Но слова о чуде дошли до него. Он усмехнулся:
— Значит, вы верите в чудеса?
Лидия Николаевна ответила не сразу.
— Я не знаю, как вы это понимаете. Я говорю о чуде по-другому. Не о мощах. Прежде я думала, что чудо — это театр. Я вам об этом сказала. А теперь, когда вы меня спросили, верю ли я в чудеса, я и задумалась. Хочется честно ответить. И да и нет. Для себя лично не верю. Но кругом меня такое происходит, что иначе, как чудом, и не назовешь. Возьмите Ивана Никитыча. Лясс. Ботаник. Вы, наверно, читали про него в газетах. Чего он только ни делает со своими семенами! Он мне показывал и говорит: «Розы будут цвести в тундре, настоящие розы». Может быть, это потому, что я совершенно безграмотна в таких вопросах, но мне это кажется настоящим чудом. Я никак не могу себе представить, как можно из тундры сделать сад с розами, будто здесь Гурзуф. Почему я вместо театра не взялась за что-нибудь серьезное? Толку было бы больше, да и поэзии. А в театре я вижу халтуру и интриги. Но стоит посмотреть кругом — действительно чудеса. И все это мимо. То есть я не при чем. А жизнь у нас необыкновенная. Вот вам конкретный случай. Вы Голубева не знаете? Я потому подумала, что вы здесь, наверно, в связи с лесом. Так вот, в марте нас вызывают играть на Николину запань. Тогда ее только строили, и Голубев жил там с семьей — у него жена и двое ребят. Прислали туда осужденного на работы. Две судимости, и одна — за зверское убийство. Естественно, все зашумели: «Не хотим такого! Кто его знает— вдруг он возьмет да кого-нибудь зиганет…» Одним словом, настроились. А Голубев позвал его к себе и говорит: «Слушай, я тебя в моем бараке поселю. Здесь жена у меня, дети, здесь тебе будет спокойней. Я тебе доверяю, как себе. Так что забудь прошлое, а если была у тебя на кого-нибудь обида, это дело конченное». Теперь послушайте: этот вот убийца на запани — первый человек. Рабочие в нем души не чают. Кажется разорвется он, а всем поможет. В газете портрет его был: лучший ударник. После спектакля он говорит нашим актерам: «Почему вы такую муру показываете? Все у вас идет как по накатанному. А я вот, к примеру, человека убил. Значит, не было и для меня жизни. А товарищ Голубев оказал мне доверие и я живу. Из этого можно сделать такое представленье, чтобы все почувствовали, а вы насчет премиальных…» Скажите, разве это не чудо?
Штрем растерян. Сегодня с него сняли кожу. Он чувствует, как мучительно ему любое слово. Хуже всего, что эта женщина не агитирует, не спорит, не убеждает. Она ласково смотрит на Штрема и Штрем болезненно морщится.
— Это у меня тик. На нервной почве. Но не в этом дело. Вы рассказали о двух чудесах. Прибавьте третье: Иоганн Штрем сейчас раздавлен вами. Когда его хотели скинуть в Мойку, он вырвался. А сейчас он бессилен. Может быть то, что вы говорите, и глупо, я об этом сейчас не думаю. Но почему-то мне страшно. Это, наверно, оттого, что я много пил. Сейчас я приведу мысли в порядок.
Он отряхивается, как будто он был в воде, снимает шляпу, проводит платком по лбу. Потом он говорит:
— Следовательно, полное спокойствие. О Ляссе я действительно слыхал. Я непрочь с ним познакомиться: меня интересуют эти проблемы. Если вы можете меня представить ему, я вам буду очень признателен.
Лидия Николаевна улыбается.
— Познакомить с Иваном Никитычем? Хорошо. Он замечательный. Вы знаете, он умеет говорить с пуделем Ганшиных, и прямо по-собачьи…
Но Штрем не смеется. Без уговора они поднимаются и поворачивают к гостинице. В коридоре они прощаются. Штрем вдруг неожиданно просто говорит:
— Спасибо, что не прогнали.
Тогда Лидии Николаевне становится жалко его. Она едва выговаривает:
— Не надо так… Я лично здорово несчастна, но все-таки я хочу еще жить.
Вбежав к себе, она сразу кидается на кровать. Она плачет, потому что снова был скверный спектакль, потому что ничего не вышло в жизни — ни любовь, ни слава, ни хотя бы тихий угол, потому что, когда ночь такая белая и дикая, теряешь голову, кажется, на все можно пойти: сойтись с этим страшным человеком, который говорит о смерти, как другие говорят о рубке леса, сойтись с ним или сразу кинуться в реку. Она долго плачет. Потом слезы скудеют, в ушах гул, горят щеки. Наконец она засыпает.
Штрем, войдя в комнату, проверил, все ли на месте: английский роман, следы клопов, белый отчетливый свет. Потом он запер дверь на ключ, помылся, сменил ботинки на ночные туфли и сел в кресло возле самого окна. Перед ним лежала записная книжка. С отвращением перелистав несколько страничек, он нашел запись — «Лясс» и поставил рядом крестик. Под крестиком он написал: «Если меня не вызовут в ближайшие дни, случится катастрофа. Впрочем и это ерунда». Он выронил книжку на пол. Постепенно его глаза освобождались от какого-либо выражения. Это были тусклые стекляшки; такие вставляют в чучело. Но он все еще не закрывал глаз. Может быть, он умел спать с открытыми глазами, а может быть, добившись у жизни временного отпуска, он бодрствовал и однакоже не существовал.
Где-то по проводам бежит приказ Голубева: ликвидировать прорыв на вешнецкой запани! Мимо гостиницы идут комсомольцы. Они улыбаются, и каждому теперь ясно, что ночь кончена, исчезли с ней и все призраки. Только что, погудев, отчалил лесовоз «Элизабет», и моряк Джон плывет теперь к Нордкапу. Хрущевского ждут в музее. Скоро Кузмин принесет ему рельефный макет рационализированной плотки. Белкин, с головной болью, направляется в распределитель. Если в кассе окажутся недочеты, придется сослаться на ночной диалог под коленкоровой пальмой. А Забельского занесут на черную доску: этот пьет уже третьи сутки. Маруся и Женя давно встали. Женя еще думает о детях бедной певицы, а Маруся, кажется, позабыла о своем англичанине; только где-то в глубине осталась легкая грусть, хочется, чтобы другие смеялись, не то Маруся сегодня повесит нос. Смеяться будет, верно, Варя — вот какая она пришла веселая! Даже старик Щукин, увидав ее, улыбнулся: «Ты что же гладкая такая? Дроля платье подарил?» Варя ответила: «Платье не платье, но пойдем распишемся». Сказав это, она сама рассмеялась: смешно, как все это быстро вышло! За ней рассмеялась и Маруся. Да и Женя, все еще продолжая думать о детях злосчастной певицы, тоже улыбнулась: «Это ты здорово, Варька! По-моему, если без этого — и гулять не стоит. Должен быть хороший конец. Я теперь и книгу не возьму если плохо кончается. Зачем себя мучить? Если, например, революция в пятом году — читать неохота, заранее знаешь, кого-нибудь да повесят. А если про семнадцатый год, это и читать весело. Ну, Варька, дай я тебя поздравлю!..» Варя вдруг стала серьезной, нахмурилась, покраснела вся и крепко поцеловала Женю. Потом она задумалась: где же теперь Мезенцев? Может быть он совсем по-другому это чувствует? Может и забыл он про Варю?..
Мезенцев идет вместе с другими комсомольцами. Они спешат к пристани: надо ликвидировать прорыв на запани. Они идут и улыбаются. Хорошее сегодня утро, еще не жарко и дышать легко. Они привыкли к ночным тревогам, к опасности, к работе немилосердной и отчаянной, когда даже песни замолкают, только слышно, как громко стучит сердце. Вот Шумов. Он был на Большой Земле: там в ударном порядке строили чум-ясли для ненцев. Жаров рубил лес: они прокладывали тракт через тайгу из Сыктывкара до Усть-Выми. Бочаренко работал на Печоре. Искали нефть и серный колчедан, нашли радий. Иванов помогал организовать оленеводческий совхоз — далеко за полярным кругом. Шварц в тундре разводил овощи. Гнедин провел две зимы на лесозаготовках. Кадров зимовал на Колгуевом острове. Они знали жестокие морозы, голод, тяжелый сон на обледенелых досках, зной, густые рои комаров в лесу, болота, лихорадку, насмешки лодырей, ненависть кулаков, жизнь сухую, трудную и мужественную, которую на одну минуту смягчило ласковое слово какой-нибудь Вари, Маруси или Жени.
Кто еще идет там позади? Это Иваницкий. Он умер от цынги, он был зимовщиком. Переносов. Его придавила столетняя сосна. Дейч. Он утонул в Двине — он ночью исправлял болты запани. Юшков. Его убили кулаки в Красноборске. Никитин. Он попал под ковш расплавленного чугуна — это была месть двух раскулаченных. Верицкий. Он сорвался с мачты, поправляя канат. Ковров. Он заблудился в тайге. Его труп нашли весной. Они все умерли за работой. Они умерли, когда им было восемнадцать, двадцать или двадцать пять лет. Их хоронили сурово, с красными полотнищами и с сухими глазами. Смерть была развенчана, ее приравняли к вредителям, никто не хотел прислушаться к ее шагам. Они умерли, но вот они идут вместе с другими, вместе с Мезенцевым и Шумовым: надо спешить на запань — ни одного дерева морю!..
Они шли мимо гостиницы и пели. Они еще могли петь, — там, по пояс в воде, когда надо будет вколачивать тяжёлые медведки, там будет не до песен. Они шли и пели сначала о какой-то нежной дроле, а потом о людях, погибших до них: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные…»
Мезенцев шел последним. На его лице было одно: радость. Он не думал сейчас о Варе, но Варя уже успела твердо войти в тот мир, где ликвидация прорыва на вешнецкой запани не горестней, да и не трудней, нежели поцелуй возле штабеля досок.
Штрем вздрогнул от чересчур громкой песни. Он встал, закрыл окно и наконец-то опустил свои тяжелые, мясистые веки.
3
— Вот тебе твое платье, держи! Очень оно мне нужно! Живу с тобой, как в монастыре. Куда я его надену?
Шелковое платье полетело в лицо Геньки. Хлопнула дверь. Генька только успел крикнуть:
— Некультурно, Лелька!
Но Леля уже не слышала его слов. Оставшись один, Генька ногой отшвырнул платье и вслух сказал: «Этакая дура!» Потом он поднял платье и положил его на стол, где громоздились куски проволоки, чертежи, напильники, железные полосы, колесики. Он впервые посмотрел на платье, и оно показалось ему красивым: зеленое, с вырезом и две ленточки. Среди проволоки платье было неуместно и трогательно. Генька загрустил: вот постарался, а как все глупо вышло!..
Геньку премировали: выдали ему техническую энциклопедию и сто рублей деньгами. На десять он купил проволоки, потом взял в ларьке две коробки «Северной пальмиры». Пересчитав оставшиеся бумажки, он решил порадовать Лельку подарком. Он пошел в магазин. Там он встретил Щербакова, который покупал себе рубашку. Щербаков рассказал Геньке, что мост решено построить на его участке. Генька возмутился: «Но ведь это бессмыслица! Если ставить мост, то во всяком случае напротив пушковской мельницы». Щербаков возражал. Они увлеклись спором. Продавщица сказала: «Что же вы, гражданин, не выбираете? Я вас в который раз спрашиваю: зеленое или красное?» Но Генька махнул рукой: «Все равно! Клади зеленое». Он и не посмотрел на покупку. Голова его была занята одним: подлец Щербаков срывает всю работу!..
Придя домой, он все же весело крикнул: «А Лельку ждет сюрприз!» Он думал что она обрадуется, засмеется, поздравит его с премированием. И вот Лелька швырнула ему платье в лицо. Зеленое… Тогда она тоже была в зеленом — в вязаной кофточке. Может быть, поэтому он и ответил машинально продавщице «зеленое».
«Тогда» — это очень давно: два года назад. Они встретились на пленуме комсомола. Леля приехала из Котласа. Генька выступил по основному докладу. Блистательно он осветил все недостатки работы. Он говорил: «Мы уделяем мало внимания внутреннему миру комсомольца. Необходима чуткость!» Ему аплодировал даже краевой секретарь. Леля сидела рядом. Она сказала: «Как ты это здорово схватил — именно чуткость». Кончили они заседать часов в семь. Потом делегатам выдавали билеты в театр. Генька взял два: для себя и для Лельки.
Давали «Травиату». Генька все время вертелся: его раздражала эта слезливая история, притом он украдкой поглядывал на Лелю: у нее на щеке золотой пушок, а глаза синие. Леля не отрывалась от сцены, а когда героиня начала прощаться с жизнью, Леля громко вздохнула и вытащила носовой платок. Они вышли из театра. Накрапывал летний дождик. Смущенно улыбаясь, Лелька сказала: «Конечно, если вдуматься, глупо. Но музыка очень трогательная. А в общем у меня сегодня необычайный день: пленум, твое выступление и вот на опере побывала». Она считала, загибая пальцы: раз, два, три. Потом, отвернувшись она добавила; «А особенно я рада, что мы познакомились»…
Она хотела пойти в гостиницу, где ее поместили с тремя девушками, приехавшими из Вологды. Но Генька сказал: «Там клопов много. Знаешь что — пойдем ко мне. Ты — на кровати, а я на полу устроюсь». Леля согласилась.
Геньке не спалось, он все ворочался и думал: чудно что так близко!.. Вдруг Леля его окликнула: «Ты не спишь? Знаешь что…» Она не договорила. В комнате было темно, и Генька не мог заглянуть в ее глаза. Но он все же понял. Он быстро вскочил и, отыскав горячие щеки, прикрытые кудрями, начал неуклюже их целовать. В его голове пронеслось: чудно, что так быстро!.. Но это была короткая мысль, и потом ничего не было, кроме счастья…
На следующее утро Леля уехала в Котлас, а недели через две она вернулась с забавным сундучком, на котором были нарисованы розы. Будто оправдываясь, она сказала: «Сундук не мой, мать дала — видишь, какой деревенский…» В сундуке лежали четыре рубашки, учебник лесоводства, «Тихий Дон» и новые туфли — Леля берегла их для вечеринок. Зеленая кофта повисла на гвозде, рядом с меховой шапкой Геньки…
Генька вздыхает: все же с бабами трудно! Они не рассуждают. Если бы поговорить… Но Лелька не слушает доводов, с ней можно или нежничать, или ругаться. Она не хочет понять, что у него голова занята другим. Он и прораб, и ударник, и комсоморг. Вот и с изобретением возня — кажется, все придумал, а при проверке не выходит. Потом он засел за немецкий. Он много читает. Одолел «Антидюринг». Гете недавно прочитал. Теперь взял Стендаля. Надо все знать, а времени мало. Он готовится к жизни шумной и большой.
О самом главном Генька никому не скажет: ни Лельке, ни Красниковой, ни товарищам. Таких вещей не говорят. На словах они смешны: мечтания провинциала! Но он это докажет: он станет вождем! И вот Лелька… Он говорит ей: «Прежде всего я буду секретарем комсомола». А она в ответ начинает ругать его: «Другие живут, а ты как машина. Вальцева вчера меня спрашивает: „Когда вы с Генькой в театр пойдете? Интересная постановка „Страх““. Что я ей отвечу? Гордость мне мешает. Разве ты возьмешь меня в театр? Разве выйдешь вместе? Разве почитаешь книжку? Живем как чужие. Не могу я понять: куда ты торопишься? Все тебе надо сразу: ты и ударник, ты и секретарь ты и в газету пишешь, ты и кран должен изобрести — погляди, что домой нанес, повернуться теперь негде. Нельзя, Генька, так жить! Это и не жизнь получается — крутня. Все впопыхах. Что же мне тогда делать?..» Здесь Леля всхлипывает: дело неизменно кончается слезами.
Генька вспоминает: три года назад его послали в Усу с георазведкой — надо было проверить местонахождение угольных пластов. Шли они густым лесом. Сучья рвали накомарники. Схватится Генька за лицо — вся рука в крови. А тут еще папирос не было — выкурили. Даже веки искусали. Ничего не видать. А надо итти. Но вот даже с комарами, и то было легче!
Трудно сказать, как все это случилось. Вначале они много разговаривали. Генька рассказывал о своих поездках, о людях, о книгах. Леля внимательно его слушала. Не ссорились. Только раз у них вышла размолвка. Леля сказала: «Слушай, Генька, почему ты в вуз не идешь? У тебя такая подготовка, что сразу примут. По-моему, из тебя замечательный инженер выйдет». Генька презрительно усмехнулся: «Мало у нас инженеров? Конечно, тебе может быть, это лестно — „жена инженера“, но я лично мечтаю о другом. Зачем мне итти в вуз? Там сразу оторвешься от ребят. А это теперь не дело. Надо войти в массы, чтобы потом из масс выйти». Тогда Леля сказала ему: «Это ты зря, инженеров дельных мало. А потом, какой же ты комсомолец, если ты только о себе думаешь — „я“ да „я“?» Он ничего не ответил, но по тому как он захлопнул книгу, Леля поняла, что он обиделся. Она подошла к нему и погладила его жесткие волосы. Он никак не ответил на ласку. Через день они помирились, но никогда потом Генька не посвящал ее в свои планы.
Настоящий разлад начался позже, когда Леля забеременела. Генька сказал: «Ты меня никогда не убедишь, что ради этого стоит потерять целый год. Но, конечно, у вас другое устройство. Женской специфики я не понимаю. Впрочем, хочешь рожать — рожай. В конце концов это твое дело». Леля ушла в угол, отвернулась и села за шитье. Но плечи ее вздрагивали: она плакала.
Потом пошло еще хуже. Генька как-то сказал: «Я теперь Мезенцеву нос утру. Посмотрим, что он запоет после речи Молотова…» Лелька спросила: «А о чем речь?» Генька рассердился: «Чорт знает что! Ты, Лелька, совсем обабилась. Даже газеты не читаешь. Что же это получается? Когда поженились, активной комсомолкой была, а теперь? Как же ты прикажешь с тобой разговаривать, если ты даже самых простых вещей не знаешь». Леля старалась говорить спокойно: «Это правда. Думаешь я мало от этого проплакала? Но только кто в этом виноват? Ты хоть бы подумал — сколько я в хвостах простояла за твоими папиросами? А то сидишь ты, читаешь и нервничаешь: „Папирос нет“. Вот я и бегу, как дура. Два часа пропало, а то и три. Может быть, я в это время тоже почитала бы? Так и во всем. Как что: „Лелька где то?“ или: „Лелька, достань мне это!“ А потом я оказываюсь для тебя недостаточно культурной. Ты вот с Красниковой разговариваешь. У нее нет забот, она и все речи читает…» Как Лелька ни крепилась, но, дойдя до Красниковой, она все же не выдержала и расплакалась.
Потом родилась девочка. Геньки не было в городе: его послали на восьмой участок. Он приехал обветренный и веселый. Вошел и закричал: «Значит, девочка? Здорово! А как назвала?.. Даша? Ну-ка покажи твою Дашу». Но на Дашу он даже не поглядел, а сразу стал рассказывать, как он нашел в проекте дамбы четыре непростительные ошибки. Пронин спорил, но Генька «накрутил ему хвост»…
Даша кричала ночи напролет. Как-то Леля попросила: «Посиди с ней. Я хоть часок посплю». Генька поспешно ответил. «Конечно, ложись. Я за ней посмотрю»: Сначала Генька с любопытством рассматривал этот крикливый кусок мяса, он его изучал, как новую машину, щупал пальцем мягкий череп, поднимал на руки: до чего легкая!.. Но вскоре это ему надоело. Он подумал: завтра заседание, надо просмотреть доклад Фомина о грунте… Лелька проснулась от отчаянного крика. С укоризной она сказала: «На минуту нельзя оставить! Эх, ты… отец!..» Но Генька ее не слушал — Генька уже был далеко: он прокладывал тракт, он побивал нахального Пронина, и секретарь крайкома тряс его руку: «Без тебя, Генька, ничего бы не вышло…»
Как-то вечером Генька сидел над своей проволокой. Но на сердце у него было смутно и тревожно. Вдруг он вскочил и подбежал к Леле. Это было как в тот первый вечер, после «Травиаты». Может быть, Красникова и умней, но любит он только Лельку! Так казалось ему, когда, запрокинув голову Лельки, он начал крепко ее целовать. Но Леля высвободилась: «Не хочу. Слышишь — не хочу. Чтобы поговорить — глупая. А вот только так… Не в деревне мы. Я этого без чувства не понимаю…» Она ждала, что Генька будет спорить, скажет, что это неправда, что он ее любит, и тогда-то придет к ней запоздалая радость. Но Генька пригладил свой чуб и сухо пробормотал: «Нет, так нет». Он снова сел за работу. Правда, мысли его били далеко от вычисления углов, но он сидел, уткнув нос в чертежи как будто и нет на свете никакой Лельки. Она не знала, что ему стыдно, больно, сиротливо. Так кончился этот тяжелый для обоих вечер: больше они не обменялись ни одним словом. На следующее утро Генька снова отдался работе, и все вошло в колею.
Но тогда случилась беда: заболела Даша. Было все, что бывает в таких случаях: доктор вынимал из футляра разные трубки, Леля старалась не дышать, комната наполнилась запахом лекарств, особенной тишиной и несчастьем. Как то зашел Николаев, чтобы поговорить с Генькой о посылке ребят в подшефный колхоз, но, оглядев комнату, Николаев проворчал: «Мы уж как-нибудь сами управимся». Генька тогда почувствовал, что Даша — это часть его жизни, от нее нельзя просто отмахнуться, как от жалоб Лельки. Вот и Николаев так думает. Генька — отец, значит, он не может сидеть сложа руки. И Генька попытался вмешаться. Он поспорил с врачом. Он посмотрел в словаре слово «круп». Он прикрикнул на Лельку: «Молоко слишком горячее, что ты — не видишь!» Но все это он делал настолько по-своему, что его заботливость казалась Леле не то придирчивостью не то любопытством: вот изучает болезнь ребенка, как он изучает свои краны… Тогда Генька отступился. Время было горячее, на работе оказался прорыв, комсомольцы готовились к конференции, все только и говорили, что о Мезенцеве, словом, хлопот у Геньки была уйма. Он забыл о Даше. Он привык и к ее хрипу и к запаху лекарств.
Как-то Лелька ему сказала: «Сходи в аптеку. Я заказала по рецепту. Только скорей!» Генька побежал. На лестнице он пропускал ступени. В аптеке он даже не перекинулся словом с Васькой. Но когда он уже подходил к дому, он натолкнулся на Мезенцева. Мезенцев сказал: «Поставим вопрос о Гудакове. Парень совсем разложился. Конечно, обидно, но придется исключить». Генька стал спорить. Он и сам думал, что Гудакова лучше всего вычистить: одна история с Холмогорами чего стоит! Его послали на два дня в совхоз, когда из Москвы приехали за производителями, а он просидел дней десять, ничего не делал, да еще вывез оттуда какую-то девчонку. Причем парню двадцать два года, а он уже в третий раз женится. Ну, может случиться, погулял бы там с девчонкой. Но зачем поднимать такую бузу? Жена бегает по городу и всем рассказывает, а беспартийные смеются: «Вот так производители!» Одним словом, о Рудакове много говорить не стоит. Но Генька не любил Мезенцева, и всякое предложение, исходящее от него, Геньку раздражало. Скорее всего это было завистью: Мезенцева ставили в пример, с ребятами он жил дружно, за что ни брался, все у него выходило. Но Генька не понимал, что он завидует Мезенцеву. Ему казалось, что Мезенцев глуп и самодоволен: говорит бойко а если вдуматься — ерунда! Поэтому Генька и начал отстаивать Гудакова: «Нельзя швыряться такими людьми. Ты вспомни, как он здорово провел кампанию на запани. А осенью…» Генька начал припоминать все достоинства Гудакова. Вдруг он спохватился: «У меня дочка-то расхворалась. В аптеку бегал». Мезенцев замахал руками: «Чего же ты стоишь?» Когда Генька вбежал в комнату, Леля, одетая, стояла у дверей: она уже хотела итти за Генькой. Она вырвала у него пузырек и только тихо сказала: «В клуб забежал — поспорить». Генька ничего не ответил.
На следующий день Генька остался вдвоем с Дашей: Леля ушла за молоком. Он подошел к кровати, и вдруг незнакомое чувство охватило его: ему стало нестерпимо жалко Дашу. Маленькая, а как мучается! Он почувствовал себя чересчур сильным и здоровым. Он слушал хрип, исходивший из крохотного тельца, и что-то подступало к его горлу. Он бормотал: «Ну, ничего… Пройдет… Обязательно пройдет…» Он говорил это, как будто Даша могла его понять. Услышав шаги Лели, он быстро отбежал в сторону и закрылся газетой.
Даша умерла четыре дня спустя. Было то вечером. Генька еще бегал за доктором, но доктор пришел уже после того, как Леля все поняла. Леля при нем не плакала. Не плакала она и при Геньке. Она только сказала: «Слушай, пойди ты куда нибудь. Я хочу с ней остаться…» Генька покорно надел шапку. Он не пошел ни на собрание, ни к товарищам. Он бродил один по улицам и смутно думал: «Почему она прогнала меня?.. Разве я не отец?.. Странно — вот Даша умерла, а Лелька не плачет… Кажется, ей заплакать, как мне слово сказать, чуть что — ревет… А здесь ни слезинки… Почему это?..» Если бы Генька умел плакать, он поплакал бы сейчас на этой набережной, среди снега и тусклых фонарей. Ведь говорят, что от слез становится легче. А ему плохо. Очень плохо. Надо только быстро совладать с собой. Вот скоро конференция… Но как Генька ни старался, он не мог думать о конференции. Ему было холодно. Он ежился, размахивал руками, а придя, наконец, домой и украдкой взглянув на неподвижную Лелю, он лег и прикинулся спящим.
Хоронили Дашу только Генька и Леля. У Лельки не было в городе ни родных, ни друзей, а Генька хотел было сказать товарищам, но потом раздумал: к чему, какое кому дело до его несчастья? Если комсомольца хоронят или пионера — это понятно: речи говорят, поют. А Даше года не было…
На кладбище стояла необычайная тишина, и эта тишина была особенно тягостна. Рабочие торопились. Снег поглощал все звуки. Едва доносились далекие голоса: это за оградой кричали ребятишки. Никто не сказал ни слова: ни Леля, ни Генька. Леля теперь плакала, но слезы катились бесшумно, и мороз быстро сушил их, едва успевали они отделиться от ресниц. Надо было еще подписать какую-то бумагу. Генька долго чистил перо. Потом он почему-то подумал: а могилу роют неглубоко… Земля правда, здорово промерзла. Потом он еще подумал: хорошо, что это бывает только раз в жизни! А то можно и самому удавиться…
После похорон он пошел на собрание актива. Он старался не думать о своем горе. Он говорил о международном положении: «Героическая борьба венских рабочих. Так погиб Валиш…» Он вспомнил маленькую могилу. Мезенцев его осторожно спросил: «Как у тебя дома?» Он ничего не ответил, только махнул рукой.
Поздно вечером он пошел к себе. Он всячески оттягивал эту минуту. Он видел заранее похудевшее, жесткое лицо Лели. Наверно, сидит и думает. Что же ему сказать, когда он придет? Нельзя ведь молчать как на кладбище. Надо бы утешить ее, приласкать, но только не умеет этого Генька; другие могут, а у него не выходит… Он медленно поднимался по обледеневшим ступеням. Так он шел когда-то с Лелей. После «Травиаты». Тогда еще не было никакой Даши, и все тогда казалось легким, простым, радостным. Вдруг его окликнула соседка:
— Это ты, Геня? Жена ключ для тебя оставила и письмецо.
Генька перепугался: Лелька покончила с собой! Как он оставил ее одну? Он быстро разорвал конверт и прочел: «Генька! Незачем нам теперь жить вместе. Меня Нюта взяла пока в барак, а потом найду комнату. Только после Даши не могу я больше с тобой оставаться. Ты это пойми и не сердись».
Генька оглядел комнату. Все было прибрано. Ни пустых пузырьков от лекарств, ни кукол из тряпок, которые Леля смастерила как-то для Даши. Будто никогда и не было ни зеленой кофточки, ни крохотной девчурки, ни любви, ни ссор, ни двух лет жизни.
Генька садится за стол и начинает работать. Он строго сказал себе: «Только не думать об этом!» Он не хочет припоминать жестокий день, кладбище, снег, глаза Лельки и коротенькую записку, которая лежит где то под чертежами. Он работает. Он еще молод и силен.
Когда под утро он ложится, ему очень тоскливо. Он сейчас не думает ни о Даше, ни о Леле. Но комната кажется ему непонятно пустой, жизнь тоже. Это от усталости. Завтра все будет по-другому…
Действительно, проснувшись на следующее утро, он почувствовал себя бодрым и живым, как будто он болел тяжелой болезнью и выздоровел. Теперь надо с двойной энергией взяться за работу, — так он думал, весело фыркая у рукомойника.
Воспоминания мало-помалу стирались, и, встретив недели три спустя Лельку, он спокойно ее спросил: «Ну как тебе живется?» Она ответила: «Ничего, живу». Он не заметил, как дрогнул ее голос и как быстро она спряталась за спину Нюты. Он подумал: вот и обошлось!
После встречи с Лелькой он окончательно успокоился. Он даже пошел к Красниковой и говорил с ней о литературе: «Почему нет ни одной хорошей книги о комсомольцах? Они дают схемы. А мы, чорт возьми, живые люди! Мы чувствуем…» Красникова почему-то переспросила: «Правда?» — и в смущении отвернулась. Но Генька не смотрел на нее. Он был счастлив: Красникова не Лелька, она вузовка, весной она делала доклад о Шолохове и вот она жадно прислушивается к каждому слову Геньки. Видимо, он действительно на голову выше других: он разбирается не только в грунтах, но и в литературе.
Не всегда Генька был уверен в себе. Он начал, как и многие другие, с сомнений. Когда инженер Хохлов впервые ему объяснил, что такое взаимное тяготение станков, Генька тоскливо подумал: «Глуп я! Не понимаю! Вот просто не понимаю!» Год спустя он выступил с предложением расположить рамы в системе тандем. Хохлов его поздравлял: «Здорово! И как ты это быстро усвоил…» Генька мог бы ответить: «Учусь», или: «Не я один», но он был слишком счастлив, чтобы лицемерить. Улыбаясь, он сказал: «Это ведь только начало». Он знал, что ему предстоит большое будущее. Прошло несколько лет. Геньку Синицына теперь можно увидеть на трибуне, за столом президиума, на митингах, на деловых заседаниях. Одна Лелька его не оценила, но о Лельке он не хочет думать: это описка.
Генька обводит мир деловым и ласковым взглядом: это его мир. Машина на вид сложна, но если разобраться, все в ней просто и законно, надо только знать ее строение. Генька знает, как устроен мир. Он знает те великие идеи, которые определяют жизнь страны. Идеи он любит — они ему по росту, но к людям он равнодушен. Он изучил своих товарищей. Одни из них глупы, другие ленивы. Сенька повесил на стенку почетную грамоту и рад. Кудряшев влюблен в свою жену, вечером они долбят вслух немецкие спряжения или играют в шашки. Шварц ночи напролет читает романы, все вперемежку: после Леонова — Дюма, а после Конан-Дойля — Тургенев. Лещук обожает танцы. Генька среди них одинок. «Зачем тебе все сразу?» — говорила Лелька. А ему наплевать и на галстуки, и на танцульку, и на домашний уют. Он обедает теперь в столовке для итееров. Но разве он замечает, что перед ним на тарелке? За обедом он продолжает читать: мир хотя прост, но велик, а времени у Геньки мало.
Как прораб он строг и взыскателен. Он не станет болтать о том, что Лещук гуляет с Наташей. Он отмахивается, когда Кудряшев начинает рассказывать, как его годовалый сын уже знает четыре слова. Приятелей у Геньки нет. Он старается быть приветливым со всеми. Как-то у него вышла размолвка с Мишкой. Этот Мишка умный паренек, но лентяй. Генька сказал ему: «Ты что это читаешь? Толстого? Зря. С Толстым можно и подождать, взял бы ты лучше „Памятку землекопа“». Мишка разобиделся: «А Толстой для кого? Для тебя?» Генька ничего не ответил, но вечером, столкнувшись снова с Мишкой, он услышал, как тот пробормотал: «Гитлер!» Генька рассмеялся: «Ну какой же я Гитлер? У меня и усов нет. А ты, Мишка, не бузи. Если я тебе что говорю, это для твоей же пользы. Надо подымать квалификацию, вот что». Сказал это Генька добродушно, но Мишка, не сводя с него злых глаз, ответил: «Все равно, что без усов. Гитлер! Так и все говорят». Придя к себе, Генька развернул газету. «Речь Гитлера»… Он вспомнил слова Мишки, и впервые за все последние годы он смутился. Неужто ребята его не любят? С ними надо бы попроще… На вечерку, что ли, пойти? Выпить. Конечно, противно, но они это любят: значит, свой, не зазнается. Потом он сел за работу и тотчас же забыл и про Мишку, и про Гитлера, и про все свои сомнения.
Они снова встали перед ним месяца два спустя. Было это так: заглянув в барак к комсомольцам, Генька увидел женщину с грудным младенцем. Генька сказал: «Это, ребята, не дело. Раз комсомольский барак, надо соблюдать порядок». Байков ответил: «А куда мне деться, если в семейном нет местов. Я ребят спрашивал — имеете против, а они пустили. У них, понимаешь, в деревне жрать нечего, потому отец ее — единоличник, из-за телки с колхозом они поссорились. Дурак, теперь крапиву сушит, а здесь она на сплаве работает». Генька, однако, стоял на своем: барак показательный, нельзя заводить такое безобразье. Байков рассердился: «Ты-то домом живешь: жена, девчонка. Значит, только тебе можно?» Генька ответил не сразу. Он присел на скамью. Месяц прошел с того дня, когда соседка на темной лестнице сунула ему записку Лельки. Он забыл о своем горе, и вот оно снова перед ним. Ему захотелось ударить Байкова или крикнуть: «Скотина!» Но он сдержался. Он ответил спокойно, даже сухо: «Я не в бараке живу. А если на то пошло — пожалуйста: девочка у меня умерла, а с женой мы развелись. Так что и завидовать нечему». Он замолчал. В бараке стало тихо. Байков стоял смирно, опустив глаза; жена его теперь смотрела на Геньку грустно и ласково. Но Генька не сдался: «А к Байкову это не имеет никакого отношения. Дело ясное. Сюда он въехал как холостой, а потом семью выписал. С такими фактами надо решительно бороться». Тогда Байков подошел вплотную к Геньке и тихо сказал: «Значит, ты с женой развелся и другим нельзя жить?» Генька как будто и не расслышал его слов. Он сейчас думал об одном: комсомольский барак — его гордость. Он кровати раздобыл вместо топчанов, патефон достал для красного уголка, цветы повсюду поставили. Неужели все это пойдет на смарку из-за какой-то бабы? Развесит она здесь тряпье… «Знаешь что, Байков, вот тебе моя комната, а я здесь устроюсь. Дай мне только дней десять сроку: я теперь над изобретением сижу, а здесь тесновато». Сказав это, Генька быстро вышел из барака. Ему было не по себе: слова Байкова о Лельке его растравили. Он видел зеленую кофту на крюке и сугробы вокруг могилы.
Он прошагал несколько километров, прежде нежели успокоился. Наконец-то он нашел душевное равновесье. Он стал вспоминать разговор в бараке. Все хорошо обернулось. Насчет Гитлера — это Мишка бузит. Какой же он Гитлер? Вот взял и отдал комнату… Работать теперь будет трудно. Ничего — обойдется. Главное, ребята увидали, что он настоящий товарищ. По правде говоря, он к ним привязался. Да и Байков хороший парень! Только что вспыльчивый. А с женой ему действительно хлопотно. Вот когда Лелька была — сколько забот! Но вдвоем, конечно веселей… Впрочем, все это чепуха… «Гитлера» Мишка пустил. А ребята его любят. Разве он злой?.. Лелька его не поняла… Между прочим, и это к лучшему. Красникова вчера сказала: «Заходи вечерком». Будто насчет литкружка. Но разве Генька не видит, как она на него поглядывает? Прежде Генька робел. Сколько он вздыхал вокруг да около Васиной! А оказалось, что Васина только всем и говорила, что о Геньке. Тогда он думал, что не может понравиться никакой девушке. Особенно смущали его веснушки. С ужасом он глядел в зеркало парикмахерской: ну и рожа! Но вот Васину веснушки не испугали. Она говорила: «Ты Генька красивый…»
А Лелька? Она первая его окрикнула: «Генька, ты не спишь?..» Теперь Красникова… Могут пойти расписаться. Только комнату он отдал. Впрочем, жить вместе глупо. Пойдет руготня. Он с проволокой, она с пудрой. Лучше встречаться: больше чувств. Да и работать спокойно. Его проект ледяных дорог, наверно, отошлют в Москву. Оттуда придет «молния»: «Срочно выезжайте дачи разъяснений». А как уехать, если его поставили секретарем комсомола? Сколько впереди боев и побед! Красота!
Беда пришла неожиданно. 11 июня Цветкова задавил экскаватор. Хотя Генька и знал хорошо Цветкова — они с год работали вместе, — он не стал горевать: на то это стройка. Собрав рабочих, Генька произнес краткую речь. Он вспомнил, как работал Цветков, когда они строили мост возле Уймы: «Шесть дней подряд не ложился». Потом стали выбирать делегацию для участия на похоронах. Генька знал, что на первом месте будет его имя — так бывало всегда. Председатель сказал, «Значит, Синицын, Петряков и Овсеенко». Здесь-то и приключилась настоящая катастрофа. Старый землекоп Кобяков — Генька с ним всегда ладил — вышел вперед и сказал: «Если по производству выбирать, тогда Синицына. Но только похороны я понимаю так, что мы оплакиваем дорогого товарища и незачем нам для этого выбирать Синицына». Не дожидаясь, как отнесутся другие рабочие к словам Кобякова, Генька поспешно заявил: «Я и сам снимаю кандидатуру. Мне завтра с утра надо на третий участок». Он не слышал, кого решили послать вместо него. Он тупо глядел на стенной календарь: 11 июня — две черные палочки…
Весь вечер он просидел над планами: он готовился к поездке. Он старался не думать о происшедшем. Он проехал верхом сорок километров. Потом он пошел с Бутягиным осматривать работы; напрягаясь, он слушал длинные разъяснения. Когда они переходили через канаву, Генька упал: доска оказалась гнилой. Бутягин и Вася отнесли его в барак. Ночью у Геньки сделался жар. В тумане мелькали то две палочки, то зеленая кофта, то усы Гитлера… Он провалялся два дня, а потом встал. Оказалось, кость не повреждена. Но на душе у него было смутно и тревожно. Он понимал — произошло непоправимое. Впервые ему не хотелось итти на работу: там Мишка, Байков, Кобяков, и все они против Геньки. Как же это случилось? Виноват он. Он забыл, что люди мелки и ничтожны. Вот Стендаль, какой он замечательный писатель, а герои у него дрянцо. Почему ребята не взлюбили Геньку? Он просчитался. Прост-прост мир, а ошибиться легко. Хорошо бы послать их всех к чорту! Но без них Генька, как без воздуха. Значит, надо что-нибудь придумать. В газетах это называется «выправить линию».
Генька напросился к Паршиным на вечерку. Пил он много, не отставая от других. Но он не пьянел, трезвыми и жесткими глазами глядел он на веселившихся товарищей. Сначала парни пили одни — девчата шушукались в соседней комнате. На столе стояли четыре литровки. Козлицкий, хватая рукой селедку, приговаривал: «У селедочки хвост, а у Манечки чего?..» Рыжая Манечка показалась на минуту и прыскала. Девчата в ожидании танцев говорили о том, что Сонька заплатила за туфли в комиссионном сто сорок. Не иначе как Белкин… Потом завели патефон. В углу Паршин и Горбунов мяли девчат. Генька не выдержал и, воспользовавшись тем, что все столпились возле Наташи, которая свалилась без чувств, вышел на улицу.
Была июньская ночь, и высокими дискантами перекликались птицы. Геньке показалось, что он вышел из глубокой шахты. Он даже улыбнулся косому лучу солнца, взобравшемуся на мезонин. Потом он вспомнил о вечере. Нет, никогда он не сможет сговориться с этими людьми! Зачем лукавить — он их презирает. А они?.. Они его ненавидят: «Гитлер!» Но без них ему не прожить. Значит конец. Генька подумал, что 11 июня — это дата, с нее пошли неудачи. Его проект ледяных дорог будет забракован. Кранц скажет: «Неуч и нахал». Секретарем комсомола поставят Мезенцева. То, что Мезенцев глуп, никого не испугает: глуп, зато свой. Мезенцеву ничего не стоит подружиться с тем же Кобяковым. Будут горланить песни и рассказывать друг другу о семейном счастьи. Вот говорят, что Мезенцев женится на Варьке Стасовой. Какая все же ерунда жизнь! Но жить чертовски хочется, только жить ему не дадут. Суеверный страх охватил Геньку: он возомнил себе неудачником, вся его жизнь теперь делилась на две эпохи — до 11 июня и после. Он не знал, что делать.
Может быть, направляясь два дня спустя к Красниковой, он хотел проверить, действительно ли ему изменила удача. Он шел сутулясь и сухо думая о своем несчастьи. Красникова в те минуты для него была только именем и адресом. Он не видел ее лица. Он не мечтал ни о любви, ни о ласке. Но когда Красникова, увидев его, радостно крикнула: «Неужто Генька!» — он сразу очнулся. Он почувствовал, что он жив. Всю свою страсть к жизни, тревогу последних дней, надежду, отчаяние, он все вложил в те поцелуи, которые так глубоко потрясли Красникову. Он был нетерпелив, даже резок — он боялся, что счастье может ему изменить. Его жесты были полны чувств: здесь сказались сложные и мучительные переживания, заставившие Геньку притти к Красниковой. Но в душе он был спокоен и холоден. Он следил за Красниковой и за собой. Это не было ни нежностью, ни страстью: он просто проверял свой жизненный путь. Была впрочем, минута, когда, забывшись, он испытал короткую радость, но даже эта радость была злобной: он больно сжал ее плечо, и она вскрикнула. Потом он пришел в себя, стал снова вежливым, пригладил чуб и, впервые назвав Красникову по имени сказал:
— Что, Наташа, хорошо?…
Она ничего не ответила. Она лежала на узкой складной кровати, повернувшись лицом к стене. Она была на два года старше Геньки, но разгадай Генька ее мысли, они показались бы ему ребяческими. Она не знала жизни и боялась ее. Ей казалось, что она ни на что не способна. Она работала в Лесном институте. Работе она отдавалась страстно и недоверчиво. Жила она не в городе, да и не в лесу, но в том особом мире, где каждое слово обозначало для нее годы труда и борьбы: клепка, лущение, шпон, слипер, баланс, окорка, филенки, кромка, калевка. Ее считали хорошей работницей, но она упрекала себя в глупости и в лени. Когда ее заставили прочесть в литкружке доклад о Шолохове, она несколько недель ходила как потерянная. Может ли она понять, что такое стиль, композиция, характеры, сюжет? Жизнь героев Шолохова ей представлялись величественной и загадочной. Он понял, но ведь он писатель, а у нее нет ни таланта, ни душевного опыта. Как же она будет говорить о таких высоких вещах? Она никогда еще не была влюблена, и вот сейчас она должна понять столько новых чувств. Она лежала потрясенная, подавленная. Слова Геньки вывели ее из этого томительного полусна. Она повернулась к нему и внимательно на него поглядела. Ей показалось, что она видит его впервые. Это был хороший парень, она любила его слушать, он говорил с жаром и толково. Когда он долго не приходил в библиотеку, она начинала скучать. Но разве полчаса назад, когда она радостным криком встретила Геньку, она могла подумать, что между ними произойдет вот это?.. Ей казалось, что все приключилось помимо их воли, и, глядя на Геньку, она искала смятения, Но она увидела его глаза, светлозеленые, спокойные, они приветливо улыбались. Генька взял со стола какую-то книжку и начал ее перелистывать. Она молчала. Тогда он спросил:
— Ну как ты Панферова осилила?
Красникова встала, в изумлении она подошла к нему, она даже дотронулась слабыми холодными пальцами до его руки, как будто проверяя, кто перед ней.
— Нет. То есть я не о книге. Я, Генька, не понимаю. Так нельзя. Понимаешь нельзя.
Генька отложил книжку и, добродушно улыбаясь ответил:
— Почему нельзя? Кажется хорошо обоим. Можем и расписаться, если хочешь…
Геньке теперь казалось, что он любит Красникову. Правда, с лица она ему не нравилась: была в ней какая-то болезненность — в чересчур белой коже, в кругах под глазами, в тонкости очень бледных, будто проглоченных губ. Но сейчас он не думал об этом. Он был признателен Красниковой за то, что она избавила его от тяжести сомнений, и в избытке нежности он сказал:
— Одним словом, как в романах… Понимаешь — с любовью…
Он сказал это просто и дружески. Тогда Красникова отошла снова к кровати, машинально поправила подушку и тихо проговорила:
— Уйди, Генька… Я тебе сказала: я так не могу. И больше не приходи…
Она стояла молча: она ждала, когда он уйдет. Он медлил. Он думал сначала, что это шутка, что Красникова раскапризничалась, что стоит ее приласкать, и все пройдет. Но она упрямо повторяла: «Уйди». Ее лицо было сухим и сжатым. Только когда он вышел, хлопнув дверью, она свалилась на кровать и начала громко, по детски всхлипывать.
Генька хлопнул дверью не в сердцах — он переживал всю боль расставания. Ему казалось, что он любит Красникову и что здесь он теряет свое счастье. Впрочем, состояние это длилось недолго. Ночной воздух быстро оживил и рассеял его. Он даже подумал: хорошо, что кончилось — как тогда, после вечера у Паршиных. Он пошел ночевать к Терешковичу. Итти было далеко, и по дороге он успел все передумать. Может быть Красникова и права: ни к чему это. У нее своя жизнь, у Геньки своя. Главное — неудачам теперь конец. Генька еще может нравиться. Теперь все пойдет хорошо. Кранц, наверно, одобрит проект. Одно обидно: почему Красникова сказала: «Так нельзя»? Как? разве у него не было чувств? Разве он не способен переживать? Почему она его обидела? Вот и Лелька… Очевидно, женщины представляют себе многое иначе. Впрочем, зачем ему об этом думать? Он не писатель, не Шолохов, у него другие заботы. Он может и вовсе обойтись без женщин: работать, читать, выступать на собраниях, руководить.
Дня через три, приободренный победой над Красниковой, он решился пойти к Кранцу. Начало беседы Геньку настолько взволновало, что он даже вскочил и пробежался по длинному кабинету. Кранц ему говорил:
— Я понимаю, что у тебя по партийной линии много работы. Но я поставлю вопрос в горкоме. Способности у тебя необычайные. Необходим втуз. Я поговорю с Голубевым.
Он еще долго убеждал Геньку учиться — из него выйдет замечательный инженер. Север только начинает просыпаться: сколько работы впереди! Генька слушал его рассеянно. Он понимал, что та звезда, которая вела его с детства, сияет высоко, ясная и безупречная. Лелька? Кобяков? Мезенцев? Это букашки, они где то внизу. Он один с высоко поднятой головой идет прямо к цели. Когда Кранц на минуту замолк, Генька, смяв от волнения листки с дальнейшей разработкой своего проекта, спросил:
— А как насчет предложения?
— Да о чем я и говорю? Изумительно! Даже где сплошная белиберда, и то чувствуются огромные способности. Только знаний нехватает. Ты там такое накрутил, что смех берет. Хорошо, что ты не попал на какого нибудь молоденького инженера, знаешь — свеженький — рад, что научился, и презирает все и всех. Я то к этому иначе подхожу. Меня в данном случае не проект занимает, а ты…
Генька встал и не попрощавшись вышел. Он ненавидел маленького толстого Кранца: вот таких рисуют в «Крокодиле». Бюрократ! Как он ловко издевался над Генькой. «Способности»! Пока что, садись за начальную геометрию. Вокруг Геньки заговор. Хорошо в Москве: там есть к кому пойти, там человеку не дадут зачахнуть. А здесь — болото. Нравится им Мезенцев и точка. Здесь не хотят ни страсти, ни порыва, ни исключения. Генька здесь задыхается. Другие отводят душу на романах или на девушках. Но Геньке наскучили романы. Он прочел и Толстого, и Стендаля. Читаешь — оторваться не можешь, а потом, кончишь задумаешься, к чему это все — скука, жалко потерянного времени. Для Геньки сам Генька куда интересней и Жюльена Сореля, и Болконского. А с женщинами попадаешь в иной мир: это тепло хлева, ощущение свежераспаханной земли, люди чешутся, потеют, спят. Это хорошо для дерева — пускать корни и цвести. Генька не может сидеть спокойно: он должен двигаться. Пойти снова к Красниковой? Купить комод? Плодиться? Но Генька не создан для этого. Почему Кранц отнесся к Геньке формально? Он не понимает, что Генька другой. Этот Кранц…
Генька теперь беседует с Голубевым. Голубев, весело посмеиваясь, спрашивает:
— Что же этот Кранц?
— Чорт его знает что. Крючкотворец. А может и хуже — вредитель.
Голубев продолжает смеяться.
— Никакой он не вредитель. И не крючкотворец. Я ведь твою историю знаю. Он мне рассказал. Говорит: «Боюсь, что Синицын разобиделся. А я его, между прочим, очень ценю. Надо его загнать во втуз». Так что оставь ты его в покое. А раз мы с тобой разговорились, я тебе прямо скажут: так легко и свихнуться. Я ведь знаю, что ты умница. И работаешь здорово. Можно на тебя положиться. Но вот с ребятами ты не поладил. Это плохо. Ты, главное, на меня не сердись. Тебе сколько лет? Двадцать четыре? Ну вот, а мне сорок семь — вдвое больше. Это я тебе не к тому говорю, что я вдвое умней. Бывают и старики дураки. А у вас теперь жизнь замечательная: за один год можете большему научиться, чем мы когда-то за десять. Я почему о возрасте заговорил? Чтобы ты не обижался. Мишке нельзя, а мне можно. Дети у меня самого еще маленькие, а могли быть комсомольцы. Так что я тебе в отцы гожусь. Хороший ты парень. И вообще и в частности. То есть мне как-то по душе. Вот ведь какой чуб отрастил! Наверно, упрямый. Так ты послушай: нельзя переть напролом. Надо все-таки и с людьми считаться. Вот и с этим проектом у тебя то же самое. Налетел на Кранца. А этот Кранц добряк. Он с удовольствием тебя хоть в райком посадит. Я в твои годы куда глупей был. Из гимназии меня выперли. Работал в партии. Помню, в Москве это было. Выступал покойный Дубровинский — Иннокентий. О роли столыпинских хуторов. Я и решил: что-то он не то говорит. Дай-ка я его разнесу. Но сейчас же думаю: а вдруг я не прав? Надо подумать. Подумал и вижу, а ведь прав действительно. Иннокентий. Это мелочь, не знаю даже, почему вспомнил, но я это к тому, что как же на человека так кидаться? Очень у тебя амбиции много: и ударник, и изобретатель, и то, и се. Это конечно, замечательно, но ты все таки не зарывайся. Перед вами, кажется, все открыто. Что же ты войну начинаешь, будто ты в крепости? Это ты, Генька, брось! Нельзя так жить — неинтересно. Теплоты в этом нет. Да и пользы для партии мало. Лучше чем-нибудь поступиться, а жить с людьми, не как ты — сам по себе…
Генька не возражал, он и не соглашался, слова Голубева как будто не доходили до него. Его сердце сейчас было наглухо закрыто. Он проверял умом: прав Голубев или не прав? Получалось, что не прав. Конечно, надо стараться поладить с ребятами — это он и сам знает. Но надо также стараться выдвинуться: так создаются вожди. Насчет Иннокентия — просто ерунда. А в общем Голубев начал сдавать. «Как отец» — вот так аргумент для дискуссии — «папаша»!
Все это Генька передумал поздней, когда остался один. Голубеву он ответил уклончиво: «Насчет Кранца я, может быть, и ошибся. Но проект в общем дельный». Голубев почувствовал смятение Геньки и обещал сам просмотреть его проект. На этом они расстались.
Несколько дней спустя было совещание в горкоме: хотели обсудить различные кандидатуры. Генька решил соблюдать полное спокойствие. Наверно, все начнут расхваливать Мезенцева. Что же, Генька подождет. Он засядет за работу. Может быть, он в проекте и напутал. Надо тогда исправить. Кроме того, он напишет большую корреспонденцию в «Комсомолку» о проблемах, нового быта. Он свое возьмет. А сейчас пусть они хвалят Мезенцева. Генька и сам скажет, что Мезенцев — хороший работник.
Перед началом заседания Голубев спросил Геньку: «Как дела?» Генька ответил веселой улыбкой. Он больше не думал о коварном Кранце. Всей душой он был с товарищами. Как всегда, это ощущение близости веселило его; вот ссорятся они, ругаются, но это — одна семья.
— Слово принадлежит Ушакову.
Генька знал, что Колька Ушаков повсюду следом ходит за Мезенцевым. Сейчас он начнет превозносить своего приятеля. Но Ушаков говорил о Геньке. Он перечислял все достоинства Геньки. Он рассказал и о бараке, и о стенгазете, и о докладах на международные темы.
— Синицын на редкость способный комсорг.
Слушая Ушакова, Генька невольно улыбался: он не мог скрыть своего удовлетворения, и в то же время он ожидал подвоха. Чем это кончится? Он то нервно кивал головой, то стучал пальцем по столу. Наконец то Ушаков перешел к отрицательным сторонам работы Геньки: Генька не знает снисхождения. Особенно резко Ушаков критиковал подход Геньки к беспартийным. Он обвинил Геньку в высокомерии. Кончил он так:
— Нельзя отрываться от масс! Почему ребята ругают Синицына? Очень понятно: он на них смотрит сверху. Я, конечно, не отрицаю всех его качеств. Но надо прямо сказать, что на первом плане у него вовсе не интересы комсомола, а свои собственные: как бы себя показать. А такие настроения, товарищи, бесспорно чуждый нам элемент.
Обычно Генька и сердясь сохранял улыбку. Но теперь он не улыбался. Его лицо светилось такой злобой, что Голубев поглядел на него и не выдержал — отвернулся. Генька говорил быстро, не останавливаясь:
— То есть как это чуждый элемент? У меня жизнь не двойная. Вы можете меня о чем угодно спросить — я за каждый мой поступок отвечаю. Конечно, я ошибаюсь частенько. Это с каждым случается. Но только я не чуждый элемент. Я, товарищи, рабочий и по жизни и по происхождению. Для себя лично я ничего не хочу. Можете проверить, сколько я вырабатываю. Вот в вуз меня гонят. А я боюсь от ребят оторваться. Если мы с ними ругаемся, это от условий. Устают, как черти, а здесь я ошибусь в каком-нибудь слове, и готово. Но вы меня от них не оторвете: это моя семья. Кто тебе, Колька, дал право говорить, что я чуждый элемент? Это уже пахнет заговором. Почему Мезенцев сам этого не сказал, а подослал Кольку? В таком случае я спрошу вас одно. Хорошо. Мезенцев для вас пример. Он умеет обращаться с массами, не то что я. Почему же такой Мезенцев позволяет себе абсолютно всё? Понравилась ему девушка, он взял да женился. Ему, например, наплевать, что она действительно классово-чуждая…
Мезенцев прервал Геньку:
— Это ты, Синицын зря. Зачем врать?
— То есть как это зря? Если я говорю такое, да еще на ответственном совещании, значит у меня имеются факты. Почему ты мне говоришь, что я завираюсь? Как будто ты сам не знаешь, откуда твоя Варька Стасова. Но раз ты меня оскорбляешь, я должен это сказать. Можете проверить, если угодно. В Уйме ее отец — раскулаченный. Этой весной колхозники хотели просить, чтобы выслали его. Он мутит: то будто индивидуальных коров отымут, то насчет ширпотреба, что закинули гнилой. А когда сказали ему, что вышлют, он стал плакаться: «У меня дочка на заводе работает, в комсомолки записалась, а я сам скоро сдохну — видите, и ходить не могу». Он вроде как паралитик. Ходить не ходит, а говорит, как мы с вами. Такое там разводит! Одним словом, типичный кулак. Я между прочим, хочу быть абсолютно справедливым. Я сразу заявляю, что Стасов говорит, будто дочка у сестры его жила — в Холмогорах, а сестра батрачила. Так что дело это темное, и будь Мезенцев рядовой комсомолец, я не упомянул бы об этом. Но раз его ставят в пример, я могу спросить: почему ты женился на классово-чуждой, а потом еще заметаешь следы, и выходит Ушаков и говорит, что чуждый элемент — это Синицын? Разве трудно отказаться от девчонки, если в дело замешаны…
Немного успокоившись, Генька взглянул на Мезенцева. До этой минуты он глядел прямо перед собой, никого не замечая. А теперь, увидев Мезенцева, он сразу осекся:
— Если в дело замешаны… Собственно говоря, я уже все сказал…
Он больше не мог отвести своих глаз от глаз Мезенцева. Да что это с ним?.. Вот так Лелька глядела, когда Даша умерла. «Оставь меня с ней!..» Чорт, как все это вышло!.. Генька забормотал:
— А в общем ерунда… То есть, может быть, насчет тетки это правда… Одним словом, я не ставлю так резко вопроса…
Мезенцев встал, большой и грузный: горе как будто сделало его тяжелым.
— Обожди! Такое нельзя замазывать. Я, товарищи, про это в первый раз слышу. Вот вам мое слово комсомольца. А если так, можете меня судить. Вот и билет мой, если я его недостоин.
Он сел, казалось — он свалился на скамью. Все взволнованно зашумели. Голубев предложил перенести заседание на 16-е и, воспользовавшись общим смятением, Генька выбежал на улицу.
Он сразу понял, какая ночь ему предстоит. Он быстро шагал. Он убегал от глаз Мезенцева. Но глаза не отставали, они значились прямо перед глазами Геньки: среди строящихся домов, среди розовой пыли, среди облаков и грустных деревянных домишек. Они были повсюду, и они в эту ночь были жизнью Геньки. Так, он вспомнил все: и записку Лельки, и слова Красниковой, и то, как его обидел Кобяков: «Если плакать, выберем другого». Почему никто не понял его? Он любил Лельку. Он не хотел с ней расставаться. Если бывал он груб — надо понять: изобретение, работа, устаешь за день… Нет, люди не понимают друг друга! Он и Красниковой не хотел зла. Он думал: обоим будет приятно. Откуда ему было знать, что у нее на душе? А с ребятами… Да ведь это его жизнь. Скажут завтра «умри», вот как Цветков умер, разве он испугается? Сколько раз он был на волосок от смерти! Если он не плачет, разве это его вина? Каждый переживает по-своему. Да и нельзя теперь плакать, время не такое — загрустишь, и сразу вся работа остановится. Он не хотел обидеть Мезенцева. Это честный парень. Стасов говорил: «Моя дочь в комсомоле». Но кто их там разберет? Может и правда, что Варька жила не с ним? Только почему Мезенцев так взбеленился? Он-то ведь знает, что да как, а прикинулся, будто это для него новость. Неужели она от него скрыла? Хотя с бабами ничего не поймешь. Глупо вышло. Очень глупо. Теперь ему здесь не жизнь — пальцами будут показывать: товарища хотел потопить. А он никого не хочет топить. Пусть Мезенцев будет секретарем. Так даже лучше. Дело не в этом. Надо внутри иметь опору. А когда грызет, как теперь, руки опускаются. Жить не хочется — правда…
Генька с изумлением повторил вслух: «Правда». Это с ним было впервые: ему не хотелось больше жить. Он был настолько потрясен новым ощущением, что даже приостановился, как будто кто-то его окликнул. Он поглядел вокруг и увидел, что добежал до кинематографа. Сеанс как раз кончился, и Генька машинально считал, сколько проходит людей. Вдруг он заметил в толпе Лельку. Она шла с какой-то девушкой. Кажется, это Нюта… Он подбежал к Лельке, он сам не знал, зачем он это делает. Не здороваясь, он остановился прямо перед ней. Надо что нибудь сказать! Лишь бы не прогнала! Тогда он снова останется один. Наконец он сказал:
— Значит, в кино ходила?
— Да.
Они шли молча. Леля с недоверием поглядывала на Геньку. Он долго мялся, потом сказал:
— С Мезенцевым какая-то чепуха получилась. Знаешь Варьку? Ну вот, а она кулацкая дочь.
Леля ничего не ответила. Вмешалась Нюта:
— Я ее тетку знаю. Она с теткой жила, а тетка ее в сельсовете. И зачем это зря болтать?
Генька поспешно забормотал:
— Тетку знаешь? Значит, чепуха? Ну и хорошо. Он то выгородится. Но у меня это здесь сидит. Как-то все не так получилось. Ты послушай, Лелька. Так и с тобой. Ты что думаешь, у меня и чувств нет? Что со мной было, когда я твою записку прочел! Я, может, больше твоего страдаю.
Его голос срывался от боли. Ему теперь казалось, что он мучается оттого, что Лелька его бросила. Он готов был все отдать, только чтобы она осталась с ним. Леля попрежнему молчала, но на сердце у нее было тревожно: голос Геньки доходил до самых глубин. Кто знает, что бы она ему ответила, не вмешайся в дело Нюта:
— Да брось ты ее мучить. Только-только она успокоилась, а ты прежнее растравляешь. Я ведь знаю, что ты с Красниковой живешь. Зачем же тебе Лелька понадобилась? Дай ты ей жить спокойно.
Генька не стал спорить. Махнув рукой, он убежал прочь. Белая ночь еще длилась; да и не могла она кончиться — она была днем. Неживым и недобрым светом она заполняла улицы города. Генька бежал не останавливаясь: он как будто хотел измерить длину этой мгновенной и нескончаемой ночи, длину широких пыльных улиц, длину своего одиночества.
4
«Необыкновенная у нас жизнь», — сказала Лидия Николаевна Штрему. Они сидели тогда в сквере, среди мусора и пыли. Штрем не понял, о чем говорит Лидия Николаевна, да и не мог он ее понять — жизнь Лидии Николаевны была весьма обыкновенной: случайные связи, аборты, неудачное замужество, гастроли в провинции, морозная сцена, режисер, который мимоходом тискает актрис, приговаривая «Рельеф не тот», кожа, воспаленная от дурного грима, изо дня в день те же заботы: починить туфли, отложить пятнадцать рублей на сахар, попросить Попова — чтобы записали на чулки. Но у Лидии Николаевны были глаза и сердце. Две недели спустя после ночной беседы со Штремом, она снова попала в тот же сквер. Она не узнала его. Перед ней синели цветы, и цветы эти пахли югом. Возле решетки она увидела яблоню. Она любила яблони с детства. Их весенний цвет походил на глупые сны неуклюжей девчонки, а осенью, когда яблоки падали, этот шум, глухой и важный, заставлял сильнее биться сердце Лидии Николаевны, которую тогда еще звали Лидой. Выдержит ли яблоня здешнюю зиму? И тотчас же Лидия Николаевна улыбнулась: а ботаник? Разве он не обещал сделать из тундры Гурзуф?
Лидия Николаевна была мелкой провинциальной актрисой. Косой солнечный луч на минуту прорезает комнату, пылинки кружатся и золотятся.
Все было необыкновенным в сухой, будничной, что ни есть обыкновенной жизни. Сидел Голубев и, поругиваясь, листал книжку: «Кролики чрезвычайно подвержены насморку, и в крольчатнике надлежит поддерживать…» Он читал, ругался, а потом не выдержал и окликнул Машу:
— Нет, ты понимаешь? Изучаю болезни кроликов. Ну что ты скажешь? Сорокинские станки изучил. Станки Спицына изучил. Правку пил изучил. Травматические повреждения рабочих при навалке знаю. Программу курсов для вербовщиков на лесозаготовки составлял. Могу тебе рассказать, как получаются пропсы из тонкомерных фаутных хлыстов. Вот я раньше знал, что такое порок сердца. Ерунда! Разве это может сравниться с пороками сердцевины или ствола. Это, Маша, наука! Метики, подсушина, сухобокость, косослой, водослой, серянка, прорость, отлуп, пасынок, крень, сбежистость, короед, краснина… Тьфу! За один год из нефтяника превратился в лесника. А здесь еще кролики выступают на сцену. Сегодня прибежал Егорка, говорит: «У кроликов понос». Вот и сел за эту премудрость, а то возьмут они, черти полосатые и сдохнут…
Маша вздохнула и сказала:
— Там тебя кто-то спрашивает. Я не пускала — думала ты спишь.
Пришел Чижов, и Голубев, забыв о кроликах, начал бушевать:
— Миски у тебя какие? Это что, балерины у тебя едят или сплавщики? Я говорил Фадееву: супа давать один литр с четвертью, не меньше — понимаешь?..
На почте сидела заспанная Дашкова. Она кричала в телефон.
— Алло, Жар? Манька? Запиши телеграмку «Холмогоры совхоз Алексееву». Записала? «Корова ударница имя Немка умерла ревматизма точка». Дура ты, чего смеешься? Слушай, я дальше говорю после точки, «Просим обсудить вопрос продаже Холодной или Миляги точка. Просим также предоставить производителя Боевика точка. Подпись Шуев». Зачитай-ка. Слушай, Манька! Запиши еще телеграмку. «Котлас Лесоэкспорт Кончакову. Максимум утопа при молевом сплаве для пропса пять процентов точка. Если утери превосходят норму выезжайте дачи объяснений точка. Шурыгин». Манька, валяй третью. «Усть-Цыльма Печорская опытная станция Борисову. Молнируйте рост шенкурского кормового гороха. Подпись Лясс». Л — как Любка. Да ты что, ботаника не знаешь? Который лает…
Дашкова кончила диктовать. Улыбаясь во все свое широкое, скуластое лицо, она кричит:
— Алло! Ты Манька? Слушай, а наши-то в стратосферу поднялись. Вот тебе слово — сейчас газету принесли. Выше всех. Так и напечатано, что капиталисты не взлетели, а мы взлетели. Интересно как! Я уже и Никитину поздравляла.
Дашкова рассмеялась, и сразу весь сон с нее сошел. Она сидела и радовалась, Манька не понимает, а ведь вот куда забрались! Оттуда до звезд недалеко…
Забельский, как всегда пьяный бубнил:
— Чорт знает что! Ни-че-ro не понимаю! Я отправил моего сеттера-лаверака в Ленинград. К брату. Знаешь, сеттер у меня был — медальер. Там ему паек выдают, а здесь он чуть чуть с голоду не сдох. Это — теза. Теперь антитеза. Во-первых, приезжает сюда живой академик. Они, черти, собираются на полюсе помидоры разводить и не иначе, как под надзором великих умов. Почему же я моего сеттера в Ленинград отправил? Дальше: гастроли московской оперы. Значит, абсолютная колоратура. И наконец, в довершение всего — не угодно ли читай: «Выставка породистых собак». Нет, ты понимаешь? А мой в Ленинграде. Теперь спрашивается — каков же синтез?
Белкин отвечал:
— Синтез? «Любительская» — вместо сорока пятьдесят шесть.
Перехватив «любительской», Белкин решил пойти на реку выкупаться. Он отплыл от берега метров пятьдесят, стал что-то кричать, а потом нырнул. Больше его не видали.
В курортном отделе разрабатывали проект организации трех курортов краевого значения: Красноборска, Сольвычегодска и Тотьмы. Приятель Мезенцова Сенька Шатов получил путевку в Тотьму: на сплаве он схватил жестокий ревматизм. Тотьма приняла сто тридцать больных: ревматиков и неврастеников. Разместили их в бараке. После ванн курортники шли в церковь, темную и сырую: там помещался клуб. Под потолком еще можно было различить огромную богородицу с носом, похожим на птичий клюв. Ее обрамляла надпись: «Здоровое тело необходимо для успешного выполнения второй пятилетки». Больные играли в шашки или слушали хриплый патефон. Вокруг церкви находилось кладбище; его решили превратить в плодовый сад, и неврастеник Гольдберг, сотрудник финотдела, вопил: «Я не могу этого видеть! Поглядите, ведь это совершенно нетронутый труп». Гольдбергу прописали соленые ванны. Сенька Шатов написал Мезенцеву письмо: «Здорово, Петька! Играю в волейбол и вообще совершенно выздоровел. Как ребята? Здесь, конечно, скучища. Книг нет. Прочел всего Панферова. Потом техническую — кто-то забыл — „О борьбе с малярийным комаром“. Может, судьба занесет в Среднюю Азию — там пригодится. Приеду 2-го, если будет пароход. С приветом Шатов».
Труп Белкина вытащили. Он долго лежал на берегу, обсиженный мухами. Потом Захар пришел к Файну и сказал: «Дайте вы мертвецу направление! Пахнет он…»
«Мы воткнем на самый полюс наш советский флаг, а полюс мы здорово используем, потому что там, наверно, много полезных ископаемых», — так говорил на школьном собрании Васька-общественник.
Из колхоза «Красный север» приехал обоз с хлебом. Колхозников чествовали в Доме колхозника. Им выдавали чай с монпансье и лепешки, обсыпанные тмином. Колхозники чай пили медленно, потея и ухмыляясь. С речью выступил Швагин:
— Я это прямо скажу, что великое дело — колхоз, если, например, я получил шестьдесят трудодней за стихию. Да будь это раньше, пошел бы я побираться, раз мы с женой провалялись в сыпняке два месяца. А теперь я, можно сказать, обеспечен с другими: потому в правлении колхоза признали, что сыпняк — это такая стихия, и насчитали мне шестьдесят дней сверх. А если у нас теперь сила над этой стихией, значит можно спокойно пить чай и гордиться, что «Красный север» первый сдал хлеб, не то, что «Великий трактор» или даже «Роза»…
Швагину отвечал секретарь райкома Брусков. Он говорил о роли политотделов, потом, засмеявшись, он добавил:
— Насчет стихии это ты правильно сказал. Мы эту стихию бьем на всех фронтах. Мы скоро будем белые булки печь — из здешней муки. Морозы — это тоже стихия, а мы ее не боимся. Скажем, что растет здесь пшеница, она и вырастет.
Швагин поставил блюдечко на стол, откинулся назад и стал долго, старательно смеяться. Смеялся он сложно: то с переливами, то басом, сбиваясь на собачье ворчанье. Смеясь он приговаривал:
— Ну это ты загибаешь!.. Белые булки…
Швагин думал, что Брусков решил его рассмешить и, довольный жизнью, он вволю смеялся.
Недалеко от Дома колхозника, который помещался на окраине города в двухэтажном деревянном домишке, сейчас тоже раздается собачье ворчанье. Но здесь ворчат двое: лохматый пес по прозвищу «Урс» и человек. Причем самое поразительное это то, что человек, как и пес, стоит на четвереньках. Они ворчат друг на друга, а всю сцену наблюдает шестилетний Мишка, сын огородницы Ксюши. В восхищении Мишка спрашивает:
— А ты что ему говоришь?
Человек отвечает:
— А я ему говорю: «Это кость моя, не смей ее трогать».
— А он что говорит?
— Он говорит «Хочу взять».
После этого человек опять поворачивается ко псу. Теперь человек издает странные пронзительные звуки, а пес зычно лает. Мишка озабоченно спрашивает:
— А теперь ты что говоришь?
— Теперь у нас разговор серьезный. Я ему говорю: «Здесь кошка». А он, дурак, кошек не любит. Весной подошел он к кошке, по-хорошему. Но только кошачьих порядков он не знает, ну и стал ее нюхать. Кошка, понятное дело, ему бац по морде. Поцарапала. Он с тех пор кошек видеть не может. Из себя выходит. Вот я ему и говорю: «А кошка здесь».
— А он что говорит?
— Он хорохорится: «Не боюсь кошек. Никого не боюсь. Я эту кошку съем!». Только он говорит говорит, а на самом деле он боится. Боится и не боится: он ведь не такой уже глупый. Он понимает, что я это с ним театр разыгрываю. Но все-таки страшновато: а вдруг у меня и вправду кот за пазухой?
Разговор продолжается еще долго. В нем принимают участие, кроме Урса, Мушка, Байбак и Пропс: у Ивана Никитыча четыре собаки. Каждая из них чем-либо знаменита.
Урс молод, но хитер. Когда Ксюша готовит мясные щи, Урс ходит вокруг, заглядывает в глаза Ксюши и умильно стонет. Такая у него любовь изображена на морде, что Ксюша, не вытерпев, отливает ему в миску щей. Она говорит: «Собака, а чувствует…» Она убеждена, что Урс понимает ее душу. Не то, что люди! Вот Никетка: лапать — это обязательно, а разве он посидит с ней когда нибудь, разве спросит, что у нее на сердце? Скотина, она носом чувствует, какое у человека сердце. Так думает Ксюша. А Урс?.. Напрасно Ксюша зазывает его, когда щи у нее пустые: Урс сразу перестает интересоваться человеческими чувствами. Смышлен он на редкость и в поноске первый. Иван Никитыч говорит: «Этот далеко пойдет. Только, мерзавец: длинный рубль любит…»
Пропса вырастил сплавщик Евдокимов, тот, что прошлой весной утонул. Пропс тогда все ходил по берегу и плакал. Звали его рабочие в барак — не шел и еды не брал. Когда вытащили тело Евдокима, Пропс кинулся было с веселым лаем, потом понюхал, поджал хвост и отошел в сторону. Можно сказать, что в эту минуту его собачья душа надломилась. Раньше он был веселым, пугал воробьев, катался с визгом в траве. Евдокимов научил его служить, и он смешил всех сплавщиков: станет на задние лапы, хвостом подопрет зад и стоит. Сразу он поскучнел, постарел. Покажи ему кость, все равно служить он больше не будет. Живет он теперь у Ивана Никитыча, но частенько пропадает дня на три, четыре. Потом возвращается, скребется в дверь. Никто не знает, куда это он ходит. Ксюша как-то сказала: «Его постегать надо, чтобы не шлялся». Но Иван Никитыч ей строго ответил: «Пропс — собака серьезная! Если он ходит, значит у него свои дела А бить его нельзя — он такой обиды не вынесет».
Байбак с виду на байбака никак не похож. Это старый, облезший пес. Скорей всего кто-либо из его предков был лягашом. Байбаком он прозван за сонливость: спит круглые сутки. На охоту он никогда не ходил, сторож никакой; трудно понять, почему Иван Никитыч так привязался к этой грузной, скучной твари. Иван Никитыч говорит: «Умней его не найдете. Только другие техники, а это поэт. Вы посмотрите, как он во сне взвизгивает, лапками перебирает, плачет, зубы скалит от удовольствия. Я гляжу и думаю: какие только сны ему снятся!..»
Что касается Мушки, то Мушка — личный секретарь Ивана Никитыча. Никогда он с ней не расстается. Он берет ее с собой во все экспедиции. А когда он выступает с докладом в клубе научных работников, Мушка сидит у входа и сторожит рыжие рваные калоши. Это маленькая собачонка на коротких лапах, коричневая с черными подпалинами. Как то Брусков, выйдя из клуба вместе с Иваном Никитычем, спросил: «Мушка-то ваша какой породы?» Иван Никитыч ответил: «А той же, что и Байбак — потомственная дворняжка».
Прежде люди посерьезней думали, что собаки у Ивана Никитича особенные: все же человек он выдающийся, к нему из Москвы ученые приезжают, он книгу написал: «Гибрид ржи и пшеницы». Наверно, и собак он держит с научной целью. Но Брусков всем рассказал: «Сам смеется — дворняжки…» Теперь, встречая ботаника с Мушкой или Пропсом, люди улыбаются: ну и чудак! Впрочем, чудачество ему охотно прощают: как никак, это гордость города.
А детвора твердо верит, что Иван Никитыч умеет разговаривать с собаками по-собачьи. Васька-общественник часто просит Ивана Никитича: «Составьте собако-человеческий словарь!» Иван Никитыч в ответ никогда не смеется. Он говорит: «Работы у меня сейчас много. Но вот освобожусь — обязательно составлю».
Кроме ребят в умение Ивана Никитыча разговаривать с собаками верит и Лидия Николаевна. Приходя к ботанику, она сама превращается в девочку: это лучшие часы ее жизни. Попов дразнит: «Втюрилась ты в этого ботаника». Лидия Николаевна краснеет и поспешно отвечает: «Ничего подобного! Просто ты пошляк. Лясс для меня крупный ученый…» Откуда у нее такая страсть к науке, она объяснить не может. Лясс занят своим, казалось бы, скучным делом. Недаром Брусков сказал колхозникам: «Скоро будем печь белые булки из нашей муки» — Иван Никитыч твердо решил переселить пшеницу на север. Об этом говорят на заседаниях плановой комиссии, это связано с названиями и цифрами. Что тут может нравиться Лидии Николаевне? Вот Иван Никитыч говорит: «Поглядите хотя бы на ячмень. Мы вырастили новый сорт — „выдвиженец“, специально приспособленный к северному климату. Результаты — двадцать пять центнеров с гектара…» Лидия Николаевна должна была бы здесь зевнуть, но она слушает рассказ о «выдвиженце» с горящими глазами. Иван Никитыч для нее сказочник, кудесник — вот нахмурит брови, подзовет свою Мушку, скажет: столько-то морозных дней, такой то рост, центнеры, гектары — и на болотах, окружающих город, уже цветут крупные красные розы.
— Произведите меня в звание Мушки, — попросила как-то Лидия Николаевна.
— Ну, это вы многого захотели. Я вас произведу в звание Мишки. Ему шесть годиков, но парень что надо.
Лидия Николаевна не обиделась: как Мишка, с восторгом она смотрит на Лясса. Кудесник сделал еще одно чудо: он говорит: «Зачем дубу расти пятьдесят лет, прежде нежели он даст жолуди? Мы сделаем так, чтобы жолуди давал пятилетний дуб», — он может из крохотного побега сделать сразу большое дерево, он смог из усталой тридцатилетней женщины, которая больше ни во что не верит, сделать сестренку Мишки, девочку с двумя жидкими косицами и с раскрытым от изумления ртом.
У Ивана Никитыча серые утомленные глаза: ему сорок три года и он многое видел. Когда он говорит серьезно, даже сурово, глаза его еле приметно улыбаются. Зато когда он смеется, глаза грустные-грустные. Это, разумеется, заправский ворчун, иначе как бы он мог жить со своими собаками? Но никто не относится всерьез к его ворчливым окликам: ни Брусков, ни сотрудники селекционной станции, ни Мушка. Другое дело, когда он рассердится: тогда все вокруг притихают и громовой бас Ивана Никитыча кажется особенно раскатистым. Так было, когда, вернувшись из Сольвычегодска, он стал разносить Павлова:
— Почему это вы сняли со снабжения пожарных и сиделок? Жрать они, по-вашему, должны или нет? Чорт знает что! А если они скажут: до свиданья. Что же, больные без уходу останутся? Город сгореть должен?
Павлов попробовал возразить:
— Это, Иван Никитыч, с первого августа. Не дотянули. Раньше-то мы не рассчитали, а теперь приходится зажимать.
Вот здесь-то Иван Никитыч и вышел из себя:
— То есть как это «не рассчитали»? А чем же вы заняты, если не можете рассчитать? Что это вам — игры играть? Есть зверь такой — бурундук. Он на зиму в спячку погружается. До весны спит. И не ест. А все-таки он с осени натаскивает провианта. Почему? Да вот потому. Бывают суровые зимы. Мороз даже в нору залезает. Бурундук тогда просыпается. Здесь-то орехи и выручают. Имейте в виду, такие зимы редко выпадают: раз в двадцать, а то и в тридцать лет. Он, может быть, ни разу за всю свою жизнь запасов и не использует. А все-таки запасается. Что же это выходит — бурундук, и тот вас умней. Стыдно перед зверьем, когда такое видишь…
Слова его были грубыми или веселыми, а глаза ласково стыдили. Брился он редко, на щеках росла щетина, черная с проседью, и походил он на своего Пропса. Об его работах много писали и в Москве, и за границей. Не раз журналисты просили его: «Несколько слов… Коротенькую автобиографию…» Но Иван Никитыч отмахивался: «Это еще зачем? Год рождения 1891. А остальное неинтересно. Жил и жил. Как все».
Биография Ивана Никитыча, однако, не была столь банальной. Детство он провел в душной, жарко натопленной квартирке акцизного чиновника. Отец его страдал астмой и трусостью. Он боялся всего: и околоточного, и сквозняков, и соседей. Когда Ваня привел как-то приблудного щенка, с отцом приключился припадок. Держась за сердце, он лопотал: «Может быть, она бешеная?.. От них глисты заводятся… Блохи заразу разносят…» Между двумя рамами лежали бумажные розы. Отец вечером сидел у стола. Он либо подсчитывал расходы, либо разглядывал старый комплект «Нивы», либо просто зевал. Ровно в десять он задувал лампу, и домик погружался в тишину, прерываемую только присвистом, стонами и храпом. Мать в жизни знала две святыни: иконы, которые она подолгу натирала маслом, и полочку с лекарствами. Лекарства она боготворила никак не меньше икон, их имена казались ей величественными: капли доктора Иноземцева, капли датского короля, эфиро-валериановые капли. Мальчик задыхался среди бальзамов, нафталина, сушеных груш и вечно коптившей лампы. У него был приятель Сема Валуев. Они вместе мастерили снежных баб; вместе выдолбили челнок и носились по речке, как хищные индейцы, вместе составляли проекты поездки в Трансвааль для защиты угнетенных буров. Сема был сыном мелкого железнодорожного служащего. Он кончил четыре класса, потом отец забрал его из гимназии: надо было зарабатывать. Приятели расстались. Лясс кончил гимназию, рассорился с родителями и уехал в Омск. Зиму он проходил с охотником Савченко. Они били выдр, соболей и белок. Потом Лясс поступил на службу в экономию. Его заставили вести книги. Все свободное время он проводил на конюшне. Управляющий свел его с купцом Чаловым. Чалов набирал людей для экспедиции на Лену. Лясс стал старателем: он искал золото. Он начал курить трубку и ругаться: ему было двадцать два года, но он думал, что он тот «дед-всевед», о котором он когда-то читал в детской книге. Его лицо огрубело от ветра, но в душе он оставался наивным подростком, и когда парни начинали говорить при нем о девках, он старался дымить во-всю, чтобы скрыть румянец смущения. Как-то он вспомнил свой давний разговор с Семой. Они мечтали, кто кем станет. Лясс хотел сделаться музыкантом, он сделался охотником, объездчиком, конторщиком, золотоискателем. Сема мечтал стать астрономом: «Глядеть в трубу на все звезды». Интересно, кем стал Сема?..
Лясс поссорился с десятником Левченко. Десятник ударил Лясса по лицу. Лясс зашатался, потом выпрямился и, не помня себя от гнева, повалил Левченко на землю. Опомнился он от крика рабочих: «Забил!» Оттолкнув какого-то парня, он убежал. Он решил, что он убийца и что его жизнь кончена. Две недели он провел в тайге. Потом он узнал, что Левченко жив. Работа ему, однако, наскучила. Он добрался до Владивостока и там попал на английское судно. Он быстро изучил английский язык. Судовой врач взял его себе в помощники. Он начал много читать. Он занимался химией и биологией. Война застала его в Америке: он работал над изучением лесных пород в Канаде. У него были недюжинные способности, и он сумел чтением покрыть отсутствие основного образования. Его величали «профессором» и он хорошо зарабатывал. Его спросили, не хочет ли он воевать против немцев; он ответил, что политика его никак не интересует.
Он уехал в Нью-Йорк и там сдал экзамен на звание ученого агронома. Ему предложили отправиться в Канзас: теперь он должен был стать и впрямь профессором. Но тогда им снова овладела тоска. Он захотел переменить местожительство и профессию. Он собрался было в Чили, чтобы заняться там селитрой, когда до него дошли первые вести о русской революции. Он сразу решил ехать домой. Он никак не мог себе представить родной город, полный песен, криков, флагов. Он действительно никогда дотоле не интересовался политикой, но теперь он понял, что с его народом происходит нечто необычайное, и он ответил Мартинесу, который звал его в Чили: «У меня начинается вторая жизнь. И не здесь, а там…»
На пароходе он вдруг с тревогой подумал: «А ведь у меня там нет никого близкого. Семка?.. Но где найти такого Семку? Да, может быть, он и умер…»
Родной город показался ему, несмотря на песни и флаги, тихим, спокойным, сонным. Он пошел на митинг. Ораторы говорили о чем то непонятном. Он спросил соседа: «Что такое корниловщина?» Тот не ответил. Он понял, что революция — это странное и чужое ему ремесло. С месяц он похандрил, а потом взялся за свое любимое дело. У него был теперь план: изменить лицо русского севера. Он даже попробовал рассказать об этом на одном из публичных собраний, но какой-то человек в линялой студенческой фуражке начал на него вопить:
— Сейчас решаются судьбы России! Большевики сговорились с немцами! А вы о чем думаете? Вы сумасшедший или провокатор!
Лясс обозвал студента «стоеросовым дураком» и ушел прочь. Вскоре он отправился один в экспедицию: он решил произвести предварительные работы за свой страх и риск.
У него в лесу была палатка; там он хранил книги, чертежи, аппараты. Он редко встречал людей. Он знал, что километрах в ста от его палатки происходят стычки между англичанами и красными. Но это было политикой, а Лясс был ботаником.
Как-то вечером он заметил среди кустарника человека, одетого в русскую солдатскую шинель. Было темно, и Лясс не стал разглядывать человека. Тот спросил:
— Ты кто?
— Ботаник.
— Спрятать можешь? Сейчас англичане придут.
Лясс хорошо знал этот участок леса. Он повел беглеца к яме. Они прошли через лужайку. Лясс поглядел на человека и смутился: лицо показалось ему знакомым. Но узнал его. Сема Валуев. Они не смогли ни поговорить друг с другом, ни порадоваться встрече. Лясс сказал:
— Ложись. Здесь не найдут.
Он остался поблизости, чтобы отвлечь англичан разговором. Действительно, вскоре пришел английский унтер с двумя солдатами. Один на ломаном русском языке спросил:
— Большевик приходить?
Лясс заговорил по-английски. Сначала они обрадовались, потом начали недоверчиво переглядываться: они приняли Лясса за шпиона. Его отвезли в Архангельск, а там передали белым. Полковник кричал:
— Сволочь, сколько ты от большевиков получаешь?..
Лясс два месяца просидел в тюрьме. Сначала он сидел с чахоточным подростком Зильбергом. Зильберга расстреляли. У Лясса было много свободного времени, и впервые в своей жизни он думал не о зверях, не о камнях, не о растениях, но о людях. Когда его выпустили из тюрьмы, он стал разыскивать большевиков. Он познакомился с портовым рабочим Холодковым и сказал ему:
— Дайте мне инструкции. Я хорошо говорю по-английски. Я буду агитировать среди ихних солдат.
Холодков ответил:
— Подожди. Завтра обсудим.
На следующий день он сам прибежал к Ляссу:
— Валяй! Листок пиши, что солдаты нам не враги, а бьем мы капиталистов и этого Джоржа…
Месяц спустя англичане спешно погрузились на суда, и Лясс мог снова заняться свойствами различных почв.
Он подготовил обширную записку о продвижении пшеницы на север. Записка потерялась среди других проектов. Объехав полсвета и узнав в жизни всяческие опасности, Иван Никитыч плошал перед бумагопроизводством. Он снова почувствовал свое одиночество. Холодков умер от сыпняка. Сема Валуев исчез. Лясс два года проработал в агрономическом институте. Потом он перезимовал на Колгуевом острове. Он вернулся оттуда, полный новых проектов. Но эти проекты были встречены с опаской. Одни говорили: «фантазии, почти что бред», другие уверяли, что Лясс вредитель. Так, на положении полубезумца, полупреступника, он прожил еще год. Наконец все ему опротивело, и он поехал в совхоз как простой рабочий. Он разводил свиней, тщательно скрывая от заведующего свое прошлое. Там-то он снова встретился с Валуевым. На этот раз они могли всласть наговориться. Сначала Лясс рассказал Валуеву свои похождения. Он напомнил:
— Я-то музыкантом мечтал стать. А вот всем был, но только насчет музыки ни ни. Слуха у меня нет — «Интернационал» с арией тореадора путаю. Зато американским профессором был. А теперь у свиней поросят принимаю. Смехота! Но ты как? Ты ведь в астрономы метил.
Валуев рассмеялся:
— Как ты это помнишь? Я и то позабыл. Ну, у меня жизнь попроще. Работал на строительствах. Колею прокладывали. Вступил в партию. Два годика отсидел. Потом воевал с немцами. Потом выбрали в военно-революционный комитет — Двенадцатая армия. Дрался с белыми. Все как полагается. Потом поставили меня во главе железнодорожного строительства — что называется специалист. Четыре года проработал и взвыл. Понимаешь, знаний нехватало. Говорит со мной инженер и этак презрительно улыбается. Ну, пошел я в обком, говорю: «Освободите для учебы». Это в двадцать седьмом было. Смеются: «Стар ты для этого. Трудно в такие годы начинать». Жена тоже отговаривала: «Стыдно, вместе с Женькой учиться будешь». Сын то у меня большой: я женился, мне девятнадцать лет было. Значит, вместе с сыном и поступил во втуз. Сначала я думал, что голова треснет. По ночам приходилось подгонять. Особенно трудно с математикой. Хожу как помешанный. Жена что нибудь спросит, а я ей из книжки отвечаю. Но зато какое это удовольствие! Я когда до сопротивления материалов дошел, прямо голова закружилась. Теперь другой я человек. Как будто с глаз катаракту сняли. Вот прислали меня сюда — дорогу проектируем на Сыктывкар, так я теперь сам все вижу, как да что. Эх, чорт побери, Ваня, какую мы здесь штуку накрутим! Через десять лет сами будем удивляться: что это за государство!.. Вот я одного не понимаю, как это ты после такой эпопеи в маленьком совхозе сидишь?
Иван Никитыч рассказал Валуеву о всех своих злоключениях. Тот слушал и ругался: «Ух, сволочи, бюрократы паршивые!..» Потом он сказал: «Шестого я в Москву еду, значит вместе поедем».
Когда Лясс вошел со своим проектом в кабинет человека, лицо которого он прежде знал по портретам, он оробел, как школьник. Он начал бубнить о том, что Северный край заслуживает внимания, что бедность природы — понятие относительное, что нельзя опасаться смелых проектов. Он думал: сейчас остановит, скажет: «Бред». Но вместо этого он услышал: «Товарищ, говорите по существу, как вы представляете себе это продвижение пшеницы?». Тогда Лясс сразу оживился. Он забыл, кто перед ним. Он только спросил: «Сколько вы мне времени даете?» — «Да вот через час заседание». Лясс, однако, проговорил два часа. Он изложил все свои опыты. Сто восемьдесят морозных дней. Созревание невозможно. Пшеницу необходимо яровизовать. Семена пускаются в рост до сева. Вопрос влажности и температуры. Яровизация продолжается тридцать пять — пятьдесят дней. Все это очень просто. За пшеницей смогут последовать и другие культуры. В районе Архангельска легко разводить даже арбузы. Торфяные болота? Разумеется. Но их легко осушить. Не требуется наносить землю или песок. Примешивают известь и минеральные удобрения. Северный край превращается в черноземную область. Наконец на 65-м градусе можно разводить абсолютно все: яблоки, даже шелковичные деревья. Он кончил. Глаза ботаника, бывшего золотоискателя и зверолова, встретились с глазами человека, который должен знать все: рост пшеницы, процент кремния в чугуне, профиль дорог, количество выпускаемых автомобилей и программу средних школ, постройку яслей, борьбу с саранчой, осушение болот и ирригацию пустынь, крепость хорошей стали и слабость обыкновенного человеческого сердца. Лясс жадно заглянул в эти глаза, заглянул и улыбнулся: он понял, что сегодня его мечта сбылась — пшеница двинулась на север.
Лясс работал день и ночь. Проект стал наполовину действительностью. Прошлой осенью 4 октября яровизованная пшеница доспела. Лясс продолжал опыты над различными сортами для яровизации. Путем скрещивания он создал новый сорт и окрестил его «победа». Он знал: в зоне вечной мерзлоты будут расти помидоры, дыни и малина.
Когда выпадает у него свободный час, он берет роман. Романы он читает по-своему: как чужие дневники. Вот ему рассказали еще одну жизнь. Он свято верит в существование всех этих героев, и когда Лидия Николаевна ему как то сказала: «Ведь никакого Давыдова и не было — просто это Шолохов придумал», он зацыкал на нее: «Ну, ну, рассказывайте! Такое нельзя выдумать. А потом, зачем выдумывать, если на самом деле что ни человек, то роман?» Но после этого разговора он стал относиться к Лидии Николаевне с легкой опаской. Вот он как то пошел в театр. Лидия Николаевна играла женщину-комиссара. Она стреляла, потом ее убивали. После он спросил ее: «Вы что же, воевали с белыми?» Она рассмеялась: «Да что вы, я ведь тогда девчонкой была». Лясс призадумался: откуда же она знает, что такая баба должна переживать? Лидия Николаевна показалась ему способной на ложь, а лжи он не выносил. Потому она и Шолохова подозревает. Но увидев глаза Лидии Николаевны, когда она слушала его рассуждения об яровизации, он успокоился: девчонка, не зря он ее в Мишку произвел… Вероятно поэтому никогда Иван Никитам не мог почувствовать в Лидии Николаевне женщину: она была для него или ребенком, или актрисой. Когда Ксюша как-то, вздохнув, сказала: «Вот женились бы вы на Лидии Николаевне. Чего зря одинокому жить», он расхохотался: «Ну и придумала! Как же на ней можно жениться? Что это тебе — баба? Это актриса. У них свои штуки. Представляют они, вот что…» При всем этом он успел привязаться к Лидии Николаевне, и каждый раз, когда она приходила, он встречал ее таким радостным криком, что немедленно все псы, даже сонный Байбак, начинали в восхищении лаять.
Так было и вчера. Лидия Николаевна забежала на минуту. Оказалось у нее дело. Иван Никитыч смеялся: «Ну какое у вас может быть ко мне дело? Пшеницу на сцене хотите показывать?» Лидия Николаевна объяснила: иностранец здесь, немец, он очень интересуется работами Лясса, просит его принять. Лясс сразу отрезал: «Ни за что! Наверное журналист. В шею!» Тогда Лидия Николаевна стала его упрашивать. Она делала это вовсе не ради Штрема: Штрем ей был скорей неприятен. После той ночи она ни разу с ним не разговаривала. Только третьего дня он подошел к ней и напомнил об обещании свести его с Ляссом. Ну скажет: «Лясс не хотел вас принять», и все. Настаивала она по другой причине: ей хотелось, чтобы Лясс исполнил ее просьбу. Пусть потеряет десять минут зря. Тогда она почувствует — уступил, принял ради нее. Она сделала умильную рожицу, а руки подняла вверх: «Видите, служу, как Урс». Лясс попробовал было притвориться сердитым, но не выдержал, рассмеялся: «Чорт с ним! Пусть придет. Только имейте в виду, это ради вас, действительно исключение. Я ведь сюда никого не пускаю».
Штрем сейчас никак не походил на призрак белой ночи. Это был обыкновенный немец с нежно-голубыми глазами и с бритым, как бы срезанным затылком. Одет он был в просторный дорожный костюм. Из верхнего карманчика выглядывала золотая головка пера. Все в нем свидетельствовало о чистоте, скромности, комфорте. Он поздоровался с Ляссом вежливо, даже несколько слащаво, как коммивояжер, который понимает, что ему надо завоевать сердце чрезвычайно своенравного клиента. Он улыбнулся не только Ляссу, но и собакам, даже чучелу какого-то зверька, которое мирно дремало на шкапу. Лясс не попросил его присесть. Он только крикнул Урсу: «Замолчи! Тебя здесь нехватало!» Потом, повернувшись к Штрему, он сказал:
— Если насчет интервью — бесполезно.
Штрем, прежде нежели ответить, сел, осторожно положил ногу на ногу и оттянул брюки.
— Я не журналист. Разве я посмел бы побеспокоить вас ради газетной статьи? У меня к вам чрезвычайно серьезное предложение. Несколько дней назад я читал ваше заявление по поводу селекционной станции…
Лясс в изумлении прервал его:
— Это каким образом вы его читали? Оно в печати не было. Это, так сказать, внутренний документ.
Штрем продолжал ласково улыбаться.
— Мне его показали как специалисту. Я знаю теперь, в каких условиях вы работаете. Ученый с вашим именем не может получить средств на оборудование новой лаборатории. Впрочем, я лично нахожу это естественным. Выслушайте меня прежде нежели протестовать. В Советском союзе яровизация пшеницы — роскошь. Или реклама. Согласитесь сами, когда половина земель на Украине и на Северном Кавказе вовсе не засеивается, смешно думать о приобщении севера к новым культурам. Другое дело за границей…
Лясс теперь с любопытством разглядывал Штрема. Он прервал его, хотя то, что он хотел сказать, никак не относилось к яровизации пшеницы.
— Интересно! Я ведь за границей шестнадцать лет не был. Вот затылок у вас выразительный. Это что же, по случаю Гитлера побрили? Или индивидуальный акт? А это, значит, вечное перо? Ваттерман? Или у вас теперь новые марки? Так-с! Очень хорошо! Значит, в колхозы вы не верите? Так-с! Ну, а зачем вы собственно говоря, ко мне пришли?
Штрем не изменился в лице. Рассуждения Лясса он выслушал все с той же вежливой улыбкой. Когда Лясс замолк, он продолжал свою речь, как будто и не было разговора о затылке или о пере.
— За границей положение иное. Несмотря на мировой кризис пшеницы имеются страны, которые чрезвычайно заинтересованы вашими работами. В частности Швеция. Да и у нас в Германии много говорят о ваших опытах с шелковичными деревьями. Дело в том, что принцип закрытой экономики торжествует повсюду. В этом вопросе мы ваши ученики. Шведы не хотят покупать канадскую манитобу. Что касается нас, мы хотим все иметь на месте, особенно учитывая возможность военного конфликта. У нас вы можете проявить свой научный гений. Фирма Краузе в частности просит передать ей семена установленных вами новых сортов и данные об их яровизации. Гонорар вы должны определить сами, причем я гарантирую вам тайну. Деньги будут внесены на ваше имя в один из стокгольмских банков. Я знаю настроение научных деятелей здесь. Вы напрасно возмущаетесь. Я не чекист и не провокатор. У меня имеются рекомендательные письма от ваших заграничных коллег. Директор фирмы Краузе беседовал с министром. Если вы остановитесь на Швеции, вам предлагают кафедру в Упсале и руководство селекционной станцией. Отсюда вы можете получить научную командировку, а потом…
Штрем продолжал говорить, хотя Иван Никитыч его больше не слушал. Сначала Лясс смеялся, потом начал быстро шагать из угла в угол, что-то пришептывая, наконец он подошел к Штрему и стал кричать ему в ухо: «Хватит! Хорошенького помаленьку!» Штрем замолк, только когда Иван Никитыч в бешенстве крикнул:
— А ну-ка, Пропс, хватай его!
Пропс, впрочем, только делал вид, что собирается укусить Штрема: к людям Пропс относился сдержанно: часто рычал, но кусаться не кусался.
Штрем обиделся:
— Этого я все же не ожидал. Очевидно, вопрос воспитания…
Он вышел из комнаты, сопровождаемый лаем четырех собак и нарочитым, деланным хохотом Ивана Никитыча. Когда Штрем ушел, Иван Никитыч в изнеможении опустился на табуретку. Он сидел, нелепо покачиваясь. Что произошло? Может быть, это приснилось ему? Или какой нибудь дурак решил над ним посмеяться? Но нет, он о кафедре говорил. Упсала! Какая мерзость! Почему таких пускают? Наверное проехал как турист. Или с чужим паспортом. Мерзавец, по-русски здорово говорит! Надо в гепеу позвонить. Ну и подлец! Испоганил он комнату. Лечь спать, и то противно…
Иван Никитыч долго не мог успокоиться. Когда же он наконец прилег на диван, в окошко робко постучали. Это была Лидия Николаевна. Возвращаясь из театра, она увидела свет в окне, и ей захотелось сказать Ивану Никитычу «спокойной ночи». Она сама понимала: глупо мешать, еще, чего доброго рассердится, но желание оказалось сильней.
Увидав, кто стоит под окном, Иван Никитыч закричал:
— Ах, это вы! Очень хорошо! Я уж не знаю, работаете вы с ним на паях, но только знаете что — уходите! Врать — это, может быть у вас в театре и полагается, но я этого не люблю. Заврались вы, голубушка! Уходите-ка! И поскорей.
Он не слышал, ни как Лидия Николаевна лепетала что-то, ни как она вскрикнула: «Вы не имеете права так говорить», ни как она заплакала. С шумом он захлопнул окно и снова свалился на диван.
Несколько минут спустя он опомнился: кажется, я зря ее обругал? Девчонка! Откуда ей знать про махинации с семенами? Просто понравился ей этот немчик, она и согласилась. Напрасно он погорячился. Иван Никитыч подбежал к окну и высунувшись, крикнул:
— Лидия Николаевна! А, Лидия Николаевна!
Но никто ему не ответил: Лидия Николаевна была уже далеко. Она бежала в гостиницу, стараясь удержать все растущие и растущие слезы. Она не могла собраться с силами и подумать: почему Лясс прогнал ее? Она просто чувствовала, что потеряла свою последнюю радость. Больше она не сможет приходить к ботанику, играть с Урсом, слушать сказки об ячмене Все кончено! Да и должно было кончиться: Лидия Николаевна не может быть счастливой. Стоит ей на минуту обрадоваться, как сейчас же ей напоминают: «Помни, милая, свое место». Так было с Лембергом. Так всегда бывало. Ей место — несчастье. Но почему же Лясс?.. Тогда она сразу вспомнила: Штрем! Как она могла сделать такую глупость Наверное, немец его обидел. Немец — страшный. Он сам не хочет жить и другим говорит о смерти. Он мертвый. Как она. Она не может больше жить. Вот снова глупо кривлялась в театре перед скучающими людьми. Говорила о подвиге, а в зале шушукались и зевали. Она не актриса, она вечная заместительница. Другие играют по-настоящему, а она дублирует. Как попугай. Ей надо бы жить с этим немцем. Они друг друга стоят. А ботаник прав… Как он кричал!.. Мушка перепугалась. Теперь, наверно, отдышался, собакам говорит «Обидели меня». Ну да, обидели не Лидию Николаевну, обидели Лясса, он очень, очень хороший…
Это Лидия Николаевна думала уже лежа в своей кровати. Она увидела обиженного Лясса и Мушку, которая лижет его руку. Слезы все лились и лились, но теперь они облегчали ее сердце, и заснула она со словом ласки: оно шло к сердитому человеку, у которого щетина на щеках, а глаза грустные и серые.
Штрем чуть было не столкнулся с Лидией Николаевной в дверях гостиницы. Он во-время ее заметил и переждал за углом. Он сразу понял причину ее слез. Впрочем, эти слезы его никак не занимали. Трудно передать, что происходило в его голове после того, как он вышел от Лясса. Исчез сразу деловитый представитель Краузе; его место занял маниак, самоубийца, докучный призрак, однажды смутивший доброго шведского капитана. Призраку было слишком тесно в просторном дорожном костюме. Он расстегнул пуговицы жилета: он задыхался. Лясса он вспоминал с ненавистью: этот русский прост и крепок, как дерево. Штрем понимает трепет листьев: листья скоро опадут. Но он ненавидит извилины корней. Он ненавидит живучесть.
Придя в гостиницу, Штрем не дотронулся до записной книжки: он был слишком близок к самой сути познания, чтобы анализировать и рассуждать. Он справился в конторе, когда отходит поезд в Москву: он засиделся в этом городе. Потом он сложил вещи и тоскливо посмотрел в окно: все та же нескончаемая белая ночь. А зимой здесь и в полдень темно — тоже невесело! Он громко зевнул, потянулся и достал из саквояжика фляжку с виски. Он налил виски в большую эмалированную кружку, выпил залпом, мучительно поморщился и прилег на кровать. До поезда оставалось еще четыре часа. В полусне он подумал: «Будь я поэтом, я сейчас написал бы самую прекрасную поэму. Но разве Краузе поймет такое?.. Впрочем, все, кажется, к лучшему. Надо только двигаться. Самое страшное — ждать». Он уже дремал, но легкая судорога неожиданно заставила его вздрогнуть: ноги, казалось, двигались сами по себе.
Тревожно ночь провел и Лясс. Он попробовал уснуть, но ничего из этого не вышло. Тогда он сел за работу. К утру он вспомнил о Лидии Николаевне. Ему стало грустно и стыдно. Он решил, что пойдет к ней в гостиницу — мириться. Но в восемь утра его вызвали на станцию… Он просидел там до шести. Оказалось, что с горохом Макеев напутал. Пришлось все проверять сызнова. Около семи он забежал домой, чтобы передохнуть: вечером он должен был читать доклад в комсомольском клубе. Он думал, что доклад назначен на девять, оказалось — на семь. Передохнуть так и не удалось. Уходя он сказал Ксюше:
— Если Лидия Николаевна придет, скажи что не сержусь. Нет погоди, я лучше для нее записку оставлю.
Иван Никитыч пошарил по карманам. Бумаги не нашлось. Он вытащил пустую коробку из-под папирос и написал на ней: «Лидия Николаевна! Знаете что — давайте мириться! Немец ваш подлец, но на вас я зря налетел. Так что произвожу вас в звание Мушки».
Ксюша не знала, что произошло ночью. Она обрадовалась: письмо пишет, значит, скоро поженятся!
Лясс делал доклад об яровизации пшеницы. Он показывал фотографии, рисовал на доске границы различных зон, даже семена вытащил из кармана. Кончил он неожиданно:
— Вы что думаете? Большевики — это просто партия? Вот в Америке две партии: демократы и республиканцы, ни один чорт не знает, в чем, собственно говоря разница. Нет, ребята, большевики — это племя. Была у нас в средней Азии пустыня. Нет пустыни — сады. Вот я рассказал вам, как мы здесь болота осушаем. У нас этой вечной мерзлоты и вообще не будет. Что посеем, то и вырастет. Жизнь человека мы возьмем и продолжим. А жизнь растений мы обязательно сократим. Это человечество в пеленках думало, что господь-бог творит. А потом говорили — «природа», этак с уважением, ничего, мол, против природы не пропишешь. Ну, а мы, большевики, и природу меняем. Сами себе творим, как господь-бог. Реки у нас текли. Если неудобно — мы русло меняем: теки здесь! На севере льды были — и только. Теперь у нас пассажирские рейсы будут: Архангельск — Владивосток. С остановками. Ведь вы поймите, мы эту штуковину только-только начинаем! Из Батума в Мурманск будем в один день перелетать. А сам Мурманск? Я там прошлым летом был — сказка! Выходит человек, смотрит — вчера кочки с лопарями, а сегодня санаторий в этаком новом стиле. Раньше как думали? «Человек — это нечто вечное». Я помню, отец говорил: «Ну, паровоз изобрели, ну, у англичан конституция, а человек, он бестия, он свое знает — слямзил красненькую, выпил одну две, закусил килькой и готово — ложись, умирай». А мы, ребята, не только что пшеницу на полюс приведем, мы и человека так переделаем, что он сам себя не узнает. Будет читать, как мы теперь жили, и руками разведет: что это за дикари!.. Как мы — о первобытных людях. Только прежде на это десять тысяч лет требовалось, а мы и в сто управимся. Я вот себя приведу в пример. Чем я только в жизни не был? Шлялся по миру — туда-сюда. Если со стороны послушать — интересно, а на самом деле — пустота. Двигался я много, а внутри у меня холод был, как на полюсе. А когда я увидал большевиков, понял: это, чорт возьми, люди! Со мной в камере мальчонка сидел. Его с наганом допрашивали: «Где типография?» А он в ответ насчет Ленина кричал: какой великий Ленин. Это вам не в клубе доклады читать. Или был у меня приятель с детства — Семка, теперь он товарищ Валуев. Тридцать восемь лет ему было, а он за учебу сел. И когда я увидал такое, я и сам переменился. Как будто привили дичку черенок. Другой я теперь человек, и людей я вижу по-другому. Я теперь знаю, зачем все это. Жить очень хочется! Все у нас будет новое: камни новые, растения новые, звери новые, а главное — новые люди. Ко мне вчера один подлец приходил. Иностранец. Рассказывал, как они на наши семена целятся. Валютой думал соблазнить. Так вот, ребята, если они сюда сунутся, я, можно сказать, старик, ботаник — значит сижу с семенами, — все я тут брошу. Стрелять пойду. Потому что это надо во как защищать. Ведь только-только мы начали. А что будет, что только будет!..
Иван Никитыч не выдержал, голос сорвался, он махнул рукой и неуклюже слез с трибуны. Вокруг него весело шумели товарищи Мезенцева — комсомольцы и комсомолки.
5
Штрем лежал на верхней полке. Внизу какой-то спец жил не умолкая: он то раскрывал портфель и, обрастая кипами бумаг, бормотал: «Значит, ящично-строгательный с присыпкой», то читал «Правду», грузно похохатывая над фельетоном, то пил чай, причем и это у него звучало мажорно — так он прихлебывал, пощелкивал языком и мурлыкал. Проводник, время от времени заглядывая в купе, спрашивал:
— Нальем?
И спец всякий раз победоносно громыхал:
— Обязательно!
Штрем его ненавидел упорно и настойчиво, как он ненавидел теперь весь мир: баб на платформе, нескончаемый лес и кусочек голубовато-молочного неба. Он не мог ни спать, ни думать. Он вытащил записную книжку. Перед ним были ровные строчки, будто напечатанные: чем сильней волновался Штрем, тем старательней он выводил все черточки, восклицательные знаки, пышные завитушки заглавных букв. Он перелистал страничек двадцать.
«180 р. Письмо в Гамбург. Влюбиться в актрису? Не выйдет. Все известно заранее. Прежде бывала минута — я терял контроль над собой. После скандала в Бремене и это кончилось. Остается скучная механика. Лучше тогда отложить до Европы, там по крайней мере соответствующая декорация».
«Говорил с Г. Он хочет 800 в валюте. Я лично считаю это нормальным, но К. скуп, а главное глуп. Может отказать. Или ответить: „Давайте разделим сумму пополам“. Одно из двух: или я действительно компаньон, или обыкновенный служащий. Надоело!»
«Вспомнил почему-то смешную историю. Я позвонил Шульцу: „Я сегодня не приду обедать: гости — красавица. Жена одного берлинского адвоката. Она лежит на диване, а кругом розы. Я ей стихи читаю. Завидуешь?“ Полчаса спустя позвонил ему снова: „Слушай, я все это выдумал. Никакой дамы нет. А обедать я все таки не приду: живот болит“. Представляю, как он тогда злился».
«Снова недостает двух воротничков, голубую рубашку порвали. Кладут в воду какую нибудь мерзость. Простыни воняют рыбой. Нельзя спать. Наверно, мыло из тюленьего жира. Мне сегодня снилось, что я утонул. Весь день в ушах гудит».
«Я заметил, что воспринимаю все в зависимости от действия желудка. Может быть и это марксизм? Кстати, разговор с Ш. об идеологии. „Прочтите Маркса, прежде чем судить“. Я ему ответил вежливо, что прочту, но конечно, читать не собираюсь: скучно. Вот это самое страшное: часы тикают, даже попахивает мертвецом. Ш. мне долго объяснял. Получается, что марксизм — это вроде фатализма: ничего не пропишешь. Например, если Штрем сволочь, то это естественно: порождение умирающего класса и т. д. Удобно! Хотя я лично предпочитаю револьвер».
«К. думает, что это люди, с которыми можно иметь дело. Идиотизм! Они так и не поняли, что такое деньги. У нас пишут 1 000 000 марок 00 пфеннигов, а здесь просто 1 м. Ясно?»
«Вчера пришлось удовлетворить потребности. Особа немного говорила по-немецки. Ничего примечательного. Спрашивала, какие у нас танцы танцуют. Вела себя корректно. Не все позволяла. Даже хотела уйти: „Я вам не кокотка“. Дал ей один фунт и еще бутылочку одеколона».
«В дополнение к прошлой записи о Тотьме: рассказ В. 1931 г. Привезли раскулаченных. Заперли в церкви. На потолке порхают ангелы. Роскошней трудно выдумать. Бабы голосят на узлах, вши, дети мочатся, чайники. Интересно, молились ли они? Ангелам, понятное дело, наплевать. Я видел, их изображают с какими-то музыкальными инструментами».
«Добиться наконец то свидания с Л. Надоело!»
«Здесь одного субъекта приговорили за растрату к десяти годам. С. показал мне его стихи — он в тюрьме сочинил. Я даже переписал:
Особенно хорошо второе:
Написанное оправдано: денежки-то он прикарманил. О чем мечтаю, то и делаю— этому можно позавидовать».
«Сегодня наконец-то состоится свидание с Л. Значит, дня через три-четыре — Берлин. Надоело невыразимо! Постоянная имитация бури. Ну, надо итти к этому огороднику!»
Штрем лениво перечел записи. Он не удивился своим мыслям и не обрадовался им. Это были чьи то чужие мысли, может быть и забавные. Сейчас его не занимали ни марксизм, ни поэзия. Он думал об одном: умереть, просто и бесшумно. Так не раз в жизни ему хотелось уснуть. Машинально он проводил рукой по заднему карману, где лежал револьвер. Но ему не приходило в голову вынуть его и металлом остудить лоб. Револьвер лежал в кармане, записная книжка — в другом; внизу спец пил чай и сморкался; жизнь шла, и Штрем шел с ней; он поддакивал грохоту колес: «мы едем, мы едем, мы едем»; он перебирал замлевшими ногами: двигаться, обязательно двигаться! То, что за окошком мелькали избы, деревья, столбы, его несколько успокаивало. Он мог не думать, что же будет завтра. Он даже не спросил себя, куда и зачем он едет. Спец пробасил:
— Может, чаю попьете? Вот жена каких-то коржей надавала…
Штрем рассмеялся.
— Коржей? А моржей нет? Чаю? Можно и чаю. Можно и без чаю.
Спец испуганно прибрал тонкие листочки с расплывшимися цифрами и притих. Теперь только колеса разговаривали и за него, и за Штрема.
Потом была Москва. В посольстве пахло сигарами. Штрем, усмехаясь, говорил:
— По крайней мере одно дело удалось…
Поезд отходил вечером, и Штрем, не зная, как убить время, отправился в ресторан. Быстро он выпил несколько стопочек. Икра была склизкая и пахла рыбой: Штрем вспомнил простыни гостиницы. Официант косил; Штрему казалось, что официант все понимает. Штрем снова ощупал задний карман и прошел в уборную. Все в голове спуталось: марксизм; поэт в исправдоме; актерка; плохо работает желудок; проза, неизбежная проза; Краузе будет злиться; а впрочем, кто это Краузе — косой официант, спец с присыпкой?..
Он бежал теперь по длинному кольцу бульваров. Ребята играли в мяч. Какой-то паренек громко целовал девушку в щеку, приговаривая: «Нюточка, а, Нюточка!» Трава была серая, и Штрем не знал, чем ему дышать. Он упал на скамейку. Рядом сидела старушка в платочке. Она ласково поглядела на Штрема:
— Заморился? Все теперь так — бегают как угорелые. Дочка-то у меня…
Штрем не дослушал. Он снова бежал. Ни первые фонари, неуверенно проступившие среди сумерек, ни сами сумерки, это полузабытое им ощущение темноты, способной снисходительно прикрыть происходящее, ни толика свежести, которую слабый ветерок донес до Штрема — ничто не помогало. Вдруг Штрем остановился на углу двух уличек. Он вспомнил глаза старушки. Почему она его пожалела?.. Дочка?.. Что же, дочка тоже мечется. В Лесоэкспорте. Или еще где-нибудь. «Я здорово несчастна» — это актриса сказала. С актрисой он поступил по-хамски. Ее теперь допрашивают: почему привела? Хорошо быть мерзавцем абстрактным. Например, взорвать этот дом или застрелить незнакомого, но обязательно незнакомого. Получается по-марксистски: историческая неизбежность. А с актрисой он просто напакостил. Конечно, по существу и это безразлично. Но руки-то он моет. Даже если через час умереть — руки все равно полагается помыть…
В купе еще до отхода поезда он написал Лидии Николаевне письмо: «Я кругом перед вами виноват. Вы актриса, я коммивояжер. Как же вы могли догадаться, зачем я хочу увидеть Лясса? Кстати, этот последний плохо воспитан и чересчур живуч. Вы абсолютно во всем невинны. Вы вроде Дузе, и если вас нужно уничтожить, то лишь постольку, посколько людям запретят мучать друг друга интонациями голоса. А я? Я сейчас еду далеко и без всякого резона. Впрочем, это никого не может заинтересовать. С глубоким уважением Иоганн Штрем».
Он положил письмо на столик, и проводник, который стлал постель, спросил:
— Прикажите отправить?
Штрем ничего не ответил. А оставшись один, он почему-то заклеил конверт и тщательно его порвал. Клочья он кинул в окно. Перед ним был все тот же бесконечный лес. Он опустил штору и забылся.
Подъезжая к Варшаве, он вдруг взволновался: перед ним добродушно лоснилась физиономия Краузе, Штрема помутило Он не хочет ехать в Берлин! Он пересчитал деньги: у него было семьсот долларов. Он вылез в Варшаве. В тот вечер он снова много пил. Потом он очутился с какой-то женщиной. Она ему говорила по-немецки:
— Дай доллар!
Он дал ей два и попросил:
— Только не раздевайся.
Она лепетала: «Коханый…» Он зевнул и замер. Потом было утро. Он взял билет в Вену. Кто-то неотвязно спрашивал: «Какая это станция? Какая это станция?» К вечеру зарядил дождь, и грустно мелькали платформы, в которых отсвечивали фонари. Мелькали и люди в различных формах: поляки, чехи, австрийцы. Таможенники залезали в чемоданы. Штрем морщился: у них были грязные руки. Каждый раз с удивлением он глядел на свои вещи: на аккуратно сложенные рубашки, на книги, на папки с пронумерованными бумагами. Он никак не мог себе представить, что все это было его жизнью. Зачем он так старался жить? Неужели чтобы теперь бежать неизвестно куда?
Колеса продолжали свой несмолкаемый рассказ. В их поспешности была поспешность людей. Какая-то дама торопилась в Зальцбург: ее дочь была при смерти. Она доставала из сумочки носовой платок, и оттуда выглядывала страшная телеграмма. Она знала, куда она спешит, она искала одного: слабого дыханья, отсвета жизни в глазах, которые уже покрывались мутью. Колеса твердили: «успею, не успею». Другим колеса твердили другое: они сулили удачные сделки, работу, веселые каникулы, кроны, злоты, шиллинги, поцелуи. Но Штрему они говорили одно: «мы едем, мы едем, мы едем…»
Из Вены он решил ехать в Париж. Это произошло внезапно: мелькнуло название города и какое-то смутное воспоминание. Штрем был в Париже много лет назад. Он вспомнил ярмарку на большой площади: глаза выедал белый жестокий свет, тянулась в ларьке тягучая нуга, а огромная карусель кружилась до одурения. Он сказал носильщику:
— В Париж.
Снова зарябили станции. В буфетах пахло сосисками и солодом. Надрывался мальчик с газетами. Женщина мяла платочек и кричала: «Пиши!» Напротив Штрема сидел человек в пестрой кепке. Он мучительно морщился и хватался рукой за щеку, а глаза у него были пустые от несчастья. Может быть, у него болел зуб? Или он припоминал свое прошлое? Он вылез в Цюрихе, и Штрем раздраженно крикнул ему:
— Вы ничего не забыли?
Дождь оказался постоянным. Поезд убегал от него, но дождь настигал. Еще таможенники. Еще фонари. Еще станции. Ночью в купе вошел толстяк и сразу начал дремать. Сон его гнул то направо, то налево. Он пробовал сопротивляться, время от времени он вскакивал и отряхивался, но сон, плотный и вязкий, снова его засасывал. Он спал приоткрыв рот, и оттуда исходил легкий свист. Штрем вышел в коридор, но из соседнего купе доносился храп. Ночью люди сбросили с себя все человеческое: они сопели, повизгивали и чесались. Их лица, освобожденные от мыслей, казались кусками мяса. Кто то во сне скрежетал зубами. Штрем вспомнил ночь из Варшавы в Вену и крикнул: «А это какая станция?» Ему никто не ответил. Ночь длилась, и колеса продолжали доказывать: «мы едем, мы едем, мы едем».
В Париж он приехал вечером. С удивлением он поглядял вокруг себя: не было ни ярмарки, ни карусели. Носильщик, кряхтя и поругиваясь, понес его вещи в маленькую гостиницу, находившуюся по соседству с вокзалом. В номере пахло пудрой и мышами. Штрем раскрыл окно. С улицы сейчас же донесся хриплый тенорок граммофона. Это был романс о неразделенной любви. Штрем вспомнил лоскутки письма: они пробелели где-то среди березок Полесья. Он помылся. На полотенце остались черные пятна: он так и не отмыл дорожную копоть. Он подумал: надо сказать, чтобы дали чистое полотенце, и вдруг впервые за долгое время он рассмеялся. Он смеялся легко и доверчиво: чистого полотенца больше не потребуется!
Потом он сел в кресло. С огромным напряжением он подумал: «Зачем я сюда приехал?» Это длилось долго, может быть час, может быть два — Штрем все еще думал. Он никак не мог понять этих четырех ночей в поезде, доводов колес и своего страха. Он посмотрел — револьвер был на месте. Но ведь револьвер был с ним и в Архангельске, и в Москве. Тогда он вышел в уборную. Почему же он забрался сюда? Чего он испугался? Комсомольцев, которые горланили на улице? Старушки? Исторической неизбежности? Да, он испугался. Этот путь был необходим. Он никуда не спешил. Он даже никуда не ехал. Он попросту убегал. Париж для него легок одним: далеко отсюда, кто скажет, как далеко до тех последних берез!..
Дойдя до этого, Штрем стал сразу деловым, серьезным, представителем солидной фирмы, обыкновенным человеком. Он привел в порядок бумаги, составил счет дорожных издержек, наконец написал Краузе письмо. Он не ругал Краузе за бездушье, он и не просил прощения за возможные хлопоты. Он писал коротко и сухо. На одну минуту его перо замерло: ему захотелось в конце поставить «прощайте». Но он сдержал себя, он старательно вывел: «В ожидании вашего благожелательного ответа, остаюсь с глубочайшим почтением…» После этого он позвонил. Пришел заспанный коридорный. Штрем дал ему письмо и двадцать франков.
— Вы отправите это завтра заказным. А теперь можете итти.
Он добавил тихо, почти задушевно:
— И не сердитесь, что я вас разбудил. Спокойной ночи!
6
«Заболонная гниль — это поражение древесины, которое часто развивается от поражения ствола…» Варя записывает, и рука ее чуть дрожит. Лекция кончилась, но она все еще сидит над раскрытой тетрадкой.
Растет ель; она высока и прекрасна. Подходят вальщики с пилой. Потом они ударяют топором. Но красавица-ель не стоила работы: ее древесина тронута гнилью. Гниль пошла не изнутри, гниль пошла от незаметной раны, от легкой надрубки. Красавица-ель была мертвой.
Лицо Вари сурово и замкнуто. Когда Маруся спрашивает: «Ты что, все фауты записала?» — она молча кивает головой. Надо итти домой. Петр сказал, что вернется рано. Она думает о Мезенцеве, и лицо ее остается суровым. Зачем они повстречались? Зачем ходили расписываться?
У Вари большие серые глаза, а голос грудной и ласковый, как будто ей трудно вымолвить даже самое простое слово: голос идет из глубины. Не раз, обнимая Мезенцева, Варя говорила ему тихо и настойчиво: «Слушай» — и замолкала. Он ждал, потом спрашивал: «Что?» Но Варя молчала. Она не знала, как передать большую тяжелую радость. Это было тогда, когда они еще были счастливы.
Она молча идет рядом с Марусей. Маруся долго и весело щебечет. Ее голос успокаивает Варю: ей кажется, что она в лесу, раскричались птицы о своем, о птичьем, небо высоко, можно ни о чем не думать. Она не прислушивается к словам Маруси. Та говорит о вечеринке у Черницына, о том, что Женька спуталась с Рожковым, о фаутах, о запани, о Никитине.
— Ты не гляди, что у него морда глупая. Он здорово все понимает. Он вчера мне об Индии рассказывал, какие у них противные касты. И вообще он…
Маруся смущается и замолкает. Ее молчание приводит в себя Варю. Она смотрит на Марусю и догадывается. Глаза Вари становятся еще печальней, и, прощаясь, ее рука, как будто хочет удержать руку Маруси. Кругом нет ни леса, ни птиц. Идут мимо озабоченные люди. Грубо громыхает телега. Маруся спрашивает:
— Ты куда сейчас?
— Домой.
Это первое слово, которое Варя сказала за всю дорогу. Может быть поэтому ее тоска сказалась в нем. Дома ждет ее Мезенцев. Их встречи теперь мучительны для обоих. Услышав это «домой», Маруся и сама помрачнела. Она завернула за угол. Она торопилась: в десять она должна встретиться с Никитиным. Но хорошо ли она это придумала? Сначала все улыбаются. А потом будет, как с Варей… Может, не ходить? Она подумала это и сейчас же рассмеялась: значит, не видать его? Ну и глупо! Скорей, не опоздать бы! Маруся теперь чуть-чуть не бежит, а на лице ее все ширится и ширится улыбка, так что Сенька Горев, повстречав ее, начинает гоготать и кричит вслед:
— Ты что ж это, Маруся, орден получила?
А Варя тем временем медленно переходит через широкую площадь. Хоть бы что-нибудь приключилось! Может быть, она встретит Шведова и Шведов позовет ее на собрание? Или ее переедет автомобиль. Она не может дольше так жить! Вот уже двенадцать дней как они молчат. Иногда Мезенцев пробует спросить: «Работаешь?» — и сам чувствуя, что ничего из этого разговора не выйдет, отворачивается. Иногда она его спросит о комсомольских делах. Он отвечает смущенно и коротко. Кто знает, как бы им хотелось поговорить друг с другом! Но у них нет слов. Они молчат сосредоточенно и настойчиво. Они спят в одной комнате. Тот кому дольше не спится, прислушивается к дыханию другого. Потом они просыпаются, пьют чай идут на работу.
Это началось сразу же после того короткого разговора. Мезенцев, не сняв кепки, подошел к Варе. На дворе была белая ночь, но в комнате было темно, и Варя, не зажигая света, сидела у окна, где еще можно было читать. Но она не читала. Она сидела, усталая за день и полная глубокого счастья. Мезенцев подошел к ней вплотную и сказал:
— Варя, насчет отца это правда?
Он ждал, что она крикнет: «Нет!» Он ждал этого, как спасения. Минута, пока она ему не ответила, была очень долгой, и казалось, серый полусвет сгущается, твердеет, трудно в нем и двигаться, и дышать. Наконец-то Варя сказала:
— Правда.
Тогда Мезенцев нелепо раздвинул руки, он как будто хотел прорваться через эти плотные сумерки к самому сердцу Вари. Он почти крикнул:
— Почему же ты мне не сказала?..
Варя молчала: она не умела ответить на этот вопрос. Она только отрывисто дышала, и вся та печаль полубелых, полусерых беглых сумерек, которая жила в комнате, переходила в ее глаза, широкие и слегка изумленные. Неуклюже бились длинные ресницы А Мезенцев все ждал ответа, он просил, он настаивал, он даже сказал с неожиданной резкостью:
— Боишься?..
Тогда собравшись с силами, она заговорила:
— Помнишь, возле реки? Ты о кулаках тогда говорил. Я спросила: «Веришь?» Ты сказал: «Верю». Я думала — ты сам понял. А ты больше не спрашивал. Ты думаешь, я сама знаю — почему я не сказала? Наверно, нельзя было тогда про такое говорить. Но только потом ты ни разу не заговаривал. А я об этом и не думала. Слушай, Петр, разве я их выбирала? Тебя я вот выбрала. А они для меня — горе. Я их и понять не могу. Кажется, должна бы любить, все-таки дочь. А я их слушаю и удивляюсь: «родные» — вот уж кто действительно чужой! Жалко мне их, это правда. Но разве меня за это надо осудить? Я, Петька, не преступница, я комсомолка. А сказать тебе не сказала. Дура я наверно, вот что. Думала, лучше без этого — зачем тебе такое понимать? Ты вот умней, знаешь куда больше, а в этом я тебя старше. Продумаешь такое, и сразу, за один день состаришься. Я тебе говорю: «Думала так лучше», а может быть и неправда. Просто не думала. Жить мне Петька, захотелось.
Но ее слова не дошли до Мезенцева: в ту минуту он был полон своим. Он видел лица товарищей: как смеялся над ним Генька, как все его пожалели. Что же приключилось? Была жизнь, прямая и ясная, больше нет ее. Разве можно этим шутить: сказала — не сказала? Скрой Варя любовника он не стал бы ее попрекать: значит, так надо. Но ведь это самое большое, самое чистое: комсомол, борьба, молодость. Теперь все видят, что ради каких-то личных чувств он оказался способным на компромисс, на ложь, на подлость. Нет, это не так. Товарищи поймут: они свои. С ними можно поговорить. Но Варя?..
Мезенцев вспомнил кулаков в Хохле: как они хотели его прикончить. Могло бы случиться и в ее деревне. Отец тащил бы в овражек: «Заголяй! Накладай!» В Красноборске они Юшкова убили. Ночью. А потом смолой вымазали. Разве это люди? А она жалеет. Конечно, она не такая. Она наша. Но почему же она скрыла от него? Разве он не мог ее понять? Люби его Варя, она рассказала бы ему все. Сразу у реки. Когда он ее поцеловал. Выходит, что она его не любит: так только, гуляла.
И Мезенцев злобно сказал:
— Значит, обмануть меня хотела?
Хорошо, что Мезенцев, сам смущенный жестокостью своего голоса, не глядел больше на Варю: он так и не увидел, как наполнились слезами милые серые глаза. Но ответила Варя спокойно, все так же тихо, так же изнутри:
— Нет. Если я кого и хотела обмануть — не тебя: судьбу. Счастья мне захотелось.
На этом разговор кончился. Дня три спустя Голубев позвал к себе Мезенцева. Разговаривали они в кабинете Голубева; то-и-дело прибегали девицы с бумагами. Обрывая фразу на полуслове, Голубев морщился, как обиженный ребенок. Раз он не выдержал и рявкнул:
— Дайте же мне поговорить с товарищем!
Девица вздохнула для приличья и ответила:
— Это из обкома насчет многотиражки.
Тогда Голубев расхохотался:
— Многотиражка раз, производственное совещание два, пловучий дом отдыха три, моторные пилы четыре, сапоги для леспромхоза пять, путевка Штаубе шесть, договор с «Красным пахарем» семь… Скоро пальцев нехватит!
Девица постаралась улыбнуться и сказала:
— Сейчас с бельковской запани звонили насчет комсомольцев…
Голубев только махнул рукой.
Он говорил Мезенцеву:
— Насчет жены — вздор. Я сам порасспрошал. Отца раскулачили — это факт. Он теперь валяется — паралич разбил. Жена его торговлей промышляла — тоже факт. Но только дочка с ними не жила. Ей семь лет было, отец отослал ее к сестре. Отец пьяница был, буянил, сына старшего он чуть на смерть не забил. Какой-то оглашенный: то дерется, то плачет. Белые были — он в белых стрелял. А потом стал против нас мутить. В кулаках гулял, а всегда без копейки. Одним словом, дочку он сбыл с рук. Это мне Шестаков рассказал: он в Уйме четыре месяца просидел. Ну, а тетка это наш человек. Я уж не знаю, кто кого обработал: она девчонку, или наоборот, но, во-первых, бабе за пятьдесят, а она безграмотность ликвидировала, потом в кандидаты записалась, а теперь ее в председатели колхоза выбрали. Значит, нечего тебе Мезенцев, нос вешать. Жена у тебя что надо. А говорят, мало что говорят — на все не ответишь. Мне Петренко сказал, что ты такую меланхолию развел. Ну и глупо. Такая вот ерунда у всех бывает. Хуже — накинутся, а потом сами удивляются. Ты посмотри — Синицына никто и не поддержал. Ребята тебя любят. Так ты об этом и не думай больше. Что называется — за работу!..
Мезенцев должен был широко улыбнуться, пожать руку Голубева, сказать «правильно». Но он был грустен. Он только ответил:
— Насчет тетки — это верно. Жена мне рассказывала и потом ребята из Ломоносовки.
Голубев порылся в карманах. Там все лежало вместе; бумаги, образцы веревки, носовые платки, вырезки из «Правды», приготовленные для доклада, желтенькие рублевки, письма, заметки, даже обрезки замши — накануне приехали делегаты с Печоры насчет оборудования второго кожевенного завода. Наконец он вытащил записку, расправил ее и, добродушно усмехаясь, показал Мезенцеву:
— Читай. Это от Синицына.
Генька писал: «Уважаемый т. Голубев! Я хочу еще раз осветить мое выступление в связи с кандидатурой Мезенцева. Я основывался на поверхностной информации, и считаю товарищеским долгом сказать прямо, что я жалею об этом. Вы не подумайте, что это произошло от мелкой зависти. Но, с другой стороны, в местных условиях я не могу найти возможности как следует приложить мою энергию. Я прошу вас, т. Голубев, помочь мне с переездом в Москву. Что касается вопроса о Варе Стасовой, то я его снимаю и всецело поддерживаю кандидатуру Мезенцева».
Когда Мезенцев кончил читать, Голубев сказал:
— Видишь? Так что все, как говорится, ликвидировано. А этот Синицын неплохой парень. Вам бы надо подружиться. Он здорово работает. И голова на плечах. Только амбиции много — вот в Москву хочет, здесь ему места мало. Я даже не понимаю, какие вы все неженки выросли. Ему вот сразу в Москву: не понравилось здесь, обиделся. А ты тоже чудак. Ну, брякнул. Что же, ты всю жизнь плакать будешь? С виду вы здоровенные, а сердца у вас какие-то нелуженые. Так что ты на Геньку не сердись.
— Да я на него и не сердился. Разве в Геньке дело?..
Мезенцев запнулся. Больше он не мог ничего вымолвить. Голубев чувствовал: разговор кончился не так, как ему хотелось — что-то у Мезенцева не клеится. Он пробовал расспрашивать, Мезенцев молчал. Он пошутил, Мезенцев не рассмеялся. А здесь еще люди мешали. Насчет запани позвонили вторично. Надо было составить договор с колхозом. Штаубе кричал, что, если ему и сегодня не дадут путевки, он «кончится у всех на глазах». Топотали лесорубы, визжал, и свистел телефон, девицы носили бумаги на подпись, и бумаги росли. Штаубе кашлял. Где же здесь было говорить о сердечных делах? Голубев вдруг и сам загрустил. Он сказал глухим, надломленным голосом:
— Ладно. Значит, договорились.
Прощаясь с Мезенцевым, он даже не заглянул в его глаза. Мезенцев пошел домой. Вскоре пришла Варя. Он сказал:
— Я у Голубева был. Насчет тебя все уладилось.
Варя ответила как будто равнодушно:
— Вот и хорошо.
Мезенцев тоскливо подумал: нет, ничего не уладилось. Разве кто-нибудь в Варе сомневался? Здесь и улаживать нечего. А вот жить вместе они не могут. И этого никто не уладит: ни Варя, ни Синицын, ни Голубев. Значит разойтись? Но дойдя до этого, Мезенцев еще сильней помрачнел. Сколько раз он ловил себя на том, что он украдкой поглядывает на Варю, что, когда ее нет с ним, она все же рядом, как живая, и от этого еще грустней. Не может он от нее освободиться! С того вечера он еще больше думает о ней. Надо бы отвыкать, думать о другом, поменьше смотреть на нее, а он, наоборот, сильней к ней привязался. Только что-то прошло между ними, ничем этого не сотрешь. Они друг другу не верят. Стоит одному раскрыть рот, как другой настораживается — будто враги.
Так и сейчас. Варя пришла с лекции, поговорили немного о занятиях, о том, что в газете было, о ребятах, которые завтра едут на бельковскую запань, и замолкли. Когда Варя вошла и увидала Мезенцева, на одну минуту она обрадовалась. Так всегда бывало: увидит и вдруг легко станет на душе. Это как во сне: пахнет смолой, Мезенцев, большой и неуклюжий, обнимает ее, а потом смеется: «Товарищи доски!» Ведь можно себе представить, что ничего после этого и не было. Любят они друг друга, молодые оба — почему же им не радоваться? Но вот снова они сидят молча, каждый в своем углу, насупились. Мезенцев готовит доклад, Варя перечитывает конспект лекции; изредка посмотрит один на другого и сейчас же снова зароется глазами в спокойные ровные буквы.
Варя знает, что Петька ей больше не верит. А как же тогда жить? Может быть он думает, что и замуж она вышла потому, что хотела укрепиться, покрыть свое прошлое? Когда он порой ловит ее ласковый взгляд, он сейчас же отворачивается: он, наверно, думает, что она хочет подладиться, чтобы он забыл то, главное: утаила, хуже — солгала. Позавчера, когда она ласково поглядела на него, он подошел, молча ее обнял, потом поцеловал в губы. Ей показалось, что она вскрикнула от радости. Все в глазах помутилось, и только его глаза она видела перед собой. Но сейчас же пронеслось в голове: это он жалеет! Она слабо оттолкнула его и сказала:
— Не надо, Петька! Так нельзя!.. Стыдно так…
Он не спросил: почему стыдно? Он ни слова не сказал, сразу отошел, чуть сгорбился, сел в темный угол. Значит и он понимает, что так нельзя. Муж — жена, а что из этого? Раз они друг другу чужие — нельзя целоваться, стыдно, тогда это как на пьянке. Но как же жить вместе?.. Нет, лучше не думать! Работать!
Варя, напрягаясь, читает: «Повреждения древесины…» И снова перед ее глазами большая стройная ель. Кто-то небрежно, мимоходом сделал надрубку, и ель заболела, ель гнилая, — не смотрите на хвою, хвоя может долго держаться, зеленая и как будто равнодушная, но до чего щемит сердцевина! Вальщик сердито сплевывает: вальщик и без лекций знает, что такое гниль. Варя настолько отчетливо видит это перед собой, что она даже глаза закрыла. Потом, собравшись с духом, она говорит Мезенцеву:
— Слушай, Петька, вот что я хочу сказать… Надо нам развестись. Так будет и тебе лучше…
Она хотела сказать «и мне». Почему она этого не сказала? Дерево не хочет умирать; сердцевина его изгложена, но она еще шумит хвоей. Варя не сказала «и мне». Мезенцев вскочил и с какой-то огромной, несуразной тоской — вот так у него все: большое и неумещающееся — закричал:
— Это ты еще что придумала? Чтобы без тебя? Глупости! Почему ты, Варя, такое говоришь? Ну, больно. Отойдет. Нельзя так шутить! Мы с тобой не на вечерке: раз два, и прощай. Я даже не понимаю — о чем ты говоришь?..
Он долго и шумно боролся с судьбой. Может быть, скажи Варя «и мне», он бы покорился. Но Варя ничего не сказала о себе. Она как будто искала счастья для Мезенцева, и Мезенцев не хотел этого счастья. Он хотел удержать Варю, но он не знал, как это сделать. Его отрывистые, громкие слова покружились, прошумели, ушли. Варя на них ничего не ответила.
Еще недавно Мезенцев казался Варе сильным и большим; за такого можно спрятаться. Теперь она чувствует, что Мезенцев боится остаться без нее. Так девочкой она боялась темноты. Этот огромный человек стал сразу ребенком, и в голове Вари мелькают непривычные мысли. Но она им не удивляется. Сказалась ли накопившаяся в сердце нежность, или Варя припомнила свое детство: баб с ребятишками, которые хватались за юбки, долгое унылое «нишкни», детский плач, женские охи и ту неистребимую духоту, которая может остаться духотой тесной клети и которая может стать высокой духотой любви. Варя знает: не о себе она должна думать — о Петьке. Он боится слов. Его надо медленно отучить от себя. Он снова с головой втянется в работу. Он больше не будет думать о Варе. А потом?.. Потом он встретит другую. Лучше Вари. Та не соврет. Да и не будет у нее нужды врать: ведь есть же на свете счастливые люди! Поженятся… А Варя? Нет, Варя не хочет думать о себе. Правда, слезы подступают к горлу. Но это от усталости. Она не заплачет. Она знает теперь, что ей делать.
Полистав для виду тетрадку, Варя встает:
— Меня ребята в клуб звали. Я скоро вернусь.
Она идет к Голубеву.
— Я на запани уже работала… А мне это очень необходимо… Вы не думайте, я управлюсь…
Но Голубев не спорит:
— Это ты хорошо придумала. Я и сам хотел о тебе сказать. Но видишь, что здесь делается! Закрутился. А ты тамошних пристыди: что ж они смотрят, черти этакие! Два раза прорвало. А запань построена хоть куда.
Потом он внимательно смотрит на Варю и говорит:
— Ну, значит, желаю удачи. А все-таки… Неженки вы, вот что!
Слове «неженки» он выговаривает с такой ласковой усмешкой, что и Варя невольно улыбается. Она уходит. Голубев призадумался: так бывает — вспомнишь что-нибудь, и сразу чуть ли не вся жизнь встанет. Слово «неженка» тоже значилось где-то в жизни Голубева. Это старик Семенов ему сказал: «Неженки вы». Лет двадцать пять назад… Значит, и они были неженками. А от этих не ждали: математика, субботники, прорывы ликвидировать, какая уж тут нежность! А у них, между прочим, сердца нелуженые. Молодость, ничего не пропишешь. Говорят — возраст грубый, а он, может быть самый нежный… Ну, надо с этими пильщиками договориться!
Быстро пронеслись в его голове люди и годы: Соня, тюрьма, как ему книжку принесли с передачей и точками в буквах было проставлено: «Насчет Веры поняла, но ложь остается ложью», как умирал Картыгин и не было письма от матери, а Голубев написал за мать, читал вслух и говорил: «Доктор запретил тебе читать», как в Шуе… Но вот и пильщики.
Вернувшись домой, Варя постаралась возможно веселее сказать:
— Знаешь, что произошло? Меня-то на бельковскую запань посылают. Правда! Придется нам расстаться. Так, Петр, и лучше: месяц, другой поживем врозь, а там и сговоримся.
Эти слова она приготовила, когда шла домой. Она смягчила их грустью глаз. Мезенцев встал и робко подошел к ней. Она его обняла. Они долго молчали, грустные и счастливые. На следующее утро Варя уехала. Для нее начиналась вторая жизнь.
Эту жизнь она увидала впервые с крутого берега. Внизу широкая река. Золотые бревна несутся по ней. Но вот они останавливаются, поворачивают, как испуганное стадо, они вбегают в хлев. Лес идет с верховьев Двины, с Вычегды, с Сухоны. Иногда он идет тихо и задумчиво. Иногда он возмущается, бревна сердито громоздятся друг на друга, вся река покрывается древесиной и скрипит запань. Кажется, еще минута — и лес победит, он разорвет хомуты, вырвет медведки и кинется дальше к морю. Но люди сильнее. Они проверяют хомуты. Медведки крепко вкопаны. Запань скрипит, для вида поддается и снова выпрямляется.
На бревнах стоят люди с баграми: они подталкивают бревна. Они видят издали, какое дерево идет. Они кричат: «Елка! Сосна! Пиловочник! Подтоварник!» Они стоят на скользких бревнах с длинными баграми, похожие на древних жрецов. Если подойти поближе, можно увидеть ка их лицах крупные капли пота. Но отсюда они кажутся равнодушными и величественными. Как бы шутя они пропускают десятки тысяч бревен. Огромные леса, на опушках которых ютились деревушки, леса со скитами и с разбойниками, леса, в которых играло молодое зверье, а девки пели свои песни, леса, обозначенные на картах зеленым пятном и через которые пройти все равно как через жизнь, — эти леса побеждены, они плывут вниз, вступают в запань, расходятся по кошелям. Их связывают, как пленников. Буксир подхватывает плоты и несет их к большому городу, где Голубев сейчас справляется о погрузке, где дымят короткими трубами шведы или англичане, где Мезенцев стоит возле большой крикливой машины.
Если глядеть с горы — все это загадочно и просто. Вот девушки вьют вицы. Среди них Варя — Варя не на горе. Бригадир со станка кричит:
— Черти, вицы давай!
Нет виц: девчата плохо работают. Варя молчит, она не знает, как ей быть. Она хотела итти на сплотку, но Гордин сказал:
— Становись за вицы. Надо девчат подтянуть. Вчера сорокинские станки три часа простояли — виц нехватало.
Рядом с Варей работает Женя Пятакова. Ее тоже прислали сюда. Женя сейчас не думает о судьбе злосчастной певицы. В голове ее одно: скорей! скорей! Снова нехватит! Станки остановятся!..
Мелькают вицы, мелькают руки. Высокое солнце свирепо, и некогда рукой провести по лбу. Вица нежна и податлива, как девушка; как девушка, она своевольна, хочет высвободиться, перечит пальцам. Но Варя строго сжимает ее.
— Кончайте, девчата!
Варя не уходит. Она еще может держаться на ногах, руки еще двигаются. Лучше приготовить побольше назавтра, чтобы не было простоя. А то с этими девчатами беда! Верховодят Глаша Попова и Садовцева. Глаша, как только увидела Варю и Женю, сразу начала ворчать:
— Ударницы! Нам обед в окошко подают, а вы под портретами сядете. Только жрать все равно нечего. И зачем это вы из кожи лезете? Гордин перед начальством хвастает, а мы, значит, должны животы надрывать?..
И пошла, и пошла. Варя ей ничего не ответила. Варя не умела ни спорить, ни учить. Она улыбнулась и начала крутить вицы. Дня три спустя Глаша ей сказала:
— Здорово ты это делаешь! Только я вот думаю: кто на тебе женится? У нас говорят: «Не женись на девице, женись лучше на вице». Разве что так…
Не то она завидовала Варе, не то обижалась на нее. А Варя в ответ сконфуженно улыбалась.
Никогда прежде Варя не знала, что такое ответственность. Она работала прилежно и в деревне, и на заготовках, и на заводе. Ей говорили: сделай то-то, и она делала. Кругом нее были умные, взрослые люди. Теперь Варя чувствует, что все на ней: и вицы и люди. Еще грустнее стали ее глаза, еще суровей улыбка. Ребята говорят: «Это стасовская бригада», и Варя понимает, что каждая вица — это ее дело. С лаской и с досадой она поглядывает на Глашу Попову или на Садовцеву: их судьба теперь связана с ее судьбой. Думая об этом, Варя вздыхает. Она знает, как крутить вицы, как бороться с усталостью, но она не знает, как быть ей с Глашей или с Садовцевой. Варя как-то спросила Женю, но Женя ответила:
— А что ты с ними поделаешь, если они все сами понимают? Шкурницы!..
Жене хорошо: она работает, шутит, потом читает свои романы. Ей и в голову не придет огорчаться оттого, что Попова шкурница, или оттого, что снова с вицами отстали от сплотки.
Ночью Варя растерянно думает: «До чего я глупа! Будь здесь Петька, он рассказал бы… Не знаю я жизни, вот ни на столько не знаю. Люди кругом, а разве их поймешь, какие они…»
Отдыхать Варя ходит в лес. Лес густой и сложный, как жизнь. Краснеет малина, кричат птицы, а мох пахнет так сладко, так пронзительно, что Варя, зарывшись в него лицом, смутно припоминает другие ночи — с Мезенцевым.
Сначала лес успокаивал Варю. Все ей казалось стройным и ясным. Птицы уже готовились к осеннему отлету. Спели брусника и голубика. Деревья жили важно и сосредоточенно, они медленно пили соки земли, наполнялись жизнью, а когда подлетал ветерок, они рассказывали какие-то длинные, непонятные и все же увлекательные истории. После дождя все казалось новым, как будто и не было до этого ни листьев с их тонким абрисом, ни ромашки, ми неба. В лесу Варя отходила. Разрыв с Мезенцевым ей казался простой размолвкой: пронеслась весенняя буря, пообломала ветки, напугала крикливых гусей, и вот снова теплый ветерок играет с молодыми листьями.
Шли недели, и в ночи начала закрадываться темнота. Солнце садилось в десять, красное и огромное. Среди черноты еще сильней томили Варю лесные запахи и мир казался еще прекрасней. Но она больше не верила в доброту леса. Совы хватали мышей. Ястреб кружил над крохотными рябчиками. Синицы ловили мошек. Одно дерево вытесняло другое, как люди в очереди. Лес был полон борьбы и коварства. Пошли ночи с зарницами, и эти огненные росчерки казались Варе грозными: так объявляют войну. Мир был глухим и частым, как лес. А с утра смеялась Глаша. Садовцева приговаривала: «Выслуживается», и снова отчаянно кричали сплотщики: «Черти, где же вицы?..»
Когда Варя глядела теперь на запань, она радовалась. Она радовалась победе над лесной чащей, над ходом реки, над темными и слепыми страстями людей, которые испокон веку жили в Белькове. Ночью запань пылала. Здесь были больница, столовка, клуб, в одном из бараков печаталась газета «Красный сплавщик». Это была толика той большой, стройной и отчетливой жизни, которая меняет русла рек и побеждает тундру. Варя знала, что ей не по пути ни с караваном гусей, ни с Садовцевой, ни с бельковскими бабками, которые приговаривали: «И зачем эта запань? Ловили рыбу, а большевики придумали…» Варя глядела с высокого берега вниз, взволнованная и по-новому счастливая: это была ее битва, ее победа.
На том же берегу она оказалась как-то вдвоем с Глашей Поповой. Они забрели сюда после ужина. Сначала Глаша, как всегда, подтрунивала. Потом она примолкла. Молчала и Варя. Вечерело, потянуло с лугов сырой травой. Глаша загрустила. Сколько еще крутить эти вицы! А потом на лесозаготовки. Десять деньков — больше ей не прогулять. Хорошо, если Павлика пошлют на тот же участок. А может, Павлик и не поедет: его в Устюг зовут. Там у него брат на щетинной фабрике. Погуляет с Глашей и бросит. Как Никитка. Жизнь Глаши не складывается Хотела она отложить рублей сорок, чтобы купить красивое платье, но не так-то легко даются эти проклятые вицы. Руки опускаются. А здесь еще глупые разговоры: какая-то «честь»! Комсомолок понаслали. И никому не придет в голову, что ей, Глаше, просто хочется жить…
Они лежали рядышком. Глаша зло посмотрела на Варю.
— От вас вся беда. Как вы приехали, начали нас мытарить. Я, Варька, тебя не понимаю. Ты что это — орден себе зарабатываешь? Разве ты баба? Ты инструмент. Вот повертись еще годок, кто с тобой гулять станет? Или тебе это даже не интересно? Поглядеть на тебя — баба. А может, ты из другого теста сделана? Дроля-то у тебя где? Или ты только книжки читаешь?
Обычно Варя отвечала на эти насмешки улыбкой. Но не мало времени прошло с того дня, когда впервые она отсюда глядела на запань, многое переменилось и в самой Варе. А здесь еще душно пахла трава и, как светляки, порхали внизу первые огоньки запани. Она посмотрела на Глашу, и вдруг она увидала, что Глаша — славная. Глаза у нее смешливые, — но добрые. Варя сказала:
— Слушай, Глаша, зря ты надо мной смеешься. Баба и баба. Муж у меня в Архангельске. Только не поладили мы. Любим друг дружку, а жизнь не утряхается…
Глаша теперь не смеялась. Она слушала с тем вниманием, за которым легко почувствовать участье и теплоту. Варя рассказала ей всю свою жизнь. Даже то, чего она не сумела рассказать Мезенцеву, она рассказала этой острой на язык девушке, которая столько раз ее изводила.
Потом заговорила Глаша: про Никитку, про Павлика. У них была одна печаль, а может быть и одна судьба. Варя сказала:
— У Толстого это очень хорошо описано: мучается и все про себя…
Ночь опустилась, а они все еще разговаривали. Варя рассказала о романе Толстого. Потом они припомнили детство, и много в нем оказалось смешного. Они смеялись. Какая-то пичуга испуганно выпорхнула из травы. Небо все покрылось звездами. Они замолкли, и тогда-то показалось слово, всегда разъединявшее их. Варя скорее себе, нежели Глаше, сказала:
— Боюсь, завтра виц не будет. Обещали привезти ночью, да я на Зотова не очень-то полагаюсь.
Чудесна летняя ночь и чудесно девичье сердце, всех чудес не пересказать, но только Глаша не усмехнулась, не сказала: «Мне-то какое дело, ну прогуляем денек». Нет, смущаясь и в то же время просто, по-деловому она ответила:
— Привезут. А нет — сами поедем. Знаешь, сегодня как то лучше шло. Все время подавали, даже осталось…
На следующее утро Глаша не отставала от Вари. Она так прикрикнула на Садовцеву, что и та задвигалась. Теперь сплотщики не поспевали за ними: вицы лежали готовые.
Вечером Варя задумалась. Почему Глашу не могли убедить ни Гордин, ни доклады, ни попреки? Может быть она подчинилась чужому напряжению, той воле, которая заставляет реку менять русло? Или несколько слов на лугу растормошили ее сердце? Казалось, не было связи между любовными горестями и этими вицами, но вот голос Вари дошел до Глаши. Все теперь переменилось. И Варя поверила в силу слов, в силу чувств, в тот отзвук, который рождает короткая скупая ласка, порой один взгляд, того меньше — вздох.
Дней через десять Варю перевели на сплотку: работа с вицами была налажена. В первый же день Варя поспорила с Журавлевым. Журавлев считался хорошим сортировщиком. Его имя значилось на красной доске. Но Варя относилась к нему с недоверием: только о себе думает! А какой он ударник — просто хочет пролезть вперед. Журавлев все кошеля забил дровяником, а для другой древесины нет места. Пришлось сплотщикам заняться разгрузкой кошелей. Журавлев глядел и усмехался. Варя сказала ему:
— Что же ты сам не понимаешь? Куда экспортный девать? А пропсы? Тебе лишь бы кричать: «На двести двадцать сверх нормы!»
Журавлев разозлился:
— Ты мне лекцию не читай! Я, кажется, не маленький. Сам знаю, что мне делать. Каждый пусть за своим товаром смотрит. На всех не угодишь.
Варя вышла из себя:
— Так только кулаки говорят: «Мой двор, а на остальное мне наплевать».
Сказав это, она покраснела: она вспомнила разговоры об ее раннем детстве, пьяницу отца, большую холодную избу в Уйме и то, как Мезенцев, заглянув ей в глаза, спросил: «Правда?» Но быстро она оправилась и принялась за работу.
О Мезенцеве она думала часто и все по-разному. Иногда он ей казался слабым и беспомощным. Он заблудился в любви, как в лесу. А разве трудно было понять Варю? Глупая девчонка. Прикрикнул бы, а потом смеялись бы оба. Но он такого не понимает. Книги понимает, машины, все может рассказать. А простой жизни не видит. Варя, и та может ему помочь. Когда Варя так думала, лицо ее мягчало, показывалась улыбка, шевелились губы — что-то она про себя бормотала. В одну из таких минут она повстречалась с Сергеевой. Сергеева шла к докторше — мальчишка кашляет. Варя поглядела на сына Сергеевой: ему было года два, смешно оттопыривалась нижняя губа, а глазенки лукаво посвечивали. Неожиданно для себя Варя громко вздохнула и сказала Сергеевой:
— Хорошо, когда такой… Весело…
Но чаще, думая о Мезенцеве, Варя чувствовала себя маленькой. Она расспрашивала его, просила совета, ждала, что он ее разругает. Она могла часами с ним разговаривать; ни Женя, ни Глаша, никто об этом не догадывался. Вот он корит ее за глупость, вот погладил по плечу…
За два месяца, проведенных на запани, Варя повзрослела и окрепла. Не только стали сильнее ноги и руки — сердце возмужало. Она больше не дичилась людей. Она научилась спорить и отругиваться. Она даже выступила как-то в клубе. Потом все ее поздравляли. Никто не подумал, что, когда она запнулась на «ошибках в сплотке», ей стало так страшно, что чуть было она не разревелась. Ее портрет был напечатан в газете «Красный сплавщик». Варя выглядела печальной: очень фотограф ее измучил. Она хотела послать фотографию Мезенцеву, но раздумала: «Грустная я на карточке, он подумает — убиваюсь, лучше подождать, скоро и сам увидит, какая я…» В бараке перед маленьким зеркальцем она недоверчиво разглядывала загоревшее, обветренное лицо: «Пожалуй, Петька и не признает! Скажет: „Это что за колхозница?..“»
Как то шла она с работы. Дождь лил теплый и шумливый. Она сняла ботинки и шла босиком, ногам было весело. Она ни о чем не думала, день был трудный, и она переживала усталость. Вдруг в кустах раздался мужской голос. Кто-то говорил нежно и взволнованно:
— Скажи! Нет, скажи!
И сразу она вспомнила Петьку. Слезы полились. Она шла и бормотала: «Петя! А, Петенька!» Никто не отвечал ей, только дождь бился о деревья, а на щеках капли дождя смешивались со слезами. Горело лицо, голова кружилась, она боялась: не дойду! Потом она пришла в барак и до полуночи стыдила себя: эх ты, баба!
На сплотке Варя подружилась с Борей Бахматовым. Это был толковый парень. На запань он приехал из Вологды. Глаза у него были зеленые и веселые. Но смеялся он редко, а говорил все больше о книгах. Варе он прочитал стихи Есенина: «Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть». Варя выслушала и сразу после ушла: ей захотелось поплакать. Бахматова Варя уважала: молодой, а столько знает! На запани он считался первым, и ребята доверяли ему больше, чем комсоргу. Он не только умел читать доклады, он и с людьми умел разговаривать: знал, как к кому подойти. Он нашел дорогу и к сердцу Вари. Ни с Глашей в ту памятную ночь, ни с Мезенцевым, ни с кем на свете она так не разговаривала, как с этим парнем. Кажется, все она могла ему рассказать. Вечером они часто ходили на берег. Как-то Бахматов робко обнял Варю. Она высвободилась.
— Нет, Боря, не нужно так…
Он не настаивал, не просил. Он знал, как ждет Варя встречи с Мезенцевым. Если он решился обнять Варю, то в этом была повинна черная жаркая духота августовской ночи. Не он обнял — другой. Услышав слова Вари, он сразу опомнился. Он боялся теперь взглянуть на Варю: сердится! Когда наконец-то он заставил себя повернуть голову, он увидел, что Варя плачет. Тогда он совсем растерялся.
— Варя, да что же ты?.. Не сердись!.. Не нужно на меня сердиться! Я не буду больше…
Варя вытерла рукавом лицо и сказала:
— Я не сержусь. Просто грустно стало. Не понимаешь? Ну, а сказать я не умею…
Как могла она рассказать о том, что у нее было на душе? Ей было тяжело потому, что она ничем не могла ответить на ласку Бахматова. Перед его горячими глазами, перед частым дыханием, перед всей настойчивой чернотой этой еще короткой, но глубокой ночи она чувствовала себя не то скупой, не то нищей.
Когда они возвращались в поселок, Варя сказала:
— Чудно это, Боря, вот, кажется, все с головой делаем: и запань построили, и заводы. Людей переделываем. А кого как полюбишь — разве это по доброй воле? Конечно, не дворяне мы, это каждый понимает. Полюби я рвача, разве я не справилась бы с чувством? Вырвать из сердца можно. Только, я думаю, сердце после этого пустое. Нарочно ничего не посадишь. Жалко, ты моего Петьку не знаешь. Подружились бы. Только он не похож на тебя. Другой. Вот ты слушаешь, все тебе понять хочется: как я, как она, как еще кто. А он все по-своему. У него, понимаешь, мысли длинные, ему некогда смотреть, где я и что. Это он правильно делает. Но только я сама объяснить не умею. Как дойдет дело до чего-нибудь серьезного — нет у меня подходящих слов. С девчатами трещу, как сорока, а рассказать толком не могу. Вот я тебе давеча не смогла объяснить, почему это я расплакалась. Так и с Петькой. Он молчит, и я молчу. Ну, да это глупости. Вы ходит, что я тебе пожаловалась. А ты, Боря, очень, очень хороший…
В ту ночь угрюмо билось сердце Вари, а три ночи спустя раздался тревожный набат: в колокол била Варя. Ее волосы трепались на ветру. Она кричала, как будто ее крик мог что-либо прибавить к неистовому и дикому рыку колокола. Это была страшная ночь. Она началась для Вари с тоски, с настойчивой мысли о Мезенцеве: не может она без него, вот никак не может!.. Она уже легла было спать, но не спалось, она вышла к берегу. Она шла, как лунатик, ни чего перед собой не видя, с глазами, широко раскрытыми и пустыми. Иногда, останавливаясь возле деревца, она доверчиво и стыдливо говорила: «Петька!..» Прорвав облака, показалась луна, синяя и неприязненная. Холодно стало: поднялся ветер. Но Варя не глядела ни на луну, ни на реку, покрывшуюся волнами. Она жила теперь с закрытыми глазами и с этим одним словом, нежным, но неотвязным: «Петька!..»
Кто знает, какая сила заставила ее вдруг вглядеться в набухшую синеву реки. Это было продлением той тревоги, которая ее выгнала из барака. Она поглядела и сразу бросилась к запани: ей показалось, что запань плывет. Подбежав, она увидела, что река несет сверху горы древесины. Запань, поддавшись, двинулась.
Варя зачем-то кинулась в воду. И сейчас же она подумала: «Дура! Что это я делаю?» Она побежала к колоколу. Раздался набат. Казалось, он выражал все: и тоску Вари, и страх, и этот внезапный ветер, и скрип запани, и грохот идущего леса. Вся ночь била в колокол, и, просыпаясь, люди вскакивали, как полоумные: ничего не видя перед собой, выпятив вперед руки, они бежали вниз. А Варя все еще била в колокол, отчаявшаяся и ожесточенная. Когда она выпустила из руки веревку, она увидела Гордина. Гордин кричал:
— Медведку вырвало! Бери лопаты!..
Минуту спустя Варя уже рыла яму. Сколько она так проработала: два часа? четыре? Она ни разу не передохнула. Она даже не поглядела, кто с ней рядом. Кругом ругались, подбадривали друг друга, но Варя ничего не слышала. Она знала одно: скорей! спасти экспортный! пропсы! медведку! яму!
Потом показалось солнце. Гордин шутил с ребятами. Женя пошла спать. Суровцев хотел послать телеграмму в «Правду севера», но раздумал: все равно не напечатают, места у них мало, а здесь, собственно говоря, ничего и не произошло.
Запань снова мягко поддавалась и выпрямлялась, чувствуя свою силу. В этой победе над лесом не было ничего героического, никто не отличился, никто не погиб, просто люди проработали еще одну ночь напролет, а бревна, поняв, что не одолеть им людей, уступили. Одно было примечательно в этой ночной тревоге, но об этом знала только Варя. Она знала, как она взглянула на реку и как разрешилась ее тоска этой битвой, молчаливой и долгой. Она помнит: бревна шли на приступ. Их было много-много. Наверно, где-нибудь выше прорвало запань или разбило плоты. Никогда Варя не видала на реке столько леса. Кажется, он мог раздавить не только запань, но и бараки на берегу, весь поселок. Потом люди воевали с лесом. Как это было, Варя не помнит. Она рыла яму вместе с другими. Потом Женя пошла спать.
Варя не могла ни отдыхать, ни радоваться победе: она все еще не изжила ночного волнения. Помывшись на реке, она сразу пошла к станкам.
Вечером того же дня они сидели с Женей возле барака. Женя неумело курила папиросы, передразнивала девчат и дурачилась. Они говорили о ночной тревоге, и теперь она казалась им смешной.
— Я услышала — звонят, как перепугалась…
— А я-то… В воду прыгнула, будто поймать можно… И знаешь, как я в этот колокол ударила — остановиться не могла…
Давясь дымом, Женя говорит:
— Все-таки хорошо, что кончилось.
Варя знает слабости Жени, и она хочет ее подразнить:
— Опять ты с твоим концом! Прямо ты на этих концах помешалась. Глаша с Сережкой в клуб пошли, а ты сейчас же: «Конец хороший». Книжку взяла про немцев. Кажется, интересно. А ты в обиде: «Конец плохой». Вот и с этой медведкой. Здесь интересно, как это было. А ты про конец…
Женя обиделась:
— Очень просто, если без конца — это для одних дураков. Как было? Было. Вырыли. Лущин с ребятами на лодке вперед заехали, подцепили. А что главное? Сберегли лес. Это как, по-твоему, конец или «продолжение следует»?
Варя засмеялась:
— Ты не сердись. Это на меня дурь нашла. Но только знаешь что — продолжение следует. Пойдет этот лес в Архангельск. Там его погрузят на английский пароход. Антипов, наверно, будет грузить. Знаешь — танцор главный? Повезут англичане древесину к себе. Построят еще один пароход. Вот зачем им пароходы, я не знаю. Может, стрелять? Да ну их к чорту! Лучше о своем поговорим. Здесь, понимаешь, два продолжения: для них и для нас. Мы на эти денежки машины купим. Большой завод здесь построят. Бумагу будут делать, чтобы тебе письма писали. Это Петька говорил — он знает. Придет на завод вот такая Варя. Прямо из колхоза. Дура-дурой. Увидит машины и перепугается. Ну, а потом ее начнут прорабатывать. Там, гляди, она инженером станет. А потом этот инженер встретит какого ни-будь Петьку и заревет. А потом… Да так и до утра можно проговорить. Только знаешь, что я тебе скажу? Иди сюда! Вот так. Давай по пальцам считать. Один — это не счет. Два. Это ты да я. Или я и Петька. Или ты и еще кто. Да не сердись, я ведь не спрашиваю — кто. Три. Ну, что три? Три месяца как я здесь. Четыре. Четыре это для тебя — выбирай. Может, у тебя четыре дроли было? Или четыре раза на красную доску записывали? Пять… Да, нет я не играть хотела. Я вот что хочу сказать: какой же это, Женя, конец? По-моему, и нет никакого конца — ни хорошего, ни плохого. Я когда про это думаю, мне кричать хочется — такое это счастье. Стой, Женька, я тебя поцеловать должна! Ты ведь только подумай — идет, идет, как лес по реке, а конца и не будет!..
7
Пароход, пыхтя и отдуваясь, медленно поднимался вверх по реке. Кругом все те же леса. Иногда на берегу высятся штабеля бревен. Свистят буксиры с плотами. Лес идет навстречу и молем — это красавица чистоствольная сосна. Изредка пароход подходит к пристани. Бабы продают молоко и чернику. Порывистый гражданин спрашивает пароходного буфетчика:
— Пиво есть?
Тот меланхолично вздыхает:
— Сам бы выпил.
Гражданин произносит грустный монолог, среди черники и бревен:
— Третий месяц так. Зимой мы в Червякине работали. Там верст пять до станции. Поезд три минуты стоит. Войдешь в вагон-ресторан и выдуешь пару. Бутерброды с колбасой. А здесь что? Лошадей я должен лечить. Да я скоро сам слягу…
Пассажиры менее привередливы: они не брезгают и «столовым». Водка смягчает душевные драмы, и пустынные берега она населяет веселыми видениями. Люди лежат вповалку на палубе; здесь же узлы, ребята, и булькает, булькает таинственное зелье. Капитан отбивается и от леса, и от клопов, и от пассажиров. У него расчесанная докрасна душа. Напрасно он писал: «Помещаться на мой мостик и ложить вещи воспрещается». Люди громоздятся, как бревна, они не читают плакатов, и они свято верят в благодетельную силу человеческой тесноты. Сплотщик Агафон прыгает через тела, как болотная птица, и кричит:
— Товарищ инженер, дай папироску!
Идут берега, идут и долгие повести: люди лежат вповалку, вповалку живут, вповалку исповедуются. Давно уже остался на берегу красноносый любитель пива, а лесоруб Макеев говорит Сашке:
— Если он ветеринар, он должен лошадей лечить. Я у нас сказал ветеринару: «Не вылечишь, гад, я тебе припомню. Ты тогда не ветеринар, а вредитель». Живот у нее во как раздулся. А он мне отвечает: «Тебе надо газету почитать. Там товарищ Каганович о таких трепальщиках уже распространялся. Я лошадь лечу по любви, а ты не колхозник, ты — стихия». И ты послушай только — лошадь околела, а он, сволочь, ночью на скрипке играет. Вот тебе мое слово! Ну скажи, Сашка, убить такого?
Сашка чешет живот и говорит:
— Зачем убивать? Может, у коняги какая-нибудь чума была. А насчет товарища Кагановича — это сущая правда. Потому что наука, она пронизывает. У меня брат ходить не мог, а теперь он на лесостоянке работает. Ты лучше погляди, как они, черти, небо, разделали. Мы вот глядели: туча, звезды. А у них теперь карты. У них по небу дороги проложены. Летит и никаких. Я вот читал, что они насквозь летают, то есть через воздух. А ты —«убить»!..
Булькает водка, пыхтит пароход, капитан покорно вздыхает. Люди расстегиваются, распахиваются, разматывают тряпье и все говорят, говорят. А над ними звезды.
— Я такой вот — дикое люблю. Объездчиком был. Забираемся мы в эту самую чащу…
— С октября фанерный завод пустим. Утвердили. Береза здесь замечательная. Станки я ездил принимать. Ну и станочки — семьдесят два на шестьдесят!… Весь мир теперь забьем!..
— Раскулаченных у нас цельный поселок. С Украины их навезли. Помидоры сажают. Вкусно. Только глядеть на них тошно: он, может, о чем-нибудь таком и думает, но жилы из него повытягали…
— Я там и в ресторане был. Фокстрот танцуют. А один грузин как закричит: «Это не штука — на месте тереться, я вам сейчас покажу, что значит танцовать!» Заведующий перепугался, что скандал будет. Но он такую лезгинку закрутил, что все обомлели. Нож даже кинул. Аплодировали ему. А иностранка там была, вроде как туристка, так она заплакала…
— На чистке все и узнали. Егоров сказал: «А, между прочим, товарищ Красинский живет с женой товарища Шевелева». Понимаешь, эффект? Шевелев тут же сидит. Все трое тут. Ну, конечно, поговорили, а потом перевели его в кандитаты…
— Тригонометрию? Это я на большой палец!..
— У казаков кумыс прикрытый и все шумит, шумит. А завод какой там построили — глядеть страшно!..
— Вижу — в грунте золото. Обрадовался. А потом посмотрели, говорят: «Нет, не золото»…
— Разрыли они могилы: «Здесь будут огороды тракторно-ремонтных мастерских». Ну, я выступил в горсовете. Говорю: «Я как красный партизан такого не вынесу. Они жизнь отдали за эту великую родину, а вы что же, на картошку их променяли»…
— Япошки, они хитрые. Газов у них пропасть. Только и мы не дураки…
— Детдом устроили. Говорят, «трудно воспитываемые». А они просто беспризорники. Кормить их — не кормят, вот они и работают на стороне. Положишь кусок хлеба, отвернешься — и готов. А ты потаскай доски натощак…
— Ильин — вот это писатель! Возьмет какую-нибудь личную проблему и как внедрит ее в совокупность.
— Друзей у нас сколько хочешь: каждый вузовец тебе друг. А товарищей нет. Чтобы внутрь войти, он этим не интересуется. Друг тебе может и свинью подложить, а если ты товарищ, так это дело святое.
— Я как вспомню детство — страшно! Угол, сырость, сапоги отца, грязные, тараканы — и никуда не пойдешь. Так мне и казалось: это мой дом, моя жизнь. А теперь даже голова кружится — столько всего! Знаешь, как я нашу жизнь определяю? Это жилплощадь без стен…
— Приду сейчас с завода — мальчонка дома. Вся житуха в нем…
Медленно идет пароход, он везет в Котлас, в Вятку, в Вологду, в Устюг, в Москву сотни различных людей. Это плывет по широкой реке кусок советской земли. На остановках парни купаются, а женщины деловито стирают белье. Ночью еще теснее, еще жарче, еще круче гнет тоска и еще сильнее молодая шершавая радость Кто-то играет на гармошке. Кто-то поет:
На носу расположились актеры: это любимцы парохода. Их охотно пропускают повсюду, им носят кипяток, их угощают черникой. Капитан пришел к ним, чтобы отдохнуть от песен и от клопов. Он говорит Лидии Николаевне:
— Вот и реки — каждая по-своему. Сухона она спокойная, а Вычегда меняет русло. У Вычегды нрав быстрый…
Лидия Николаевна смотрит на воду и молчит. Она думает о своем, это грустные мысли. Хорошо людям, которые не меняют русло. Счастливые: они сразу нашли свое. А Лидия Николаевна, как Вычегда… Надо бросить театр! Она бездарна и честолюбива. Ужасная вещь — искусство: оно отравляет душу. Стоит побывать разок на сцене, и трудно потом вернуться в зал, сидеть тихо, смотреть, как другие играют. Это — иллюзия, но чем слабее человек, тем сильнее он привязывается к иллюзиям. Кажется, что одну минуту ты провел в той лаборатории, где делается жизнь. Как же после этого сесть снова за машинку и переписывать протоколы? А ведь это ложь. Машинистка, да она, может быть, больше делает жизнь, чем Лидия Николаевна. Все теперь переменилось: жизнь стала огромной. Он бревна пилит, а в душе у него Шекспир. Вот Лясс — это не театр, Это куда выше. Это и есть настоящее искусство. Она бросит сцену. Пойдет в Лесоэкспорт машинисткой. Главное — не кривляться. Все равно через себя не перепрыгнешь. У каждого в жизни свое место.
Серая вода как будто ранена пароходом и рана долго не заживает. Капитан смотрит на Лидию Николаевну, в глазах его робкое восхищение. Он хочет спросить ее о театрах, о Москве, о жизни ослепительной и шумной — такое здесь и не приснится. Мигают огонечки буксира. Капитан зажмурился: он видит огни рампы, которые освещают лицо Лидии Николаевны. Сейчас же можно узнать, что это актриса — глаза у нее какие огромные и печальные… Ему хочется сказать: «Прочтите какой-нибудь трагический монолог», но он ничего не говорит, он только снимает фуражку и проводит рукой по голове. Она его не замечает. На берегу — леса, леса. Наконец капитан говорит:
— Надоело вам? Едешь-едешь. Я вот так двадцать семь лет катаюсь. А вам бы отдохнуть не мешало. Я уж не буду вас больше стеснять.
Он пропадает среди черных тел, которые громоздятся на палубе, большой и неуклюжий. Лидия Николаевна глядит ему вслед, и почему-то она вспоминает Байбака — Иван Никитыч говорил: «Байбак — это собачий поэт». Иван Никитыч…
Все тянется и тянется глупая песня:
Лидия Николаевна говорит Орловскому:
— Слышишь? Шофер сам себя раздавил Смешно?
Орловский раскатисто смеется и что-то говорит. Но Лидия Николаевна его не слушает. Она повторяет: «Уж не увижу я семью…» Она думает о ботанике. Вот и у нее был друг, она могла ему довериться, попросить у него совета. И все сразу кончилось. Перед отъездом она встретила Ивана Никитыча. Он ласково улыбнулся, спросил:
— Вы что же не приходите? Я-то тогда погорячился. Только я об этом и позабыл: такая здесь горячка с пшеницей…
Лидия Николаевна не пошла к нему. Ей показалось, что и позвал он ее по доброте: вот встретил и пожалел. А зачем она ему? У него Мушка. У него свое дело, свои люди, своя жизнь. До истории со Штремом она не задумывалась, почему она ходит к Ляссу. А теперь она решила: нельзя навязываться.
Жалобно свистит пароход. Лидия Николаевна вздрагивает. Вот еще одна страница. Полгода как она играет. Уезжая из Москвы, она не знала, что ее ждет. Одни говорят о севере — «это край ссылки», другие — «это край будущего». Лидия Николаевна знает: это суровый и трудный край. Здесь люди не боятся ни белых ночей, ни, черных дней, ни морозов, ни зноя, ни комаров, ни людских толков. Лясс не раз говорил ей: «Север? Север правду любит». И она попала на север. Все время приходиться разучивать новые пьесы. Ролей никто не знает, да и пьесы глупые. Режиссер сам не понимает, чего он хочет. То он кричит Лидии Николаевне, чтобы она пила взаправду горячий чай: «Обжигайтесь! Это гораздо натуральней». То он ставит ее возле стены и любуется: «Подымите руку! Замечательная тень! Совсем как в Камерном…» Ну, а до публики ничего не доходит: ни тень ни чаепитье, ни комсомольцы в теннисных брюках, ни рык Орловского. Играть Лидия Николаевна так и не научилась, только охота пропала. А что у нее помимо театра?
Снова Лясс. Снова Голубев. Снова эта замечательная жизнь, к которой она никак не причастна. Каких людей она видала на запани! Но у них свои интересы: работа, курсы, газеты, книги. Этим людям она не нужна. Да и кому нужна она?.. Вот чуть было не сошлась с Орловским. У него каждый сезон другая жена, он говорит: «Это судьба истинного художника». С ней он даже не говорил о чувствах — зачем пыл расходовать, пригодится на сцене. Пришел просто в ее номер, сел рядышком, обнял. Ей было так скучно, так все казалось ей безразличным, что она его не оттолкнула. Он одной рукой обнимал, а другой снимал воротничок. Лидия Николаевна увидала потную шею с кадыком. Кадык судорожно бился. Ей стало противно. Она отошла к окну и сказала: «Уходи». Он выругался, взял воротничок и ушел. Вот и все. Лясс недаром говорил: «Эх, вы актерка!» Она и вправду актерка. Зачем только это тянуть?
Сейчас их послали в колхозы. Два месяца проездят. Декораций не везут. Репертуар — все вперемежку: Шекспир, Киршон, Островский и еще какой-то Головченко. Зачем колхозникам «Отелло»? Но Орловский настоял: «Моя коронная роль». Опять будет это ощущение стыда, когда приходится ломаться перед большими и честными людьми.
Так Лидия Николаевна и не вздремнула до утра. Туман окутал реку, но он не смягчил тоски. Потом подул ветерок, показались берега, а на них все тот же бесконечный лес. Маленьким казался пароход среди огромного пустынного мира. Нет никому до него дела — летит караван гусей, не все ли равно, куда и зачем?…
— Еще, товарищи, я должен зачитать сообщение, что к нам едут актеры из Архангельска, и, значит, завтра в этом самом помещении будет большой спектакль. Называется…
Гриша Митин запнулся и взял со стола бумажку: название он позабыл.
— Называется «Отелло», сочинение Шекспира.
Так, вопреки мыслям Лидии Николаевны, кто-то с волнением следил за путем парохода. Зал шумел. Происходило это на совещании представителей колхозов в волостном центре.
— Завтра представлять будут!..
Потом перешли к повестке дня. С докладом выступил Митин:
— Значит прежде всего об удое. Я возьму к примеру наш колхоз «Северную правду». Почему это коровы колхозные дают три литра, а индивидуальная корова колхозника дает семь или восемь? Если вы хозяйку спросите, она вам скажет, что доярки доят по двенадцати коров и, значит, они до конца не додаивают и это отражается на корове. А доярки говорят, что они тут ни причем, а хозяйка своей корове даст то да се, словом, уход другой. А что получается в итоге? Свидетельство нашей полной некультурности. Почему это колхозная корова не моя? Мы с этим должны беспощадно бороться, чтобы обобществленная она была, как моя родная, и выжечь мы должны эти кулацкие пережитки!..
После Митина взяла слово Дарья Федосеева. Она ругала доярок. Степанова говорила, что доярки ни в чем не виноваты: колхозные коровы хуже индивидуальных, перехитрили — себе оставили поудойней. Черемисов всех обложил: и коров, и доярок, и колхозников. Потом перешли к вопросу о прополке и окучивании. Митин снова обличал:
— В колхозе «Наш коллектив» всю капусту съела белянка. А сколько кортошки сорняками задушено? У нас один только раз пропололи. Это, товарищи полнейший скандал! Мы, можно сказать, в центре внимания. О нас в краевой газете писали. Театр нам посылают. А мы показываем себя малосочными лодырями. Если мы не выработаем железных мер, нас на такую черную доску запишут, что потом и не смоешь…
Старики внимательно слушают Митина: это парень серьезный. Даже Черемисов его уважает, а у Черемисова характер тяжелый: только начнешь что нибудь говорить, а он сразу как покраснеет и крикнет: «Нет!» Но вот Митина даже Черемисов слушает. Митин — здешний, старики помнят: бегал, собак гонял. Потом он пошел на лесозаготовки. Чему-то его научили, даже бумагу выдали. Потом он в Красной армии служил. А как вернулся в колхоз, не узнать колхоза — такое он развел.
Это веселый светлоглазый парень. Он устроил у себя библиотеку. Книг, правда, мало — Шолохов, Панферов, «Овод», десяток брошюр по животноводству. Зато Митин вырезывает статьи из газет и кладет их в папку. Он и сам недавно написал статейку о мясозаготовках. Послал в «Северную мысль», кое где подчистили, но напечатали на первой странице. Смех у Митина громкий: так хорошо в поле смеяться, это не комнатный смех. С утра до ночи он работает: колхоз для него — Магнитогорск. Сколько здесь делов можно понаделать! Без Митина люди сидмя сидели, это он их растормошил. Скотный двор построили. Из Устюга приезжал фотограф — снимал для какой-то выставки. Чисто, светло, просторно. Стоят коровы веселые, чуть-чуть что не улыбаются Над каждой дощечка с именем. Имена он дает приятные: «Ударница», «Ира», «Немочка», «Выдвиженка», «Дуся». Жеребца одного окрестил «Боевиком». Свиньи у него, и то аккуратные. Вечером он сидит и думает; на столе лист бумаги, как будто он писатель. Он и вправду, чтобы легче было думать, записывает: «Говорю с Михаилом о супоросе…»
Иногда ребята зовут его гулять. Он выйдет, споет что-нибудь или потанцует и быстро бежит назад: работы много. Мочалов как-то к нему подступил:
— Ты что ж это? Если человек выпил, он для тебя и не человек?
Митин в ответ только расхохотался:
— Брось, Санька! Я и без водки пьяный. Посмотри на меня. Что скажешь — скучный?
Митин нравится девушкам, но ни с одной он не гуляет. Говорят, будто в городе у него осталась дроля. Кто знает, правда ли это. Может быть, просто голова у него занята другим, вот и не смотрит ни на Шуру Совкову, ни на Клавдию.
Актеров встречает, разумеется, Митин. Другие сконфуженно теснятся позади. Только ребятишки лезут вперед: один схватил палку Орловского с затейливым набалдашником, другие считают чемоданы — ну и добра!..
В доме колхозника уже кипит большущий самовар. На столе мед, масло, яйца. Орловский сурово спрашивает:
— Водка где?
Митин улыбается: сейчас! Орловский пьет водку из большой чашки, вздыхая и причмокивая. У Лидии Николаевны голова разболелась, она трет лоб одеколоном. Фадеева зашивает плащ Отелло. Все это настолько необычайно, что Митин притих. Он смотрит на Лидию Николаевну со смутной улыбкой: так ребята смотрели на чемоданы.
Они идут осматривать сцену. Сцена крохотная, и Орловский гогочет:
— Упаду. Обязательно упаду.
На сцене висит большое полотнище: «Задачу подъема животноводства мы решим только на основе укрепления колхозов». Лидия Николаевна предлагает:
— Может, перевернуть?
Орловский смеется:
— Какая разница? Отелло и подъем животноводства — это даже пикантно!
Лидия Николаевна не спорит: вся затея кажется ей нелепой. Вот Красавина не поехала — она могла выбирать. А Лидию Николаевну послали. Разве в городе ей дали бы роль Дездемоны? Там Красавина. Или Собельская. Играть здесь «Отелло»? Только Орловский способен такое придумать: ему все равно — лишь бы паясничать.
Вот он уже рычит на сцене. Он путает реплики, но не смущается. То-и-дело он потрясает кулаками. Лидия Николаевна оглядывает зал: в первом ряду одни бороды. Кажется, никогда она не видала столько бородатых людей. Младенец плачет, кругом цыкают. Душно, дышать нечем. Она играет нехотя, машинально. Когда она должна петь песню, ей становится еще грустней. Перед глазами встает утренний туман на реке. Она поет с такой тоской, что ее голос пронизывает зал. Поет она не плохо. Ей в Москве советовали учиться пению: голос прекрасный, только непоставленный. Она не знает, о чем она поет. Разве в песне понимаешь слова? Это то, что словами не выскажешь. О чем горевал человек, который на пароходе пел глупую песню? Может быть, он был и не шофером, но счетоводом или пильщиком. Лидия Николаевна поет об иве. Но нет, она поет о своей жизни: еще раз она рассказывает самой себе эту длинную и пустую повесть: неудачи, обманы, одиночество.
Когда она кончает петь, раздаются аплодисменты. Они начинаются неуверенно и робко, они растут, становятся бурей. Этот шум прост и загадочен. Он сродни песне. О какой тревоге, о каких еще судьбах рассказывают тысячи людей, ударяя по-детски в ладоши? Гриша Митин не в силах сдержать себя. Он даже привстал, а лицо у него теперь сжатое и строгое.
Аплодисменты заставили Лидию Николаевну очнуться. Она подумала: «Неужели мне?..» Но думать было некогда. Она снова играла. Но играла она теперь по-другому: она была не только Дездемоной, она была обыкновенной женщиной, Лидией Николаевной; она так любила жизнь, так хотела найти в этой жизни место, но никто ей не поверил. Она говорила глазами, слабым взлетом руки, легкой дрожью голоса. Она говорила о верности, о любви, об одиночестве. Она играла в тот вечер, как большая актриса, и когда спектакль кончился, зрители не сразу зааплодировали. Они сидели неподвижно, потрясенные трагедией человеческой судьбы. Аплодисменты раздались минуту спустя, отчаянные и грозные, люди на чем-то настаивали: спорили, умилялись. Лидия Николаевна в ответ слабо улыбалась, а Орловский кланялся и поднимал руки к потолку.
Лидия Николаевна прошла в правление клуба, где актрисы переодевались. Фадеева сказала:
— Здорово ты разыгралась сегодня…
Но Лидия Николаевна ничего не слышала. Она ощущала острую усталость. Невидящими глазами она обводила комнату: календарь, папки, плакат: «Все на борьбу с сорняками!» Она еще плохо понимала, где она и что с ней. Возвращение к обычной жизни было мучительным. Ее позвали на сцену, но она сослалась на усталость и не пошла.
Она теперь одна в этой крохотной комнатке, которая пахнет смолой. Она робко думает: неужто так? Значит, она может играть? Но тогда все ее сомнения — это детские страхи. Но тогда…
Со сцены раздается чей-то громкий голос. Она невольно прислушивается:
— И, значит, от имени всех колхозников мы приносим вам благодарность, и в эту торжественную минуту мы даем обещание поднять удойность, а с прополкой не зевать, чтобы не могли сказать…
Она больше не слушает. Глубокое отчаянье овладело ею. Как она могла поверить в хлопки? Просто эти люди не бывали в театре, вот они и стараются, меда достали, аплодировали. Что им до судьбы Дездемоны? Они заняты другим. Только-только кончился спектакль, а они уже говорят об удойности. Это их жизнь, их страсть. Зачем же перед ними играть?..
Недавний подъем сменился упадком. Фадеева сказала: «К тебе пришли — обязательно хотят тебя поблагодарить». Лидия Николаевна покорно встала: спектакль еще не кончился, надо выслушать, что-то ответить, лгать, улыбаться. Глаза ее столкнулись с глазами Митина, полными такого восторга, что она вздрогнула и отвернулась. Впереди стоял какой-то бородатый человек. Он долго мялся. Глаза у него были лука вые и грустные. Митин сказал:
— Что же ты, Черемисов?
Тогда бородатый человек заговорил:
— Поблагодарить пришли. Такая у нас радость, что и сказать не умеем. Я вот и подумал, не обиделись ли вы? Такое вы представляли, а мы вылезли с нашей прополкой. Но только вы не думайте, что мы этого не понимаем. Если мы о таком говорим, это мы вас хотим отблагодарить. Значит, и с нашей стороны обещаем подняться. А наше дело известно какое, раз мы колхозники. Но вы не подумайте, что мы без чувств. Мы понимаем, какая это красота. Вот сидели — плакали. Всех можете спросить — как это вы запели, сил не было удержаться. А если чем обидели, вы уж нас простите…
Лидия Николаевна не выдержала: слезы катились из ее глаз, она рукой обхватила шею Черемисова и поцеловала его. Она смогла выговорить только одно:
— Это вы меня должны простить…
Она хотела рассказать как неправильно судила этих людей, как ей стыдно и радостно. Но говорить она не могла — слезы мешали. Поцеловав щеку Черемисова, она укололась о бороду. Ей вспомнился отец. В детстве, когда бывало грустно, она взбиралась на колени к отцу. У отца тоже была борода. Но эти воспоминания не были печальными. Огромное волнение охватило ее — что-то менялось в ее жизни и это волнение передалось колхозникам. Они поглядывали на актрису смущенно и ласково. А Гриша Митин все шевелил губами, как будто он хотел что то сказать и не мог. Он был счастливей всех. Он радовался и за нее, и за них, словно это он играл на сцене, он написал пьесу о муках Дездемоны, и вместе с каждым из этих бородатых людей он переживал драму жизни.
Когда они вышли из клуба, Митин спросил:
— Вас проводить?
Она кивнула головой. Молча они дошли до Дома колхозника. Лидия Николаевна сказала:
— Мне и спать расхотелось…
Они пошли назад, к реке. Лидия Николаевна попрежнему жила как во сне. Все казалось ей необычайным: и резные ворота, и пронзительный собачий лай, и ласковый голос попутчика. Гриша рассказывал о своей работе, о Хабаровске, о лесе, о молодости. Она чувствовала, как ей сейчас дорог этот почти незнакомый человек. Ей хотелось что нибудь ему рассказать. Но что? Ее терзания он уже знает: он слыхал, как Дездемона говорила за Лидию Николаевну. Надо рассказать ему что-нибудь радостное и необыкновенное, чтобы оно походило на эту ночь. Тогда она вспомнила Лясса. Она рассказала Грише про работу ботаника:
— Он говорит: «Розы будут в тундре…»
Гриша приостановился и весело улыбнулся:
— Вот, вот, и я об этом говорю. Некогда думать — работаешь с утра до ночи. А если задуматься, такая радость берет, кажется, взял бы и спрыгнул вниз с этого обрыва… Видали Черемисова? Суровый. А сегодня и он не вытерпел — прослезился. Это как вы рассказывали — розы в тундре…
Они зашли далеко от села. Кругом были луга. Кричала где-то ночная птица. Ночь была безлунная, темная, тихая. Только звезды вмешивались в их разговор. Потом они замолкли. Они сидели на берегу. Они обняли друг друга. Пахло ромашкой и сеном. Их ласки были суровы и целомудренны: они любили друг друга, как два подростка, впервые узнавшие, что такое любовь. Никогда в жизни Лидия Николаевна не думала, что может быть такое счастье. Будто ее не было больше, будто и она вошла в эту теплую, тихую темноту. Потом руки разжались. Огромное спокойствие охватило ее — только бы не двигаться, не думать, кажется, и не дышать.
Она уснула, положив свою голову на колени Гриши, и Гриша просидел до утра не двигаясь. Он боялся шелохнуться, чтобы не разбудить Лидию Николаевну. Он не думал о том, что произошло: он был слишком полн этим.
Проснувшись, Лидия Николаева начала смешно тереть кулачком глаза. Гриша на минуту испугался: вдруг она пожалеет, подумает — зачем ей это, обидится на него?.. Но сейчас же он рассмеялся: он увидел сконфуженную улыбку Лидии Николаевны, которая стряхивала с себя кусочки сена.
— Ну и вид у меня, наверно… Как это я уснула?..
Перед Гришей была теперь не Дездемона, но девочка еще теплая от сна. Она вскочила. Ей хотелось бегать, дурачиться, кидать камни в реку. Она растрепала Гришу. Потом она показала на воронье пугало и шепнула: «Вылитый Орловский». Потом она побежала, крикнув:
— Ну, председатель, догоняй!
Бегала она быстро. Она добежала до перелеска, а там спряталась среди берез. Выскочив, она крепко поцеловала Гришу. Солнце было уже высоко. Вдруг какая-то мысль заставила ее нахмуриться, но и это у нее вышло весело: так ребята передразнивают стариков. Гриша рассмеялся. Кажется, в последний раз Лидия Николаевна его видела тогда веселым.
Пароход отходил в десять утра. Они это знали. Когда они подходили к селу, веселье прошло. Они думали теперь о том, что должно случиться через час. Неужели они затем и встретились, чтобы сразу расстаться?
Это не прошло без душевного спора. Каждый спорил сам с собой: они шли и молчали. Гриша сказал в отчаяньи: «Нет!», но сразу осекся. А когда Лидия Николаевна его переспросила: «Что — нет?», он ей ничего не ответил. Он чувствовал: надо удержать! Это его счастье. Вот случилось так — приехала. Сразу они поняли друг друга. Как же ее отпустить? Здесь-то он сказал вслух «нет». Но потом он подумал, что для Лидии Николаевны его жизнь скучна и неинтересна. Это большая актриса. Она трогает тысячи сердец. Она говорит, а люди плачут или смеются. Как вчера. Он не может — ее украсть у других. Уехать?.. Нет, его жизнь здесь, и этой жизни он ни на что не променяет. Вот он сказал «нет» и сейчас же отступил. Больно? Конечно, больно, но ничего тут не поделаешь.
О том же думала Лидия Николаевна. Она переживала молодость Гриши: ему все внове. А она? Она знает жизнь. Остаться здесь? Да, для нее это счастье. Но Грише это ни к чему. Она не сможет жить его жизнью. А начинать все сначала — поздно. Лучше принять горе — это честней. Она знает — никогда она не будет так счастлива, как была она этой ночью. Но впереди у нее не только грусть. Она помнит вчерашние слезы: они были живой водой, они ее оживили… Кому-то и она нужна! Вот эти говорили о прополке… Гриша вчера радовался: «Главное, наладить с прополкой»… Это большая правда. Есть и вторая. Но кто о ней расскажет, кто прочтет, что было у этих бородатых людей на душе? Лидия Николаевна где-то читала, как в старину Шекспира смотрели пастухи и принцы. Они вместе плакали… Принцев у нас нет. А пастухи?.. Что же эти умеют плакать и за себя, и за мертвых принцев, и за Отелло, и за Лидию Николаевну. Большая у них душа. И жизнь большая. Найдется в ней место и для Лидии Николаевны. Вот проездит еще год, поработает, помучается, и снова выпадет такой вечер. А счастье? А любовь? Пусть молодые любят. Она все узнала этой ночью. Она может теперь жить жизнью голой и суровой.
Все же, когда сняли мостки, когда среди бревен, загромождавших пристань, среди дыма и тайных, никем не замеченных слез в последний раз проплыла перед ней голова Гриши, она вскрикнула. Потом она закрыла глаза. Она как будто замерла. Она переживала расставание. Ей страшно было поглядеть на свет, который еще зовут «белым»: в нем больше не было этого веселого, светлоглазого человека.
Гриша долго стоял на пристани. Река недалеко от пристани поворачивала, и пароход быстро пропал с глаз. Но Гриша все еще глядел на воду — ему казалось, что он может различить на воде слабый след. В страхе он себя спрашивал: неужели это так больно? Здесь можно и раскиснуть! Он медленно пошел в правление колхоза. Там его ждал Мочалов. Завидев его, Мочалов крикнул:
— Гриша, «Малина»-то ожеребилась!
Они побежали на конюшню. Крохотный жеребенок лежал возле матери, смешно двигая верхней губой, будто он был обижен миром. Гриша улыбнулся:
— Красавец!
Мочалов поправил:
— Красавица: это кобылка. Ну, Гриша, крести. По моему, назвать ее «представление» — все-таки исторический день.
Гриша все улыбался жеребенку. Он ответил не то шутя, не то с легкой, едва приметной грустью:
— Раз так, лучше — «Дездемоной».
Они оба рассмеялись, и Гриша понял, что он спасен. Некогда здесь раскисать. Сегодня из МТС обещали прислать трактор для молотьбы.
Когда Лидия Николаевна наконец-то решила приоткрыть глаза, больше не видно было пристани. На берегу паслось стадо. Коровы глядели на пароход с легким изумлением. У них были большие красивые и сонные глаза. Лидия Николаевна сидела и смеялась, но не коровы ее развеселили. Она вдруг поняла, что произошло нечто непонятное и замечательное: она думала, что ее счастье останется на берегу, среди бревен, слез и дыма. И вот это счастье здесь, оно с ней. Она дышит, как никогда прежде не дышала. Она все сейчас может. Кругом сидят, лежат, отругиваются или чешутся сердитые люди. Но она может им нарассказать столько смешного, столько неожиданного, что и они улыбнуться. Этот старый человек, кажется, капитан. Того капитана «Байбака» — она обидела. Но теперь все будет по другому. Теперь она рассмешит даже этого ворчливого капитана. Нет на свете ее счастливей. Она обнимает сейчас Гришу. Она обнимает бородатого колхозника, который вчера говорил о красоте. Весь мир она обнимает.
И вот Лидия Николаевна машет рукой. Разве она знает кому? На берегу мальчишка. Он пасет колхозное стадо. Он снял картуз и тоже машет в ответ. И она смеется, и он. Она думает: «Говорят счастье приходит слишком поздно. А как это может быть „поздно“ для счастья? Хоть за минуту до смерти, и то во-время, и то оно — счастье». Она думает и все машет рукой, и все смеется.
8
Бревно вырвалось, как птица, и быстро понеслось вниз по реке. Может быть, оно дойдет до Вари?.. Отсюда до бельковской запани двести километров. Уж месяц как Мезенцев ничего не слыхал про Варю. Кажется, никогда прежде он не работал с таким ожесточением. Однако он думает о Варе. Он думает о ней настойчиво и нежно. Сердце человека куда больше, чем это кажется. Да и дни больше. Он думает о Варе, когда другие шутят, кидают камни в воду, поют или просто валяются на откосе, рукой загребая высокую траву и лениво следя за ходом облаков. Варя для него постоянная тень, та тревога, которая любой день делает значительным, заставляет прислушиваться к далеким голосам, а под шум дождя подставляет человеческие доводы. Мысли о Варе не мешают ему работать, они приподнимают его. Он живет чересчур напряженно, но он в этом неповинен: случилось так, что все тревоги выпали на тот же короткий отрезок времени. Голубев ему сказал:
— Там сорок тысяч кубометров экспортной древесины. Если не отправят до восемнадцатого, — конец! Пойдет она вся на дрова.
Время идет отчетливо, не только дни чувствуются — часы. Сухона обмелела. Почту привозят на глиссере. Все труднее приходится с отбуксированием. В зное сказывается исступление последних дней северного лета. То и-дело осень напоминает о себе. Первые желтые листья — это ее повестки. Надо работать сверх сил. Мезенцев это знает, и глаза его теперь блестят по-новому.
Он приехал в Устюг с тяжелым сердцем. Он не знал, как ему понять отъезд Вари: разрыв это или только разлука. Работа не успокаивала его, она его вдохновляла. Он должен был жить залпом. Кто мог остановить бег времени или спад воды? В жарком тумане он видел тот, уже не далекий день, когда последний иностранный лесовоз, посвистев, выйдет в Белое море. Это было вне его воли, как Варя. Но он не подчинился. В поспешность жестов и рук, в сплотку, в сортировку, в скатку, в речи на собраниях, в доводы и в ломовую тягу — во все он вкладывал свое содержание. Он работал не как битюг, но как поэт, и кубометры отбуксированной древесины медленно уходили вдаль, похожие на длинные строки стихов. Он и с Варей не подчинился. Он знал — это не мелкая страстишка, от которой надо поскорее отделаться. Они друг друга не поняли. Это — как залом на реке. Бывает — спадет вода, загромоздятся бревна, и путь закрыт. Затор ломают. Иногда его взрывают динамитом. Как же быть с Варей…
Лесостоянку, на которой Мезенцев работает, зовут комсомольской. Судьба древесины связана с дорогим ему именем. Он не умеет любить абстрактно. Чем сильнее чувство, тем больше в нем того, что другие считают «пустяками». Он никогда не может подумать просто: Варя. Он видит то неловкую улыбку, то прядь волос на щеке, то глаза, темные от горя, когда Варя ему сказала: «Жить захотелось». Он слышит ее голос со всеми мельчайшими интонациями. Он полон вспоминаниями о каждой минуте, которую они провели вместе, и эти воспоминания связаны с звучанием, с цветами, с запахами. Разве не началась их любовь с запаха свежераспиленных досок? Он помнит дух лесной малины — так пахли губы Вари. Ее волосы пахли сухой травой. Он помнит все запахи этих недель: запах масляной краски в маленькой комнате, запах бензина, дегтя и рыбы — так пахло на пристани. Огромный мир состоит из множества мелочей. Мезенцев никогда не говорит: жизнь — то-то или это. Он живет с жизнью вместе, он знает ее привычки, ее жесты, ее смех и задыхание. Чтобы рассказать об этом, надо уметь писать стихи. Когда он говорит «комсомольская запань», он вкладывает в эти слова всю страсть своих двадцати трех лет.
Комсомол для него — как Варя: это сложная сеть чувств. Ему было двенадцать лет, когда он впервые почувствовал, что, значит: товарищи. Это было в Воронеже. Костя потащил его на собрание пионеров. С того дня он никогда не жил один. Одиночество его пугает, как проказа. Он влюблен в гул собраний, в споры, в ругань, за которой чувствуется любовь, в духоту и в возбуждение: здесь рождается воля. Это просто и загадочно, как рождение человека. Не раз он испытывал обиду: он знал, что прав он, но товарищи с ним не соглашались. Он должен был подчиняться, и он нашел радость в этом отказе от себя. Он любит своих товарищей ревниво и упорно. Он ждет той минуты, когда сердца чуть приоткрываются и несколько скупых, как будто ничего не значащих слов еще сильнее связывают людей. «Комсомолец — это звучит как напоминание о родстве». Читая в газете письма незнакомых ему людей, он переживает драму каждого. Портрет Косарева для него не просто портрет, которым принято украшать клубы, это фотография знакомого, почти что друга. Не раз он задумывался: а что бы тут Косарев сделал? То, что лесостоянка числится комсомольской, заставляет его еще острей переживать возможную драму. Осталось всего восемь дней. Древесине грозит смерть. Вчера он видел: она начинает поддаваться, появилась верховая синь.
— Ребята! Как же так ребята?..
В выходной они устроили субботник. Пришли рабочие со щетинной фабрики, вузовцы, кое кто из служащих. Работали отчаянно. Мезенцеву казалось, что это не лес шумит, когда его скидывают в воду, но время. Что-то надломилось в самом ходе времени. Они окатали 1400 кубометров. В ту ночь Мезенцев спал спокойней, и Варя с ним разговаривала не о горе последних дней, но о каких-то замечательных пустяках: о том, что она сшила себе желтую блузку, и еще о том, что снигири поют лучше канареек.
Несколько дней спустя Мезенцев с комсомольцами разбирал затор. Когда они немного освободили реку, бревна стремительно понеслись. Мезенцев вытянул руки, чтобы сохранить равновесие, с минуту покачался, а потом упал в воду. Он видел, как на него несется лес. Он схватился за несколько бревен, еще лежавших, неподвижно, но они подались, и он снова, сорвался. Воля не оставляла его. Он добрался до бревен, на которых стоял Пашка. Вечером его знобило. Он пил чай и молча усмехался. Он знал, что и лихорадка не властна над ним. Он мог умереть, заболеть он не мог. Он сказал Пашке:
— А затор все таки доломали…
Говоря это, он думал о Варе: он умел жить сразу разными жизнями. Он думал о Варе с той горечью и отчуждением, которые, может быть, родились от минуты в воде, среди грохота и плеска. Почему Варя не сказала ему правды? Разве важно, что отец у нее кулак? Он полюбил не дочь этого человека, а комсомолку… Но дальше начинается темнота полная шорохов и догадок. Дальше несутся озверевшие бревна, молчит река, а небо все покрывается тяжелыми мохнатыми тучами. Воздух уже пахнет осенью. Успеют ли они с древесиной?
— Пашка, как ты думаешь — успеем?
Дальше идет непонятное: Варя любила, верила, они жили одной жизнью. Но у нее был темный закоулок, туда она не пустила и Мезенцева. Оказалось, они чужие. Неужели вот Пашка — свой, а к Варе и дороги нет? Где она теперь? Может, и она разбирает затор, среди горя, воды, вскриков. Он ничего не знает о ней.
— Пашка, сколько дней осталось?
Леса осталось еще много. Он гибнет на берегах. Мезенцев, кажется, всех поднял на ноги. Ночью он составляет летучки: залом разобран. Окатали 1380 кубометров. Павлов — герой труда. Машкова и Зайцева — дезертирки: в поповский праздник, в Ильин день, они бросили работу. Еще окатать столько-то! Еще сплотить столько-то! Вицы! Паровую тягу! Людей! Главное — людей!
Мезенцев сидит на берегу: это час отдыха. Можно вздремнуть. Можно и поговорить друг с другом о завтрашнем легком счастии.
Королев усмехается:
— Я когда с девчатами гулял, сколько на это время уходило! А теперь вот женился, и куда спокойней. Знаю — приду домой, дома жена ждет. Никаких это лишних чувств. Так что и спать ляжешь вовремя. Наутро веселый, работа лучше идет. Правильно я говорю, Петька?
Мезенцев отвечает:
— Нет.
— Значит, по-твоему, с чувствами? А работать кто будет? Я вот недавно прочитал один роман, сочинение Тургенева. Люди-то у него: ничего не делают, только что переживают. Ты что хочешь, чтоб и мы так?..
Мезенцев рассердился:
— Дурак ты! Ты думаешь, я и сам не понимаю, где тут разница? Только я тебе одно скажу: если у Тургенева люди много чувствовали, то мы должны во сто раз больше чувствовать. Как они там ни расписаны, а перед нами они щенки. У него полюбил, например, неудачно или кто близкий умер, вот он и переживает. А у нас что — все удачно любят? Или никто у нас не умирает? Только наши еще при этом работают. Может, он от несчастной любви страдает, а он в стратосферу летит, он на Арктику едет, он Магнитку строит. Я вот о себе скажу. Что я? Мальчишка. А возьми меня, пожалуйста, рядом с тургеневскими. Я, может быть, тоже куда больше чувствую. Знаешь, что я тебе скажу? Вожди — ты что думаешь? Они больше нашего чувствуют. Каждый-то из них живой человек. Только, конечно, умеют молчать. Это мне один старый большевик в Воронеже говорил: «Такая наша наука. Ногу тебе режут, сердце на клочки рвут, живьем в землю закапывают, а ты молчи. Поэтому и победили». Я так думаю: чем у человека больше чувств, тем он на вид суровей. Только если ты скажешь, что это работе мешает, я тебя цифрами забью, Чувство не вымеряешь, а древесину, пожалуйста, — считай на кубометры. И нет без чувств людей, разве что бревна, да и то дерево тоже чувствует…
Мезенцев с такой легкостью говорил о кубометрах потому, что в этот день они обогнали время. Осень теперь может торопиться, река мельчать, Архангельск нервничать: комсомольцы идут впереди. Кубометры тают, как сугробы в апреле. Лес исчезает, пустеют берега. Это победа.
Лесостоянка находится недалеко от города. Город зовут Великим Устюгом. Это прекрасный, путаный и непонятный город. Такого Мезенцев и во сне не выдумает, хотя сны у него странные: Тургенев играет с пропсами, сосны плачут терпентиновыми слезами, а Варя превращается в тот залом, где разбирая древесину, люди вскрикивают и гибнут. Можно конечно, сказать об этом городе: мертвый город. Столько в нем воспоминаний, что грудной младенец перепугается и закричит. Тени ходят по улицам, века заглядывают в окошко, дружески стучат ставней, подмигивают зайчиками. Но секретарь горсовета преспокойно говорит:
— Мы превратим Устюг в образцовый город. Прежде всего надо положить мостки на Красной улице, против Дома пионеров, а то там и пройти нельзя…
Летопись рассказывает о том, как в 1192 году казанские татары подошли к Великому Устюгу; они лестью взяли город и разграбили его. Потом приехал ханский баскак. Потом нагрянули новгородцы. Потом вероломный князь Василий Косой жег дома и вешал людей. Потом устюжане отбивались от черемис. Потом была чума и моровая язва.
Что ни площадь, то тень прошлого. В городе сорок три церкви. Они распадаются, как будто они сделаны из песка. Они гниют. Это каменные покойники с золотыми нимбами, с райскими яблоками и с тяжелыми медными слезами. Они пахнут плесенью, ладаном, смертью. На изразцах еще можно прочесть: «Дух мой не для ноздрей твоих». Но кто читает старые надписи? У людей и без того уйма дел: они устраивают водный техникум, они стоят в хвосте возле булочной, они читают Гегеля и они кладут мостки на грязные, размытые дождями улицы.
Шесть раз горел Успенский собор, и шесть раз устюжане строили его заново. Город в страхе поглядывал на Сухону. Подбирая окраинные домишки, он бежал прочь от реки, но река его настигала. Она заливала улицы и подмывала валы.
В горсовете висит старинная люстра, и секретарь, глядя на нее, разводит руками:
— И кто такое придумал? А выкинуть нельзя: за Главнаукой. Нето она византийская, нето венецианская, шут ее знает…
Под люстрой сидит Антонина Наумова. Три года тому назад Наумовой поручили уход за двумя обобществленными овцами. Она увеличила поголовье овец в двадцать шесть раз. Секретарь приветствует ее длинной речью. Потом он говорит:
— Чорт возьми, Марков пластинок не достал! А надо бы тебя заснять…
В педтехникуме девушки изучают диамат. Щетинная фабрика работает на экспорт. А в театре ставят пьесу: «Жизнь зовет». Недавно открыли летний сад имени Горького с буфетом и с оркестром. Город живет поспешно и трудно, как живут теперь тысячи других городов. А тени?.. Тени изредка стучат ставней. Замертво падают дряхлые церкви. Трудно начинать жизнь среди могил. Много мужества для этого надо. От старых плит идет холодок, а на площади ложится тень от тех стен, которые уже давно ничего не ограждают: ни золота, ни вздохов, ни свечек.
Не раз приезжал сюда Хрущевский. Он глядел на древние камни, которые рассыпались, и ему хотелось не то плакать, не то ругаться. Он старался говорить спокойно. Он убеждал людей, которые жили будущим, пощадить эти чуланы истории. Он говорил одним: «Если сделать маленький ремонт, церковь можно использовать под склад для зерна». Он говорил другим: «Надо спасти архивы — вдруг из центра наведут справку»… Он говорил третьим: «Иконы пригодятся для антирелигиозной пропаганды».
Потом он шел в гостиницу, жестокую и зловонную. За тонкой перегородкой какие-то люди толковали о поднятии животноводства:
— Возьми знатных людей. Вот тебе Пашинский — конюх. Его «Артист» за год шестьдесят маток покрыл…
Хрущевский думал о красоте прошлого и мучительно морщился. Случайный сожитель — в номере стояло четыре кровати — соболезнующе говорил:
— Вы положите чего-нибудь теплого, сразу и полегчает.
Этот город как будто нарочно выдуман для терзаний Хрущевского. Но почему сюда забрел Кузмин? Сколько раз Хрущевский ругал его за недостаточно почтительное отношение к прошлому: «Футурист!» У Кузмина румяные щеки, и он не любит якшаться с призраками. Он приехал в Великий Устюг, чтобы зарисовать ударников сплава — так сказано в его командировке. На самом деле он бродит по северу, как охотник: его ведет чей-то свежий след.
Подъезжая к Устюгу, Кузмин взволновался: встреча двух миров показалась ему полной пафоса. Но город его обманул: он увидел только энергичного секретаря, лишенцев, которые шептали: «Хлеба не достать», комсомольцев, преданных футболу, и мертвые камни. Два мира сталкивались на каждом шагу, но они не узнавали друг друга. Встречи не было, был разрыв: развалины и комсомольцы.
В течение нескольких дней Кузмин смотрел старую живопись. Это было любованием вчуже. Так можно любоваться звездами, так нельзя глядеть на цветы. Отроки, сидя вокруг стола, улыбались, одежды были яркими, но невесомыми, ржали загадочные кони, смерть представлялась легким голубовато серым дымом над розовым морем. Этот мир когда-то существовал, если не на берегу Сухоны, то в сердце художника. Люди писали лики святых, но кто знает, о чем они думали? О лесе с крупной пахучей земляникой? О свисте разбойника? О девушках? Потом мир окаменел. Улыбка стала каноном. На легкие тела легло золото риз. Этот мир давно умер.
А тот, второй? Он скрипит пилами, поет песни, топочет под окном, он смеется и плачет, но все же он нем. Он растет, как трава после дождя: буйно и тихо. Он еще никем не назван. Он прекрасен и лишен формы. Он мелькает на полотне экрана. Но как его закрепить на маленьком отрезке холста?..
Когда Кузмин слышит запах скипидара, у него кружится голова, как от водки. Он пробует, хороша ли кисть, и жесткость волоса кажется ему нежной. Он живет цветом, как другие живут идеями, звуками или цифрами. Он твердо знает: можно найти такое соотношение тонов, что все поймут — это счастье. Древние говорили: «Колесница солнца сейчас остановилась». Кузмин как-то подумал: наверно, в такую минуту женщине хочется родить ребенка.
Кузмин не раз встречался с Мезенцевым на запани. Но поговорить они так и не успели. А им легко сговориться: как Мезенцев, Кузмин понимает, что жизнь изумительно подробна. Она начинается с деталей: с борта пиджака, со щеки, тронутой тенью, с обиды одного, с радости другого. Она похожа на солнечные блики под деревом, которые перемещаются от легчайшего ветерка.
Прежде Кузмин верил, что грусть или радость говорят за себя: нет нужды допытываться; кто плачет, кто смеется. Это было в его школьные годы. Искусство его подавило. Ему предлагали писать раскрашенные фотографии. Он чувствовал, что это ложь, и он готов был до одурения писать одно и то же яблоко. Он как будто сидел в одиночке. Он мог бы дойти до разрыва с жизнью. Спасла его молодость.
Вернувшись на север, он увидел необычайных людей. Может быть, они выросли за эти годы, может быть, Кузмин научился по-новому глядеть на людей, но все его теперь волновало: и Маркс в избушке лесоруба, и лихорадка запани, и суровая сердечность молодого сплавщика. Кузмину показалось, что он охладевает к искусству. Он даже подумал: а зачем теперь живопись? Новый мир не был миром созерцания. Но борясь с искусством, Кузмин продолжал думать только о нем. Месяца три он вовсе не работал. Он ходил как больной: образы, формы и цвета его не оставляли.
Он решил укрепиться в жизни. Редактор краевой газеты предложил ему делать зарисовки. Кузмин сказал себе: только без искусства!.. Но всякий раз, начиная работу, он забывал о принятом решении. Глаза уводили его в чащу противоречий, где стена спорила с тоном волос, а грусть человека с книжкой ударника. Он узнал людей, которые его окружали. Это были большие и сложные люди. Если взглянуть на реку глазами сплавщика, в ней можно найти все цвета и все чувства. Так Кузмин снова вернулся к живописи.
Но теперь он не разлучается с жизнью. Грусть или радость связаны с плотью мира, с трудом, с кубометрами, с заторами. Перед ним все слои дерева: он видит и нежную сердцевину, и грубую, шершавую кору. Он работает не останавливаясь, как человек, который карабкается вверх по канату: остановиться — это значит упасть.
Прошлым летом он сделал большую картину: «Праздник в колхозе». Он написал колхозников перед входом в театр. Плащи смешиваются с рубахами. Небо фисташковое, и в полусвете летней ночи порхают китайские фонари. Смеются коровы: они похожи на персонажей из комедии масок. На переднем плане девушка в темнокрасном платье. Это Венера, доярка и дроля. Кузмин понял, что такое радость.
Но в новом мире еще много неназванных чувств. Они мешают ночью слушать тишину. Это волны радио, которых никто не может поймать. Коротким и нестройным вскриком они напоминают о себе. После похорон на бобриковской запани Кузмин долго не мог опомниться. Он сразу понял: это картина! Он говорил о ней Хрущевскому. Много раз он пробовал ее писать. Но картина не рождалась. Как будто все выходило: и лодка, и фонари, и девушка в гробу. Он говорил Хрущевскому: «Издали это похоже на карнавал — вода, огни, флаги, — чем не Венеция?..» Он писал, и все получалось лживым. Он не мог найти ни тона воды, ни неба, ни того человека. Он хорошо его помнит: все идут, поют, держат флаги, только для одного эта смерть не просто смерть. Он молчит. На нем меховая шапка. Когда Кузмин писал, получался сухой пересказ. Он не знал, как поставить этого человека, как положить его руки. Он не видел его лица. В моделях не было недостатка: каждый день он ходил на запань. В его альбомах были сотни зарисовок. Нехватало чего-то в самом Кузмине. Он был еще очень молод. Он знал зелень деревьев, радость охры или хрома, смех, кулисы театра, свое ремесло. Но из чего сделано горе — этого он еще не знал.
Кузмин поселился у Егорова. Когда-то Егоров был богатым домовладельцем, либералом и меценатом. Теперь он получает от племянника тридцать рублей в месяц и, подостлав «Правду», чтобы не пропало ни крошки, нарезает полфунта хлеба на тонкие ломтики. Он жует хлеб медленно и восторженно: так дети жуют пряник. Потом он сидит и громко вздыхает.
Егоров как-то спросил Кузмина:
— Вы, может быть, старые иконы ищете?
Кузмин рассмеялся:
— Нет. Куда ж это мне! Уж если я чего-нибудь ищу, то хорошего горя.
Егоров встает, его колени трясутся, борода у него грязная и нечесанная. Тридцать лет назад он произносил речи перед воспитанницами прогимназии, которая была отстроена на его деньги. Он говорит Кузмину:
— За горем не ездят, горя теперь всюду много…
Разве знает Кузмин, чего он ищет? Горя? Что же, и у горя свой цвет. Значит, и горе — радость: этим дышишь, от этого смеешься. Мир пестр и громок. Только у смерти нет ни масти, ни голоса.
— Здорово ты обгорел, — говорит он Мезенцеву.
Мезенцев рассеянно улыбается. Он должен быть счастлив: утром ушли последние плоты. Комсомольцы не осрамились. Завтра — домой. Домой?.. Нет, Мезенцев не счастлив. У него нет дома. Сегодня он понял, что Варя ушла от него навсегда. Она ушла задолго до того, как уехала на бельковскую запань. Она ушла, когда замолчала. Нет, еще раньше: когда она не сказала ему правду. Она и не была никогда с ним. Та ночь на берегу была вымыслом: не спал, а приснилось. Потом? Потом они подозрительно оглядывали друг друга. Теперь все кончено.
Но вдруг он приедет, а Варя в Архангельске?.. На минуту Мезенцеву показалось, что Варя сидит у окна в желтой блузке: такой он ее как-то видел во сне. Он улыбнулся и ответил Кузмину.
— Еще бы здесь не обгореть! В июле-то как палило.
Они могли бы на этом расстаться. Как случилось, что они заговорили о самом главном? Может быть, Мезенцев в тот день был особенно грустен. Как только кончилась работа, он почувствовал себя слабым и растерянным. Может быть, сказалась тоска Кузмина. Картина его преследовала. Он вчера снова хотел писать ее и не смог. Он не знал, что ему делать. Может быть, во всем был повинен светлый осенний день, когда мир начинает оголяться и прочищаться, когда голоса звучат пронзительно, а деревья на бледноголубом небе горят болезненным золотом, как головы умирающих церквей.
Сначала Кузмин попробовал сделать рисунок с Мезенцева, но ничего не получилось. В сердцах он захлопнул тетрадь.
Они улыбались, хотя теперь они шли молча, и больше не было разговора ни о сплотке, ни о летнем зное. Потом они заговорили. То, о чем они говорили, никак не было веселым, но они все еще улыбались. Эту улыбку можно было отнести к тому прояснению, к той легкости и прозрачности, которые определяли этот первый осенний день.
Кузмин говорил:
— Когда затор разбирали, я подумал: если бы и себя этак разломать! Позвали ребят, налегли — и готово. А я вот с прошлого лета не могу избавиться. Девушку хоронили. Пришибло ее. Хочу написать, и не выходит. Как-то по другому получается: поют песни и поют. Там парень один был. Он так на меня поглядел. Вот и рассказать я не умею. Язык у меня суконный. Кистью должен разговаривать, а оказывается, и кисть неподходящая. Чувствую, и не выходит. Отец у меня в тридцать втором умер. Старый был. Написал: «Приезжай поскорей». А я замешкался. Работу надо было сдать к сроку. Потом билета не достал. То да се. Сказать по правде: я как-то не очень торопился. Приезжаю, говорят: «Шесть дней как похоронили». Я будто обалдел, хожу, говорю, а не могу очухаться. Не то чтобы мне его жалко было: старик ведь. Но я все думаю: может, он хотел мне про что-то сказать? Умом понимаю — ну что он мог рассказать, старый человек, всю жизнь в деревне просидел — глупости! А все таки грызет. Может, он хотел рассказать, как у него там внутри? Это, понимаешь, такая история… Говорят люди почем попало, а вот если сосчитать, сколько это ты в жизни по настоящему говорил, — раз, два и обчелся.
Они теперь сидят в комнате Кузмина. Повсюду холсты — все эти недели Кузмин работал без передышки. Река, лодка, гроб. Но Мезенцев не смотрит на картины. Он не смотрит и на Кузмина. Он говорит тихо, как будто про себя, но он не решается прислушаться к своим словам. Кажется, он боится умереть через минуту, так никому и не рассказав о самом главном. Он начал с петуний. Он пережил заново короткое счастье. Потом показался Генька:
— Я Голубеву тогда сказал: на Геньку я не сержусь. А это неправда: как он сказал про Варю, я чуть было на него не кинулся. А ведь он должен был это сказать. Но ты слушай! Пришел я домой, а она сидит у окошка…
Он долго говорит. Почему Варя не сказала ему? Он спрашивает, но он не ждет ответа. Он знает, что Кузмин не может ему ответить. Потом он на минуту останавливается — вот забыл, о чем говорил. Он смотрит теперь на большое полотно: оно прямо перед ним — река, фонари, лодка. Какой-то человек возле гроба, лица не видно, большая шапка. А вода серая. Он спрашивает.
— Это что — запань?
Кузмин кивает головой. Мезенцеву становится не по себе: он знает, кажется, все запани. Запани не такие. Да и река не такая. Откуда Кузмин это взял?
— Как-то странно у тебя вышло…
Он не хочет больше смотреть на картину, и все же он смотрит на нее. Он бормочет:
— Река какая… Так она и не сказала мне. И потом, понимаешь, вот тебе второй вопрос. Это мне только сейчас в голову пришло. Почему я и сам не почувствовал? У реки. Я ей насчет Хохла рассказал. А она притихла и сразу такая грустная стала. Я спросил — отмолчалась. Сразу я и успокоился. Не сумел подступиться. Выходит, что это я ничего не почувствовал. Какие-то мы шершавые. Еще ничему не научились. Ты поехал на запань и такое увидал. Сколько я там просидел, но вот гляжу на картину и не понимаю. Я лучше и глядеть не буду. Очень она странная. Я даже не понимаю — грустно мне от этого или наоборот? Только глядеть трудно. Вот попадись Варя тебе, показал бы ты ей картину, сразу и разговорились бы. А что я ей покажу? Дерево она сама знает. Да и тоньше она меня. Я это теперь понимаю. Знаешь, глядишь на человека сзади — идет, песни поет. А забеги вперед, что у него там на лице? Тонкости нехватает; такой Королев тебе скажет, чего и не нужно. Я на часовой фабрике был. Там мне показывали — одна пятисотая миллиметра, и от этого зависит, как часы ходят. Даже представить себе страшно. У меня мысли чересчур неповоротливые: задумаюсь и ничего не вижу. Вот ты говорил, девушку деревом зашибло. А я Варю словом зашиб. Сказал — она и замолкла. Хоть бы знать, что с ней! А ты вот такую нарисовал. Я не понимаю: в гробу лежит, а как будто ей весело…
Кузмин больше не слушал Мезенцева. Его лицо стало сосредоточенным и рассеянным. Работать! Скорей! Сейчас же! Это было настойчиво, как жажда. Он сидел на табурете, чуть покачиваясь. Он что-то отвечал Мезенцеву. На самом деле он уже писал заново свою картину. Он кажется, теперь чувствовал тон воды. Он видел парня. Он был охвачен печалью, теплой и густой. Она поднималась, как пар с лугов, который глушит голоса и заставляет человека вдруг прислушиваться к угрюмому стуку своего сердца.
Мезенцев спрашивает!
— Ты что, не слушаешь?
Кузмин на минуту приходит в себя.
— Нет. Как же, я все слышу. Ты на меня такую грусть нагнал. Поглядеть на тебя — одна радость. А вот оно как… Я даже не думал, что такое бывает.
Мезенцев смотрит на картину: остановилась река, остановились люди, остановилось время. Он долго молчит. Потом он снова говорит о Варе. Он знает, что Кузмин его больше не слушает, но он не может остановиться.
— Наверное, она в Архангельске. На бельковской они должны раньше кончить. Значит, скоро увидимся. Если найти такие слова, чтобы она поняла! Когда Варя уезжала, как она посмотрела на меня… С Генькой надо поговорить. Зря я на него рассердился. Ты вот его не знаешь. А он насчет дорог говорит, как ты о картинах. Может быть, поэтому и мечется. Я про себя все знаю: учиться надо, работать. А он какой-то особенный. Да я тебя совсем заговорил. Ты что же, пойдешь еще на запань?
Кузмин как будто со сна отвечает:
— Нет, я здесь останусь. Я работать буду.
Мезенцев идет по улицам. Они поросли травой. Белые стены старого монастыря. Белые березы. Белое облако одинокое оно, спеша, проходит где-то высоко-высоко.
Возле горкома Мезенцев встречает секретаря. Тот кричит:
— Значит, кончили?
Мезенцев смеется:
— Значит, кончили.
С удивлением Мезенцев замечает, что ему как-то особенно весело. Кузмин сказал: «Ты на меня грусть нагнал». А у него нет грусти. Может быть, он позабыл ее у Кузмина? Он смеется. Нет, про Варю он не забыл. Наверно, и весело ему оттого, что через пять дней они встретятся. Он теперь не спрашивает: а вдруг она не вернется? Он знает, что она должна вернуться. Он скажет ей все. Надо только хорошенько подумать, найти слова, чтобы не запнуться. Они поговорят досыта. А потом?.. Варя хотела на курсы. Его ребята ждут: работы много. Сколько еще всего впереди! Им нельзя бояться жизни. Они для того и сделаны, чтобы лоб в лоб биться с судьбой.
Говорят, что осень — это печаль. Жизнь в такой день ломается. Одним время умирать. Они подолгу прислушиваются к шороху листьев. В опустевшем лесу стало слишком просторно. Ветки теперь похожи на буквы непонятного алфавита. Если вдуматься, можно прочесть про отлет птиц. Вот они пролетают стройным треугольником. А улететь с ними нельзя Внизу представление закончено. Из Летнего сада выносят полинявшие декорации. Какой-то старичок смотрит на церковь, и еще круче гнется его спина: на церкви трещина, церковь скоро упадет. Здесь его обвенчали с Машей. Это было сорок два года назад. Выпадет скоро снег и все покроет: развалины, домишки, следы. Он будет новым снегом.
Да, можно в такой день загрустить. Можно и обрадоваться: чистота, голова идет кругом, хочется бежать по полю, махать руками, петь какие-то вздорные песни. Будет новый снег, новая жизнь, новый май. Хочется скорее сесть за стол, разложить книжки, нахмурить лоб. Бледноголубое небо соблазняет мудростью. Можно все узнать, а узнаешь — разве после этого станешь плакать? Можно перегнать диких гусей, можно заставить деревья цвести в декабре, можно выстроить новый Устюг — нежный и торжественный. Чего только не может человек! А Мезенцеву всего двадцать три года. Год — это очень много: это лед на реке, это завод, запань, это первый зеленый пух на деревьях, это дерево, в лесу и в воде, связанное, теплое, это вся жизнь — один год. Да и день — это много! До Вари еще пять дней. Сколько он успеет передумать! Он напишет статью об итогах работы на лесостоянке. Он еще раз пойдет к Кузмину, чтобы посмотреть на его картины. Он придумает все, что он скажет Варе. А потом… Одно плохо: зачем это он расстроил Кузмина? «Грусть нагнал». А Мезенцову совсем не грустно. Кузмин работать хотел. Как же с такой тоской, за работу садиться? Надо бы ему сказать, что все это ерунда. С Варей наладится. Кузмин этого не понимает: да откуда ему знать, что Варя любит Мезенцева? Вернуться? А вдруг он помешает. Кузмин спросит: «Ты еще зачем?» Можно, конечно, ответить: «Я, кажется, книжку здесь позабыл». Главное, объяснить: так и так.
Мезенцев входит к Кузмину. Он хочет сказать о забытой якобы книжке. Но он ничего не говорит. Он боится шелохнуться. Кузмин его и не заметил: стоит, работает. Мезенцев смотрит теперь не на холст, но на Кузмина. Кузмин еще загадочней, чем его картины. Обычно у Кузмина лицо веселое, нос задран кверху, посмеиваются глаза, а щеки розовые. Теперь Мезенцев видит другого человека. Побледнел он, или это только кажется Мезенцеву? Кузмин сурово глядит на холст, как будто перед ним неприятель. Его движения то резки, то вкрадчивы. А глаза… Мезенцев вдруг чувствует на себе эти глаза, и ему становится не по себе: так только слепые смотрят. Художник ведь глазами работает, а Кузмин, кажется, и не видит ничего. На кого это он смотрит?.. Мезенцев оглянулся, никого позади не было. Наконец-то он решается заговорить:
— Ты не сердись, что помешал. Я подумал, что выводы у тебя не такие. Вот ты насчет грусти говорил. А я считаю, что с Варей все уладится…
Кузмин рассеянно отвечает:
— Да… Да…
Кузмин помнит все. Он не пропустил ни одного слова. Голос Мезенцева доходил до самых его глубин. Он видел: Варя сидит молча у окна. Он видел залом на реке. Он видел Мезенцева, большого и беспомощного. Он понял эту печальную повесть. Теперь он не думает о ней. Она в нем, но он не слышит слов Мезенцева. Что стало с Варей? Он может ответить: Варя стала этим тоном воды. Весь вопрос в воде! А парень повернулся спиной… За него говорит вода. Если удастся сделать воду, все заговорит: и люди, и гроб и небо. Он расскажет о лесе, о запани, о смерти, о молодости — вода расскажет. Еще одно чувство будет названо, и мир, похожий на необычайную бабочку, которая прорывает кокон, повиснет высоко, как звезда, — отдельный мир, новый и яркий, со своей орбитой, со своими спутниками, с той гармонией, когда пилы пильщиков поют, как птицы, а люди от горя не плачут, но улыбаются.
Мезенцев постоял, а потом тихонько вышел. Лицо Кузмина заканчивало этот день. Оно заканчивало эти недели, с их лихорадочной поспешностью и внезапной задумчивостью.
Это было 19-го, а четыре дня спустя он уже был в Архангельске. Он долго готовился к этому часу. Он знал теперь, что он скажет Варе. Он начнет с признания: он сам виноват — не сумел спросить! Потом он расскажет все, что он передумал за это время… Когда он открыл калитку, ему стало страшно: вдруг ее нет? Он так свыкся с мыслью, что она приехала, что она его ждет, что ничто больше их не разлучит! Он постоял минуту. Тогда сверху раздался голос Вари:
— Петька!
Он взбежал наверх. Они обняли друг друга порывисто и поспешно, будто боясь, что через минуту их снова разлучат. Они смеялись, раскрасневшись от радости и от смущения: им было неловко друг перед другом — до того они были счастливы.
О чем они говорят? об одиночестве? О сомнениях? О прошлом? Нет, Варя рассказывает, как трудно было вначале с девчатами. Вот Глаша… Они столько не видались, но они говорят о Глаше. Они столько не видались, и они говорят о вицах, о сплотке, о заломе.
— Понимаешь, чуть было все не погибло — синь показалась!..
Они перебивают друг друга. Они спешат рассказать о своей жизни. Это рассказы о древесине. Но они говорят друг другу куда больше: они это пережили, они теперь много знают.
Вот они наконец замолкли. Может быть, Мезенцев сейчас скажет все, что он старательно заготовил еще в Устюге? Но нет, Мезенцев говорит:
— Значит так, Варя?..
И Варя, глядя на него в упор, — у нее глаза стали еще ласковей, еще строже, — Варя отвечает:
— Так.
Вот и все. О чем же здесь больше говорить? Но Мезенцев что-то забыл. Он хочет вспомнить. Он наморщил лоб. Потом он говорит:
— Вспомнил! Вот я думал, что у тебя блузка желтая…
И, видя удивленные глаза Вари, он не может сдержать смеха:
— Это я глупости говорю. Просто приснилась ты мне. После того, как окатывали на субботнике, — это решающий день был. Вот приснилось, что в желтой блузке, я и вспомнил. Но знаешь, Варя…
Он не может договорить. Он ничего не может больше сказать.
Да и не нужны теперь слова ни ему, ни Варе.
9
Генька шел с маленьким чемоданчиком, когда его окликнул Мезенцев:
— Погоди, Синицын!.. Я с тобой поговорить хочу… Тогда с Варей… Я ведь перед тобой виноват: погорячился, а ты…
Генька не слушал, он очень спешил.
— Да. Да.
Мезенцев еле сдержался, чтобы не обругать его. Он насупился и спросил.
— Торопишься? На тот берег?
Генька рассмеялся:
— На тот свет.
Он был счастлив, и, прощаясь, он пожал руку Мезенцева с такой сердечностью, что тот смутился.
— А секретарь из тебя выйдет замечательный!
На вокзале пассажиры ругались из-за мест.
— Я по броне. Можете посмотреть, вот и бумаги. А на мое место посадили этого гражданина по блату. Он, наверно, к тетке в гости едет, а я от Союзкино…
— И ошибаетесь — не к тетке, а на выставку. Я сам каюр, а собачки премированные. Без меня они передвигаться не могут.
Собаки в багажном вагоне протяжно выли. Старушка плакала, прощаясь с дочкой. Томительно прокричал паровоз. Генька сиял: пыльный, скучный вагон казался ему прекрасным. Он готов был отдать свое место и гражданину из Союзкино, и каюру, и всем его псам Он ласково улыбнулся старушке, когда поезд тронулся и ее лицо поплыло среди блях носильщиков и фонарей.
С двух сторон — лес. Кажется, Генька знает здесь каждое дерево. Эти деревья долго держали его в плену; теперь он растолкал их, он вырвался на волю. Какими ничтожными кажутся ему недавние горести! Мезенцев говорил: виноват, невиноват. А к чему это?.. Мезенцев славный парень, но все-таки хорошо что Генька никогда больше его не увидит. Страшный край! Где-то жизнь бьет, как нефть из-под земли, люди ищут золото или льют сталь. Что может быть прекрасней мартена? А здесь человеческая жизнь связана с жизнью дерева. Дерево медленно растет: сто, двести, триста лет. Стоит об этом подумать — и жить неохота!
Где-то жизнь не плетется, а летит. Что ни день — люди изобретают новые машины. Дома в двадцать этажей. Под домами грохот, тысячи огней: это строят метро. Огромный шар поднимается в стратосферу. Поэты пишут необыкновенные стихи: не знаешь даже, как их читать. А девушки, улыбаясь, с высоты трех тысяч метров, несутся вниз на парашютах. Эту жизнь зовут Москвой, и Генька едет в Москву.
Что было в его жизни? Ледяные дороги, неудачное изобретение, Лелька, ссоры с ребятами, Красникова, наставления Голубева… Поезд несется все быстрей и быстрей мимо станций, мимо лесов, мимо домишек, где люди строгают доски, пьют чай, лениво чешутся. Если прожить всю жизнь в такой избушке, можно даже из глупого вечера у Красниковой сделать драму. Но вот уже нет избушки. Загадочно посвечивает вода. Победно громыхая, поезд пролетает по мосту.
Этот мост кто-то придумал. Он высчитывал, чертил, боролся за свой проект. Ему было весело. Потом пришли грабари с телегами, таскали землю, давили вшей. Ссорились. Женщины рожали ребят. Люди жили тупо и сонно, как живет дерево. Почему нельзя любить быстро, отчаянно, чтобы — бац вниз и без парашюта?.. Мост долго строили. А вот Генька пролетел по этому мосту: две-три секунды. Жизнь надо либо заново выдумать, либо пробежать по ней без оглядки. Генька думает это и на минуту смущается: выходит как-то не по-комсомольски. Сколько раз он сам говорил ребятам: «Работать, черти, надо!» Как же увязать это?.. Но колеса стучат, и они прерывают мысли радостным напоминанием: Скоро Москва!
Он пробует читать. Он взял на дорогу какой то роман. С недоверьем он смотрит на обложку: «История одной жизни» Мопассана. Он прочел сорок страниц и задумался. Какой писатель, а пишет о пустяках! В Щербаковке кухарка Дуня обслуживала любовью две артели: продольных пильщиков и поперечных. Кому придет голову описать жизнь Дуни? А вот Пушкин описал Клеопатру, и вышло замечательно. Значит, все дело в масштабах. Будь Генька поэтом, он написал бы «Магнитострой любви». Он засядет в Москве за изобретение: станок чтобы сразу перевернуть все производство. Или в области радио. Может пойти и в железнодорожный техникум: ему поручат проложить магистраль через тундру.
Он думал это в полусне. Уснуть он не мог. Внизу кто-то настойчиво похрапывал. На соседней полке лежала девушка. Ей тоже не спалось; она то пробовала читать, то глядела в окошко. Под луной поля синели и дымились. Генька заговорил с девушкой. Она рассказала, что ее зовут Лена Шестакова, она едет в Москву учиться: ее приняли в Институт цветных металлов. Это ее мать плакала на вокзале: они впервые расстались.
Лене было неуютно и радостно. Она расспрашивала Геньку о Москве. Он рассказывал, сколько там автомобилей, как строят метро, как все спешат и какие все счастливые. Генька никогда не бывал в Москве, но сейчас ему казалось, что он видит перед собой и Тверскую и мавзолей, и театры: Москва была в нем.
Он рассказал и о себе: два года он прокладывал дороги, но в Москве он займется другим — его давно увлекает обработка металлов. Говоря это, он не сводил глаз с Лены. Он удивлялся: «Как я ее раньше незаметил?» У Лены были черные смешливые глаза и она глубоко вздыхала.
Поезд остановился на разъезде. Генька открыл окно. Луна успела зайти, и ночь была темная. С лугов потянуло сыростью и свежий запах вмешался в духоту вагона. Слышно было, как лает собака. Лена загрустила. Она вдруг поняла, что первая часть ее жизни кончилась: домик на окраине города, мама, лес, где столько было черники, Сема, который дразнил ее: «А язык у тебя синий»… Теперь она сразу стала взрослой.
Геньке казалось, что он влюблен в Лену. Он говорил:
— В Москве давайте часто встречаться. Обработка цветных металлов — это замечательная штука! Там, кажется, профессор Коробков. Я его собираюсь проконсультировать насчет изобретения. Видите, как все это здорово вышло! Я когда в вагон садился, и не думал…
Он хотел сказать: «Мы с вами построим Магнитогорск любви», но фраза показалось ему смешной, и, помолчав, немного, он добавил:
— Я и час назад не думал… Вот у Мопассана любовь настоящая. А какая это тема!
Лена смутилась. Ее пугали и слова Геньки, и его глаза: яркозеленые. Но ей хотелось, чтобы он еще говорил о любви. А Генька теперь молчал Они глядели в окошко: темно, ничего не видать. Оба чувствовали неловкость, боялись вымолвить слово, даже шелохнуться. Наконец Генька заговорил:
— Я вам стихи посвящу: «Эта тема ко мне появилась гневная, приказала: подать дней удила! Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное и грозой раскидала людей и дела».
Лена робко сказала:
— Кажется, я читала это…
Генька рассмеялся:
— Наверно, читали: это Маяковского, много раз напечатано было. Я ведь стихов не пишу. Но вы не подумайте, что я как попугай повторяю. Я их так сказал, будто они и не были никогда написаны Глядите, звезд-то сколько! Выбирайте — какая вам нравится, я и подарю. Лучше чем какое-нибудь колечко. Это все шутки, а мне не по себе. Мне теперь кажется, что это всерьез. Только я нехороший человек: жить с людьми не умею. По правде говоря, я и любить не должен. Это такая тема…
Лена почувствовала, что ее сердце слишком сильно колотится в груди, и она сказала:
— Поздно. Давайте спать.
Они ехали вместе еще день и ночь, но Генька больше не заговаривал о своих чувствах. Он бегал за кипятком и смешил Лену забавными историями. Она привыкла к нему, и ей казалось, что стоит им еще раз поговорить ночью, когда много звезд и пахнет мокрой травой, и она его по-настоящему полюбит.
— Вот и Москва!
Генька кинулся к выходу. Лена окликнула его:
— Я вам адрес дам Это подруги, у нее телефон. Вы позвоните?
— Обязательно.
Он рассеянно засунул бумажку в карман. Прощаясь, он даже не поглядел на Лену. При выходе ему пришлось простоять в хвосте несколько минут. Он вспомнил: «Что-то я ей говорил… „Эта тема“… Да, конечно… Только эта тема не любовь, эта тема…» Он не успел закончить мысли: он вышел на площадь и радостно зажмурился — перед ним была Москва.
В одно зарево сливались огни, и небо ночью было розовым, автомобили кричали, предостерегая как судьба, улицы были непостижимо длинными, и нельзя было ни остановиться, ни задуматься. Древнего города, о котором на севере еще пели песни, не было и в помине. Москва была одной гигантской стройкой. Леса, шахты, канавы, бетон, мусор и острая, как весенний дух, известка. Москвы еще не было. Она делалась на каждом шагу. Ее заново придумывали коммунисты, архитекторы, каменщики и поэты. Ее придумывали и ребятишки, заводя на бульварах загадочные игры. Казалось, что даже московские старожилы — лукавые воробьи — и те чирикают по-новому. Значит, и Генька будет делать Москву! Стоит ли тогда огорчаться, если в общежитии тесно, если ребята подтрунивают над его говором, если в сутках слишком мало часов, а математические формулы сбиваются на номера трамваев?
Генька работал исступленно. Он поступил на завод. Вечером он ходил на лекции. От обработки металлов он кидался к радио, а от комсомольских собраний к рампе театра. Ночью, когда он сидел над книгами, внизу еще пели запоздавшие трамваи; это пенье походило на голоса муз. Шли месяцы, выпадал снег, его подбирали и увозили за город, верещали станки, шелестели страницы книг, а Генька все с тем же восторженным изумлением глядел на город, который ему предстояло завоевать.
Опыт прошлых лет не сошел даром: он знал теперь, что у него тяжелый характер — он не умеет ладить с людьми. Сколько раз ему хотелось перебить на полуслове профессора, показать инженеру, как надо пускать машину, обругать товарищей. Но он сдерживал себя. Минутами он страдал от одиночества. Он пробовал сблизиться с товарищами. Он ходил на вечеринки, пил водку, ухаживал за девчатами. Он делал все это с огромным напряжением и, однако, равнодушно. Никто его не любил. Говорили: «Синицын?.. Ничего парень». Как-то Генька подумал: «Вот я добился своего, никто меня не замечает. Только стоило ли ради этого ехать в Москву?..»
Впервые Москва показалась ему страшной. Сколько здесь людей! С утра до ночи по тротуарам идет густая толпа. Ее ничем не остановишь. Вот автомобиль налетел на старушку. Кто-то ахнул, кто-то выругался. А люди все с тем же безразличьем идут дальше: одни с Арбата, другие на Арбат. Разве можно в такой толпе кого-нибудь распознать? Генька теперь всматривался в лица. Ему хотелось запомнить людей. Но нет никогда в жизни он больше не встретит этого рыжего паренька! Скольких он знает в Москве? Сто человек, двести. А Москва — это миллионы. И никому нет дела до других. Если и спросят, то только: «Вы, гражданин, на этой сходите?..»
Он понял — спасение одно: как-нибудь выделиться. Еще упорней он засел за работу. Он сделал проект новой конструкции приемников. Ему дали премиальные: триста рублей, а проект отклонили. Генька позвал Челнышева в ресторан. Челнышев привел Сашу Степанову. Они ужинали втроем. Официант вежливо нагибался: «Еще графинчик?..»
Кто-то пел: «Мура, моя Мура». Кто-то кричал: «Плевать мне на твоей удостоверение!» Степанова кокетничала с Генькой. Челнышев злился. Но Генька и не поглядел на Степанову: он жадно хлебал водку, он хотел как можно скорей забыться. Когда они возвращались домой, он кричал непотребные слова, а потом испуганно оглядывался:
— Нехорошо — Лелька может услышать…
Ему казалось, что он в Архангельске. Он проснулся с головной болью, не хотелось ни вставать, ни думать. На заводе сотни премированных В институте сотни сидят — изобретают. Это — как толпа на улице. Генька барахтается и тонет.
Он прочитал в немецком журнале статью о канатных мостах, и что-то озарило его. Он сел за работу. Пришлось налечь на высшую математику. Он перестал спать. Он отвечал невпопад на вопросы. Семенова сказала:
— Ты что, Генька, втюрился в кого-нибудь?
Он ответил с улыбкой смущения:
— Кажется.
Он проработал четыре месяца. Потом он послал проект в научно исследовательский институт. Он долго ждал ответа, как собачка, он бегал за Шарковым, который раздавал письма; он кричал, задыхаясь, в телефонную трубку: «Когда же?..»
Наконец его позвал к себе профессор Щеглов. Генька стоял и злобно мял свою шапку.
— Да вы садитесь. Разговор у нас длинный…
Щеглова заинтересовал этот человек. Он расспрашивал, где Генька изучал математику и механику.
— Способности у вас недюжинные. Нельзя только так разбрасываться. Вот посмотрите, с детерминантами…
В проекте были ошибки. Щеглов их объяснил. Генька понял. Он не стал спорить. Он стоял, опустив голову и тяжело дыша. Тогда Щеглову стало его жалко. Он сказал:
— У нас вообще это неосуществимо: таких канатов не производят. Практического значения это, следовательно, не имеет. А вам теперь необходимо заняться математикой, тогда вы…
Генька прервал Щеглова:
— Почему же вы мне раньше не сказали, что канатов нет? Ведь тогда и разговаривать не о чем.
Выйдя на улицу, Генька подумал: все-таки я напутал!.. Без знаний нельзя. А сесть за все сначала — этого он не может. Как прекрасно грохотал поезд! Но жизнь идет иначе. Конечно, в Москве люди торопятся, только и это — рябь на воде. В кабинете Щеглова было тихо. Он, наверно, сидит годы и годы: думает. Такому Щеглову за пятьдесят: понятно, что он все знает. Но что делать Геньке? Читать? А жизнь пока что будет итти? Так можно и рехнуться.
В тот вечер Геньке было особенно сиротливо. Он не знал, куда ему деться. Он чувствовал, что у него чересчур длинные ноги, да и чувства у него чересчур длинные: он всем мешает. Он хотел было пойти к знакомым девчатам, но раздумал: с такой постной мордой в гости не ходят. Всю ночь он сидел на койке и, глупо шевеля губами, писал стихи. Хотя больше других поэтов он любил Маяковского, стихи у него получались гладкие, с рифмами «печаль» и «сталь», «станок» и «одинок». Утром он увидел исписанные листки и покраснел от стыда. Так нельзя жить — надо работать! Он шел на завод, стараясь подобрать под свои шаги новые, бодрые мысли. На душе у него было смутно. Он, может быть, покорился, но никак не успокоился.
Стихов он больше не писал, но дня три спустя он сел за очерк для многотиражки. В Архангельске говорили, что Синицын здорово пишет, а редактор половину статьи зачеркнул, да и в другой половине он изменил чуть ли не каждую фразу. Генька написал: «Ольга ласково обтирала тряпкой станок — так в деревне она гладила свою корову». Редактор вместо этого поставил: «Вчерашняя колхозница Ольга быстро справляется с чисткой станка». Генька в бешенстве скомкал газету.
Он и здесь не сразу сдался. Он написал другую статью: о быте молодежи. Он высмеивал вечерки, любовь под фокстрот, культ галстуков. Перечитывая статью, он вдруг заметил слово «дроля». Он быстро зачеркнул его и поставил «девушка». Ему было стыдно, точно он проговорился. Он вспомнил Лельку: Лелька и вправду была дролей. Как он тогда хорошо жил!..
Он послал статью в «Комсомольскую правду». Ответа не последовало. Тогда Генька растерялся. В Архангельске он знал: Мезенцев против него. Они ссорились, потом мирились. Ребята звали его «Гитлером», он о них думал — «бараны». Но все-таки они друг друга любили. А здесь некого обругать, некому и пожаловаться.
Как-то Генька сказал Кудряшеву:
— Мог бы за станком присмотреть.
Кудряшеву было пятьдесят шесть лет. На заводе его уважали. Старый московский рабочий, он любил рассказывать о том, как мастеровые жили прежде, о забастовках пятого года, о дури хозяев. Работал он исправно, и никто никогда ему не делал замечаний. Кудряшев с усмешкой поглядел на Геньку.
— Ты, прежде чем кричать, спроси. Павел здесь работает и Шкатов. Твои — комсомольцы. Они и постарались. Сколько раз я это говорил: не знаешь — спроси меня или Синицына. А они все сами хотят. Вот и результаты. Я даже не понимаю — что это за народ? В наше время спросил бы, тебя бы к чортовой матери послали. А теперь — пожалуйста, и инженер объяснит, и книжки выпустили, и на курсы зовут. А им некогда. Ты вот мне скажи: куда это они спешат? Если ты коммунист, ты должен помнить о главном. Прежде большевики — о чем они думали? О решетке. Поймали с листком, и готово: под замок. А эти о портфелях думают: как бы поскорей выдвинуться.
Генька сказал:
— Все это не так. То есть так, да не так. Ты вот орден получил, а я сижу за решеткой. Не понимаешь? Разве я об этом мечтал. Для меня что здесь работать, что в тюрьме сидеть. Ты что глядишь на меня? Что я, сумасшедший?
Кудряшев ответил нето со злобой, нето с жалостью:
— Калечный ты чорт! И откуда вы этакие беретесь?..
Работая над мостом, Генька отбился от комсомола. Теперь он поговорил с Цандером, и Цандер поручил ему сделать доклад о роли политотделов. Генька давно не выступал на собраниях. Он увлекся и начал говорить о мировой ситуации, о фашизме, о революционной романтике. После собрания произошло объяснение с Цандером.
— Доклад как?
— Ничего. Только воды подпустил. Надо было лучше подготовиться. Ребята говорят, что фактического материала мало.
— Ясно, привыкли, чтобы им все разжевывали. А я на это не гожусь. Другой раз пусть Орлов выступает.
— Ты что это? Обиделся? Это ты, брат, оставь! Скажу Орлову, Орлов выступит. А я вот тебе предлагаю, в связи с кампанией по воздушной обороне…
— Не буду! У меня «вода». Пусть Орлов говорит: у него, будь спокоен «фактическое» — что вчера прочитал в газете, то и преподносит.
— А отказываться ты не можешь. Какая ж тогда дисциплина?
— Плевать мне!.. Комсомольцы вы, а хуже бюрократов.
— Слушай, Синицын, ты не бузи! Хорошо, ты мне это говоришь. Очень просто: за такое могут и вычистить.
— Да ты не стесняйся, вычищай! Этот сор не для ваших хором!..
Генька хлопнул дверью. В тот же вечер Цандер беседовал с Варнавиным о Геньке.
— Парень толковый, но какая у него амбиция, и не черта не хочет выслушать.
Варнавин решил образумить Геньку. Но Варнавин был молод и неопытен. Ему хотелось сказать: «Слушай Генька, чего это ты взъелся? Давай разберем! Хочешь что — скажи. У нас тебя здорово ценят. Вот и Щеглов говорил Цандеру: „Это парень с будущим“. Так что, если что есть — сгладится, а мы все таки товарищи, надо друг за дружку держаться…» Но Варнавин думал, что так говорить нельзя: это детский разговор, и, встретив Геньку, он сказал:
— Мы вот решили выпрямить тебя. Нельзя без воздействия коллектива…
Его голос, тихий и ласковый, как-то не шел к сухим словам. Генька ему ничего не ответил, только махнул рукой и ушел прочь.
На первомайском параде Генька шел с товарищами по заводу. Они несли огромный громкоговоритель, разукрашенный бумажными гирляндами. Проходя мимо трибуны, на которой стояли вожди, Генька подумал: если бы поглядеть так, чтобы они заметили!.. Он может сделать куда больше того, что он делает. Но никто этого не знает: ни Варнавин, ни Цандер, ни профессор Щеглов, ни редактор «Комсомолки». Геньке не дают ходу. Вдруг кто-нибудь его сейчас заметит, позовет, скажет: «Ну, Синицын, выбирай!..»
Он подумал это и сразу зло рассмеялся: а чем он лучше других? Никто его не затирает. Щеглов с ним два часа проговорил. Премировали. Доклады предлагают читать. Если он не выдвинулся, то это его вина. Мост никуда не годится. С приемником он тоже ошибся, проект Бродовского куда лучше. Стихов он не умеет писать, а статьи пишет, как стихи. Да и организатор он плохой: ребята его не любят. В Архангельске он еще мог как-нибудь выкарабкаться: там все люди наперечет. А здесь таких Генек сто тысяч, все они идут, поют и поворачивают головы к трибуне.
От этой мысли ему стало страшно. Он закрыл на секунду глаза и сейчас же приоткрыл их: все небо гудело. Над площадью пролетела эскадрилья самолетов. Это было настолько прекрасно, что Генька сразу забыл о своих терзаниях. Он умел быстро переходить от радости к горю и от горя к радости. Он шел теперь, увлеченный ритмом шагов. Он был счастлив, что проходит по этой площади, что рядом с ним стоят люди, которых он прежде знал только по портретам и которые казались ему огромными и непонятными, как даты истории.
Радостное чувство весь вечер не оставляло Геньку, оно позволило ему хотя бы на один день стать простым и человечным. Встретив Кудряшева, он сказал:
— Ты на параде был? Здорово как шли!.. И самолеты…
Потом снова пошли будни. Генька знал: для него нет выхода. Прежде он думал, что можно научиться в год или в два. Учение ему казалось опасной атакой. Теперь он увидел, что учение — это окопы: сиди и не двигайся. По партийной линии ему тоже не выдвинуться: это долгий и трудный путь. Он не умеет измерять движений, глядеть, куда он ставит ногу, рассчитывать дыхание. Взбежать сразу наверх, или свалиться! Тогда?.. Тогда работай, как все. Вечером гуляй с девчатами или ходи в кино. Можно и жениться, будут дети. Потом устроят празднество: «двадцатипятилетие трудовой деятельности товарища Синицына». Как все это мелко, тупо и страшно!
Он стал выпивать. В пьяном виде бывал нежен и назойлив. Он вспоминал то Лельку, то Маяковского с простреленной грудью, то тундру, над которой летают мириады комаров, — похожие на грозовую тучу.
Как-то он пришел пьяный в кафе. Лисицкий играл в шахматы с Серовым. Генька подошел к ним и сказал:
— Зачем это вы мучаетесь? Мало вам в жизни «шах и мат»?
Лисицкий в ужасе прикрывал доску, боясь что Генька спутает фигуры. Генька стоял и бубнил:
— У меня не шах и не мат. А как это называется?.. Обожди, сейчас вспомню… Пат. Вот именно — пат: у короля нет хода. «Инцидент, как говорят, исперчен»…
В кафе было много народу; одни смеялись, глядя на Геньку, другие настаивали, чтобы его вывели. На следующий день Геньку вызвали в ячейку. Цандер сказал:
— Тебе это не подходит. Ты должен пример подавать, а беспартийные смеются: «Ну и комсомольцы!..»
Генька стоял смирно, как провинившийся ребенок; он понимал, что Цандер прав. Он еле-еле выговорил:
— Я больше не буду.
Он действительно перестал пить. Он не ходил теперь на вечерки. Лениво бродил он по улицам или перелистывал роман, не следя даже за интригой. Огромное любопытство к жизни сменилось безразличьем. Трудно было его вывести из оцепенения, но писателю Кроткову это удалось.
Кротков выступал в клубе с докладом о литературе. Он кокетливо улыбался и, откидывая назад голову, обрамленную поэтическими кудрями, кричал:
— Мы можем представить на ваше одобрение план продукции на ближайший квартал: романы, посвященные освоению техники и строительству, романы из жизни колхозов, углубление марксистской критики, а на поэтическом фронте…
У него был галстук бабочкой, а слово «продукция» он произносил нараспев, любуясь тембром своего голоса. Генька на доклад попал случайно. Вначале он мирно зевал. Но улыбка Кроткова, его голос, его манеры раздражали Геньку. Кротков пел:
— Индивидуальность особенно ярко расцвела в условиях второй пятилетки…
Генька не выдержал, он послал докладчику записку: «Зачем врать? Конечно, вашему брату хорошо. Индивидуальность цветет, например, писатели пьянствуют, да еще как — см. статью в „Известиях“. Но, между прочим, не все на свете писатели. Я вот прежде так жизнь любил, что во рту пересыхало, а теперь я со скуки дохну. Может быть, вы объясните подобное явление?» Дойдя до записки Геньки, Кротков усмехнулся.
— Я получил еще одну записку чисто полемического свойства. Среди нас имеется товарищ, который считает, что жить в нашу исключительную эпоху скучно. Я попрошу его встать и развить перед нами эти оригинальные взгляды.
По залу пронесся гул. Пока Кротков говорил, все чинно дремали; теперь наступало нечто занятное. Слушатели обводили глазами ряды. Но никто не вставал. Генька сидел весь красный, прикрыв лицо газетой. Ему хотелось уйти, но он боялся, что обратит на себя внимание. Он досидел до конца доклада. Потом он подумал: почему он не выступил? Кротков, ясное дело, пошляк. Но что он мог ему ответить? Все перепуталось: идеи у него комсомольские, а в душе — гниль. Как будто он болен, другие здоровы — работают, танцуют, играют в шахматы. О чем же ему говорить?..
На следующий день Генька сказал Вере Горловой, к которой он теперь частенько захаживал:
— Я вчера против одного писателя выступил. Пошляк! Ударение на личности. А что за этим, кроме «Маши у самовара» и румбы? Нельзя жить без пафоса. Пока человек чувствует опасность, — мускулы напряжены, он и на канате удержится. Но стоит отвлечься — и бац. А мы не эквилибристы — сетки под нами не держат. Ты почему на меня так смотришь? Не согласна?
Вера тихо ответила:
— Не знаю. Я об этом не думала. Просто гляжу. Ты за последнее время очень изнервничался.
Слова Веры показались Геньке обидными: она его жалеет. Может быть, она чувствует, что он неудачник? Этого Генька боялся пуще всего. Он болезненно следил за глазами Веры, за оттенками ее голоса, за ее малейшими движениями. Вначале это было вспышкой, казалось бы, отгоревшего честолюбия: как на Красниковой, он решил проверить на Вере, может ли он еще кого-нибудь увлечь. Он не спрашивал себя, нравится ли ему Вера. Он учел, что среди вузовок она выделяется умом, способностями, знаниями. Профессора относятся к ней с подчеркнутым вниманием. Ребята при ней стараются не ругаться, даже Костя Волков ее спрашивает: «Есть пойдешь?» — хотя другие у него обязательно «шамают». У Веры на столе странные книги: история Византии, Пруст, стихи Тютчева. Другие девчата говорят о «кавалерах», «мальчиках», «хахалях», Вера молчит, Генька проверил это, как анализ руды: порода была добротной, и он решил влюбить в себя Веру. Он стал ходить к ней, рассказывал ей о своей работе, спорил о книгах. Работа в его рассказах менялась, а говорить приходилось о книгах, которых Генька никогда не читал. Он начал лгать и, запутавшись во лжи, он больше не мог из нее выбраться.
Все началось с недомолвок. Рассказав Вере о своем разговоре с профессором Щегловым, Генька не упомянул о детерминантах. Вышло так, что его проект был безупречен, но, как назло, у нас не производят канатов нужного диаметра. Он не понимал, что он лжет: он и сам забыл о своих ошибках. Он часто спрашивал себя: почему Щеглов о самом главном сказал только к концу разговора, и ему казалось, что профессор хотел над ним посмеяться.
В другой раз он рассказал Вере, что написал статью о комсомольском быте. Вера спросила:
— Где ее напечатали? У тебя есть экземпляр?
Генька обрадовался темноте: они разговаривали в сумерках, не зажигая огня. Он покраснел. С минуту он помолчал, не зная что ему ответить. Наконец он сказал:
— Поищу. А в общем это ерунда. Такие статьи легко писать. Я хотел бы писать стихи, как Маяковский. Только у меня нет…
Он запнулся: он чуть было не сказал «таланта», но, во-время спохватившись, он пробормотал:
— Только у меня нет на это времени.
Часто он спрашивал себя: «Верит ли мне Вера? Наверно, верит, а то не звала бы. Вот и сегодня она сказала: „Завтра придешь?“» Он думал, что Вера разговаривает с ним только потому, что он изобретатель, общественник, словом, человек, о котором завтра будут писать в газетах. Он не мог рассказать ей ни о своем одиночестве, ни об обидах, ни о той непонятной болезни, которая разъедала его душу. Входя в ее комнату, он надевал маску энергичного и счастливого человека, а когда тоска все же прорывалась, скашивая лицо в усмешку, похожую на звериный оскал, он поспешно пояснял:
— Не обращай внимания, это нервное — заработался.
Он обдумывал каждое слово, каждое движение. Иногда ему казалось, что он влюблен в Веру: играл-играл и доигрался. Но тотчас же он отгонял этим мысли: так было и с Красниковой… Он считал себя человеком, все в жизни испытавшим: он больше не способен на ребяческие чувства. Нет, он не влюблен в Веру, но своего он добьется: Вера в него влюбится. Эта девушка, которая говорит по французски, которая читает какие то странные и скучные книги, которая слывет недоступной, будет перед ним робеть и стесняться, будет просить его: «Сядь рядом», будет ему говорить глупые наивные слова, как простая колхозница. Она скажет «милый». Он засмеется и заставит ее сказать «дроля» — так выйдет еще глупей. То, что он унизит Веру, его успокаивало: он мечтал об этом, как о реванше.
Шли недели, но ничего не менялось в их отношениях: игра оказалась сложной и долгой. Вера так и не говорила ему: «Сядь рядом». Бывали минуты, когда он едва сдерживался, чтобы не подойти и не обнять ее. Но блестели зеленые глаза, кривился рот, судорожно разбегались руки, и, совладав с собой, Генька шептал:
— Нервничаю, надо бы передохнуть…
Он помнил, что Лелька позвала его первая. Он теперь хотел разгадать законы любви. Он читал Стендаля, как учебник. Он решил, что, если Вера заподозрит его в каких-нибудь чувствах, он от нее ничего не добьется, кроме жалости или презрения.
В мартовский вечер Генька, как всегда, шел к Вере. Она жила на Зубовском бульваре, он возле Воронцова поля. Путь был длинный. Но Генька не сел в трамвай. Он шел по бульварам. Хлюпал умирающий снег. Капало с деревьев. Все кругом было черное, мокрое и взволнованное. Это был один из первых вечеров ранней весны, когда в сыром и теплом тумане расплываются зрачки людей и газовые фонари.
Весенний дух понемногу проникал в Геньку. Он дышал напряженно, как будто его легкие не могли выдержать слишком резкого воздуха. Он останавливался возле фонарей и подолгу глядел на голубоватое мутное полыхание. В подворотне шепталась влюбленная парочка. Обычно такие сцены раздражали Геньку. Но сегодня он почему то ласково усмехнулся: он готов был пожелать счастья этим неизвестным чудакам. Он поймал себя на том, что его губы шевелятся — он повторяет: «Эй, Большая Медведица, требуй, чтоб нас взяли на небо живьем!..» Он знает, как на него действуют эти короткие фразы с их ритмом, похожим на одышку альпиниста, и с внезапными ударами рифм. Он должен быть сухим и жестким: ему предстоит бой с Верой. И вот он снова шевелит губами… Это уже не Генька Синицын, это чудак на пустом и мокром бульваре, среди слабого снега, среди черных пятен земли, среди деревьев, которые, как и он, смущены, взволнованы, насторожены. Он глядит на деревья: они как будто мертвы. Но Генька знает: они живы, они тянутся к розовому небу; им и невдомек, что розовое оно от огней. А под мокрой корой сладко ноет сердцевина. Почему он так ненавидел деревья? Это его земляки. Им можно сейчас сказать: а Вера-то — дроля…
Но что если ему снова все померещилось? Как с той девушкой в вагоне. Он даже не помнит, как ее звали…
Надо взять себя в руки! Он скажет сегодня Вере: «Меня посылают в ответственную командировку». Он будет внимательно следить за нею, и она сорвется: дрогнет голос или с нарочитым равнодушием она скажет: «Когда же ты едешь?» — а руки при этом забьются, как рыбы, выхваченные из воды. Он выйдет и сразу скажет: «Завтра еду!» А вдруг ее нет дома? Вчера она говорила: «Может, Муся достанет билет к Мейерхольду»… Неужели ее нет?
Генька больше не думает: влюблен он или не влюблен? Он ускорил шаг. Он почти бежит. Он видит глаза Веры, серые, с ресницами такими темными, что кажется, они стерегут Веру; а губы чуть приоткрыты трудно не подойти, не поцеловать. Странно, что Вера москвичка. Она — как весна на севере: серая, розовая и туманная. Слабая на вид, а руки у нее крепкие. Генька как то попробовал шутя ее повалить. Мало говорит. Ей бы жить где-нибудь на Онеге: там тоже мало говорят — молчат или поют. А чувствовать — там чувствуют куда больше, чем здесь; только без слов.
Вот и шоколадный, весь облезший дом. Неужели ее нет?.. Он будет ждать. Он простоит здесь всю ночь. Темная, холодная лестница, она пахнет кошками и керосином. На дверях пометки: сколько раз к кому звонить. Генька как-то ошибся; осипший гражданин в тюбетейке долго на него кричал. Открыть дверь, и то трудно!.. Впрочем, и Генька такой же. Неужели нет дома? Ему кажется, что звонок кричит за него. Он прислушался: тихо. Вера ушла в театр. Он один на лестнице. Ему незачем прикидываться счастливым. На его лице мучительная гримаса. Он стоит, не зная, что ему делать. Тогда раздаются шаги. Кто то поднимается по лестнице. Он нехотя глядит. Это Вера. Мокрый меховой воротник. Глаза светятся. Она говорит: «В лаборатории задержали», но Генька ее не слушает.
Они тихонько идут по длинному коридору. Кричит ребенок. Генька на что-то наткнулся, Вера взяла его за руку. Вспыхивает свет, и вот снова глаза Веры. Генька отходит в угол. Он должен сейчас сказать: «Меня посылают в командировку». Но он ничего не говорит. Они стоят молча в разных концах комнаты. Потом, не помня себя, Генька подбегает к Вере. Он обнял ее. Он чувствует, как ее тело тяжелеет в его руках: кажется, она сейчас упадет. Он целует ее грустно и поспешно. Он что-то при этом говорит, но он не понимает своих слов. Потом Вера, высвободившись, смотрит на него. Он стоит, вытянув по швам руки, опустив голову. Он ждет — сейчас она скажет «уходи». Но она ничего не говорит. Она его целует.
Пошел дождь; все течет, каплет с крыш, весна торопится. Сколько еще дел у людей, сколько надо домов построить и сколько надо сказать ласковых слов! Весна порывисто дышит, и от ее дыхания — на стекле муть. Она любит этот большой и неспокойный город. Весна знает: в этом городе у людей нет времени. Они не успевают ни отдохнуть, ни задуматься, ни вздремнуть. У них нет времени и на любовь, оттого любовь здесь такая порывистая, чистая и горькая. Быстро здесь сгорают люди, и в каждом поцелуе есть привкус разлуки, а может быть и скорого конца. Весна это знает, она ласково торопит людей, она досказывает за них длинные монологи, и она вынимает из большой широкой руки отвертку, циркуль, перо, чтобы на минуту вложить в нее другую теплую руку.
Генька не сразу пришел в себя; счастье было для него туманом этого весеннего вечера, и туман понемногу рассеивался. Проступали тяжелые громады привычных мыслей. Когда он наконец задумался, что произошло, он почувствовал себя слабым и потерянным. Он ничего не понимал; он даже не знал, счастлив он или нет. Он знал одно: без Веры ему теперь не жить. Но Веру он потерял: Вера увидала, что он беспомощен, как ребенок. Он хорошо помнит: он первый ее обнял. Он вымолил у нее любовь. Она теперь его презирает. Она чувствует, что он не может обойтись без нее. У нее хорошее сердце: она не прогнала его. Но сейчас она скажет: «А теперь уходи». Он должен что то сделать. Он должен показать себя другим. Генька мог расчувствоваться, но Вера незнакома с Генькой Вера знакома с другим человеком: холодным и уверенным в себе.
Генька не смотрит на Веру: он боится, что, увидав ее глаза, он снова собьется с толку. Он небрежно листает книжку и говорит:
— В первый раз это кажется катастрофой, в сотый — это просто замечательная история. Вот мне двадцать пять лет, а я уже потерял остроту восприятья. Я читал где-то, что Пушкин составил список: все женщины по именам. У нас, конечно, другие заботы. Но сегодня я шел к тебе и думал — была у меня одна история с девчиной в поезде, а я даже не помню, как ее звали. Ты не удивляйся — это вполне естественно.
Он осторожно, искоса смотрит на Веру: он ждет — сейчас она заплачет. Но Вера сидит неподвижно, положив голову на руки. Тогда Генька говорит:
— Вот, Вера, ты у меня, кажется, первая…
Вера встала. Она подошла к Геньке. Она подошла вплотную, так что он снова слышит на своей щеке ее дыхание. Она тихо говорит ему:
— Зачем ты это говоришь?
— Затем, чтобы тебя не обманывать. Ты, может быть, думаешь, что я голову потерял. А я, я…
Он не находит слов, но он старается пренебрежительно усмехнуться. Вера не отходит, она говорит:
— Это неправда. Я знаю, что это неправда. Я только не понимаю — зачем ты это говоришь? Не надо так…
Она целует Геньку. Он стоит и чувствует, что не в силах ни ответить, ни уйти. А она продолжает:
— Не надо так. Ты себя мучаешь. Да и меня… А я и без слов все понимаю.
Когда Вера сказала это и еще раз поцеловала Геньку, случилось нечто непонятное: из глаз Геньки побежали слезы. Он был настолько измучен, настолько всем потрясен, что он даже не понимал, что он плачет. Дотронувшись рукой до щеки, он вскрикнул. Никогда в жизни он не плакал. Он помнит: отец больно бил его, а он глядел на отца сухими злыми глазами. Он твердо знал, что никогда в жизни он не расплачется. Однажды он увидел, как плакал слесарь Егоров: жену похоронил, и Генька тогда подумал: все-таки нехорошо, бабе еще куда ни шло, но большой, взрослый человек не может плакать. И вот он стоит и плачет. Какой это позор! Теперь Вера все поймет. И вытерев лицо рукавом, Генька выбежал из комнаты. Он не помнит, как он пробежал по длинному коридору, как нашел задвижку, как спустился вниз. Он очнулся на улице, среди дождя. Он поднял воротник: холодная вода затекала за шиворот. Его знобило, но он не пошел домой. Он все ходил по пустым улицам, не смея ни подумать о том, что произошло, ни призвать на помощь серые глаза, которые остались где-то в другом мире.
Он не приходил к Вере четыре дня: он уговаривал себя, что может разделаться с этим чувством. Но он не переставал думать о Вере. Много раз он шел к ней, а на полпути поворачивал назад: он боялся, что Вера его прогонит. Он хотел восстановить минуту за минутой тот вечер. Но многого он не помнил. Он теперь понимал, что Вера сошлась с ним не от жалости. Он видел, что без нее он не находит себе места — ходит как угорелый; прохожие, и то замечают: что-то с человеком неладное. Но почему Вера сказала «неправда»? Откуда она может знать, что у него в жизни ничего и не было, кроме Лельки да глупой истории с Красниковой? Может быть, она вообще ему не верит? Но тогда она не стала бы его целовать… Он терялся в догадках. Он не мог оставаться дольше без Веры, и он не мог показаться ей на глаза.
Когда он наконец снова позвонил у ее двери, он был настолько измучен, что Вера увидела больного, как-то сразу осунувшегося человека. Она не стала его расспрашивать. Она положилась на время.
И действительно, с каждым днем Генька становился спокойней. Любовь к Вере захватывала его все больше и больше. Он забывал о своих мыслях. Минутами ему казалось, что он счастлив.
Но, оставаясь один, он попрежнему спрашивал себя: знает ли Вера, что он ей лжет? За кого она его принимает? Он старался больше не лгать. Он не рассказывал ей о своих изобретениях, не хвастал, не прикидывался счастливым. Когда он теперь улыбался, это не было с трудом давшейся гримасой; нет, он улыбался потому, что ему и вправду было хорошо с Верой.
Вера много рассказывала ему о себе. Ее жизнь началась рано. Отец Веры был адвокатом. Она смутно помнит бронзовые статуэтки — подарки клиентов, словарь Брокгауза, шубы в передней, за которыми она пряталась, напыщенных гостей. Когда началась революция, Вере было шесть лет. Она ходила тогда в детский сад, и ее учили плести из кусочков бумаги какие-то скатертки. Потом в доме стало тревожно. Мать прятала кольца и брошки. Отца ночью увезли. Вера спросила «куда», мать ответила «далеко» и заплакала. Потом отец вернулся, он кричал, что его заели вши. Когда Вере было девять лет, она ходила с матерью на Сухаревку. Они держали на руках большие кружевные покрывала для кроватей. Ругались бабы. Мать боялась милицейских. Какой-то старик увел Веру в сторону, ущипнул ее, а потом дал ей пирожок. Вера заплакала.
Потом ее послали в школу. Ей было двенадцать лет, когда она вдруг поняла свою жизнь. Это было на школьном собрании. Маруся предложила протестовать против Ивана Григорьевича, который заставляет ребят зубрить названия рек. Вера сказала: «По моему, он хорошо учит». Тогда Маруся в раздражении ответила: «Для буржуйских детей, может быть, и хорошо». Вера ничего не сказала и ушла домой. Через год отец умер; до последнего часа он вспоминал завтраки в «Славянском базаре» с прокурором Васильевым и проклинал «хамов». Мать на дому шила шляпки женам частников. Вера не говорила ни с ней, ни с товарищами. Она много читала. Никто не знал, как она растет. Когда она кончила десятилетку, мать сказала: «Я пойду к Фомину. Папа когда то защищал его на процессе. Я у него выпрошу, чтобы тебя приняли в университет». Вера коротко ответила: «А я не пойду».
Как-то она вернулась домой позже обычного. Мать спросила: «Ты где была, в библиотеке?» Вера сказала: «Нет. На фабрике» — она поступила работницей на Краснохолмскую мануфактуру. Вначале ее чуждались, но она была приветлива со всеми. Она быстро вошла в среду работниц. Ее хотели выбрать в районный совет. Она сказала: «Нет, рано еще… Вам это просто дается. А мне еще надо многое продумать». Она проработала на фабрике три года. Потом ее приняли в вуз, на механическое отделение. Мать умерла. Перед смертью она сказала Вере: «А ты их все-таки перехитрила». Вера поглядела на нее далекими чужими глазами и вдруг поняла, что можно быть равнодушной даже к смерти.
Она встречалась с Ширяевым. Ширяев писал в газете «За индустриализацию». Он говорил с Верой о технике, о борьбе, о жизни. Она была очень одинока, и Ширяев сумел ее растрогать. Как-то он повез ее за город. Они ходили по лесу и дурачились. У Веры никогда не было детства, и она была благодарна Ширяеву за один этот день. Вскоре Ширяев увлекся другой. Вера записалась на аборт. Она ушла с головой в работу.
Она мечтала об Урале. Она знала куда больше товарищей, но она была скромна и редко высказывалась. Ребята ее любили, и Николадзе как-то спросил ее: «Почему в комсомол не идешь?» Она смутилась и ответила: «Такой, как я, лучше показать свою преданность делом. Я вот должна работать больше, чем все, не то — стыдно жить. Мне все кажется, что я живу по блату. Но это не так. Душой…» Она не договорила, но Николадзе ее понял, покраснел и пробормотал: «Молодчина!»
Генька теперь знал жизнь Веры. Он все понимал в ней. Но одного он так и не понял: верит ли ему Вера? Спросить нельзя, она сразу догадается. Он уговаривал себя: конечно, верит! Прошло почти два месяца с того времени, когда Генька неожиданно заплакал. Он был спокоен, даже весел. Но в глубине души он терзался попрежнему. Он не говорил с Верой о себе. Выходило, что жизнь его сразу остановилась: он изобретал, писал статьи, выступал на собраниях — и вдруг ничего. Спросит его Вера: «Ты что вчера делал?» — он отвечает: «Ничего». Чтобы как-нибудь объяснить эту перемену, Генька говорил: «Вот как началось с тобой, я и работу забросил». Вера отвечала: «Это нехорошо. Тогда нам лучше расстаться». Он краснел, путался, заикался и долго объяснял, что это временное, что Вера для него «зарядка» и что скоро все пойдет еще лучше, чем прежде.
Так настал вечер, когда он решился наконец-то заговорить. Он завел разговор об изобретениях — давно он не говорил с Верой об этом. Вера молчала. Ее лицо ничего не выражало, и Генька снова терялся в догадках. Когда он на минуту замолк, Вера заговорила с ним о работе на заводе. Он вспылил:
— Ты меня не сбивай! Я тебя спрашиваю, как рассматривать поведение такого Щеглова? Почему они не производят канатов? Ты понимаешь, что это значит? Проект был, что называется, на ять… Не мост — красота!
Вера сказала:
— Слушай, Генька, почему тебе не заняться серьезно математикой? Я давно тебя хотела об этом спросить. Помнишь, когда мы говорили о моей работе, ты спросил, что такое векторное исчисление? А сколько ты бился, чтобы рассчитать систему линейных уравнений! Без алгебраических навыков тебе нельзя. Вот ты ругаешь Щеглова, а Щеглов говорил мне, что ты исключительно способен. Если в твоем проекте и были…
Генька встал и, глядя искоса на Веру, быстро проговорил:
— Стой! Значит, насчет моста знаешь? А что ты еще знаешь?
Вера ничего не ответила, только голова ее чуть наклонилась, а глаза стали такими грустными, что Генька понял все и без слов.
— Почему в таком случае ты со мной оставалась?
Тоска, гордость, обида, все, что было в Вере, все, что она должна была так долго скрывать от Геньки, все прорвалось в одной фразе, гневной и горестной:
— Если ты этого сам не понимаешь, нам и говорить не о чем.
Любовь ушла в глубь, она едва значилась в сером тумане зрачков. Еще был исход, еще Генька мог подойти к ней, сказать «понимаю», еще не все было досказано: слово оставалось за ним. Но Вера не дождалась этого слова: Генька вышел молча, ничего не ответив Вере, даже не попрощавшись. Его уход походил на бегство: он позабыл на столе свою записную книжку, которую он вынул, чтобы показать Вере проект моста. Он вышел быстро, не поворачиваясь.
Вера не позвала его, не заплакала. Она нашла в себе достаточно сил, чтобы час спустя сидеть над книгой: через несколько дней у нее начинались экзамены. Ее жизнь — так казалось ей — сводилась теперь к коротким формулам: товарищи, труд, страна. Об остальном она не должна думать. Она вышла из мира мертвых: она помнит запах духов и нафталина — так пахла квартира адвоката Горлова. Она вырвалась из этого мира, но, наверно, он мстит ей, он — в ней, оттого она чересчур много думает о своих чувствах, оттого она читает Пруста или Достоевского, оттого она привлекает к себе то, чему нет места в новом, живом мире. Генька молод, он не знал на себе ее проклятья, он просто сбился с пути. Она его увлекла тем, что в ней есть самого страшного. Он врал, а она его не останавливала: она берегла свою любовь. Это недостойно. Она срезалась на экзамене: она думала, что она усвоила новую жизнь; что она освободилась от чувств, которые душны и тяжелы, как шубы в передней адвоката Горлова. Оказалось нет — они ее держат. Значит, надо отказаться от личного счастья. Сдать экзамены, и скорей на завод! Работать восемнадцать часов в сутки, жить среди товарищей, жить голо, просто, сурово. Забыть о любви. Вера помнит библию: мать заставляла читать ей вслух. Там рассказано о племени, которое блуждало сорок лет, прежде нежели войти в обетованную землю. Старые вымерли, вошли новые. Ей двадцать три года, по паспорту и по лицу она молода. На самом деле ей очень много лет, ей столько лет, сколько всем этим книгам, анализам, раздвоениям и тоске. Она любит новый мир: это ее мир. Она любит товарищей: это ее люди. Но пусть никто не знает, что она прокаженная. Она будет делать свое дело, радоваться, смеяться, она будет, как все. Только одного у нее не будет: своих чувств, своего угла, своей судьбы — этого она недостойна.
Генька больше не приходил к ней. Она не знала, что с ним. Она старалась как можно меньше о нем думать. Днем это удавалось: днем она работала. Ночи были трудными: иногда она долго не могла уснуть; иногда она просыпалась и с надеждой глядела на часы: может быть уже утро, но часы показывали два или три. Она сидела на кровати, без сил, без воли, она говорила с Генькой, убеждала его стать радостным и простым, просила у него прощения за свое молчание, гладила его жесткие волосы. Потом наступало утро, зеленые глаза терялись среди формул и чертежей.
О чем думал Генька? Как он заполнял свои вечера? Говорил ли он с Верой в долгие, бессонные ночи? Этого никто не знал. Он попрежнему работал на заводе, но на лекции он больше не ходил. Вечером он сидел дома. Иногда товарищи его спрашивали: «Ты что, болен?» Он говорил: «Нет». В первые дни после разрыва с Верой он еще думал, что это удар, который скоро забудется; он еще связывал свое будущее с прошлым; он был еще прежним Генькой. Потом он понял: приключилось что то очень важное, и он притих. Жизнь скрылась внутрь, жизнь запутанная, поспешная и отчаянная. Генька долго боролся с собой. На улице была весна, мальчишки продавали сирень, парни вечером играли на гармошке и обнимали девушек. Потом наступили жаркие дни. Вечером, и то было душно. Генька выходил на улицу, но тотчас же возвращался назад: ему казалось, что все его отвлекает, а он должен теперь много думать. Он боялся с чем-то опоздать; мысли были неповоротливыми; начиная думать об одном, он вдруг сбивался, вставало прошлое — Леля, Даша, Архангельск. Один только раз он обмолвился простой и внятной фразой. Кудряшев сказал:
— Ночи-то какие короткие! Уснуть не успеешь, а вот и светло…
Тогда Генька вдруг радостно усмехнулся и сказал:
— У нас еще светлей. Такое ночью делается, ходят, гуляют, а небо розовое…
Он сказал это и сейчас же снова погрузился в свои мысли. Казалось, он мог, сидя так, придумать десять мостов, составить множество докладов, сочинить большую книгу. Но он только написал письмо Вере. Это было уже в июле, накануне его отъезда из Москвы. Он написал его сразу, ничего не исправляя и не зачеркивая, а увидав перед собой несколько страничек, исписанных сверху донизу, он вдруг почувствовал себя свободным и веселым. Он шутил с ребятами, он пошел к Москва реке купаться, он радовался всему: и крику детворы, и тем домам, которые успели вырасти, пока он сидел и думал, даже неистовому летнему солнцу. Другие жаловались: «Печет, сил нет», а он благодушно улыбался: «Это хорошо — насквозь пропекает…»
Вера получила письмо уже после его отъезда. Он носил его дня три, а в ящик опустил только на вокзале. Он писал:
«Дорогая моя Вера! Ты прости, что пишу. Знаю, у меня на это нет права. Но никак но могу справиться с этим желанием. Раньше думал — не буду писать, так и уеду, зачем это Веру растравлять? Но вот пишу — не могу не попрощаться. Я понимаю, что ты теперь мне не веришь и это письмо ты можешь принять тоже за ложь. Так я, значит, и не узнаю, поверила ты мне или нет? Когда я думаю: ты и я, мне даже странно. Такая ты большая и настоящая, дорога у тебя прямо-прямо идет, я не скажу — легкая, нет, очень трудная, другие давно бы свернули, но только прямая. А у меня вот оказались какие-то тропинки — блуждал я, блуждал. Кажется, теперь выбираюсь. Если смогу тебе написать, как чувствую, ты поймешь, что пишет тебе другой человек, не тот Генька, которого ты знала. Общего у него со старым Генькой одно: и Генька тот тебя любил и этот любит. Видишь — говорю не стесняясь. Хотя, конечно, о чувствах глупо говорить, это надо на деле доказать, а я как раз с тобой доказал обратное. Логически выходит, что я тебя и не любил. Но это не так, и, может быть, ты это поймешь, ты ведь столько книг читала, наверно где-нибудь такие случаи описаны. Понимаешь, я был с вывихом. Я не понимаю, как со мной люди разговаривали, не говоря уже о тебе? Таких надо на цепь сажать, вот что! Очень я бестолково пишу, постараюсь сейчас все рассказать по порядку. Когда я у тебя расплакался — помнишь, это во мне что-то заговорило. Я, конечно, не понял: думал — стыд какой, а все-таки с того дня я уже не мог успокоиться. Это ты меня, Вера, растравила. Так и шло неопределенно: хотелось сказать тебе всю правду, начать жить, как люди живут, работать, учиться, с ребятами по-новому встретиться. А вот мешало это проклятое самолюбие. Значит, удар был недостаточным. Моя любовь меня так и не вытащила. Потребовалось другое. Я много позднее понял, почему ты меня не прогнала. Я так думаю: каков человек, такова у него любовь; дело не в силе, но в человеческом достоинстве. Если ты страдала со мной, все-таки это не зря. Счастья ты не получила, а одного человека выручила. Слушай, Вера, я тебе никогда не рассказывал о моем детстве. Да и никому я об этом не говорил. При случае отвечал: „Происхождение пролетарское“. Собственно говоря, это не вполне так. То есть фактически это так, но все же и здесь дело с обманом. Отец у меня был метранпажем, он в Архангельске работал, он сам с Онеги. Так что на анкеты я мог отвечать не смущаясь. А психология у него была особенная. Зарабатывал он не плохо, но говорил: „Это все черный хлеб, а Генька пусть сдобу жрет“. Он мне говорил. что надо вперед пробиваться. Я, конечно, не особенно его слушался, но все-таки западало. В школе я на стенку лез, только чтобы быть первым. Был у нас мальчонок Соловьев, тихий такой, но здорово учился. Я страницы из его тетрадки выдирал, книжки его раз на помойку закинул — вот до чего доходил. И ни с кем я не водился. Только все о себе думал, как и потом. Мне говорили: „Ты способный“, а я думал: „Зачем хвалите? Я вас скоро всех забью!“ В пионерский отряд пошел не просто, а сразу прикинул: к там первым буду. Долго колебался: учиться или не учиться? Что значит, выгодней: спецом или по партийной линии? Решил сразу на все фронты. Но никогда я по-настоящему не учился. Я раз хотел тебе написать, это после того, как разревелся у тебя, и думаю: нельзя ей писать, она увидит, сколько у меня ошибок. Я даже не понимаю, как такой Щеглов или в Архангельске Кранц со мной разговаривали? Наверно, жалели меня, как ты. Ведь я такую ахинею нес. Стыдно теперь подумать. А комсомолец я был никакой. Коммунист должен товарищей любить — это уже самая простая вещь, без этого мы никакого социализма не построим. Я прочитал, что после смерти Ленина Крупская сказала: „Он народ любил“. Я раньше не понимал этих слов, а теперь, как вспомню — дух захватывает: понимаешь, до чего это просто и трудно, так трудно, не знаешь даже, как подступиться! Можно доклад хороший составить или еще что-нибудь, а здесь задача ясная: пока ты людей не любишь, ты и не товарищ, а так, сбоку припеку. Разве я когда нибудь над чужой жизнью задумывался? В голову мне это не приходило. Я так себе представлял: все чувствуют, как я, все хотят друг дружку перегнать, значит — при! Вроде как в трамвае. У нас в Архангельске был Мезенцев. Я о нем думал: дурак. А почему? Очень просто — он с людьми считался. Спросит ребят: как, что? От этого и чувства другие получаются, спайка, тогда ребят и не разнять. Почему у нас Магнитку построили? Разве в плане дело или в том, что были гении? Ничего подобного! Вместе шли — в этом вся разгадка. Если завтра нам воевать придется, такой Мезенцев впереди пойдет, и не один, с ним все ребята пойдут. Воевать — это не просто, это не руку поднять на собрании, здесь столько чувств нужно, что люди сразу или зверьми становятся, или на десять голов растут. А я вот Мезенцева ненавидел, хотел его потопить — развел историю с женой, будто она кулачка. Кулаком, между прочим, был я: моя изба — это они думают, а я — мое изобретение, мои писания, мое назначение. Я вот ни разу не заинтересовался, как ты все переживаешь. Ты сначала для меня была вроде как экзамен выдержать! То казалось важным, что ты ни с кем из парней не гуляешь, что у тебя культурный уровень выше и пр. Грязно это, но я ничего не хочу скрывать. Я только одно скажу, не в оправдание, но чтобы ты лучше поняла: я думал, что я хитрый, что у меня план, а оказался мальчишкой, дураком. Впрочем, об этом ты сама знаешь. В личной жизни — это второе крушение. Я тебе как-то сказал, что Лельку я не любил. Это, конечно, не так. Любил я ее очень. По другому, чем тебя. С тобой получилась драма, а там все легко далось, не будь моего характера, могли быть с ней счастливы. Не было у меня в этом никакого взлета, и я не жалел бы, что мы с ней расстались, если-бы не смерть Даши. Вот это у нас было настоящее. Мы тогда друг друга не понимали, но у меня, несмотря на всю амбицию, что то человеческое появилось. Только это была короткая вспышка, а потом все пошло на смарку. С тобой много крепче. Я пишу тебе сейчас совсем спокойно, каждое слово взвешиваю — достаточно я об этом думал. Трудно употреблять такие большие слова, как-то не подходит это к нам, но я все таки скажу, что тебя я полюбил совсем. Понимаешь? Больше такого не может быть в жизни — никакое сердце не выдержит. И вот я говорю это, расставаясь с тобой навсегда. Я хотел притти проститься, но считаю это подлостью: может быть, ты уже начала меня забывать, а здесь я все заново растревожу. Да и себе я не доверяю: вдруг увижу, и сил не будет, чтобы уйти? А уйти мне необходимо. Видишь ли, в таком состоянии, как я находился, я мог совершить любое преступление: убить кого-нибудь или деньги растратить, или со злости поломать машину. Это мне просто повезло, что я ничего такого не выкинул. Суду судить меня не за что, но я то про себя все знаю. Я ищу не наказания, а выхода. Я решил поставить себя в самые жесткие условия. Здесь, в Москве, слишком много людей, все тебя отвлекает, получается часто какое-то мелькание. Поэтому я и придумал, что уеду туда, где людей мало, и постараюсь перестроиться, так в газетах пишут о таких, как я — они каналы роют, ну а я другое буду делать и не по приговору, это, собственно говоря, неважно. Людей кругом будет мало, и я постараюсь подойти к ним, забыть о себе, стать настоящим, честным коммунистом. Просижу год зимовщиком, чтобы нельзя было раньше вернуться и чтобы писем не получать, может быть удастся вернуться другим человеком. Только ты лично обо мне забудь. У тебя должна быть совсем другая жизнь и счастье другое. Хоть ты много пережила, но сердце у тебя, по сравнению со мной, какое-то неисписанное — ты еще можешь столько пережить нового и замечательного! А если ты была способна даже меня настолько полюбить, какая ты будешь необыкновенная, когда встретишь настоящего человека! Я тебе этого желаю, и это не формула приличия, не те фразы, которые старый Генька произносил к случаю, чтобы показаться умней, это, Вера, от всего сердца. И раз я дошел до этого, то позволь мне в мыслях в последний раз поцеловать тебя — вот так, чтобы выразить все-все, чего не сумел сказать. Когда вернусь, может быть зайду к тебе, чтобы показать, что не зря ты со мной мучилась. Но не думай, что если я встречу другого, то буду ревновать или расстроюсь. Я к этому уже себя подготовил и прощаюсь я с тобой всерьез. Я не знаю даже, как ты сдала все экзамены? Что решила — ехать на Урал, как, хотела, или в Москве останешься? Я спрашиваю, но не жду ответа — просто я сказал „позволь поцеловать“ и почувствовал, что ты рядом, вот и говорю. Ну, надо кончать — не знаю, как ты будешь это читать, очень плохо пишу, лампа далеко и рука устала. Через четыре дня я уезжаю в Архангельск, а оттуда дальше, на остров Вайгач — в управлении Северного морского пути меня взяли помощником радиста; радист я плохой, зато механик, а там это пригодится. Значит, другая жизнь начинается. После этого не знаю, что и сказать, только обнять тебя хочется, Вера, и спасибо тебе за все, за все. Твой Генька».
Вера прочитала это письмо два раза подряд она хмурила брови от напряжения, а пальцы стали сразу холодными. Она не услышала, как постучали в дверь — это Киселев принес книгу. Увидев Веру, он молча, на цыпочках вышел из комнаты. Когда Вера, перечитывая письмо, дошла до слов «позволь поцеловать тебя», из ее глаз хлынули слезы. Она долго плакала над этими листочками, вырванными из тетрадки, и ей казалось, что она никогда не перестанет плакать. Ее слезы были горестными и в то же время не только легкими, веселыми, как тот внезапный ливень, который сваливается на город в душную июльскую ночь.
Несколько дней спустя она сказала Николадзе:
— Слушай, ты меня насчет комсомола спрашивал. Я теперь в Свердловск еду. Но дело не в этом, а понимаешь — если у ребят нет возражений, я хочу войти в комсомол. Чтобы совсем вплотную… Понимаешь?
10
Когда Лясс выступал в клубе комсомольцев с докладом о продвижении пшеницы на север, он не думал, что вскоре ему придется искать у этих людей защиты. Давно миновало то время, когда белые рыскали по окрестным лесам. Если порой где-нибудь в овражке находили человека с размозженной головой — селькора, убитого кулаками, или комсомольца с которым хулиганы свели свои счеты, — пятнышко крови казалось загадочным и непонятным среди вспаханных полей и мирных стад. Борьба однако продолжалась; она ушла теперь в глубь: в лесные заросли, в шахты, в цеха, в папки с бумагами.
Голубев хватался за голову:
— Где же они запань поставили? Кто это место выбрал? Вся древесина ушла…
Вернувшись из Устюга, Мезенцев рассказывал секретарю крайкома:
— Черти, сплавщиков тухлой рыбой кормят! Ясное дело, люди разбегаются. А им хоть бы что…
На бельковской запани Орлов с трудом раздобыл одеяла для рабочих. Сабанеев украдкой пощупал одеяло и начал истошно вопить:
— Сколько они нас мучать будут? Пашку-то придавило. А кому охота умирать? Не хотим мы больше мытариться — это не лагерь, мы тебе не воры! А одеяла, ребята, забирай — нечего им здесь валяться! До весны сгниют. Оплатили мы их нашей кровушкой.
Варя крикнула:
— Индивидуал ты проклятый! Не смеешь ты этого говорить! Не твои одеяла, народные…
Сплавщики молчали: они не знали, кто прав. Одеяла они все же унесли.
Инженер Щербовский говорил Минаеву:
— Конечно, профиль дороги никуда не годится. Но зачем мне кровь себе портить? У них все липовое — сойдет и так…
Лясс сказал комсомольцам: «Мы и природу меняем», а в старых деревянных домишках люди осторожно дули на блюдечко и торжественно потели. Они хотели новый мир взять измором, хищный орел стал синевой и червоточиной, гнилым ремнем, несмазанными частями машины, шведской мухой или стеблевой блохой.
Лясс привел пшеницу на север. Он думал, что это победа. Но на севере было не мало людей, обиженных жизнью, тупых или суеверных. Пшеница была для них непрошенной гостьей, выдвиженкой, большевистской выдумкой, и они возненавидели пшеницу, как они ненавидели трактор, электрическую лампочку и слово «товарищ».
Они пробовали смеяться: «На Кубани, видать, пшеница больше не растет». «Скоро заместо коров верблюдов разводить прикажут». Они доказывали, что пшеница — это баловство: как сеяли рожь, так и будем сеять. «С калача личико пухлое, да дряблое, а со ржи красное, дубленое, ничего не боится». В колхозе «Красный май» кривой Аршинин вопил:
— Тесть мой посеял пшеницу, а через три года у него пшеница в рожь обратилась. Потому — такая земля. Зачем же нам зря стараться?..
В колхозе «Комбайн» председатель Силкин смешал селекционные семена с местными. В колхозе «Сознание» агроном Ивашев при протравливании понизил всхожесть чересчур концентрированным раствором формалина. Потом тот же Ивашев говорил:
— Здесь пшенице не расти! Это все городские придумывают…
Завьялов писал в журнале, посвященном агрикультуре: «О продвижении пшеницы на север могут говорить только маниаки или преступники». Профессор Пищаков утверждал, что глубина вспашки не оказывает никакого влияния на урожай пшеницы: надо вспахивать не глубже, чем на восемь сантиметров. Перечитав свою статью, Пищаков улыбнулся и сказал жене:
— В общем надоело…
Профессор Орлов высмеивал работы Лясса. Он говорил, что яровизация пшеницы — выдумка недоучки: она противоречит здравому смыслу.
Лясс был ученым, а не политиком. Сокращение вегетационного периода растений казалось ему теорией, способной изменить облик земли. Больше всего на свете он любил свои опыты. Но как только дошли до него первые вести о походе на пшеницу, он бросил все: он принял бой.
Он никак не походил на классического «ученого» — все в жизни его интересовало. Как-то в Архангельск приехал московский поэт. Поэт зашел к знаменитому ботанику, наговорил ему комплиментов, а потом преподнес книжку своих стихов:
— Это последняя, может быть, вы еще не читали…
Лясс смутился: чорт возьми, вот какой он неуч! Поэт, наверно, знаменитый, а Лясс даже имени его не слыхал. Что он понимает в стихах? Стыдно сказать, но он до сих пор Пушкина почитывает… До этих так и не дошел. Времени мало. А надо бы приналечь… Он раскрыл книжку, и смущение его возросло: строчки были все разной длины, а он думал, что стихи теперь, как прежде: строчки ровные… Он хотел прочесть какое-нибудь стихотворение, но раздумал: не пойму, а он еще спросит: «Ну, как?..» Лясс сказал:
— Печатают у нас плохо. Вот поглядите — читать трудно. А если глаза слабые или колхозник какой — не привык читать, он и совсем не разберет. Почему это? Краска, что ли, плохая, или пригнать не умеют?
Поэт улыбнулся:
— Право не знаю. Я, по правде сказать, и не был никогда в типографии.
Здесь Лясс оживился. Он дружески обнял поэта:
— Чудак вы! Вот такие только поэты бывают. Вам что же — не интересно? А вот пиши я стихи, я бы и набирать научился. Чтобы за всем присмотреть. Книжка то не сразу выходит. Написали, подчистили там, а потом — ведь это чертовски интересно, как на линотипе стучат, приправляют, машины разные… Все-таки — ваше это дело или не ваше?..
Швецов сказал Ляссу:
— Слушай, Иван Никитыч, по-моему ты должен ответить Орлову. Он тебя каким-то сумасшедшим изобразил. Пошли статью в Москву.
Лясс с удивлением посмотрел на Швецова:
— Это ты еще что придумал? Может быть, и Пищакову отвечать? Этак в строго научном стиле объяснить, что пшеница не любит сорняков? Здесь, брат, не в науке дело. Результаты налицо — тридцать центнеров с гектара. Так что и спорить не о чем. Здесь нужно другое…
Несколько дней спустя Лясс выступил на конференции комсомольцев. Он теперь не рассказывал ни о своем отце, ни о реках, которые меняют русло. Он начал прямо с дела:
— Ребята, я вот что предлагаю: комсомол берет шефство над пшеницей.
На конференции были Мезенцев, бывшая жена Геньки — Леля Татаева, Васильев, Яковлев, Мишка Шоломов, Варя, словом все те, что работают на лесопилках, осушают болота и на запанях стерегут драгоценную древесину. Не мало было и приезжих из колхозов. После речи Лясса составили программу: перевыполнить план засева, бороться с агитацией кулаков, самим следить и за вспашкой и за прополкой. Шоломов в конце попросил слово:
— Забыли мы про парикмахеров. Надо создать таких объездчиков, чтобы они хватали парикмахеров.
Лясс глаза на него выпучил:
— Это я что-то не понимаю. Какие такие парикмахеры?
— Очень просто, что кулацкие — стригут колосья, а потом мутят, что собрали мало.
Борьба длилась долго. Лясс ездил по селам. Он показывал, как запахивать, как пропускать через триеры. Он смешил баб — такое скажет, что все прыснут. Раскурив свою короткую трубочку, он заводил с бородатыми колхозниками длинные разговоры о жизни. Он даже поспевал с ребятами поиграть. Когда он приезжал в село, большой, шумный, колхозники глядели на него с опаской: «Этот чорт у них главный». А потом и отпускать не хотели: «Лошадей нет. Поживи еще денек». Кроме прочих даров был у него один редчайший: он безошибочно находил дорогу к человеческому сердцу.
Он подобрал десяток комсомольцев. Через месяц они уже разбирались и в сортах семян, и в слухах, которые ползли из деревни в деревню. Они подняли на ноги весь комсомол. Лясс не был одинок в своей борьбе за пшеницу: бок о бок с ним билась молодость. И Лясс выиграл у битву. В крайкоме ему показали цифры, пшеницы было посеяно на шестьдесят восемь процентов больше, нежели в предыдущем году. Лясс выслушал поздравления секретаря и хмыкнул:
— Так…
Улыбнулся он потом — шагая домой.
Что сегодня делается в маленьком деревянном домике! Урс лает. Мушка подпрыгивает: ей хочется обязательно лизнуть Лясса в нос. А Лясс стоит посреди комнаты и приговаривает:
— На шестьдесят восемь… Ясно? А в будущем году будет на…
Он хмурит лоб и смотрит на Байбака. Может быть он принимает Байбака не только за поэта, но и за математика? Нечего скрывать: с цифрами Лясс не в ладах. Он долго множит шестьдесят восемь на два. Потом он обращается к Пропсу — Пропс смотрит на мир грустно и недоверчиво, как подобает старому псу. Иван Никитыч говорит:
— Слушай ты, скептик, нечего меня презирать. В будущем году будет на сто тридцать шесть процентов выше… Тьфу, высчитал!
Васильев теперь работал на заготовках, Варя на фанерной фабрике, Шоломова послали в Ухту. Только Лелька попрежнему частенько заглядывала к Ляссу. Можно сказать, что она заняла место Лидии Николаевны. Леля пришла к нему вскоре после своей ночной встречи с Генькой. Она жила еще прошлым. Ночью она тихонько плакала, вспоминая Дашу. Нюта взяла с нее слово, что она не будет больше думать о Геньке. Но минутами Леле казалось, что она любит Геньку попрежнему. Она взялась за работу в комсомоле; она вспомнила Котлас: так она жила до встречи с Генькой. Работа и товарищи помогали ей забыть горе. Но все же она еще не могла радоваться. Печаль теперь стала безотчетным состоянием, воздухом, тембром голоса, серым деньком без дождя и без солнца.
К Ляссу она пришла за инструкциями: ее посылали в Верхне Тотемский район. Лясс рассказал, как надо поставить дело с прополкой.
— Ты их поджучивай!..
Потом он посмотрел на Лелю и спросил:
— Ты что скучная такая? Случилось что?
Леля хотела улыбнуться, но это не вышло. Она сказала:
— Нет, ничего не случилось. Только и веселой быть не с чего.
— Как это не с чего? А что челюскинцев спасли — это не в счет? Я вот вчера прочел и не вытерпел, Ксюшу позвал, ей все прочитал и еще захотелось в третий раз, только никого не было — пришлось собакам почитать, благо там ихняя братья тоже поработала. А ты говоришь — радоваться не с чего! А что весна такая — это что, между прочим? А что ты едешь человечество просвещать — это что, каждый день случается? Ты вот подумай — такая, как ты — лет пятьдесят назад — ну куда бы тебя послали? Гусей бы ты сторожила. Или — это уже с высшим образованием — вышивала бы на… Забыл, чорт, как их зовут!… Вроде пяльцев… А теперь ты десять колхозов перевернешь. Сколько тебе лет? Двадцать три? Девчонка! Так и не улыбнешься? Скажите, какой меланхолик! Посмотри на меня.
Лясс хотел показать, какое у Лели грустное личико. Он сморщил лоб, а губы выпятил. Но какая же это Леля, это старый пес. А здесь еще он схватился за щеку и зарычал:
— Ух ты побриться надо!.
Пропс посмотрел на него и залаял: то, что Лясс не походил на самого себя, показалось Пропсу оскорбительным: он был старым, серьезным псом и не понимал таких шуток. Ну, а раз Пропс залаял, надо ли говорить о том, что и другие псы подхватили. Такой лай раздался, что Иван Никитыч заткнул уши и сам начал вопить, своим басом покрывая всех четырех собак:
— Да замолчите вы, черти! Товарищу, может быть, и не до вас.
Тогда «товарищ» не выдержал: впервые за долгое время Лелька расхохоталась.
— Ну и смешной вы!..
Лясс почему-то громко вздохнул:
— Ты уж мне, пожалуйста, тыкай: на условиях взаимного обмена. А то с вашим братом нехорошо получается: я им «ты», они мне «вы», вот и начинаю о своих годах подумывать. Мне ведь по бумагам не то сорок три, не то сорок четыре. Только бумаги — это еще дело десятое. А мы с Урсом ровесники — ему второй год пошел собака в ум входит…
Так они подружились. Лелька заходила на станцию или в домик, где жил Лясс, глядела на ботаника, слушала его громовой голос и как-то наполнялась жизнью. Лясс смотрел на семена, прищурив один глаз и что-то мурлыча. Иногда на его лице показывалась улыбка, такая нежная, что в первое время Лелька краснела: на кого это он смотрит?.. Но Лясс смотрел на ячмень. Ел он с таким смаком, что собаки роняли слюну. Он мог жевать ломоть хлеба восторженно, как самое изысканное блюдо. Урс, не выдержав, тявкал, Лясс кидал ему кусок, Урс обнюхивал хлеб и, опустив хвост, шел прочь. В эту минуту они не понимали друг друга: Иван Никитыч не знал, что Урс уже поел у Ксюши мясных щей, а Урс никак не мог себе представить, почему Лясс вкусно причмокивает, глотая сухой, скучный хлеб. Иногда Лясс читал книгу — это было тоже бурно и неожиданно. Он раз встретил Лельку криком:
— Стой, ты Стендаля читала?
На беду оказалось, что Леля не читала Стендаля. А Лясс шумел:
— Понимаешь, какая-то ерунда выходит: влюблен как будто и нет, главное — ему чтобы в окошко влезть. Ломака такой, что противно. Я уж его за всех его баб ругал. А интересно, Лелька! Я тебе признаюсь — всю ночь читал. Беда! Теперь, как увидишь у меня роман, тащи к себе, а то некогда — я ведь должен эту историю с прикрытием яблонь заново проверить..
Лелька смотрела на него и смеялась. Кто бы прежде подумал, что Лелька веселая? Генька говорил: «Она на кого хочешь тоску наведет — плакса…» А вот теперь Ксюша не зовет Лелю иначе как «хохотушей». Она докладывает Ивану Никитычу: «Опять эта хохотуша заходила. И с чего она такая веселая?..»
Ксюша долго вздыхала по Лидии Николаевне. Теперь она начала присматриваться к Леле: может, Иван Никитыч на этой женится? Нельзя ему одному. Вот переведут Ксюшу на другое место, кто за ним ухаживать будет? Человек немолодой, знаменитый, из Москвы ездят, а присмотреть и некому… Хохотуша-то на него заглядывается. Только больно молода. Актерка была посерьезней. А эта лишь бы прыснуть в кулачек.
О чем разговаривали Иван Никитыч с Лелькой? О разном: об американских заповедниках, о комсомольцах, о царской России, о кулаках, даже о дрессировке тюленей. Никогда они не говорили о себе. Лясс знал, что у Лели умерла дочка, и он ее не расспрашивал о прошлом. Да Леле теперь и не хотелось об этом вспоминать: она жила другой жизнью. Иногда Лясс упоминал о своей бурной молодости, но говорил он при этом не о себе, а о встречах с людьми или о диковинных странах. Лелька знала, что он исколесил весь свет и что у него было много разных профессий. Вот и все. Нет, конечно, не все. Она знала о нем сотни различных вещей: как он пришивает пуговицу, как он выезжает с Мушкой в экспедицию, как он вдруг начинает ругаться по-английски, чтобы никто не понял, как он слушает, когда ему рассказывают что нибудь интересное, и наклоняет голову вбок, точь-в-точь как его собаки. Леля знала о нем больше, чем он мог бы ей сам рассказать, и она к нему привязалась. Он казался ей не человеком, но добрым чудовищем, нето огромным ребенком, нето гением — она часто думала: наверно, поэты такие… Ей повезло — она встретилась с человеком, который всех понимает и который ни на кого не похож.
Как-то Ксюша сказала Лельке:
— Я думаю — поженитесь. Ты не хохочи — это тебе не шутки шутить! Погляди, как он на тебя смотрит…
Лелька продолжала смеяться:
— Ну и глупости ты говоришь, Ксюша… Да разве я ему пара — я ведь девчонка. Его в Москве знают. Ты понимаешь, с кем он там говорил!. О нем весь мир знает… А ты говоришь — он на меня глядит. Он на всех так глядит. Очень у него глаза ласковые. Я тоже прежде думала, что он это с выражением смотрит. А он и на картошку так глядит. Он, Ксюша, о своем думает: мысли у него большие. А ты вдруг говоришь «поженитесь» — смешно!..
Лелька не могла знать, что накануне Лясс просидел весь вечер, грустно перебирая какие-то цифры: ему сорок три, нет, уже сорок четыре. Значит, двадцать один год разницы. У него могла быть такая дочь. Очень просто! Вот женился бы в двадцать лет. Сколько ему теперь: сорок три или сорок четыре? Год рождения — 1891. Сорок три. Скоро сорок четыре. Нет, нечего думать!.. Как это он за собой не присмотрел? Глядит на нее, и подступает… Значит, он и вправду старик: в книгах пишут, что старикам нравятся молоденькие. Надо выкинуть это из головы. Дурь-то какая! Хоть бы Мушка его пристыдила. Жил, жил и вот, извольте, на старости лет влюбился в «хохотушку».
Проснулся Лясс с мыслями об ячмене, и когда он припомнил ночную тревогу, ему стало смешно: чего только не померещится человеку! Но днем он снова подумал о Лельке и перепугался: «Вот сижу и думаю — придет она или не придет? Что это за наваждение! Может, уехать? Или Сказать: „Слушай. Лелька, ты теперь не приходи — у меня работы много“».
Лясс долго не мог разобраться, что с ним происходит. Разговаривая с Лелей, он теперь старался не глядеть на нее, да и говорил он куда меньше прежнего. Только всякий раз, когда Леля собиралась уходить, он вдруг оживлялся и ворчал: «Ты завтра обязательно загляни — может быть, на станции что-нибудь интересное будет…»
Он сидит и разговаривает сам с собой. Нечего валять дурака — влюбился! Как с Мери. Только тогда это не было так смешно. Сколько мне тогда было? Двадцать пять или двадцать шесть. Молодой. А тоже ерунда вышла. Мери говорила: «Вы замечательный человек». Но понравился ей Доран. А теперь и совсем смешно. Кому я могу понравиться? Женщины смеяться должны. Мушка, ты чего это надо мной не смеешься? Юмора у тебя мало. Но стой, как это все вышло? Все равно теперь ничего не поделаешь… А чем чорт не шутит — вдруг?.. Может, сказать?.. Вот актриса как будто его жаловала. Но актрисы, они особенные: им не люди нравятся — персонажи. Лидия Николаевна, наверно, и меня видела по-своему: этакий герой трагикомедии «Пшеница и коварство». Смешно! Лелька, она простая, она все так видит, как есть. Веселая…
Иван Никитыч уныло вздыхает. Притихли собаки. За окном белая ночь — снова, как тогда… Лидия Николаевна стояла у окошка. Вот с пшеницей у него вышло, а с жизнью нет… Может быть, сказать Лельке? Нет, нельзя — она рассмеется. И действительно, как здесь не рассмеяться: старый ботаник влюбился в комсомолку!..
Свет не дает ни уснуть, ни позабыться. С улицы доносятся веселые голоса: это молодые гуляют. Лясс сидит и думает: что же такое старость? Он изменил срок созревания растений. Он учитывал годы, месяцы, даже дни. А о себе он не подумал. Старость подошла незаметно. Еще недавно он повсюду оказывался самым молодым. В Архангельске — на первых заседаниях о той же пшенице. Сколько ему тогда было?.. Тридцать один. Кругом сидели почтенные… А теперь он всегда самый старший. Место уступают. Нехорошо! Может быть все дело в цифре? Может быть, он вовсе и не состарился? Иван Никитыч подходит к зеркалу: седая щетина, под глазами большие мешки, да и глаза стали мягкие, вроде как у Пропса. Конечно, он еще поработает! Но вот, когда они ездили в Нюксеницу, Лясс взбежал наверх и вдруг как схватился за сердце: не может он больше бегать в гору. Там какой-то человек сказал: «Вы бы себя поберегли»… Ну да, это все понимают: сорок четыре — это не двадцать два. А он вот разлетелся — Лельке предложение делать, не угодно ли!..
Однако ирония не помогала. Лелька твердо вошла в жизнь Ивана Никитыча. Он уже знал, что это всерьез. Мало-помалу он начал уступать себе. Он только изредка цедил сквозь зубы: «Ну и глупо!» Наконец он решил рассказать Лельке про все. Пусть посмеется — может быть, хоть это его излечит. А вдруг?.. Иван Никитыч никогда не договаривал себе, что может быть «вдруг», он только начинал бессмысленно улыбаться.
Но как ей сказать? Ведь она сразу рассмеется… Лучше начать издалека… Лясс обрадовался, придумав фразу: «Как ты думаешь, большая это разница, если, скажем, двадцать три года и сорок три или сорок четыре?» Он начнет с этого.
Лелька два дня не приходила, а когда она пришла, Лясс так ей обрадовался, что Лелька спросила:
— Что это ты сегодня такой веселый?
Он рассердился на себя и начал кричать, что Лелька не слушает, когда он что нибудь рассказывает, что опыты с искусственным климатом… Он говорил-говорил, а потом вдруг рассмеялся. Никакого серьезного разговора не вышло.
На следующий день Лясс совсем было решил: «Сегодня скажу». Но в последнюю минуту он растерялся и объявил, что едет на станцию. Он работал до двух ночи. Когда он пришел домой, у него сильно разболелась голова. Лясс никогда не хворал, и когда ночью у него сделался жар, он решил: «Это я умираю». Он заставил себя подняться, привел в порядок все счета о подотчетных деньгах, написал Иголкину, чтобы тот послал семена ячменя в Москву, и снова лег. Повернувшись лицом к стенке, он стал ждать, когда же все кончится. В ушах стоял гул, а голова как будто разрывалась. Он впервые осмелился подумать о Леле просто, не смеясь над собой и не ругая себя. Он даже представил себе, что она сидит рядом. Он приподнялся, чтобы обнять ее, и сейчас же упал на подушки. Потом он ничего не помнил. Он проснулся от тихого тявкания Мушки. Он посмотрел и улыбнулся: все четыре собаки сидели смирно, не сводя глаз с Лясса: они ждали, когда он проснется. Сколько же времени? Он поглядел на часы. Что такое?.. Нет, идут… Часы показывали двенадцать. Тогда он вспомнил ночь: что-то с ним было неладное. Он должен был утром зайти в крайком… Как это глупо вышло! Надо поскорее встать! Он поднялся, но стоять он не смог — ноги как будто уходили. Пришлось снова лечь. Вскоре заглянула Ксюша; она перепугалась и побежала за врачом. Врач выслушал Ивана Никитыча:
— Ничего серьезного… Обыкновенный грипп. Сердце у вас немного того… Вам сколько лет?.. Ну, это все пустяки. Так то вы крепкий. Надо отдохнуть. Я вот вам капли пропишу…
Когда он ушел, Иван Никитыч подумал: грипп, кажется, у всех бывает. Но почему он меня о годах спрашивал? Неужели это начало конца? Сколько надо еще сделать! Да и жизнь теперь такая — трудно оторваться. Вот день провалялся, и то кажется — что то пропустил… А умирать и совсем глупо. Лелька еще… Но, может, это пройдет? Он капли выпьет… Отдыхать? Ну пролежит до завтра, отдохнет…
Пришла Ксюша:
— Доктор-то что сказал?
Лясс рассмеялся:
— Сказал — такие до ста лет живут, да и то потом их травить приходится. Ерунда у меня — грипп. Еще про сердце что-то говорил… Шут его разберет! Вот у дерева бывает такая болезнь — двойное сердце. Это значит — внутри две сердцевинные трубки, понимаешь? Может, и у меня так — слишком я уже распространился, надо и честь знать…
На следующий день он работал как всегда. Он больше не думал ни о двойном сердце, ни о каплях. Вечером ждал Лелю, но Леля не пришла. Он теперь твердо решил: как только она придет, он сразу ее спросит. Леля не приходила всю неделю. Наконец-то — это было утром в выходной — он услышал ее голос. Он вздрогнул и, как школьник, повторил: «Сорок четыре и двадцать три».
Леля пришла с каким-то парнем. Лясс нахмурился: значит, снова не удастся поговорить! Он спросил:
— Это что товарищ — по делу?
Леля покраснела. Иван Никитыч невольно подумал: «Красивая она!..»
— Это Васька Ляшков. Я тебе о нем еще не говорила. Он давно хочет с тобой познакомиться. Только стеснялся. Я его уговорила. Ты не сердишься?..
Лясс улыбнулся:
— Чего же здесь сердиться? Ну, значит, будем знакомы. Это вот Урс. Тоже молодняк…
Лясс увидел, как Лелька смотрит на Ляшкова, и он сразу все понял. Вот и спрашивать не пришлось, жизнь сама ответила: сорок четыре — не двадцать три. В арифметике он слаб, а насчет старости — это он должен был знать. Так и дерево высыхает. А если у дерева два сердца, то ему и лет вдвое больше — две системы годовых колец…
Он побоялся, что сам загрустит, да и на Лелю тоску ногонит.
— Мне сегодня в Холмогоры надо — насчет ячменя. Давайте вместе поедем. У меня катерок — в дороге и поговорим.
Лелька и Ляшков не переставали улыбаться: как повезло им! Не только Лясс не рассердился, но вот еще с собой взял. Лелька играла с Мушкой — Мушка в качестве личного секретаря, разумеется, сопровождала ботаника. Лясс сначала рассказывал об опытах освоения иного климата. Верблюды из Таджикистана прекрасно выносят здешние холода. Так и со многими растениями. Он устроил лаборатории с искусственным климатом…Ляшков слушал Лясса восторженно, чуть приоткрыв рот и часто моргая. Это был белобрысый веселый паренек с веснушками и с бледноголубыми глазами.
Потом Лясс вскарабкался на крышу катера. Он сел, свесив вниз ноги. Он глядел на воду. Оглянувшись, он увидел Лельку. Ветер трепал ее волосы. Одной рукой она все хваталась за волосы, точно старалась их удержать, а другую она положила на руку Ляшкова. Лясс снова глядел на воду. Подошла Мушка и осторожно лизнула его руку. Он вздрогнул и пробурчал:
— Дура ты… Нет, это я так… Ты у меня умница… А вот я дурак. Старый дурак…
Он думает о Лельке, о старости, об одиночестве. Как будто шумно было в доме — гости, пили много, танцовал, а потом все ушли, и сразу стало ясно, что и дом пустой и хозяин стар, и конец не за горами. Внизу сереет вода. Ветер доносит брызги.
Они ехали долго, и Лясс мог вволю погрустить. Никто об этом не знал: его грусть была глубокой и тихой. Потом он вдруг чихнул, вынул платок, громко высморкался и слез вниз. Он улыбнулся Ляшкову и Лельке.
— Холодно там — расчихался. Ну что, товарищ Ляшков, можно сказать — повезло тебе. Лелька-то у нас особенная…
В Холмогорах это был тот веселый и шумный Лясс, которого Лелька хорошо знала. Старик Смирнов, выслушав Лясса, сказал:
— Ну и человек! Он об ячмене говорит, будто это золото. Даже поглядеть захотелось, какой такой его ячмень…
В совхозе он осматривал коров. Оказалось, что он и в коровах разбирается.
— У такой должно быть жиров — три запятая восемь. Порода замечательная! Только колхозники за ними ходить не умеют. Датчан бы сюда…
На обрыве возле реки Лясс показал Лельке блестки:
— Слюда. Это не здешняя: здесь грузили. На экспорт. Лет четыреста назад. Теперь-то здесь тихо, а тогда такое делалось! Слюду нашу очень ценили: «московское стекло». Вот тебе и выходит, что не вчера жизнь началась. Только разве они думали, какие мы здесь дела развернем! Прежде ходу не было. А теперь — выдумал, и валяй. Ну а мужики были умные. Вот мы на тот берег переедем, я вам пруд Ломоносова покажу. Очень я его уважаю: все успевал. Науки развел, сам строил, стихи писал. Я-то в стихах ничего не понимаю, но иногда вспомнишь — кажется, ерунда, в гимназии зубрили, а нет — за сердце хватает. Вот вы послушайте: «И воздух огустить прозрачный, и молнию в дожде родить». Глупо, а как это замечательно сказано!
Потом они пили молоко в правлении колхоза. Ляшков и Лелька засыпали от усталости, но Лясс потащил их гулять. Он довел их до какого-то ручья.
— Я здесь в позапрошлом году месяц просидел. Мне тогда говорили: «Здесь скотина пить любит». И очень просто — соль здесь. Я говорил нашим геологам. Обидно — почему это у человека только две руки? Кто Лясс? Ботаник и точка. Я вот недавно подумал: у дерева два сердца бывает — это болезнь. А если бы нам по сто сердец, чтобы все успеть! Здесь и железо найдется. На Ровдинской горе. Я давно спрашивал Зыкова: «Почему гора Ровдинская — это по-фински железом пахнет?» Я по Карелии лето проходил, немного подучился языку. Так и оказалось — железо. Магнитки, пожалуй, у нас не выйдет, а все-таки эти Холмогоры мы еще здорово растрясем…
Ляшков не выдержал и спросил:
— Как это вы все знаете?
Лясс рассмеялся:
— И ничего я не знаю. Учиться мне надо, а нет времени. Вот построим мы этот социализм, расчистим у человека нутро, а тогда и за время возьмемся. Раз жизнь хорошая, нечего человеку умирать. Говорят: все дело в годах. А выходит наоборот… Вы что это примолкли? Лелька, а Лелька? Ты то чего пригорюнилась? Тебе грустить не полагается. Кажется, у вас жизнь так вытанцовывается, что я сейчас от радости как возьму, да как зареву…
Лелька сказала:
— Вовсе мы не грустные. Я не знаю, как Васька, но, по-моему, и он заморился. Только он не скажет — гордый. А я прямо на ногах не стою…
Тогда Лясс сконфузился, подостлал свое пальто и сказал:
— Садитесь, будем отдыхать. Дурак я — не подумал!.. Как будто это я похвастать хотел, что молод еще. Даже неприлично. Вот доктор говорит: «Сердце, сердце…» А может быть и вся история в том, что сердце у меня двойное?
11
Час ночи — улицы Москвы опустели. Повалил снег, пушистый и крупный. Он рассеянно кружится, точно раздумывая, присесть ли ему на шапки редких прохожих, или улететь снова вверх. Закончены представления в театрах: спящая красавица уже проснулась, дама с камелиями уже умерла. В шашлычной два подвыпивших гражданина еще уныло спорят о том, что такое жизнь и как обернется дело с Надей: угробит она Васютку или наоборот, он ее угробит. А снег резвится и кружится. Еще во многих окнах видны огни: среди снега они кажутся золотыми и горячими. Что делают люди в этот поздний час? Изучают гиперболические функции? Чертят планы городов, которые завтра вырастут где-нибудь в Малоземельной тундре? Читают о пути ледокола «Литке»? Пишут стихи? Или, может быть, шепчут слова, золотые и горячие? Москве не спится: ее сердце бьется за всех, и среди снежных равнин полыхают ее взволнованные огни. Кажется, она молчит, тихо на улицах, снег глушит шаги, никто не поет, не куралесит. Но где-то далеко и от театров и от шашлычных люди сейчас жадно ловят ухом каждый мельчайший звук. Ночь гудит; этот гуд ничего не выражает: так говорит время, когда человек падает без чувств. Люди знают, что скоро четкий голос вмешается в гуд: это будет голос Москвы.
Стены, обитые материей. Яркий свет. Стулья расставлены рядами. Может быть, это концертный зал? Но нет, никто не играет. В комнате так тихо, что слышно чье-то ровное дыхание: это девочка лет восьми уснула, положив голову на колени матери. У людей усталые лица. Они похожи на путешественников, которые ждут поезда. С ними много ребят; ребята трут глаза, ерзают, то приподнимаются, то снова садятся: они борются со сном.
У микрофона стоит человек. Он говорит отчетливо, равнодушно, его голос кажется нечеловеческим: так можно говорить только с потомками или с тенями.
— Говорит Москва. Начинается перекличка родственников с зимовщиками. Радиостанция Мыс Желания. С доктором Шпильманом будет говорить его мать гражданка Шпильман.
К микрофону подходит старая женщина. Она комкает в руке платок. Шляпа слезла набок.
— Сережа!..
Видно, как она борется с собой: глаза у нее мокрые, но она старается говорить спокойно. Она держит листок: все написано заранее, чтобы не забыть. Но она не читает. Она кричит:
— Сережа, все здоровы. Папа тоже хотел приехать, но я его не пустила У нас тепло. Я не знаю, как ты там. Мерзнешь? Сережа, Люба вышла замуж за Тупина. Он теперь работает на Электрозаводе. Они ищут комнату. Я боюсь, что ты меня плохо слышишь. Мы тебя ждем летом. Шрамченко просил тебе сказать, что он написал работу о борьбе с рыбным ленточником. Я записала, так что это точно, Сережа, будь здоров, береги себя — я тебя умоляю!..
Она отходит от микрофона, и теперь слезы катятся во-всю. Она шепчет какой-то чужой женщине:
— Забыла сказать, что у Ани девочка родилась!..
Работница Шарикоподшипника Маша Котелина говорит с мужем: он радист на Маточкином Шаре. Она бодро читает по бумажке:
— На заводе у нас много новостей. Построили столовку на пятнадцать тысяч обедов. Сейчас на очереди вопрос о бане. Я работаю, как и прежде, в сборочном. Хожу на вечерние курсы. Я хочу еще сказать, что я очень горжусь твоей работой. У меня висит карта, где видно, как далеко этот Маточкин Шар. Петька здоров, он в пионерах. Он сейчас будет говорить с тобой.
Петька кричит:
— Ты меня слышишь? Мне сказали, что ты меня будешь слышать, а я ничего не буду слышать. Папа, привези мне белого медвежонка. А если нельзя возить, так ты его сними и привези фотографию.
Потом говорит молодая женщина: она приехала из Полтавы. Ее муж находится на Медвежьем острове. Потом инженер Чернов говорит с братом.
— Время ограничено: три минуты…
За три минуты можно передумать всю свою жизнь, можно влюбиться, состариться и приставить дуло к виску. Но можно ли за три минуты рассказать о том, что Лида поступила на рабфак, что Павлик теперь ударник, что у Ирочки прорезались первые зубки, что Долгов придумал новый способ получения концентрата, что Клячко снимается для кино?..
А для тех, что ждут своей очереди, время тянется слишком медленно. Они собрались сюда с вечера. Перекличка началась в два, сейчас четыре. Они перезнакомились друг с другом. Они знают теперь, кто где работает, какие девушки вышли замуж, какие дети родились. Одного они не знают: кто за этот год умер. Долог, очень долог год — от августа и до августа. Они не знают, как кто плачет. Об этом нельзя говорить у микрофона: пусть те, что слушают, улыбаются.
Над страной, занесенной снегом, над льдинами, над новыми городами, над золотым прахом устюжских монастырей, над чумами лопарей, ненцев, чукчей, над миром, белым и темным, несутся взволнованные слова: Бухта Тихая, это ты? Ты, Маточкин Шар? Москва говорит! Москва! Женя говорит, Шура, мама, Васька: все милые, свои, родные. Русская гавань! С коллективом комсомольцев будет говорить Цека… Где-то далеко отсюда, среди льдов, люди сбились в крохотные поселки. Сколько их там? Здесь сто, там тридцать, там двадцать душ. Они стерегут дорогу будущего: Великий северный путь.
— Мама не смогла притти, у нее ночная работа. Говорю я — Боря, у нас все хорошо. Папа, мы тебя очень ждем!
Пусть гидролог Андреев на Маточкином Шаре не знает, что его жена умерла еще в октябре. Темная полярная ночь, трудно человеку ее вынести. Пусть на минуту его обогреют слова надежды.
На острове Вайгач, в становище Долгая губа, зимует Генька Синицын. Каждый день он принимает радио. Он слушает как растет страна, как заседает Съезд советов, как в горах Астурии гибнут последние повстанцы, как в Дюссельдорфе палач отрубает голову коммунисту, как в Краматорске открывают новый завод и музыка играет «Интернационал». Он слушает, как говорит жизнь: это его перекличка с родными, Он ведь знает, что по ту сторону льдов никто о нем не думает, никто его не вспоминает. Он жил быстро и неразборчиво. Он не связал своей судьбы с судьбой других людей. Скрывать не перед кем, да и не к чему: он любит Веру. Но он сам ей сказал: «Обо мне ты забудь». В становище Долгая губа он начал свою вторую жизнь. Он видит: жизнь ширится и шумит. Она шумит, как будто остров среди льдов, это широкая площадь Москвы. Генька каждый день шлет радио Москве. Он сообщает о том, что добыча цинка растет, что комсомольцы построили в становище театр и что ненка Домна Моготысая выбрана в совет. Генька долго искал жизнь, он нашел ее: она может быть темна, она может пахнуть ворванью, от нее может захватывать дух, как от пятидесятиградусных морозов, но Генька теперь знает, что она прекрасна
Стоит ли после этого говорить о минутах слабости, когда глаза хотят различить на небе хотя бы слабый след солнца, когда, вспоминая Веру, Генька прячется от редких людей, когда человеческое сердце, которое на жестоком морозе, на тоске, на мыслях, отчетливых и ясных, уже давно закалилось, как сталь, — вдруг превращается в обычный комок, способный отчаянно колотиться, ныть и замирать? Такие минуты выпали на долю Геньки и сегодня. Кущенко, Андреев, Ставров — все сейчас будут слушать голоса родных: кто жены, кто сына, кто матери. Только Геньку никто не вызовет… Что же, и в этом своя правда: говорят, любовь надо заслужить, как скирд хлеба или как орден.
Полчаса пятого.
— Гражданка Вера Горлова из Свердловска…
Вера приехала в Москву вчера вечером. По дороге были заносы, и она в страхе думала: «Неужто опоздаю?» Поезд подолгу стоял среди снежных полей, люди ругали железнодорожников, зевали, заводили длинные разговоры, играли в шашки. Вера боялась, что кто-нибудь с ней заговорит. Она делала вид, что читает книгу. Она теперь не могла ни с кем разговаривать: слишком близка была минута, когда она заговорит с Генькой. Всю дорогу она говорила с ним. Она напоминала ему, как хорошо им было в тот дождливый весенний вечер, когда Вера опоздала из лаборатории. Она шептала, что разлука не в счет. Она молила его вернуться в августе, и ослепительный, знойный август метался среди снежных полей.
— Генька! Милый!..
Она повторяла столько нежных слов, что, кажется, вылети они на свободу, они забились бы в этом душном, жарко натопленном вагоне, как стая испуганных птиц. Чем ближе была Москва, тем сильнее Вера волновалась. Она никак не могла себе представить, что она скажет Геньке. Этот разговор страшил ее. Слова полетят во все стороны. Их будут слушать сотни тысяч неизвестных людей. Так можно говорить о работе завода, о местонахождении ледокола, может быть о смерти. Но ей надо сказать о любви. А о любви трудно говорить даже с глаза на глаз, когда слышишь рядом частое дыхание.
Она не помнила, как она провела этот день в Москве. Остановилась она у Сони Неверовой. Она так волновалась, что едва заставила себя спросить:
— Твои-то здоровы?
Что ни минута — она глядела на часы и бессмысленно шевелила губами: кажется, она уже вызывала далекий Вайгач.
С виду она мало изменилась за эти полгода, только уверенней стала походка, громче голос. Душой она настолько выросла, что подчас сомнения и тревога прежней Веры заставляют ее самое удивляться. Впервые она живет большой и ответственной жизнью. Ей кажется, что прежде она учила спряжения и склонения. Чужой язык не легко ей дался. Она думала, что она никогда не сможет на нем свободно говорить. И вот теперь она пишет на этом языке стихи. В Москве она знала, что можно работать хорошо, даже страстно, но работа для нее оставалась одной стороной жизни. Теперь она не может отделить той лихорадки, которая ее охватывает, когда она входит в цеха, от мыслей о Геньке. Музыка, которую она всегда любила и которая теперь доходит до нее в смутном косноязычном пересказе громкоговорителя, томик стихов, история с ее ощущением времени, острым и внезапным, наконец, воспоминания о своем личном прошлом, о тех годах, когда она росла, мучительно и неровно освобождаясь от условностей — все это она узнает в повседневной работе, в станках, в листах толя, в грохоте и в шлаке. Она говорит «Верх-Исетский завод» взволнованно и нежно, как она могла бы сказать «Генька Синицын».
Она работает с кружком комсомолок. Она знает личную жизнь каждой работницы. Учебник алгебры, первые шаги какого-нибудь годовалого Мишки, любовная драма с ночными диалогами, со слезами и с разрывом, обновка, полученная от любимого человека — брошка или блузка, тысячи пустяков, создающих жизнь, неразрывно связаны с миром, который когда-то казался Вере если не скучным, то сухим и рассудочным. Ощущение этой связи настолько ее приподняло, что она стала другим человеком Она теперь может сказать «да» и «нет». Она больше не спрашивает себя — достойна ли она войти в новую жизнь? Она эту жизнь делает.
Директор завода говорит: «Горлова? Замечательный инженер». Но любовь остается любовью, и, подойдя к микрофону, «замечательный инженер», то есть Вера, вдруг растерялась, как семилетняя Наташа, которая говорила незадолго до нее. Наташа сказала: «Папа! Где ты?» — и, испугавшись тишины, начала громко реветь. Ее увели прочь, а человек с нечеловеческим голосом сказал:
— Говорит Москва. Ваша дочка здорова. Она испугалась непривычной обстановки. Сейчас с вами будет говорить ваш сын…
Мальчик не плакал, он говорил об уроках, о тюленях, о волейболе. После них позвали Веру. Она стоит у микрофона, и ей хочется заплакать, как Наташе. Это длится несколько секунд. Вера чувствует: драгоценное время уходит.
— Здравствуй, Генька! Я приехала из Свердловска. Я там работаю с лета. На Верх-Исетском заводе. Оборудование частично старое, но за полгода завод сильно изменился. Мы надеемся его поднять на уровень современных. Работа у меня очень интересная. Вообще ты за меня не волнуйся: бытовые условия прекрасные. Я хочу тебе еще сказать, что с августа я вступила в комсомол. По этой линии я тоже много работаю. Когда приедешь, обо всем поговорим…
Она вдруг запнулась и замолкла. Перед ней был микрофон. Геньки перед ней не было. Обитые сукном стены. Тишина. Для кого она говорит? Ее слушают чужие равнодушные люди. А Генька? Может быть, он ее и не слышит. Осталось всего полминуты. Как же ему сказать самое важное, то, ради чего она приехала в Москву? Наконец она собралась с силами и снова заговорила:
— Слушай, Генька! Это говорит Вера Горлова… Твоя жена. Ты меня понял, Генька? Я тебя жду. Ну, вот, кажется, это все.
Она подошла к стулу и грузно на него опустилась: от напряжения кровь стучала в виски, а перед глазами шли круги света.
— Остров Белый. С каюром Ипатовым будет говорить его жена.
Вера обвела глазами комнату, и вдруг все эти незнакомые люди показались ей близкими, родными. Ей хотелось расцеловать и жену каюра Ипатова, и маленькую Наташу, которая испугалась непривычной обстановки, и брата Чернова, усталого, сутулого, в пальтишке легком, не по сезону. Но она не двигалась с места; только по ее лицу порой проходила улыбка, легкая и смутная.
Кружится рассеянно мохнатый снег. Снова тихо в мире. Гуд. Это не Москва говорит, это говорит время. Над льдами все та же ночь. Она не вчера началась, и не завтра она кончится. Но на одну короткую ночку эта долгая ночь все же стала короче: перекличка закончилась. Обычное будничное утро, гидролог сидит над записями, каюр запрягает собак, доктор Шпильман выслушивает старого ненца.
— Что это с тобой? — спрашивает Кущенко Геньку. — Будто напился. Новости, что ли, интересные?
Генька ничего ему не может ответить. Он только подходит к Кущенко, берет его за руки и долго трясет руки, а зеленые глаза полны счастья.
12
Прошло больше года с того дня, когда Мезенцев, вернувшись из Устюга, стоял у калитки и когда Варя его окликнула. Деревья стали на год старше: еще одно кольцо прибавилось; а у дерева много таких колец, их трудно сосчитать. Человек живет куда меньше. Зато он бегает, задыхается, смеется. Сегодня утром Мезенцеву сообщили, что его направляют в пограничный отряд. Маленькая комната сразу наполнилась радостной суматохой.
Мезенцев любит эту комнату. Из окошка видны сугробы, кирпич селекционной станции, на которой работает Лясс, развалившаяся церквушка. Вороны на снегу пишут свои загадочные эпитафии. Комната пахнет еловыми шишками. Она светла даже в этот короткий декабрьский день. Она светла оттого, что Мезенцев научился спрашивать, а Варя отвечать, оттого, что они теперь понимают друг друга без слов, оттого, что в углу, за шкафом, с раннего утра криком кричит новый, непонятный и любимый человек, которому всего пять месяцев и которого Варя зовет «Петенькой», а Мезенцев «Петром Петровичем».
— Ну как, Петр Петрович? Выспался?
Петр Петрович показывает голые пятки и кричит.
— Варя, погляди на карту — видишь, где Хабаровск? Ты что ж это загрустила?
Варя тихо говорит:
— Как же так, Петька? А вдруг тебя убьют.
Мезенцев смеется:
— Еще что придумаешь? Так и жить нельзя. На запань — вдруг зашибет? В колхоз — вдруг кулаки кокнут? Мы, Варя, живучие. А я думал, ты обрадуешься… Посмотри лучше, где это… Разве не интересно?..
Варя пристыженно улыбается, но глаза у нее мокрые.
— А ты не слушай. Мало ли я что говорю… Нет, нет, а вдруг баба проглянет. Просто как то сразу это, я не ожидала, вот и все. Погляди — уже прошло. Конечно, это не на запань, это такое доверье… Подумать только, как я за тобой бегала! А сказать боялась. Ты тогда сам заговорил — помнишь, что Шурка болтает «дроля», ну и пошло. Не будь этого, кажется, никогда не сказала бы. А теперь все видят, какой ты… Ты думаешь, Петька, я сама знаю, отчего я плачу?..
Мезенцев не может сидеть на месте. Его руки упираются в потолок. Он не помещается в этой комнате. Он смотрит на карту и обнимает Варю.
Вечером он идет к Голубеву: надо перед отъездом поговорить о заводских делах. Он входит в кабинет Голубева, веселый и возбужденный. Он опрокинул стул с газетами и долго подбирает их. Ему хочется крикнуть: «Я завтра еду!» Но он смущен: Голубев даже не посмотрел на него: и Мезенцев сразу приступает к делу:
— Дилсы-то — двадцать пять процентов с синью. Не окатали во-время, вот и результаты. Приходится на третий сорт переводить. А какие убытки…
Голубев его обрывает:
— Это я сам знаю. Ты лучше про Яковлева расскажи. Там у вас шведский станок поставили — как, он, освоил его?
— А то как-же не освоил? Парень с головой. Вот бригада Фомина совсем распустилась. Обрадовались, что про них все кричат, и второй месяц сами себя чествуют…
Мезенцев теперь говорит спокойно и обстоятельно. Он, кажется, позабыл, что он завтра едет. Он с жаром рассказывает о Фомине, о мостовых брусьях, об использовании отхода. Голубев сидит, опустив голову; нето он записывает, сколько сдано дилсов, нето машинально водит карандашом по бумаге. Раз или два он бегло взглянул на Мезенцева, и Мезенцеву показалось, что Голубев смотрит на него неприветливо. Закончив разговор, Мезенцев встает, но Голубев его удерживает:
— Значит, завтра едешь? Это хорошо. Там, говорят, чудеса делаются: весь край перевернули. Понятно, что у японцев глаза разгорелись. Завидую я тебе. Я в Сибири был, но только это до революции: другая музыка. Три года в Туруханске проторчал…
Теперь он глядит в глаза Мезенцева, и Мезенцев смущенно улыбается.
— Смешно, как это вы быстро подросли! Вот сидишь, о станке Болиндера рассуждаешь. А я все еще не могу привыкнуть, что вы взрослые. В октябре, в Москве это было, возле Почтамта, идем мы цепью, бахаем, вдруг — ребятишки. Понимаешь, стервецы — игру затеяли под пулеметами. Я как закричал: «По домам, не то ремнем отлуплю!» Дурачье — пулеметов не боялись, а ремня струсили. Так вот, мне все кажется — живем мы, работаем, скрипим, а вы у нас между ног бегаете. Когда с твоей Варей эта ерунда вышла, мне и грустно было на вас глядеть, и смех брал. То ты приходишь, волком смотришь, то она прибегает: «Пошлите на запань!» Удержался, а хотелось мне позвать вас обоих да как крикнуть: «Какого вам еще беса надо?» Ну, а выросли вы как раз во время. Сдавать мы начинаем. Страшно газету раскрыть: опять кто-нибудь умер. Не умереть страшно — это пустяки. Страшно недоделать. Ты какое хочешь дерево возьми, пила все равно перепилит. Прежде в газетах писали: «Смена, смена». А вот и действительно смена. Чуть еще подучишься и на мое место сядешь. Это ничего, что вы в сердечных делах ни черта не понимаете. Это приложится. Я по этому предмету до сорока лет в приготовишках ходил. А работать — это вы можете. Значит, все-таки дотянули. Ну, разболтался, а здесь еще Шейман ждет…
Предстоящий отъезд, слезы Вари, разговор с Голубевым — все это как-то приподнимало Мезенцева. Он вошел в свою комнату, рассеянный и отчужденный. Варя спала: она работала в ночной смене. Мезенцев не стал ее будить. Он не мог сейчас говорить о пустяках или заниматься привычным делом. Ему хотелось побеседовать с кем-нибудь, о большом и важном. Он прошел в угол за шкаф.
Петр Петрович глядит на мир светлыми, как будто прозрачными глазами. Мезенцеву кажется, что мальчишка играет со своими ногами, он перебирает ими, а на губах показываются пузыри восхищения.
— Играешь, Петр Петрович?
Мезенцев садится на сундучок рядом с кроватью. Он задумался. Вдруг начинает говорить. Это тот собеседник, о котором он мечтал: Петька не может ни переспросить, ни ответить. Он глядит на отца все теми же, чересчур ясными глазами, и минутами Мезенцеву кажется, что Петька его понимает. Тогда Мезенцев краснеет и отворачивается.
— Вот тебе и еще одна смена. Третья. Он сказал: «Как это вы выросли!» А у нас уже дети растут. Это правда, что мы у них в ногах бегали. Они стреляют, а мы смотрим — интересно! Мамонтов когда налетел — отца увели. Так я его больше не видал. Если меня теперь убьют, ты и помнить не будешь. Что ты губы выпятил? Совсем как Варя… Я долго жить буду. Я это к тому, что и мы горя понюхали. Тебе сколько? Пять месяцев? А мне девять лет было. Я уже все понимал. В Задонске солому жрали. Очень просто. Тебя во время не покорми — орешь. Варя по часам смотрит. А тогда, Петр Петрович, молчали. В тридцать первом я нагляделся. Это мы раскулачивали. Чего только тут не было: они — нас, мы — их. Это хорошо, что ты такого не увидишь. Нам бы только еще пять лет продержаться, тогда никто не подступится. Знаешь, Петр Петрович, куда я еду? На Дальний Восток. Понимаешь — на «дальний»! Стой, рот у тебя мокрый. Надо вытереть. Очень трудно во всем разобраться. По твоему, я, взрослый, должен все понимать. А сколько раз я себя спрашивал: как тут быть? Если насчет техники, можно книгу взять, с жизнью хуже. Ты еще маленький. Тебе это можно сказать. Варе не говорил. Никому не говорил. Разве я прежде понимал, что это — с девушкой жить? Как зверь: попадется, и готово. Щелков мне когда-то говорил: «Это они для проформы плачут». Хорошо еще, что Варю встретил. У вас, Петька, другая будет жизнь — настоящая. Мы как выросли среди стрельбы, так и остались стреляные. Голубев прошлым летом сказал: «Вы неженки.» Он умный. Все понимает. Я думал, он меня позабыл, а он даже не удивился, что мы с Варей вместе. Только он добряк, все в розовом свете видит. Какие же мы неженки? Мы здорово грубые. Если взять Корнева или Гаврюшку — это понятно: живут люди в лесу. Заготовки — это тебе не ножками дрыгать. Кто угодно корой обрастет. Но и в городе не лучше. Если мы неженки, то с самими собой. Как я Варю мучил! «Отчего не сказала?» Даже не знаю, стал я теперь умней или нет. С Никитиной — это в Воронеже… Довели. Дразнили, что промазалась, психология мелкобуржуазная, губы мажет, шкурница… А какая же она шкурница, если она отравилась и ребятам записку оставила, что не по товарищески? Вот погляди, какая чепуха!.. А ребята ведь хорошие. Я их знаю. Сколько мы вместе поработали! Вы этого и не заметите. Голубева всегда будут уважать: тюрьма, Сибирь, Октябрь они сделали. А в каких условиях мы строили — это дело десятое. Конечно, обидно. Хочется, чтобы ты и про нас прочитал. В общем это ерунда. Главное — достроить. Слушай, Петр Петрович, я тебе одну вещь скажу. Хорошо, что Варя спит… Чорт этих японцев поймет, какие у них минсейто или вроде. Но я о тебе буду думать: а третья смена? А Петр Петрович? Он жить хочет. Мы для тебя такую жизнь устроим, что сейчас и представить нельзя. Варя говорила, что ты инженером будешь. Я не ответил: рано загадывать. Но раз мы по душам говорим, я тебе скажу. Сейчас это замечательно — быть инженером: строят, монтируют, пускают в ход. Но ведь когда ты подрастаешь — это пятая пятилетка будет. Столько мы планов выполним, столько всего понастроим, что и строить будет нечего. Поставим такие машины: нажал, и готово. Я вчера весь город обегал — ножик для бритвы искал. Тебе хорошо, а у меня борода растет. Но когда будет десять заводов, чтобы ножики делать, кто над этим станет голову ломать? Ты знаешь, кем ты будешь? Это по секрету, смотри не болтай! Скажи я кому нибудь, засмеют. Ты у меня художником будешь. Петр Петрович, я видел в Устюге картину. Убей, а не смогу рассказать. То есть рассказать просто: река, лодка, гроб, ребята, один, кажется, муж. Только разве в этом дело? Так это нарисовано, что даже о правде забываешь. Похороны — тема как будто грустная, а поглядишь, еще сильней хочется жить. Я даже потом подумал: не пойди я тогда к Кузмину, все могло бы иначе повернуться. Необыкновенный он человек! Стоит с кистью, и глаза — как будто он ничего не видит. А он видит больше всех. Вот, Петр Петрович, ты таким будешь. Я думаю, тогда все лентяи инженерами заделаются. А чтобы приподняться, нужно будет другое. Картин никогда не может быть слишком много. Это как с девчатами: каждому своя нравится. Вот ты нарисуешь Дальний Восток или просто ерунду — ну, меня или дерево. А к тебе придет человек…
Мезенцев вздрогнул и оглянулся: Лясс! Он держит какой-то большой сверток. Мезенцев не расслышал, как Лясс вошел в комнату.
Лясс стоит и смеется:
— Ты с кем это разговариваешь?
Мезенцев сердито отвечает:
— Ни с кем я не разговариваю. Варя спит. А больше здесь никого нет.
— Нет так нет. А я вот почему пришел: утром Ляшков забегал, знаешь — механик, Лелькин муж. Он мне и сказал, что ты во Владивосток едешь. Давай чайку попьем, я ведь в тех местах бывал — поговорим. Погоди, не забыть бы…
Лясс разворачивает пакет: одна газета, вторая, третья. Кажется, и нет ничего, кроме старых газет. Наконец он снял последнюю газету. Мезенцев видит горшок с белыми невзрачными цветами. Он удивленно спрашивает:
— Это что?
Лясс смеется:
— Да ты не бойся. Не японская бомба. Подснежники. На нашем языке: адонис верналис. Хотел поглядеть, выгоню ли в декабре. Конечно, чепуха, но я это между прочим…
От смеха Лясса Варя проснулась. Она сидит на кровати, еще плохо соображая, о чем Лясс говорит. Она то закрывает глаза, то их широко раскрывает: никак не может проснуться. Увидав в руке Лясса горшок с цветами, она спрашивает:
— Цветы то откуда?
— «Откуда»! Ясно откуда — из-под земли. Держи, это я тебе принес.
Он поворачивается к Мезенцеву.
— Они цветы любят. Вот и Лелька — на ячмень фыркает, а увидит цветы, и уходить не хочет. Поэты! Ну, а мы будем чай пить — очень уж холодно на дворе. Мы, значит, грубая проза жизни.
Париж
Ноябрь 1931—январь 1935