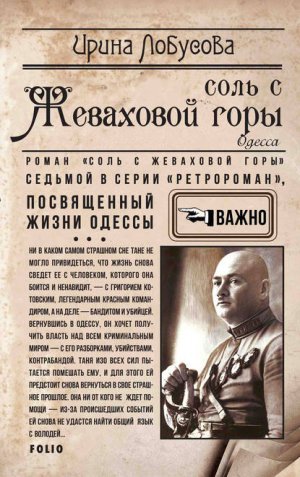
Глава 1
1906 год
Сильный запах хвои не могли перебить даже ароматы кухни. Елку нарядили в гостиной. Пышная красавица с пушистыми ветками занимала ровно полкомнаты, а верхушка ее, украшенная яркой серебряной звездой, прогнулась, упираясь в потолок, – к явному восторгу детворы.
Елка была такой красивой, что младшие дети боялись трогать ее руками. И с замиранием сердца следили за маленькими звездочками на ветках, вырезанными из блестящей фольги. Ветки дрожали, когда кто-то входил в комнату, и по стенам рассыпались тысячи мерцающих искр, похожих на стеклянные бусы. Это было так здорово, что малыши смеялись и хлопали в ладоши, а потом пытались поймать эти отражения на натертом паркетном полу.
Снег шел с самого утра. К обеду замело не только подъезды к дому, но и все службы. С самого рассвета и почти до наступления темноты силы всех работников усадьбы были брошены на расчистку снега, чтобы сделать аллею удобной для карет собиравшихся на сочельник гостей.
С самого утра дом был наполнен радостным гамом и шумом. Под руководством старших (мамы, сестры Анны и учителя) заворачивались подарки для малышей. Младших детей отвели наверх, в классную комнату, где покормили сладким пирогом и запретили выходить. Но ничем нельзя было остановить детское любопытство. И время от времени какая-нибудь любопытная детская мордашка, перепачканная вареньем, крепко прижавшись к замочной скважине, с интересом и восторгом наблюдала, как старшие заворачивают большие картонные коробки в фольгу.
Золотистые, красные, серебряные, розовые свертки перевязывали пышными белыми лентами, а на маленький белой бумажке, специально прикрепленной к коробке, писали имя того, кому предназначался подарок. А потом подарки складывали под елкой.
Все дети знали: завтра, утром на Рождество, их вручат вместе со сладостями каждому ребенку в доме, и все это будет веселой игрой. И долго, долго будет звучать детский смех, серебристый, как колокольчики на подъезжающих экипажах.
Рождество в доме Бершадовых всегда было веселой и удивительной сказкой! Для детей это были самые яркие моменты зимы, самые прекрасные воспоминания, полные улыбок и удивительных сюрпризов.
На сочельник Бершадовы традиционно собирали гостей – родственников и близких друзей дома. Но все они разъезжались рано, часов до десяти вечера – с тем, чтобы завтра, уже на Рождество, собраться вновь. Дом Бершадовых был известен своими приемами и гостеприимством. А в городе купец Бершадов заслужил хорошую славу тем, что в канун Рождества запирал все свои магазины, склады и лавки и, раздав работникам премию в размере месячного оклада, отпускал гулять и праздновать Рождество на несколько дней подряд.
В богатом же доме Бершадовых, всегда открытом для друзей, праздник Рождества начинался с самого утра и заканчивался далеко за полночь. В такой знаменательный день всем детям разрешалось лечь спать позже, в том числе и самым младшим.
Но в сочельник, в ночь накануне Рождества, правила были неизменны, и младших детей отвели в спальни задолго до отъезда гостей.
– Не хочу спать! Не хочу, – капризничал маленький трехлетний Коля, пока старая няня переодевала его в ночную рубашонку и поправляла пуховое одеяло, под которыми спали дети.
– Надо спать. Завтра Рождество. В эту ночь ангелы прилетают с неба, чтобы посмотреть, как ты будешь себя вести, – приговаривала она, и ее ласковые руки умело уложили ребенка в кровать, – и если ты был послушным мальчиком, они сделают тебя большим и сильным.
– Я и так большой и сильный, – восьмилетний Гриша переоделся сам, демонстрируя всем своим видом, что он уже взрослый, а потому не терпит этих телячьих нежностей, – что же дадут ангелы мне?
– А тебе, – няня поправила сбившуюся набок перину на его кровати, – тебе ангелы подарят исполнение самого сокровенного желания, которое ты успеешь загадать!
– Чушь это! – Гриша был настроен скептично. – В прошлом году я хотел большой револьвер, как у папы, а мне подарили дурацкого рыжего зайца!
– А в этом году все может исполниться, – улыбнулась няня – любознательный, пытливый мальчик с сильным и задорным характером был ее любимцем. – Разве ты не знаешь, что ночь в канун Рождества – самая волшебная ночь? Ангелы спускаются на землю и укрывают послушных деток волшебным покрывалом, которое должно защитить их от всякого зла!
– А если не покроют? Если покрывала на всех не хватит? – нахмурился Гриша. – Что тогда? А что такое зло?
– Зла очень много в мире, – ласково сказала добрая няня, – но покрывала на всех хватит. У каждого ребенка есть свой ангел-хранитель, который защищает его от бед и напастей. Он приходит на землю в ночь в канун Рождества, спускается к людям.
– И его можно увидеть? – Гришу заинтересовал этот разговор.
– Нет, конечно. Детки уже спят, когда к ним спускаются ангелы. И сны их сладкие и добрые, потому что на их кроватку опускается защитник и хранитель.
– А как выглядит мой ангел? – Гриша так увлекся, что даже сам, без напоминания няни, лег в кровать.
– Ты увидишь, когда придет твое время!
– А когда оно придет, когда?
– Надеюсь, не скоро!
Няня забрала со стола свечу и, поцеловав Колю и Гришу, вышла, плотно затворив за собой дверь. Спальня младших мальчиков находилась на втором этаже, в другом крыле дома, но и туда доносились голоса из гостиной.
В спальне было уютно и тепло. От жарко натопленного камина жар расходился волнами, и в комнате было тихо и так спокойно, как будто в мире не было ни мороза, ни снега, ни снежной бури, бушевавшей за окном. Через время в комнате послышалось тихое, сопящее дыхание уснувшего Коли – попав в свою теплую кроватку, ребенок очень быстро заснул.
Гриша быстро раскрыл глаза и, убедившись, что брат крепко спит, отбросил в сторону перину и вылез из кровати. Подошел к окну. На улице по-прежнему валил снег.
Дорожку к дому освещал газовый фонарь, и Гриша видел его край, обвитый металлической решеткой. Раскачиваясь на ветру, фонарь издавал еле слышный скрип. От мороза на стекле были ледяные узоры, и Гриша залюбовался причудливыми переплетениями веток и диковинных, никогда не существовавших цветов.
Он дохнул на стекло и там, где от теплого круга его дыхания цветы сморщились и словно стали плавиться, потер стекло пальцем. В образовавшемся отверстии, очищенном ото льда, чуть четче можно было видеть засыпанную снегом дорогу и даже темные верхушки деревьев – сразу за домом Бершадовых начинался Иванчевский лес.
Несмотря на то что дом стоял почти на отшибе, совсем близко к лесу, вдали от ближайших строений, Бершадовы никогда не испытывали от этого неудобства. Наоборот, отдаленность от города позволяла им избегать любопытных взглядов соседей, всяких зевак и толп попрошаек, все норовивших постучать в двери богатого купца. А в близости к лесу были одни плюсы: тишина, спокойствие и всегда свежий воздух, насыщенный хвоей деревьев.
Гриша долго смотрел на то, как падает снег на верхушки темного леса, на деревья, застывшие за окнами как немые стражи или заколдованные солдаты, сказку о которых несколько дней назад читал ему домашний учитель. У мальчика было живое, яркое воображение. И, слушая ту забытую легенду, он представлял себе, как превращаются величественные деревья в суровых солдат, покрытых броней, и как, обнажив мечи, эти солдаты внезапно окружают его дом. Но мальчику не было страшно. Он воображал себя фантастическим великаном, храбро вступающим в смертельную схватку с этими полчищами, и, конечно, одерживал в ней верх.
Гриша представлял себе, как вскипает его кровь и он бросается в яростный бой, где победа конечно же будет за ним.
Таким был удивительный и яркий мир его детства – мир, где так тесно переплетались вымыслы и реальность, а мирный и уютный дом был надежным кораблем, защищающим от всех превратностей жизни.
Даже в детскую долетал запах хвои от елки в гостиной – счастливого символа мирного, семейного Рождества. К нему примешивался сладкий, искушающий запах сдобы из кухни. Гриша знал, что там уже с ночи к завтрашнему столу пекут всевозможные булки, пироги, печенья и – коронное блюдо кухарки – сахарных барашков, которые просто тают во рту! Посыпанных сахарной пудрой, этих барашков раздавали всем детям, и было просто невозможно отказаться от любимого лакомства.
Но не запах сдобы и не мысли о завтрашнем празднике подняли Гришу с постели. У него была цель. Он вернулся к своей кровати и, порывшись под подушкой, вытащил большой кусок постного пряника – десерта, который всем детям раздали за ужином.
Гриша сделал вид, что съел пряник, а сам тайком припрятал его, чтобы покормить Гнедка. Это доставляло ему почти столько же удовольствия, как и фантастические истории, которые рассказывал учитель.
Гнедок родился до Нового года. Он был очень слаб и почти не поднимался на свои тонкие ножки, которые пока еще прогибались под его весом. Но для своего возраста в несколько дней это был удивительно крупный жеребенок. С рождения уже было видно, что у него гордая осанка, редкий окрас, яркая масть и дорогая порода, и что из него получится прекрасный во всех отношениях конь, гордость не только конюшни своего хозяина, но и всего города. Гнедок был очень редкой масти. Краем уха Гриша как-то слышал, что отцом Гнедка был породистый арабский скакун, редкость в их краях. И действительно, Гнедок очень сильно отличался от всех остальных жеребят. А за свою короткую жизнь Гриша насмотрелся их немало.
У Бершадова было много лошадей. Конюшни его славились по всему Кишиневу. Его породистые скакуны брали призы на крупных соревнованиях, а разведение редких пород приносило неплохие деньги. Сам Бершадов в шутку говорил друзьям, что, наверное, в его роду среди далеких предков были цыгане. Только так он мог объяснить эту склонность к разведению лошадей, которых он предпочитал всем остальным животным.
С детства многочисленное потомство купца было окружено лошадьми. Но если девочки и даже старший сын были равнодушны к этим животным, то маленький Гриша полностью унаследовал страсть отца. Все свое свободное время с самых малых лет, едва поднялся на ноги, он проводил на конюшне. Ездить на лошади он научился раньше, чем ходить. Случалось, мальчик сбегал в конюшню с уроков, после чего смиренно выслушивал строгий выговор за свое поведение. Дело всегда ограничивалось лишь выговором: в доме Бершадова были запрещены физические наказания, и детей никто никогда не бил.
Потом на Гришу просто махнули рукой и оставили его в покое. Отца же очень радовала такая страсть в сыне, который, казалось, уже в свои восемь лет разбирается в лошадях лучше его самого.
Гриша любил всех лошадей, никого не выделяя. Но все переменилось в тот день, когда появился Гнедок. Это была любовь с первого взгляда! Едва прикоснувшись к теплому тельцу новорожденного жеребенка, Гриша сразу же впустил его в свое сердце, став самым верным другом и трогательным защитником. Гнедок же чуял приближение Гриши еще задолго до того, как мальчик подходил к конюшне, и тянулся к нему больше, чем к своей родной матери.
Гриша перестал есть. Лакомства, пряники, яблоки, овощи – все это он нес к Гнедку, отказываясь даже от своих любимых конфет. В конце концов, за Гришей стали следить, не позволяя ему относить свою еду жеребенку, ведь это не приносило пользы ни тому, ни другому. Но Гриша умудрялся прятать часть лакомств и тайком кормить Гнедка по ночам. И даже за столом в сочельник он ухитрился спрятать большую часть своего пряника, чтобы в волшебную ночь в канун Рождества отнести Гнедку.
Гриша завернул остатки пряника в платок и, не обращая внимание на то, что был в тонкой рубашонке, тихонько выскользнул из спальни, чтобы добраться до конюшни.
Двигаясь бесшумно, как мышь, он проскользнул мимо спальни младших сестер и осторожно замер возле комнаты старшей сестры, Анны. Она не спала, из-за двери пробивалась тонкая полоска света. Гриша заглянул в замочную скважину. Закутавшись в одеяло, Анна сидела в кровати и читала книжку при свете лампы. Он любил сестру, но иногда она казалась ему странной.
На первом этаже было тихо. Голоса взрослых смолкли, и Гриша понял, что гости разошлись. Он аккуратно прошелся по узкому коридору к кухне, а затем через чулан выбрался в сени. Оттуда до конюшен было рукой подать.
В неотапливаемой пристройке за домом, ведущей к конюшням, стоял жуткий холод, сразу впившийся в тело мальчика тысячей заостренных кинжалов. Но Гриша не обращал на это никакого внимания. Он бежал быстро, а его дыхание превращалось в облака белого пара, клочья которого застывали под потолком.
Внезапно до него донеслось громкое ржание лошадей. Гриша замер. Неужели в конюшне? Подтянувшись до небольшого оконца, он выглянул наружу. Под снежными шапками виднелись чернеющие деревья леса. Так же густо шел снег. Освещенный луной, он превращал все вокруг в ослепительно яркую, серебристую пустыню из чарующей волшебной сказки про злую королеву из царства снегов и льда. Эту сказку читал учитель, и воображение Гриши сразу же нарисовало царство Снежной Королевы – точно такую картинку, которая была сейчас за окном.
Ржание лошадей повторилось. В этот раз оно было громким! Гриша сразу понял, что это не их лошади – голоса всех своих он знал. Ржание доносилось со стороны леса. Но кто мог пробираться через снежную пустыню леса ледяной, морозной ночью? Гриша не понимал. Впрочем, думать было некогда, и он быстро побежал дальше через сени.
Вот и конюшни. Увидев его, Гнедок радостно заржал. В конюшнях было тепло и уютно. Мягкие влажные губы жеребенка уткнулись в ладонь мальчика. Чмокая от удовольствия, Гнедок жевал вкусный пряник. Гриша гладил его по шелковистой, уже начинающей густеть гриве. Внезапно из темноты вырвался громкий стук копыт.
Вздрогнув, Гриша подбежал к окну. Крайнее окно конюшни выходило на аллею за домом. Он увидел много людей на конях. Все они были в темных тулупах, а в руках держали винтовки и сабли. В ярком свете луны постоянно отражалась яркая сталь их оружия.
Гриша замер. Острое чувство беды, которую он не мог объяснить, вдруг охватило его, парализовало дыхание.
– Трое к заднему входу, двое за конюшни, – отчетливо прозвучал властный мужской голос, – окружить дом!
– Гнедок, тихо… – весь дрожа, Гриша обнял жеребенка, поцеловал в шею, – я скоро вернусь. Тихо.
И, положив остатки пряника в ясли, бросился бежать обратно, через сени, в дом. Предупредить родителей! Почему эти люди с оружием окружают дом? Кто они такие? Гриша бежал так быстро, как только мог!
Но было поздно. Он был уже рядом с кухней, когда вдруг пронзительно и отчетливо до него донесся громкий крик мамы, встревоженный голос отца. Затем – грохот, как будто в гостиной переворачивали мебель. Стараясь не дышать, Гриша прокрался ближе к гостиной.
В комнате было полно людей в черных тулупах. Они выворачивали на середину мебель. Мама сидела в кресле, руки ее были связаны. Двое держали под руки отца. Лицо его было окровавлено. Из разбитой губы капала кровь, стекая на грудь. Он выглядел страшно.
– Как открыть сейф? Говори по-хорошему, сволочь! – Перед отцом стоял высокий лысый человек. Он обернулся к двери, и Гриша отчетливо разглядел его лицо. Под глазами этого страшного человека были черные точки наколок. Гриша никогда такого не видел. Это страшное лицо врезалось в его память ужасающим знаком беды.
– Притащить щенков… всех, – скомандовал он. Шестеро бандитов стали подниматься по лестнице вверх.
Сверху донесся страшный, отчаянный крик Анны. В этом звуке было столько муки, что Гриша едва не умер от ужаса. Взмыв кверху, этот крик раненой птицы, умирающей от горя и боли, заполонил все пространство, разорвал весь знакомый, уютный, счастливый Гришин мир. Он никогда не думал, что Анна может так кричать. Затем раздался выстрел.
Бандиты стали спускаться с лестницы, таща перед собой дрожащих, перепуганных малышей. Вскоре все они были в гостиной – старший брат Вольдемар, маленький Коля и две сестрички. Анны не было.
– Что за шум? – Тип с наколками, который явно был главарем, обернулся к ним.
– Девчонку эту, сучку, пришлось пристрелить, – сказал один из них, прижимая ладонь к окровавленной щеке, из которой сочилась кровь, – мы поразвлечься немного хотели… А она кинулась, как кошка.
Со страшным криком мама вскочила с кресла и, вытянув руки вперед, бросилась к главарю. Дальше все произошло стремительно. Подняв наган, он ударил тяжелой ручкой несколько раз прямо по ее лицу. Захлебываясь кровью, мама упала к его ногам. И осталась лежать так, неподвижно застыв. Из-под ее головы расплывалось темное пятно крови. Дети заплакали. Отец рванулся из рук бандитов:
– Я отдам! Все отдам! Все деньги, золото! Не трогайте мою семью!
– Конечно, отдашь, сука, – усмехнулся главарь.
И направился к выходу из комнаты. На пороге он обернулся к двоим своим людям и произнес вполголоса:
– Когда все отдаст, пристрелить всех. И сучат тоже. Суки зажравшиеся! Дом и конюшни сжечь!
Позвать на помощь! Позвать хоть кого-то! Вжавшись в стену, Гриша двинулся назад. Ужас, парализовавший его поначалу, отступил куда-то в безграничную пропасть. И Гриша двигался вперед. Позвать на помощь! Не дать им это сделать! К счастью, бандиты разошлись по дому, и в коридоре за гостиной, ведущему к кухне, не было никого.
Бандиты грабили дом. Шум, грохот переворачиваемой мебели, звон разбитых зеркал, посуды… Они забирали все, что могли унести с собой.
В отражении небольшого зеркала в коридоре Гриша увидел бородатую рожу в крестьянской шапке, лихо сдвинутой набекрень. Бандит спускался по лестнице, таща перед собой огромный тюк. В бархатную бордовую скатерть были завернуты какие-то вещи, какие-то предметы… Гриша разглядел край бронзового подсвечника, всегда стоявшего наверху. Он был засунут в ворох тряпья. Бывшая роскошная обстановка… Признак зажиточного, богатого дома… И ради этого теперь убивали его семью…
Добравшись до сеней, Гриша раскрыл окно. Подставил табуретку и вывалился наружу. Он упал в мягкий сугроб. Холод впился в его голые ноги, в тело. Но мальчик не чувствовал ничего. Он помчался изо всех сил вперед, к улице, уже видневшейся вдали.
Впереди показалась группа каких-то людей. Увидев их, Гриша стал кричать:
– Помогите! На помощь! Помогите!…
– Это что еще за щенок? – несколько человек из группы развернули коней, бросились наперерез ему.
Бандиты! Это были бандиты! Гриша бросился в другую сторону, петляя по снегу. Теперь он бежал к лесу, пытаясь укрыться там.
Над конюшнями показался столб черного дыма, из которого вдруг вырвался ослепительный сноп пламени. Раздалось страшное ржание лошадей.
– Гнедок! – Грише казалось, что у него остановилось сердце. Конюшни были заперты изнутри, и лошадям предстояло сгореть заживо в этой жуткой лавине огня. И Гнедок, его Гнедок был в этом жутком кошмаре, где крики лошадей были так похожи на предсмертные вопли людей!
Гриша остановился. В тот же самый момент к нему подлетел черный всадник на лошади и, размахнувшись, ткнул мальчика саблей в живот. Раскинув руки, обливаясь кровью, он упал в снег…
Глава 2
Одесса, Французский бульвар, лето 1920 года
Теплые лучи раннего рассветного солнца проникли сквозь плотную занавеску, край которой защемило оконной рамой, и осветили картину ужасающего разгрома. Комната выглядела так, словно по ней пронесся вихрь.
Стол посередине был перевернут, и под ним валялись осколки разбитой посуды, остатки еды, вывалившиеся прямо на роскошный бухарский ковер. Пустые бутылки из-под шампанского и водки были выстроены в настоящую батарею. Удивительным образом поставленная в два ряда, батарея эта выглядела бы устрашающей, если б не смотрелась так омерзительно.
Недалеко от ковра, прямо на полу, была разбросана целая куча каких-то вещей, причем кирзовые сапоги валялись поверх крахмальной белой сорочки. Дверцы шкафов были открыты, и из них тоже вывалились вещи. Кресла перевернуты. Словом, было ясно – здесь происходила либо свинская оргия, либо настоящее побоище.
В глубине комнаты, у стены, стояла огромная кровать, украшенная пышным бархатным балдахином зеленого цвета, немного потускневшим от пыли. Пышность и роскошь кровати вызывали в памяти царские времена и величественные дворцы. Такой роскошный предмет обстановки смотрелся странно. В этой нелепой комнате, где царил столь свинский беспорядок, кровать была застелена тоже не лучшим образом. Измятые простыни свешивались до самого пола. Они были очень грязны – на них виднелись обильные пятна от вина и жирной еды. Покрывало также было измято и отброшено в угол. Подушки валялись в хаотичном беспорядке возле стола между осколками разбитой посуды и разбросанной едой.
Посреди кровати на спине лежал абсолютно голый человек, молодой мужчина плотного сложения, и зверски храпел. Его грязные ноги с отросшими ногтями странно смотрелись на тонких шелковых простынях, пусть даже и залитых вином.
Возле самой кровати на тумбочке лежала пустая кобура из-под револьвера. А стоявшая где-то там лампа упала набок, и красивый абажур с шелковыми кистями подметал пол.
Зверский храп разносился по всей комнате и терялся под высоким потолком, с купеческой роскошью расписанном розовощекими купидонами и пышными нимфами в прозрачных одеяниях. Словом, это была очень красивая старинная комната, превращенная в свинарник.
Дверь в комнату растворилась с громким стуком, как будто ее распахнули ударом ноги. Звук был громким, но мужчина на кровати даже не шевельнулся, а мощные горловые рулады не уменьшились ни на тон.
На пороге комнаты возник высокий черноволосый красавец в высоких кожаных сапогах и красной косоворотке навыпуск. На поясе красавца залихватски были подвешены сабля и пистолет.
Это был совсем молодой мужчина с тонкими, но мужественными чертами лица, вьющимися черными волосами, собранными в хвостик, выразительными темными глазами, в которых время от времени пробегали яркие искры, напоминающие светящиеся огоньки. Но суровая линия подбородка и резко очерченные скулы свидетельствовали о жесткости и силе его характера, а сжатые губы говорили о скрытности и властности, которые прятались внутри. Такие лица всегда очень нравятся женщинам, но мало кто понимает, что обладатель их – совсем не простой человек.
Мужчина шагнул в комнату, брезгливо поморщился из-за мерзкого запаха и, отдернув занавеску, решительно распахнул окно, впустив в комнату свежий воздух и солнечный свет. Затем оглядел разгромленный стол и презрительно отвернулся в сторону. А подойдя к кровати, стукнул по ее ножке сапогом.
– Гриша, вставай! Там из штаба дивизии тебя спрашивают! – рявкнул он прямо в ухо спящему мужчине. Но тот, заворчав, только перевернулся на другой бок.
– Гриша! Да вставай, кому говорю! – повысил мужчина голос, но это было абсолютно бесполезно. Спящий все так же продолжал спать и громко храпеть. Тогда, разглядев на полу возле кровати ковш с водой, красавец поднял его и решительно плеснул в лицо спящему на кровати.
Это подействовало. Голый подскочил с пронзительным воплем, но, разглядев, кто это сделал, несколько поутих.
– Мишка! Твою мать… – Краем замурзанной простыни он вытер лицо, – …какого?..
– Там из штаба дивизии пришли… С утра трындят – где Котовский, вынь и положь Котовского. Что я им скажу?
– Ладно. Ох, черт! Голова трещит! – Котовский схватился за голову с мучительной гримасой.
– Что это за свинарник? – Мишка презрительно поморщился. – Что ты здесь устроил? Тебе обязательно надо все превращать в хлев?
– А, заткнись! – буркнул Котовский. – И без тебя голова раскалывается. Хорошо так вчера посидели… с девочкой.
– С девочкой? Какой еще девочкой? Где она?
– Ушла, наверное. А который час?
С этой мыслью Котовский потянулся к тумбочке с перевернутой лампой, сбросил пустую кобуру на пол, принялся шарить по тумбочке. Лицо его при этом менялось с такой выразительностью, что Мишка не выдержал:
– Ты что, в цирке? Что ты клоуна из себя корчишь?
Вдруг Котовский резко сел на кровати, подогнув ноги по-турецки, и захохотал, как сумасшедший. У Мишки вытянулось лицо.
– Ты с ума сошел? – ласково, как принято разговаривать с маленькими детьми, спросил он.
– Ох, Мишаня, ты не поверишь! И я бы не поверил, если бы кто рассказал! Грабанула она меня, шмара эта, с большими сиськами! Вот как есть грабанула! – продолжил хохотать Котовский.
– Эта девка тебя ограбила? – У Мишки распахнулись глаза.
– Не поверишь – часы забрала, и наган, и кошелек еще с червонцами сверху был! Даже одеколон вытащила из тумбочки! Ох, умора!
– Что тут смешного, ты ненормальный? – прикрикнул на него Мишка. – Какая-то сука тебя ограбила, а ты ржешь?
– А что мне, плакать, что ли? Ох, умора! А девка была горячая. Бедра такие… А грудь… Нет, ну надо же! – и, хлопнув себя по ляжкам, он снова расхохотался.
– А стол кто перевернул? – На лице Мишки появилось странное выражение.
– Так мы и перевернули! Девка была крупная… Я на столе пытался ее.. А стол и перевернулся…
– Ты больной, – вздохнул Мишка, – денег хоть немного было?
– Да вроде прилично! Вчера только перевод за ранение получил, на три месяца здесь пособие положено. Так что крупная была сумма.
– Надо найти шалаву, – сказал Мишка, – я скажу кому следует – суку быстро отыщут, и к ногтю!
– Вот еще чего, – Котовский вдруг стал серьезным, – буду я счеты сводить с бабой! Бабе мстить – не мужское это дело. Ну ее. Грабанула – и ладно. От меня не убудет. А к ногтю – зачем ногти-то пачкать?
– Где ты ее подцепил, хоть скажи?
– Да в борделе на Ланжероновской! Веселое такое заведение. Занавески в цветочек. Классная была девка, с широкой костью. Мне такие нравятся. Мы на Дерибасовской еще кутили. Потом я сюда ее привез. Странно, да?
– Что странного?
– Я каждый день новую девку сюда вожу, а только эта шалава меня грабанула. Деревенская какая-то. Явно не знала, кто я такой.
– Значит, нужно найти и как следует объяснить, чтоб больше неповадно было!
– Нет, – Котовский покривился от головной боли, – и не вздумай даже! Хотя…
– Что? – Мишка подошел ближе, сразу уловив изменившиеся нотки в тоне своего друга и командира.
– Я вот что думаю… А знаешь, чей это бордель?
– Ну? – Мишка слушал с интересом.
– Майорчика. Ну, правой руки Японца покойного, царствие ему небесное! Мейера Зайдера. Он как в Одессу вернулся тайком, так сразу бордели стал крышевать. И этот давно уже его. Он, наверное, не знает, что я в городе.
– Не говори глупости! – сухо сказал Мишка. – Вся Одесса знает, что после ранения Котовский отдыхает на вилле на Французском бульваре, которую ему большевики выделили! Так что не может Зайдер управляться с борделями и такого важного не знать!
– Да, – Котовский задумался, – слушай… Я тут подумал. Девка эта – хороший повод, чтоб не ее к ногтю, а Зайдера. Не нравится он мне.
– Это тебе зачем? – Мишка нахмурился. – Ты тут пересидишь еще месяцок и уедешь, а Одессе здесь жить.
– С каких это пор ты, Мишка Няга, одесситом заделался? Ты всегда был ушлый цыган без роду без племени! Помнишь, где я тебя подобрал?
– Помнить-то я помню. Я все помню, – мрачно сказал Мишка Няга, правая рука и самый верный адъютант Котовского, – только вот Одессу я всегда любил и буду любить. Не лезь ты в их дела!
– С чего ты про этих биндюжников печешься? – нахмурился Котовский. – Злые языки мне давно несут, что ты закорешился кое с кем с Молдаванки.
– Пусть несут, – хмыкнул Мишка, – а Молдаванку я люблю! Она на мой родной городок похожа.
– Какой твой родной городок? – подозрительно спросил Котовский.
– Тебе это зачем? Было – и сплыло, что о том думать, – пожал плечами Мишка, – много всего было. Погулял на своем веку. Людей грабил. Много было. А теперь – теперь в другую жизнь. Ты лучше посмотри, что еще она у тебя грабанула!
Котовский сполз с постели и принялся одеваться. Затем подошел к тумбочке и учинил тщательный досмотр.
– Эй, глянь-ка! Это что такое? – удивленно воскликнул он, сбросил на пол лежащую на боку лампу и позвал Мишку рукой.
Няга подошел ближе. На полированной поверхности тумбочки лежали какие-то крупные кристаллы белесоватого цвета.
– Похоже на соль, – сказал Мишка и взял один кристаллик. Лизнул. – Не соленое.
– Кокаин это прессованный, – мрачно произнес Котовский, – девка с собой принесла. Я вспомнил. Подпольным образом его таким делают. Надо кристаллик растереть – и все.
– На соль очень похоже, – повторил Мишка.
– А ведь действительно, на соль, – и, подбросив кристаллик на ладони, Котовский задумчиво уставился на него.
Длинный черный автомобиль затормозил возле ярко освещенного подвала на Ланжероновской. В этот поздний час ночи (на часах возле Думы было десять минут второго) улица была совершенно пустынна. Даже подгулявшие прохожие давно попрятались по домам.
Из открытых дверей автомобиля показались кирзовые сапоги, затем – волосатые руки с наганом. Ствол нагана упирался в темноту. Наконец появились два высоченных лба – под два метра ростом, в фирменной одежде одесских бандитов: черная кожанка, под ней яркая косоворотка навыпуск. Оглядев страшными глазами окрестности улицы и потыкав для острастки наганами в темноту, лбы заняли дежурство у дверей подвала. А из автомобиля, кряхтя и тяжело дыша, вывалился маленький Туча, еще больше увеличившийся в объеме. Эти бандиты были его личной охраной.
Туча выглядел как настоящий франт. Полы длинного черного пальто щегольски подметали тротуар, и он поддерживал их тростью с позолоченным набалдашником. Мягкая фетровая шляпа вызывала в памяти Монмартр. А сквозь раскрытые полы пальто, под пиджаком, на массивной груди Тучи пламенел ярко-алый галстук. Туалет довершали лакированные штиблеты. Для полного завершения шика не хватало только гвоздики в петлице пальто.
Туча был роскошен и вальяжен. Двигался медленно, с невероятным достоинством. Два головореза сжались при его появлении и услужливо распахнули дверь подвала. В воздух вырвалась волна запаха затхлого помещения и гвалт визгливых женских голосов.
Внутри дым стоял столбом. В эту ночь в заведении гуляли матросы, и теплая вонь подвала обволакивала всех присутствующих сизым дымом. Какая-то полуголая девица бросилась было к Туче, на ходу виляя голым дебелым бедром. Но тот, сдвинув к переносице брови, еле слышно бросил небрежное:
– Вон!..
И один из головорезов отпихнул девицу в сторону:
– Куда лезешь, шкура!
Девица не обиделась. Подобное обращение было привычным. Ничуть не смутившись, она растворилась в толпе.
Туча важно прошествовал через забитый зал. Головорезы старательно расчищали перед ним дорогу.
И наконец он оказался в небольшой комнатушке, ход в которую вел через соседний коридор.
Комнатушка, освещенная ярким газовым фонарем, была без окон и представляла собой нечто вроде рабочего кабинета. За письменным столом в центре, обложившись конторскими книгами, сидел Мейер Зайдер и что-то старательно считал, громыхая костяными счетами и водя пальцем по замусоленным страницам толстого гроссбуха. На стуле рядом спал толстый черный кот. При виде Тучи Зайдер привстал и с ходу выпалил: – Деньги за норму! Завтра принесу.
Спихнув со стула кота (тот спрыгнул с обиженным мяуканьем, зло покосившись на Тучу), посетитель подвинул стул к Зайдеру и уселся с таким важным видом, что Мейер замолчал.
– За шо мне твои деньги? – веско сказал Туча. – Этой ночью ты должен тикать из города.
– С чего это? – нахмурился Зайдер.
– А за то! Ноги в руки – и вперед, если не хочешь за цугундера себе кишки попортить.
– Ты за шо говоришь? – повысил голос Мейер.
– Услугу тебе делаю! Гешефт, как своему швицеру, – хмыкнул Туча. – Завтра прикроют твой бордель. Есть такая вот малява от красных. Донесли на хвосте. А тебе надо тикать из города. Бо уши оборвут.
– Кто? – Зайдер страшно побледнел, и по его лицу судорогами промелькнули болезненные тени. – ведь всего пару месяцев, как до Одессы вернулся. Я за все делал правильно, как ты велел. Кто?
– Ты знаешь, – веско сказал Туча, и Мейер отвел глаза в сторону. – Я ему ничего не сделал, – тоскливо произнес он.
– Речь не за то, – хмыкнул Туча. – Серьезные люди хотят свою наводку в Одессе. А ты попадешь под раздачу. Я к тебе как к другу пришел. Иначе…
– Я ценю, правда, – поспешил согласиться Мейер. – Куда мне идти?
– Мир за всегда большой, – ответил Туча, – перекантуешься до малости за лето, а дальше будем посмотреть. Не до ушей же за вечно здесь придет шухер! Шо-то решится в городе.
Зайдер тяжело вздохнул.
– А правду говорят, что его деваха твоя громанула? – вдруг хохотнул Туча. – Защипала, шо твоего гуся?
– Правду, – мрачно сказал Мейер, – я ее вышвырнул отсюда, шкуру. Морда деревенская, курица из навоза вылезла. И шо это село прется в Одессу? Сидело бы в своем навозе! А теперь из-за твари этой навозной мне гембель за голову! Из-за нее?
– Нет, не из-за нее, – веско сказал Туча, – из-за Цыгана. Ты знаешь.
– Я знаю, – Зайдер кивнул, – я сам на его похоронах был. Я до сих пор понять не могу, почему вместо Цыгана этот швицер паскудный вылез, что твой чирей на заднице! Мишка… Как там его…
– Мишка Няга, – подсказал Туча, – он правая рука Котовского. Они не разлей вода. Как ты в свое время был с Японцем.
– Подожди! – Зайдер вдруг рухнул на стул. – Ты хочешь сказать, что он завтра сюда придет? Этот Мишка Няга?
– Он, – кивнул Туча, – потому я и здесь.
Зайдер вскочил из-за стола и быстро заметался по комнате, собирая какие-то вещи. Открыл в стене сейф. Бросил прямо в руки Тучи увесистый кожаный мешок.
– Вот твои деньги. Я по-честному играю.
– Знаю, – Туча поднялся с места, – потому за тобой и пришел. Идем. Вывезем тебя через балку, пойдешь по дороге на Киев. Там пересидеть можно будет, есть одно село. Как поутихнет все, вернешься в Одессу. Но раньше не смей, если не хочешь повторить судьбу Японца. Я сообщу.
На следующий день к подвалу на Ланжероновской подъехали две телеги, доверху груженные красноармейцами с винтовками наперевес. Часть из них окружила вход, а часть ворвалась внутрь.
Было два часа дня, и заведение было закрыто. Общий зал был безжизненным и темным. Сквозь закрытые ставни сочился серый, угрюмый свет. Стулья были поставлены на столы. В зале еще не убирали, и на темном от грязи полу валялись осколки разбитой посуды, пустые бутылки из-под шампанского, ленты бумажного серпантина и раскрашенные ватные шарики. Красноармейцы прошлись по комнатам и согнали в зал сонных девиц.
Нечесаные, заспанные, в грязных ночных сорочках, со следами расплывшегося грима на распухших лицах, девицы выглядели трогательно и жалко. Они зевали во весь рот и испуганно жались друг к другу, как стадо перепуганных овец.
– Где начальство? – рявкнул рослый красноармеец в папахе. Кто-то из девиц дрожащей рукой указал в коридор.
Красноармейцы расступились, и в зале появился Мишка Няга в сопровождении еще одной группы солдат. В черной кожанке и кирзовых сапогах, с пулеметной лентой через всю грудь, он выглядел невероятно внушительно.
– Вот что, тетки, – сказал Мишка веселым и звонким голосом, – притон ваш зловредный принято решение закрыть. А вас в 24 часа вышвырнуть вон из города как источник распространения заразы и разных венерических болезней. Мы, конечно, могли вас и в тюрьму запереть. Но никому неохота возиться с вами, венеричками. А потому собрать свои манатки, узлы и всякий там мусор, и вон из города! Увижу шваль какую на улице, не пощажу! Пошли по своим деревням, и сидеть там в навозе, не высовываясь! И учтите, тетки, я сегодня добрый! А мог бы и к стенке поставить! Так что ноги в руки, собрали манатки и пошли вон!
Красноармейцы подталкивали штыками перепуганных девиц, которые быстро разбежались по своим комнатам собирать вещи и бежать прочь от этой страшной облавы. По слухам они знали, как большевики расправляются с притонами, и прекрасно понимали, что им таки повезло.
Оставив солдат в коридоре, Мишка вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. В кабинете за столом восседал Туча.
– Борзый мальчиша, да? – Туча недобро усмехнулся при его появлении.
– Здравствуй, – Няга помялся на пороге, – я не хочу войны. Я пришел, как ты сказал.
– Да, за так, – кивнул Туча, – и намотай за шкуру, сопляк, если я позволил тебе разогнать в моем городе один бордель, это не значит, шо ты будешь как Цыган.
– Сход заместь Цыгана поставил меня.
– Сход – это теперь я, – веско бросил Туча, – я поставил – я и выкишнуть могу в любое время!
– Чего ты собачишься? – примирительно сказал Мишка. – Я ж за все так, как ты велел. Девиц ни одну не тронул. Бордель тот взял, шо ты позволил. Ты ж знаешь за власть в городе.
– Был такой король на Молдаванке – Калина, – произнес Туча, пристально глядя Мишке в глаза, – он заправлял всеми борделями на Молдаванке и в районе Привоза. И очень плохо он кончил. А ведь тоже налеты на чужие бордели совершал! А кончил таки плохо, и если ты за мои слова на уши не намотаешь, и ты плохо кончишь, я не засмотрю за твоего Котовского! А до Цыгана тебе, швицер, как до Луны пешком!
– Я не понял… Ты грозишь мне, что ли? – недобрые искры мелькнули в глазах Мишки.
– Ни в жисть! – усмехнулся Туча. – Просто так… Довожу до ума. Уж больно борзо вы вошли в мой город. Так и передай этому своему Котовскому. А борзость, она в сортире хороша, когда живот прихватило. А не в серьезных до людей делах. Бордель разгромить любая сопля может. Что бордель – стая перепуганных деревенских девок! Та еще доблесть – с ними воевать! Но ты с девками воюешь, пока я позволяю. И до куда ты дальше зайдешь, буду решать я. Учти, швицер: борзость она так об горло наматывается, шо родная мама тебе не поможет. Так что пусть знает об этом твой Котовский. Это я, Туча, тебе говорю, и слово мое за цей город – закон.
– Я тебя услышал, – Мишка кивнул головой, пряча недобрый блеск глаз, – а где Зайдер? Это ведь он заправлял этим борделем.
– А нету твоего Зайдера! Сам не знаю, куда он делся. Свалил из города. Ушел под воду. Девки сказали, шо до недели не видели за него. Я за него тоже спросил. Выкишнулся Зайдер, так шо не ищи понапрасну. Он не дурее тебя. Знает, шо давно замочить его хочет твой Котовский. Вот и успел сделать ноги до тебя.
Мишка кивнул и вышел из тесного кабинета. Туча с недоброй ухмылкой смотрел ему вслед.
Ночь была темной, абсолютно безлунной. Темнота казалась сплошной и плотной. Только плеск весел создавал тревожные ощущения, нарушавшие темноту. Лодка медленно шла к берегу. И трое людей в ней пристально вглядывались во тьму.
На далеких очертаниях мыса вдруг мелькнул тусклый огонек, затем еще один. Потом в воздухе появилась целая цепь из огоньков, вспыхивавших один за другим.
– Сигнал, – произнес человек, держащий в лодке самодельное приспособление, заменявшее руль, – суши весла. До берега меньше мили.
Двое других вытащили весла из воды, а затем принялись накрывать брезентом толстые мешки, лежащие в лодке на дне.
– Палыч, а огоньки-то рвутся, – вдруг сказал самый молодой из троих, – вдруг как не нас ждут?
– Тьфу, дурья твоя башка! – Палыч уверенно направлял руль в темноту, – да кого на мысе Фонтана ждать, как не нас! Чу! Причалим. Сиди тихо.
Лодка дернулась, врезаясь в песок, и остановилась. Люди поднялись на ноги, собираясь выпрыгнуть из нее, как вдруг раздалось громкое ржание лошадей, и их окружила группа всадников.
– Сидеть на месте! Патруль! – зычно выкрикнул молодой голос в темноту. – Кто такие, что везете?
– Соль перевозим, – сказал Палыч, – с баркаса за мысом взяли груз соли. Вот она, на дне лодки, в мешках. Проверить можешь. И документы вот.
Но командир всадников даже не прикоснулся к бумажке, дрожащей в руке старика. Он сделал быстрый, едва уловимый жест. Всадники вскинули винтовки. Трое людей в лодке попадали в песок, сраженные градом пуль. Спешившись, командир всадников прыгнул в лодку, развязал мешок. Кто-то из солдат подсвечивал ему фонарем. В мешке была соль. Командир попробовал ее на вкус, поморщился.
– Трупы сбросить в море, лодку отогнать за мыс, двое. Остальные за мной.
Команды выполнялись со скоростью света. Лодку снова спустили на воду. А конный отряд бесшумно исчез в темноте.
Глава 3
Одесса, окрестности Жеваховой горы, конец 1924 года
Сноп пламени ворвался в трубу дымохода, загудел с диким воем. Искры высыпались на потертый коврик перед печкой. Но старуха-гадалка не обратила на них никакого внимания. Скрюченными от артрита пальцами она перебирали замусоленные, потертые карты, раскладывая их на столе.
Круглый стол был покрыт клеенчатой скатертью, такой вытертой от времени, что цвет клеток нельзя было разгадать. Тощий кот свернулся в клубок под столом, глядя на одинокую посетительницу недобрыми желтыми глазами. Кот тоже был стар, и его свалявшаяся шерсть вылезала в разных местах, а острые кости выпирали сквозь морщинистую, обвисшую шкуру.
Все вокруг было старым, запущенным, свидетельствовало о жестокой степени нищеты и унылой покорности пред судьбой, давным-давно оставившей этот дом.
С посетительницей дело обстояло не лучше. Худая, лет шестидесяти, с завитыми кудряшками – дань моде, долго держащаяся завивка, – нервно курила черную египетскую сигарету в длинном мундштуке и сбрасывала пепел прямо на пол. На ее костлявые плечи была наброшена горжетка с куцым мехом, выкрашенным коричневой канцелярской краской. Кое-где от времени цвет сошел, обнажив порыжелую основу шкуры какого-то то ли кролика, то ли кота.
В облике дамы существовала претензия, еще более жалкая и печальная, чем нищенская обстановка вокруг. Претензия остановить время, которое ушло, и лучшие годы, которые далеко в прошлом, и внимание людей, равнодушно проходящих мимо, и будущее, которого откровенно нет.
Старуха-гадалка раскладывала на столе карты, ярко освещенные двумя черными свечами и пламенем из печки, разгоревшимся с новой силой. Возраст ее нельзя было определить. Ей могло быть и шестьдесят, и семьдесят, и даже девяносто. Сморщенное, как печеное яблоко, лицо было темно-смуглым, что говорило о присутствии в ней цыганской крови. Седые волосы были собраны в тугой пучок на затылке. А в ушах при каждом повороте головы звенели массивные серьги – кольца, но не из золота, как полагалось бы настоящей цыганке, а из жести. Золото давным-давно покинуло этот дом, было продано в тщетных попытках выжить в том безвременье, которое сваливается на людей настолько же страшно, насколько поражает внезапная жестокая болезнь или смерть.
– Дорога тебе будет… Но не скоро, – старуха равнодушно раскладывала карты, – не захочешь ехать, но придется. Пустая дорога…
– Это тетка, наверное, в Киев позовет, – дама отрешенно снова затянулась сигаретой, – да ну ее, эту тетку! С королем-то, с королем что будет?
– Сейчас посмотрим, не торопись, – старуха смачно зевнула во весь рот, потягиваясь на стуле. Весь ее равнодушный вид означал, что и карты, и клиенты надоели ей безмерно, и что нет уже сил говорить каждый день одно и то же, что не сбудется никогда.
Вдруг тишину комнаты разорвал грохот, раздавшись с такой силой, что подскочили все трое – и старуха-гадалка, и клиентка, и кот. От неожиданности старуха выронила карты, а дама – сигарету, которая, к счастью, погасла на лету.
Дверь выбили, и, сорвавшись с жидких дверных петель, она отлетела в стенку и упала. На пороге возникла толстая девица лет двадцати пяти. Ее белесые волосы были растрепаны, торчали во все стороны, а лицо пламенело. Казалось, его просто покрасили ярко-красной краской, и это было так неестественно, что страшно бросалось в глаза. Глаза девицы были при этом совершенно безумны, а расширенные зрачки не отражали свет. В руке она сжимала огромный топор. Им и выбила дверь.
Первой очнулась клиентка. Дурным голосом завизжав, она вскочила с места так стремительно, что опрокинула стул и устремилась в угол комнаты, пытаясь спрятаться за рваной китайской ширмой. Но сумасшедшая девица не обратила на нее никакого внимания, она бросилась к старухе.
– Они преследуют меня! – страшно закричала она. – Демоны! Они повсюду! У них красные глаза! Это ты напустила их на меня!
Старуха застыла на месте. Казалось, она была парализована ужасом – сдвинуться с места не было никаких сил. Девица грохнула топором по столу, перерубив его пополам. Шаткий стол был настолько стар, что для него хватило одного удара, и он рухнул. Карты посыпались на пол.
– Ты наврала! Ты напустила на меня демонов!
– Успокойся… – попыталась произнести гадалка.
– Демоны! Они хотят мою душу! Повсюду! Здесь…
– Я прогоню их, – голос старухи дрожал.
– Он на другой женится, ты, тварь! – Девица сорвалась на истерический крик. – Он женится, как ты и сказала! Но не на мне! На другой!
– Я… я… – Старуха была явно испугана. – Мы исправим… еще можно…
Подняв топор, девица издала жуткий крик и со всей силы опустила его на голову гадалки, затем еще и еще… На губах ее появилась густая белая пена. Выронив топор, убийца свалилась вниз, на пол, рядом с окровавленным трупом старухи. Тело ее забилось в конвульсиях, в таких страшных судорогах, что, казалось, всю ее выворачивает наизнанку. Судороги были жуткие, но короткие – агония длилась не больше трех минут. Резко дернувшись, девица выгнулась в дугу и так и застыла. Когда до смерти испуганная клиентка гадалки осмелилась выползти из-за ширмы, та была мертва…
Ресторан «Канитель» был заполнен под заявку. В узком тесноватом зале яблоку было негде упасть. Все столики были заняты. Яркие платья дам из панбархата какими-то лихими радостными пятнами сливались в одну линию. В ресторане «Канитель» публика выглядела роскошно.
Это было то время, когда частные ресторации входили в моду. Новая экономическая политика позволила развернуться вовсю тем, кто привык прятаться в подполье, остерегаясь жестких методов классовой революции. Некоторая доля свободы вдохнула новую жизнь в южный город, и без того полный предприимчивых и изобретательных людей, способных не только приспособиться к новым условиям, но и в который раз подняться на ноги.
16 апреля 1921 года местная власть объявила об экономических изменениях. В Одессе стали появляться первые торговые лавки, салоны красоты, частные рестораны и кафе и самодельные биржи по принципу «шахер – махер» (купи – продай). Под эти биржи быстро приспосабливались небольшие ресторанчики в центре города. Посещала их публика соответствующая. Расслоение общества было невероятное.
Спекулянтов-бандитов постепенно вытеснили красные спекулянты. Жены и подруги красных комиссаров начали продавать меха, драгоценности и предметы роскоши, отобранные при обысках. А также дорогие продукты питания, которые красное руководство получало как спецпаек.
С одной стороны, нэп позволил обогатиться каким-то слоям обществ, с другой – принес ужасающую нищету остальным.
Большевики отказались от заводов и фабрик, а те пока еще не перешли в частные руки, – в руки нэпманов. Поэтому легче было эти предприятия закрыть. Безработными в Одессе осталось 40 тысяч человек. Люди падали в голодные обмороки на улицах, у станков. Покупательская способность снизилась в пять раз.
В этом жизнерадостном городе разразился жуткий голод; чтобы его избежать, в 1922 году в Одессу впервые вошел пароход с западной гуманитарной помощью, эту помощь зерном привезли американцы. Однако большая часть этого зерна осела в карманах красного руководства, которое затем продавало его втридорога…
В 1924 году демонстративно покончил с собой одесский рабочий Кучеренко – он выбросился из окна: причиной этому стал все тот же голод и отсутствие зарплат. И начались бунты, которые неофициально получили название «голодных». Пять тысяч безработных двинулись к одесскому окружному комитету. Пролетарии булыжниками разбили окна, ворвались в здание. Под их давлением руководство округа подписало документы о том, что безработные будут участвовать в работе Советов. Но это политическое решение ненамного спасло экономическую ситуацию – кризис усиливался все больше и больше.
Появилась новая валюта – червонец. Он резко обесценил все прежние деньги. Нэп ввел частную собственность для мелких и средних предприятий. Товарно-денежные отношения вывели из подполья предпринимательство. Но, так как государство отменило контроль над ценами, все это быстро превратилось в откровенную и бессовестную спекуляцию. Цены взлетели вверх. Начался кризис. Деньги обесценились с катастрофической скоростью. Появился жесткий дефицит наличных. В таких условиях возник товарный обмен, когда один товар обменивался на другой, а вещь – на вещь. Ну, а кто владел большими денежными средствами, получал ценные вещи просто за бесценок. Со временем обмен стал неравноценным. Не редкостью было, когда за золото или предметы роскоши давали только продукты питания.
Резкое расслоение общества вызвало новый всплеск бандитизма, когда безработные и отчаявшиеся люди стали вливаться в банды, пытаясь хоть как-то выжить.
Вот таким был нэп в Одессе. И ресторанчик «Канитель» был типичным продуктом своего времени. Посещали его в основном спекулянты, а потому тут всегда можно было встретить хорошо одетых людей. Цены при этом в заведении были достаточно высоки.
Не стесненные в денежных средствах одесситы позволяли себе тратиться на модную одежду и дорогую еду. В таких местах, как «Канитель», всегда можно было увидеть главных модниц своего времени.
А мода между тем менялась резко и с катастрофической скоростью, шокируя людей старшего поколения.
Самым страшным яблоком раздора между людьми разного возраста стала… косметика. Тогда, в прежней жизни, макияжем или гримом позволялось пользоваться только двум категориям женщин: либо актрисам, либо женщинам легкого поведения, представительницам древнейшей профессии. А женщины двадцатых годов стали краситься ярко, с вызовом и очень демонстративно. И к этому надо было привыкнуть.
Американская компания « Max Factor» создала вариант макияжа, который с невероятной скоростью дошел до Одессы, всегда прогрессивной в вопросах моды. Это был макияж губ под названием «Укушенная пчелой»: в пределах губ рисовался маленький, яркий, очень выпуклый ротик. Придумано это было специально для кино, потому что под горячими софитами помада растекалась, плавилась и смазывалась. Но женщины, не вдаваясь в такие тонкости, быстро подхватили идею, увиденную на экране.
Вторым скандальным фактором, шокирующим общество 1920-х годов, стала… короткая стрижка. Раньше обрезанные волосы были позором для женщины, все ходили с длинными волосами, но в условиях войны, нехватки воды, дефицита мыла да и того, что женщины были вынуждены работать наравне с мужчинами, ухаживать за длинными волосами у них не было возможности. В 1920-х годах мужчины и женщины стали стричься одинаково, и постепенно женщины очень увлеклись короткой стрижкой, полюбив ее за практичность.
Третьим поводом для скандала стала длина юбок. Она уменьшилась просто стремительно! Уже к 1924 году юбки женщин укоротилась настолько, что едва прикрывали их колени. Это позволяло женщинам показывать свои ноги. Но на этом мода не остановилась.
В обиход для женщин стремительно стали входить атрибуты мужской одежды – брюки, рубашки, свитера, свободные пиджаки. Женщины увлеклись брюками настолько, что брюки для них стали даже специально производить на фабриках! А в 1920-е годы появился культ машинного производства. Стало считаться, что одежда, изготовленная машинами, на фабрике, намного лучше, чем сшитая вручную дома.
Но если повседневная одежда машинного производства была достаточно проста, то в вечерней одежде состоятельные дамы стали проявлять просто невероятную изобретательность! В моду вошли вечерние платья из панбархата, меха, украшенные перьями, пайетками, бантами. Самой модной стала отделка мехом. Женщины стремились пришить кусок меха на воротник, манжеты или завернуться в полоску меха, как в шарф.
За неимением ценного меха и его дороговизны использовалось то, что всегда было под рукой – мех кроликов, собак и котов. Скорняки, потрошащие домашних животных, обогащались с невероятной скоростью. А стоило покрасить канцелярской краской мех кота, как он начинал вызывать бешеную зависть у всех подруг!
Но настоящим хитом всех сезонов стали чулки! Ведь теперь ноги были открыты, и можно было надевать чулки всех расцветок, кружевные, с различной отделкой. Фирмы массового производства быстро стали делать дешевые чулки из синтетических волокон. В моду стремительно вошли чулки всех цветов радуги с геометрическими узорами. К ним прилагались подвязки – тоже разноцветные и декорированные. А чтобы подчеркнуть все это, появились каблуки. Без туфель с каблуком-рюмочкой не обходилась ни одна уважающая себя модница 1924 года!
Еще одной обязательной деталью стал мундштук. Женщины двадцатых годов принялись массово курить – это было признано очень модным. А потому в модных ресторанах дым стоял коромыслом, зависая в сизые клочья под потолком. Теперь женщины курили наравне с мужчинами.
Но самое главное – новая экономическая политика позволила женщинам заниматься предпринимательством наряду с мужчинами, и у женщин… появились деньги! Они стали открывать швейные мастерские, салоны красоты, рестораны, кондитерские, цветочные магазины… Быстрое развитие сферы услуг позволило открыть множество различных точек – к примеру, по перешивке платьев, вязанию и прочему. Заняв активную позицию, женщины принялись усиленно вкладывать деньги в себя – шить немыслимые наряды, изобретать замысловатые новые прически. А по вечерам демонстрировать их в заведениях, где собиралась публика такого же плана.
Ну а менее удачливые товарки, которым не повезло в жизни, для новых фасонов придумывали издевательские клички. Так, для модного платья с хвостом прицепили кличку «собачий хвост», а для входивших в моду кудряшек – «я у мамы дурочка». Но модных представительниц новой буржуазии это не смущало, ведь все блага жизни были открыты для них.
И одним из таких мест, где всегда было полно модных, успешных людей, стал ресторанчик «Канитель», с модной же по тем временам французской кухней и дамским оркестром.
Хозяйкой «Канители» была мадам Майя, одесская дама пятидесяти шести лет. Настоящее имя ее было Гликерья, но в здравом рассудке ясно, что в таком имени никто не признается. А потому юная Гликерья после переезда в Одессу мгновенно превратилась в Майю. Она прожила бурную жизнь. А освоиться в ресторанном бизнесе ей помог сын, который занял довольно высокое положение при большевиках и перебрался в Москву. Прикрываясь сыном, как флагом, мадам Майя могла позволить себе все, и при этом поддерживала отличные отношения и с большевиками, и с криминальным миром.
Она регулярно платила дань Туче, который взял «Канитель» под свое особое покровительство. Дела ее процветали. Несмотря на то, что мадам, как уже говорилось, стукнуло пятьдесят шесть, всем мужчинам она говорила, что ей лишь тридцать пять. Так как у мадам Майи были деньги, мужчины делали вид, что верят. Она носила элегантные губки «укус пчелы» пунцового цвета, подкрашивала стрептоцидом ярко-рыжие волосы и предпочитала платья из панбархата с откровенным вырезом модного в те годы фасона «гранд-кокет». Для торжественных случаев у мадам Майи было два платья – одно с мехом и с хвостом, другое тоже с мехом, но без хвоста.
Какой-то приблудный кот, расставшийся с жизнью в подвалах скорняка на Малой Арнаутской, был выкрашен в изумрудный цвет и пламенел на обширной груди мадам, вместе с ней встречая посетителей.
В тот зимний вечер ресторанчик «Канитель» был забит под завязку. А мадам постоянно торчала в дверях, в модном платье с хвостом («В собачий хвост вырядилась», – злорадствовали официантки, убегая подальше), взбивая на голове кудряшки и пламенея желтой «шиншиллой» на воротнике. «Шиншилла» была покрашена плохо и кое-где пробивались предательские кошачьи полоски.
Мадам ждала свой «предмет» – молодого актера оперетты, недавно приехавшего в город. Актеру было тридцати пять. Он был красив и разведен. «Ах, так мы с вами ровесники!» – закатила мадам глаза и принялась каждый день кормить его в «Канители» – разумеется, бесплатно.
Актер вошел во вкус и даже обнаглел. Однажды мадам застукала его с восемнадцатилетней официанткой, только-только перебравшейся в Одессу из села. Но актер был талантлив, а потому сумел отвертеться. Мадам поверила. Но, как деловая женщина, подозрение затаила. А потому решила серьезно поговорить с «предметом», когда он явится на очередную кормежку. Несмотря на обилие людей, специально для него, как всегда, был оставлен столик.
Мадам Майя была женщиной деловой и к людям относилась осторожно. Поэтому в ее ресторане всегда находились два охранника – крепкие мужички с Молдаванки, которых ей лично порекомендовал Туча, когда мадам обратилась с такой просьбой. За долгие годы бурной жизни Майя усвоила, что посетителей ресторана иногда приходится не только успокаивать, но и выводить.
Но в тот вечер мадам потеряла бдительность и отпустила охранников свободно гулять по залу. Впрочем, гулял только один, а второй выпросил выходной.
Майя нервничала, поглядывала на часы. Актер запаздывал. Хорошее настроение мадам, в котором она собиралась встретить «предмет», стало улетучиваться.
Было уже около 10 часов вечера, когда на пороге ресторации вдруг показался бледный молодой парень, держащий руку в кармане пиджака элегантного костюма. Он беспрепятственно прошел внутрь, потому что был очень хорош собой да и одет шикарно.
Новый парадный костюм-тройка подчеркивал его достаток. Правда, черный цвет костюма несколько его старил, но зато отлично демонстрировал дороговизну ткани и искусство портного. Наметанный глаз мадам моментально уловил и то, и другое.
Вблизи парень оказался не так уж молод – разглядывая редкие волосы, желтоватую бледность кожи, нездоровые зубы и уже глубокие морщины, мадам решила, что ему уже определенно за тридцать пять, а у нее в деле определения возраста был опыт. Парень вошел внутрь, остановился посреди зала и блуждающими глазами принялся рассматривать сидящих за столиками людей, ни на чьем лице надолго не останавливаясь. Правую руку он по-прежнему не вынимал из кармана. Мадам почувствовала первый укол тревоги.
Если бы рядом был охранник, она позвала бы его, но охранника не было.
– Вы ищете своих друзей? – Майя подошла к нему. Парень обернулся. Глаз у него не было. Именно так ей показалось. Черные зрачки были так расширены, что полностью закрывали всю радужную оболочку. И в этом было что-то устрашающее.
– Они преследуют меня… – Парень повернулся к женщине, но было понятно, что он не видит ее. – Они идут за мной… Демоны… Идут следом…
Мадам отшатнулась, но было уже поздно… Выхватив револьвер из кармана, парень выстрелил из него прямо в огромную грудь мадам. А затем, когда мадам Майя навсегда застыла на полу своего заведения, принялся беспорядочно палить по посетителям.
Началась паника. Пули попадали в люстры, в зеркала. Шум, грохот от бьющегося стекла, вопли раненых – казалось, этот хаос пришел из самого ада. Отшвырнув разряженный револьвер в сторону, парень вдруг схватился за голову и завыл.
На его губах выступили обильные хлопья белой пены. Он рухнул на пол и стал извиваться в конвульсиях. Эти судороги были мучительны – тело его выворачивалось, билось об пол. Никто не решался к нему подойти. Вокруг него образовался круг – люди расступались, охваченные ужасом, наблюдая за этой жуткой агонией.
Наконец, после очередной мучительной судороги, молодой человек выгнулся так, что только его затылок и пятки касались пола. А затем резко рухнул вниз и застыл. Глаза его застекленели. Он был мертв, и устрашающий взгляд неестественных зрачков теперь был направлен в пустоту. Страшно завизжала какая-то женщина. Зал ресторана наполнился гулким топотом кованых сапог – в ресторан вбегали солдаты и милиционеры.
Глава 4
Обхватив руками голову, Циля горько заплакала. Таня обняла подругу за плечи и с растерянным видом уставилась в окно. Было больно видеть Цилю такой. Хмурое, усталое лицо любимой подруги было для нее как нож в сердце. Но что она могла сделать, кроме как произносить бессмысленные, ничего не значащие слова?
Тревога пришла в маленький уютный дом за ставком. За год обстоятельства жизни Цили очень сильно изменились. Контора, в которой работал ее муж Виктор, закрылась, а ее директор был арестован большевиками за контрреволюцию и шпионаж. Виктор едва не попал в тюрьму. Только вмешательство его личных друзей по киевскому ЧК предотвратило катастрофу. От ареста Виктора спасли. Но нельзя было спастись от голода в городе, обескровленном страшной войной.
Продовольствия на всех не хватало. Хлеб выдавали по хлебным карточкам. За ним выстраивались колоссальные очереди. Нередко людей там давили насмерть. Карточки на хлеб можно было получить только на официальной работе как продовольственный паек. У спекулянтов хлеб стоил так дорого, словно пекли его из чистого золота, а не из глинистой, перемешанной с опилками муки.
Таня как могла помогала – но на скудный паек, положенный вдове чекиста, она кормила шесть человек: себя с крошечной дочкой Наташей, названной в честь бабушки, Иду с ее дочкой Мариной, которая жила вместе с ней, Цилю и ее мужа Виктора. Учитывая скудность пайка, значительно урезанного властями в последнее время, его не хватало даже на одного взрослого человека, не то что на шестерых.
Зная тяжесть положения Тани, ей помогал Туча, время от времени подкидывая деньги и продукты. Но гордый муж Цили не хотел жить подачками. В общем-то он был прав. А потому принял единственное верное решение, которое могло существовать для него по тем временам: он вернулся на работу к чекистам, в органы милиции, и был почти сразу же назначен следователем. Виктора приняли с распростертыми объятиями: в милиции не хватало людей, бороться со знаменитыми бандитами Одессы было попросту некому. Тем более на вес золота ценились сотрудники, имевшие хоть какой-то опыт в борьбе с криминальными элементами. А потому на Виктора сразу навесили столько дел, сколько смогли.
Новая работа избавила семью от голода и нищеты, но и унесла с собой уютное, тихое семейное счастье, выстраданное Цилей. Виктор пропадал на работе целыми днями. Часто она не видела его сутками. А зная ситуацию в криминальном мире Одессы, Циля с ее развитым воображением сходила с ума от мысли – жив муж или уже нет.
Поработав следователем, Виктор стал издерганным, раздражительным, нервным. Постоянное столкновение с опасностью сделало его злым и подозрительным. Он стал пить – по его мнению, алкоголь снимал постоянное нервное напряжение, в котором он жил теперь без перерыва на сон. Между супругами начались скандалы. И все чаще Таня заставала подругу в слезах…
Очень быстро Виктор стал меняться, и не в лучшую сторону. Циля не винила его, прекрасно понимая, что муж попал в адские жернова. Больше всего на свете она боялась его потерять – Виктор стал ее жизнью. И Циля мучительно переживала за него.
Таня как могла пыталась поддержать ее. Но все чаще она заставала Цилю одну. Похудевшая, подурневшая, она стала выглядеть значительно старше своих лет. Тане мучительно больно было видеть ее такой.
– И вот теперь все за так. Нету его, как за ничто нету мужа, – постоянно причитала Циля, – один за мусор в мозгах…
В тот вечер она выглядела еще хуже, чем обычно, все время плакала, и Таня пока не понимала причины ее слез. Она забежала к подруге рассказать о жутком убийстве в районе Жеваховой горы, о том, как одна из клиенток зарубила топором известную в городе старуху-гадалку, к которой часто ездили уличные девушки с Дерибасовской. Однажды у нее была и Циля. Таня же просто смеялась – она не верила в гадания, как не верила ни во что на свете. Среди девушек она была единственной, кто не верил в лживые росказни гадалок, которые не сбывались никогда. И все же старая врунья не заслуживала такой жуткой смерти! Таня искренне сожалела о ней, хотя и не знала ее лично.
Рассказ подруги поверг Цилю в еще большее уныние.
– Да знаю за то… Виктор уже рассказывал, – махнула она рукой, – радовался, шо за быстро дело закрыл.
– Как закрыл? – опешила Таня.
– Так психическая ее порешила, – горько вздохнула Циля, – а потом сама копыта откинула на месте. Психический припадок… Виктор радовался за то, что гембель такой закоцанный свалился с его головы!
И всего делов, что за пару бумажек подписать надо. Кончено. Хвосты в воду…
– Концы в воду… – машинально поправила Таня. – Но это же странно, что убийца умерла на месте! Нестандартное какое-то убийство! От чего она умерла?
– Ну, так психическая же, говорю! – повторила Циля, пожимая плечами. – Виктор сказал за то, что эпи… эти.. экли.. эпитетсия.
– Эпилепсия? – удивилась Таня. – Первый раз слышу, чтобы человек в эпилептическом припадке умирал на месте, кого-то перед этим убив!
– Да и не такое бывает за жизнь! – снова горько вздохнула Циля.
– А что, Виктор рассказывает тебе о своей работе? – удивилась Таня.
– Ну да, – кивнула Циля, – не за все, но говорит. Потому и плачу.
– Чего плачешь? – не поняла Таня.
– Следят теперь за ним! – Из глаз Цили снова полились слезы.
– Кто следит, зачем? – нахмурилась Таня, уже решив про себя подключить к этому делу Тучу – состояние подруги ей решительно не нравилось.
– А я знаю? – пожала плечами Циля. – Они мне не представились. А за окно я их сама видела!
– Кого видела? – не поняла подруга.
– Двоих. Ночью, – Циля вытерла слезы и заговорщически понизила голос: – Стояли внизу. Один в окна заглядывал, а другой что-то в блокноте рисовал. Я Виктора разбудить забоялась. Устает он. Озверел бы, шо твой черт! Сама тихонько под окном стояла. Страсть до жути! Аж мурашки за шкурой! Я потом так и не заснула.
– Может, это воры были? Мало ли кто по Слободке шастает! – Голос Тани дрогнул – ей очень не понравился рассказ подруги.
– Нет, – Циля печально покачала головой, – я шо, первый год за Одессу живу? Не знаю, как местные воры выглядят? Нет, это не за то совсем. Не из твоих они. Другие. За то мне и страшно.
Таня задумалась. Если за домом Цили следили не воры, не люди из криминального мира, тогда все выходило намного хуже: как бы не большевики это были. Таня прекрасно помнила историю с несостоявшимся арестом Виктора. Может, к нему сейчас решили вернуться?
В любом случае Циля была права. Слежка за домом, ночью… Плохой признак. Таня и хотела бы ее утешить, но не могла.
– Это как рыбаков тех за Фонтаном постреляли, так и началось, – вдруг произнесла Циля.
– Кого постреляли? – Таня не поняла.
– Ну, рыбаков троих. Контрабандистов. Они в лодке товар свой перевозили. Ну какой товар, такое… Прикрыли за мешки с солью, как за все делают, – пояснила Циля, которая, как и многие жители Одессы, проявляла полную компетентность в вопросах контрабанды. – А их постреляли да тела бросили на берегу!
– Кто, зачем? – не понимала Таня.
– А я знаю? – вздохнула Циля. – Вот Виктору за то дело и поручили, шоб узнал! Но я сколько живу в Одессе, – а ты ж знаешь, я живу здесь всю жизнь, как и родилась на Молдаванке, ну так я так за первый раз слышу, шоб этих левых контрабандистов постреляли за пару чулок и сигарет! Они ж хмырню перевозили, фуфло! Никому ж не нужное это фуфло было! Сигареты до нэпманских кабаков! Тю! Кто б за такое руки мараться будет? – Циля возмущенно крутнула головой. – С полгорода живут с такой мелочевки! Такой себе шахер-махер за так. Ну, были драки, кому там в морду дать. Но стрелять? А тех же, как собачат, постреляли! Ну кто за такое делает? – Она никак не могла успокоиться. – Я Виктору пыталась сказать, а он и слушать не захотел! Разозлился, шо тот пес бешеный, шо зубы скалит! А я-то знаю все это, только за как ему сказать? Ни денег, ни товара – одни сопли за кулак намотанные! Ну кто за такое убивает? – повторила Циля.
– Да, ты права, – Таня задумалась, – сигареты, чулки, консервы… Сейчас таких полгорода!
Это действительно была правда. Контрабанда в Одессе, связанная намертво с усилением экономического кризиса, пережила новый виток. И все же масштабы этой контрабанды были ничтожны по сравнению с былыми временами – с началом развития Одессы. Во времена Дюка де Ришелье и Ланжерона на контрабанде зарабатывали целые состояния, а масштабы ее были такими, что золото, бриллианты возили целыми флотилиями. С большевиками же размеры привычной одесской контрабанды сократились до ничтожных – опять же, если сравнить с прежними временами.
Происходило все так. На рейд, но за пределами территориальных вод, становилась груженная мелочевкой турецкая или румынская шхуна, умело маскирующаяся под рыбачий баркас. На берег посылался гонец, который по сарафанному радио среди местных рыбаков рекламировал свой товар – сколько и чего можно взять. После этого под покровом ночной темноты к шхуне направлялись лодки.
В мешки с солью прятали нехитрый товар: сигареты, консервы, женские чулки, духи, косметику, медикаменты – словом, все то, что было ходовым во все времена. После этого лодки возвращались на берег, товар прятали в тайнике, а затем разносили в лавки и рестораны.
Эти мешки с солью были старым, но хорошо испытанным способом, им пользовались еще деды и прадеды контрабандистов того времени. Соль хорошо объясняла тяжесть мешка, была плотной, а просеивать ее было тяжело. Словом, метод был столь удачен, что им с успехом стали широко пользоваться, тем более, когда возрос спрос на нехитрый товар.
У людей появились деньги, и они были готовы тратить их на то, что всегда, во все времена было востребовано. Они хотели курить хорошие сигареты, есть вкусные консервы, женщины мечтали хорошо выглядеть, тем более, что с новой модой спрос на косметику страшно возрос! Контрабандисты, конечно, представляли урон для экономики новой страны, но, по большому счету, урон этот был ничтожен. Ведь для золота, драгоценностей и оружия существовали масштабы покрупней. Серьезный товар никто не прятал в мешки с солью!
Циля была права: за чулки и сигареты не убивают с такой жестокостью трех человек, тем более – всех сразу. Таня поняла это, но говорить не стала, чтобы не расстраивать подругу еще больше.
– Может, их ограбить хотели, деньги забрать? – ляпнула она глупость – ей так не нравилось тревожное выражение в глазах подруги.
– Ты за меня не утешай! – Циля не поддалась на провокацию и махнула на нее рукой. – И без тебя знаю, шо плохо. Я ж не первый год на свете живу.
– Ладно, поговорю с Тучей, – решительно сказала Таня, – может, он знает. Пошлет по следу людей.
– Поговори. Но это не Туча, – как девушка, вышедшая с самого дна, Циля обладала очень острым чутьем, – не его это. Ты за Натульку свою лучше расскажи!
– Растет, – Таня, улыбнувшись, пожала плечами.
На самом деле она очень обрадовалась возможности поговорить с Тучей, словно вернуться в прошлое, отвлечься от всего. Ей был необходим глоток свежего воздуха, возвращавшего ее разбитые надежды.
Но никто, ни Циля, ни Ида даже не догадывались, что Таня уже стала возвращать себе этот свежий воздух. Она никогда в жизни не могла сидеть в четырех стенах, и рождение дочки ее совершенно не изменило. Очень скоро Таня стала задыхаться в своем доме, словно ее придавливала чугунная плита.
Если Ида была погружена в материнство с головой, то Таня стала просто тонуть в этом море мокрых пеленок, кашек, детского питания и прочего сюсюканья, которого всегда ждут от любой молодой матери. Вдруг оказалось, что пеленки и кормления составляют не всю ее жизнь. Таня стала задыхаться в этом море новых, внезапно рухнувших на нее обязанностей. И очень скоро поняла, что не может находиться в четырех стенах. Эти кастрюльки с детскими смесями, эти пеленками убивали ее, разрывали ее душу. Ей стало скучно жить.
А между тем Таня не была плохой матерью. Ей нравилось возиться с дочкой, играть с ней. Но вдруг, неожиданно для нее самой, оказалось, что дочка не составляет весь ее мир, несмотря на ее самые глубокие чувства. И Таня затосковала, тяжело, как тосковала всегда в самые мрачные периоды жизни.
Ей ужасно хотелось вырваться наружу из этого убогого существования и так, как в прошлом, глотнуть адреналина, пьянящего кровь, бодрящего, бросить вызов судьбе. Но Таня понимала, что вырваться не может. И это повергало ее в страшную тоску.
Ей хотелось жить, ведь она была молода, но кровь словно застыла в ее жилах. И ее саму пугало это страшное ощущение, что жизнь ее больше не радует. Она живет – как живет, и ничего больше.
Следуя моде того времени, Таня обрезала волосы совсем коротко, под мальчика, и покрасилась в черный цвет. Получилось отлично! Она стала выглядеть значительно моложе, и этот цвет удивительным образом шел к аристократической бледности ее лица. И к тому же на фоне черного очень ярко засверкали ее глаза, похожие на два желтоватых топаза, мистически мерцающих в темноте.
Последней каплей в этой борьбе с собой стало неожиданное посещение аптеки. Таня уже теряла последние силы и надежду, приготовившись сдаться судьбе, превратившей ее в стандартную туповатую клушу без смысла жизни и домохозяйку. Так бы все и шло, но у ее дочки вдруг разболелся живот. И Тане пришлось прибегнуть к испытанному народному средству – несмотря на то, что возраст Наташи был уже далек от младенчества, она отправилась в аптеку Гаевского за укропной водой.
В просторном зале аптеки с мраморными полами и блеском венецианских зеркал ничего, похоже, не изменилось. Символ роскоши и уюта – зеркала красовались на стенах, украшенных к тому же витиеватой мраморной резьбой. Хрустальные люстры рассеивали мягкий свет.
И тем более странно и страшно на фоне этой утонченной роскоши из прошлого выглядели посетители знаменитой аптеки – преимущественно простые деревенские бабы в платках, затоптавшие грязными валенками мраморный пол, горланящие грубыми голосами что-то бессмысленное. Не лучше были и мужчины – в основном солдаты с оружием. Они ставили винтовки на мраморные плиты и опирались о колонны, стирая позолоту затасканными шинелями, из которых вылезал грубый, щетинистый ворс.
Став в очередь за стайкой деревенских баб, Таня вдруг подумала, что именно голос является отличительной чертой простонародья – громкий, визгливый, вульгарный, вечно повышаемый голос, который словно бы летел над толпой. Женщины из общества никогда не разговаривали громкими, визгливыми голосами, наоборот, старались приглушать тон в людных местах. Ни ее бабушке, никому из подруг по гимназии не пришло бы в голову орать на людях! В аптеке Гаевского они говорили бы шепотом, уважая труд фармацевта, чтобы, не дай Бог, не потревожить, не отвлечь от дел. Но бабам из очереди, стоящим перед Таней, это, похоже, и в голову не приходило. Они вульгарно голосили, не считаясь ни с кем. Вчерашние кухарки, горничные, прачки вдруг, словно по мановению извращенной волшебной палочки, заняли место своих господ и принялись вести себя громко, вызывающе – потому что о том, что можно вести себя иначе, им никто и никогда не говорил. Мир перевернулся, все было утрачено – все то, что выглядело красиво, то, что имело ценность. А на место этого утонченного мира пришла вульгарная и грубая пустота.
Стоя за спинами баб, Таня думала обо всем этом, как вдруг взгляд ее упал на маленький пузырек со снотворным, выставленный в витрине. Это снотворное отпускалось без рецепта, и Таня прекрасно его знала. Впрочем, в смутное время почти все рецепты были отменены.
Она смотрела и смотрела на толстое, непрозрачное стекло, а по телу ее пошли огненные волны, бросая в чудовищную, давно сдерживаемую дрожь. Кровь прилила к голове, в вены забил адреналин, и Таня не могла ничего больше сделать, кроме как отдаться во власть этого чувства чудовищной авантюры, которое вернуло способность чувствовать себя живой!
И когда подошла ее очередь, вместе с укропной водой для ребенка Таня купила пузырек со снотворным.
Вечером того дня она сидела в ресторане «Байкал» на Греческой улице. На ней было красивое бордовое платье из модного панбархата, бросавшее на ее лицо благородный и теплый отблеск. Через резную спинку стула была перекинута меховая горжетка из белого меха – и Таня точно знала, что на эту горжетку пошел не кот, а кролик.
Она специально выбрала этот ресторан вдалеке от привычных бандитских мест. Как и множество заведений в период новой экономической политики, «Байкал» появился совсем недавно. Был он модным, дорогим и пока не изученным – Таня не знала, кто теперь контролирует район, где находится ресторан. Да это было не важно. Она дошла до той степени отчаяния и последней грани, когда безопасность кажется намного мельче свободы. И ради свободы можно отринуть, отбросить абсолютно все, даже здравый смысл и спокойствие.
Элегантно держа бокал за длинную ножку, Таня рассматривала на свет рубиновое вино, одновременно незаметно оглядываясь по сторонам.
Он появился почти сразу – приземистый, лысоватый толстяк с одутловатым, круглым лицом. На его лысине светились крупные капли пота. Глаза воровато бегали по сторонам, и он напомнил Тане учителя гимназии из 1914 года, слонявшегося по Дерибасовской в попытке снять молоденькую уличную девочку. Толстяк подсел за ее столик, завязал разговор. Таня подыгрывала, как могла. На столе появилось шампанское.
Толстяк хвалился, что открыл пекарню, что продает свою продукцию большевикам. Но, судя по его комплекции, Таня подозревала, что он сам съедает свои булки. Деньги у толстяка были. Менялись бутылки и дорогая еда. От него шел запах опасности – сладкий аромат прошлого, и он пьянил голову Тани сильнее дорогого шампанского.
Что она делала, зачем? Если бы кто-то спросил ее в тот момент, что, собственно, она творит и ради чего, Таня не смогла бы внятно ответить. Но это возвращение в прошлое было необходимо ей, как глоток свежего воздуха. Иначе жизнь закончится.
И, когда толстяк предложил поехать в гостиницу, Таня не отказалась. Он выбрал дешевые меблированные комнаты на Базарной. Таня лишь настояла, чтобы номер был на первом этаже.
В узкой комнатенке с окном под потолком пахло плесенью, простыни были в пятнах от клопов. Клиент заказал вино и, когда его принесли, все разлил по бокалам. Таня обхватила рукой голову толстяка, как будто хотела поцеловать в губы, притянула к себе, затем легонько оттолкнула. И, смеясь, протянула бокал вина. Вне себя от радости, он выпил все, до капельки… К счастью, клиент не храпел.
Таня ослабила шейный платок толстяка, чтобы тот не задохнулся во сне. Затем вывернула карманы. Они были просто набиты червонцами. Таня даже не подозревала, что столько денег можно таскать с собой. И при этом он экономил на гостинице! И явно ничего не собирался дать девушке! Неужели этот тип считал, что девчонка пойдет с ним в этот клоповник просто так, за красивые глаза или какую-то там «любоффф»! Таня прибавила к деньгам часы, золотые запонки и золотую цепочку для очков. Добыча оказалась богатой. Ей было легко на душе, как никогда!
Открыв шаткую раму окошка, Таня кое-как протиснулась в него и выпрыгнула в ночь. К счастью, окошко выходило не во двор, а прямо в переулок. И Таня с легкостью добралась домой.
Сладко посапывая, Наташа спала в теплой кроватке. Укропная водичка подействовала, и девочка лежала спокойно. Таня с нежностью поцеловала ее крошечные ладошки, выпростанные из-под теплого одеяла. Это тоже был ее мир – важная часть ее мира. Но помимо него был и другой.
Таня боялась, что ее станут тревожить тени прошлого. Но этого не произошло. Притушив фитиль керосиновой лампы (как всегда, не было электричества), она улеглась в холодную постель и быстро заснула.
Глава 5
С тех пор Таня отправлялась на вылазку примерно раз в неделю, меняя рестораны. Может, Ида и удивлялась, откуда у подруги появилось столько денег, но никак это не комментировала.
А Таня просто ожила! К ней вернулось отличное расположение духа. «Усыпальницы» (так еще до революции назывались те, кто, усыпив, грабил клиентов) всегда были высшей кастой криминального мира, и Таня с удивительной для себя легкостью вернулась в их круг. Когда-то ей казалось, что она больше ни за что не будет заниматься подобным! Но людям свойственно менять свои решения. И она поражалась тому, с какой легкостью вернулась в прошлую жизнь.
Дело было совсем не в деньгах, а в опасности, в том пьянящем чувстве удачи, чего ей так не хватало в жизни. Существовать без этого она не могла.
А потом Туча через одного из своих людей позвал Таню в «Канитель» для серьезного разговора. И она поняла, что насыпала соли на хвост кому-то из новых королей криминального мира, который контролировал район всех этих ресторанов. Но чувство опасности только подхлеснуло ее азарт.
– Ты шо творишь, малахольная? – не здороваясь, сердито зашипел на нее Туча. – Ты под какой шухер меня подставляешь? Хипиш по району пошел – аж за зубами не скворчало! Ты под шо меня, а?
– Он кто? – с улыбкой спросила Таня, попивая шампанское, любезно поданное к столу Тучи.
– Чигирь, – Туча вздохнул, – так, фраер. Под меня, как и все в городе, за то дышит. Так, швицер, хлипяк. Но за мою голову другой гембель, аж уши отворачиваются! Ты шо творишь? Шо за фасон вылез через твои дубовые гланды? Шо за шухер ты устраиваешь? Или как?
– Туча, успокойся, – Таня примирительно похлопала его по руке, – я развлекалась. Я знаю, что ты мой самый лучший друг!
– Я-то друг, – тяжело вздохнул Туча, – а Чигирь за как?
– Я отдам процент – все, как положено, – Таня знала законы того мира, в который вернулась, – донесешь до Чигиря, что Алмазная снова в деле.
– В каком деле? Мелочь по карманов фраеров тырит? А ведь у тебя дочь! – Туча с укором смотрел на нее.
– Я знаю, – Таня печально опустила глаза, – но ничего не могу с собой поделать. Мне скучно жить. Я оказалась плохой матерью. Я не могу так больше. Ну, ты понимаешь.
– Дурная кровь, – мрачно сказал Туча, – дурная кровь собьет шо ноги, шо голову. Как завелась под шкурой, так хоть не держись! Утопит и под раздачу пошлет! Жалко тебя, дуру. Но я поговорю с Чигирем. Ладно.
То, что Туча делал для нее, было большим одолжением в криминальном мире, но Таня в который раз убедилась, что он понимает ее так, как никто другой.
Засмеявшись, незнакомец откинул рукой волосы, и озорные искристые чертики заплясали, горя, в его черных глазах. Не отрываясь, как кролик перед удавом, Таня смотрела в них и не могла отвести взгляда. В тот день в ресторане все пошло не так.
Вернее, это был уже вечер. Закутавшись в блестящую шаль, Таня сидела в «Канители», наблюдая за дамским оркестром. Было весело и шумно. Грудастые дамы в пестрых платьях, пританцовывая, вовсю наяривали популярные мелодии, чередуя их с одесскими блатными куплетами, ведь в зале сидело довольно много воров. В тонком бокале у Тани было шампанское. Теперь она могла позволить себе любимый напиток. Поглядывая, как, ударяясь о тонкие стенки, лопаются пузырьки, Таня сидя пританцовывала, и шаль, упав с плеча, обнажила ее бархатистую, нежную кожу.
Деньги всегда делали Таню красивой – впрочем, это, видимо, происходит со всеми. Она любила дорогие вещи и главное – умела их носить. И только в роскоши, наслаждаясь всем тем, что превращало ее в благородную даму, она блистала. В нищете же моментально теряла и красоту, и манеры – потому, что теряла уверенность. Таня же давала себе отчет, что очень любит деньги – это был ее инструмент, позволяющий чувствовать себя собой.
И теперь, сидя в модном ресторанчике, под напевы шальных мелодий она наслаждалась тем, что ловит на себе мужские взгляды – со всех сторон. Таня и вправду была красива. Платье ее было модным и дорогим. И в такие моменты она забывала, что одинока. Что на самом деле у нее нет ничего, даже этой роскоши. И кроме крошечной беззащитной дочки – никого на целой земле.
Незнакомец появился из ниоткуда – Таня так и поняла, как он вошел. Просто вскинула глаза, когда он уселся за ее столик и просто так сказал:
– А знаете, я искал вас.
– Что это значит? – Таня взглянула на него удивленно, пытаясь охватить по чертам весь его облик, а затем отложить в памяти. – Мы знакомы?
– Я не знаю, – незнакомец пожал плечами. – Разве это так важно?
– Нет, – Таня тоже пожала плечами в ответ, – я думаю, нет.
Он был в строгом черном костюме – дорогая ткань, модный крой, самый современный фасон. Красная гвоздика в петлице напомнила ей Японца. Но кроме этого цветка в облике незнакомца больше не было ничего общего с ее покойным другом. Лакированные башмаки Мишки Япончика всегда были вульгарны до невозможности. Элегантные кожаные ботинки незнакомца – нет.
У него был дорогой вид. В этом он напоминал Володю Сосновского. Тане вдруг подумалось, что если благородство в крови, то оно наделит элегантностью и стилем любую одежду. А если к тому же и одежда дорогая и модная – то подарит особенный шик. Если бандита с Молдаванки вырядить в такой костюм, он все равно останется бандитом с Молдаванки – неуклюжим, косым, неповоротливым, вульгарным. Незнакомец же не только умел носить дорогие вещи – это было сразу видно, – в нем был свой неповторимый стиль.
Заговорив с Таней, он снял шляпу и положил ее на свободный стул. У него были длинные черные волосы, связанные сзади в хвостик. Но это не портило его, не умаляло мужества – наоборот.
Блестящие его глаза словно кинжалами пронзали Таню насквозь, и под этим взглядом она чувствовала себя кроликом пред властным удавом. Казалось, они заглядывали прямиком в ее душу, что до того момента не удавалось никому.
Разглядывая незнакомца, Таня внезапно почувствовала тоску. Она была молода, красива, полна жизни и сил. Вся жизнь, как хрустальный шарик, переливалась сверкающими гранями на ее ладони! Ей так хотелось жить! Но ей так не хватало любви мужчины. Чтобы кто-то смотрел на нее – вот так, с замирающим сердцем перехватывая ее взгляд. Ей хотелось целоваться под дождем, хотелось, чтобы кто-то сжал ее в объятиях с такой силой, чтобы захрустели кости! Чтобы целовал до остановки сердца, до сладких мук. И не важно кто. Сам этот факт был бы тем подарком, который влил бы жизнь в ее уставшую душу. Таня вдруг поняла, как не хватало ей этого всплеска жизни, способного подарить ощущение дрожи в крови.
Незнакомец был молод, красив. Судя по внешнему виду, у него водились деньги. У него блестели глаза, а яркий электрический свет, падая на его волосы, золотил их тонкой блестящей пеленой.
– Я вас долго искал, – повторил он, не отрываясь от глаз Тани. И все внутри ее замерло – ей даже не хотелось спросить, что он имел в виду.
– Закажите еще шампанское, – сказала она.
– Легко, – незнакомец улыбнулся одними глазами, и Тане вдруг подумалось, что никто из ее знакомых не умел улыбаться вот так.
А между тем у незнакомца, похоже, водились серьезные деньги. Он заказал достаточно много, а в кармане пиджака отчетливо просматривался плотный бумажник. Тугой, набитый червонцами, выпирающий из-под пиджака.
Это и отвлекло внимание Тани, заставив мысли ее переключиться в другое русло – в русло профессионального интереса к туго набитому бумажнику, который вдруг перевесил все остальное.
Незнакомец поведал Тане, что при нэпе разбогател. У него было несколько мастерских по городу, в которых ремонтировались металлические изделия. В том числе – и автомобили. Он занимался частным предпринимательством и довольно преуспел.
По словам незнакомца, его жена уехала за границу вместе с родителями во время последней эвакуации. А он предпочел остаться в Одессе.
– Я сам из купцов, – говорил он Тане, – а в моей жене бурлила дворянская кровь. Дворянка она была захолустная, из какого-то там сельского уезда. Но этого было достаточно, чтобы задирать передо мной нос. Родители ее были страшно недовольны таким мезальянсом – браком со мной. И не упускали случая поведать об этом всему миру – во весь голос. Ну, в конце концов мне это надоело. Я стал гулять. А в последние месяцы наши отношения ничем уже не напоминали супружеские. Поэтому когда она уехала с родителями и бросила меня, я не сильно и горевал.
– И гуляете до сих пор? – улыбнулась Таня.
– Нет, – взгляд незнакомца стал серьезным, – я давно уже не гуляю. Вы не поверите, но я искал вас.
– Зачем? – кровь отхлынула от ее лица.
– Я обязательно расскажу. Потом.
А Тане вдруг подумалось, сколько семей распалось из-за этой страшной войны, перегородившей кровавыми трещинами спокойный, размеренный уклад прежней жизни. Сколько горя принесло это отвратительное изменение мира – переворот в душах, ценой которого стала каждая человеческая жизнь.
Потом они танцевали, и Тане больше не хотелось слышать ни одного слова. Она пила каждый миг с ним, как дорогое вино, прекрасно зная, что вот оно закончится, а потом, к утру – больше не повторится уже никогда. А потому ей хотелось приложить эти крошечные осколки времени прямо к своему сердцу. И там оставить, чтобы доставать их из прошлого – пусть даже не часто, иногда.
Но время ускользало, и Таня знала, что будет дальше. И от того, что этот человек станет очередным трофеем, ее охватывала ей самой непонятная боль.
– Я не хочу расставаться, – сказала Таня, профессиональным взглядом глядя в глаза незнакомца, когда было выпито все шампанское и съедены все блюда.
– И не надо, – он покачал головой.
Это означало, что сказка закончилась. Когда он пропустил Таню вперед в стеклянных дверях гостиницы, ей стало ясно, что все осталось в прошлом. С ним уже покончено – навсегда.
…Шаль соскользнула со стула на пол. Таня кокетливо облокотилась о стол.
– А где шампанское? – она наклонила голову. – Надо же как-то скрасить убогость этой гостиницы!
– Сейчас будет, – незнакомец позвал коридорного, дал деньги. Шампанское появилось просто с удивительной скоростью.
Таня даже не спросила, как его имя. А зачем? В этом не было вообще никакого смысла. Она не собиралась завтра встречаться с ним, продолжать отношения. Он был просто моментом в ее пестрой жизни, яркой искрой, вспышкой, осветившей лишь несколько секунд. И не больше.
Кокетливо наклонив голову, Таня наблюдала, как искрящееся вино, которое он наливал, стучит о бокал. На какое-то мгновение сожаление сжало ее сердце крепкой мохнатой лапой. Но Таня быстро откинула его в сторону. Выбор был сделан. Другого ей не дано.
Он лежал на спине, раскинув в стороны руки, и голова его свесилась набок. На какое-то мгновение Таня испытала угрызения совести. Ей было жаль не его – себя. Словно отобрала у себя что-то важное, что могло случиться в ее жизни. Но, отбросив в сторону сантименты, Таня быстро сняла со спинки стула его пиджак.
Карман был пуст. Она застыла с пиджаком в руке, не понимая, что произошло, чувствуя себя последней идиоткой на свете. Все карманы пиджака были пусты! Лихорадочно Таня принялась ощупывать подкладку.
Она же своими глазами видела тугой бумажник в его руках! Видела, как он положил его внутрь пиджака, во внутренний карман за отворотом! И вот теперь бумажника не было! Таня не понимала, что происходит.
Думая, что незнакомец его выронил, она стала шарить по полу. Гостиничный номер был небольшой. Мебели – не много. На полу ничего не было, да и быть не могло. Тугой бумажник просто не мог выпасть незаметно для Тани.
Застыв посреди номера с пиджаком в руках, впервые Таня испытала нечто вроде растерянности.
Громкий смех, раздавшийся резко, неожиданно, словно из пустоты, вывел ее из этого странного состояния. Ударил по нервам, испугал так сильно, что сердце, подпрыгнув с болью, резко упало куда-то вниз. Таня задохнулась от испуга, чувствуя нечто похожее на первобытный ужас – неприятное чувство, от которого останавливается дыхание и леденеет в жилах кровь.
Это смеялся незнакомец. Он сидел на кровати, задорно помахивая бумажником, и хохотал, глядя на растерянное лицо Тани. Сонного дурмана не было ни в одном глазу.
– Это ищешь, Алмазная? – весело спросил он, и смех его звучал с такой заразительной силой, что против воли Таня улыбнулась в ответ. Страх стал спадать. Она двинулась было к двери, но тут же остановилась.
Ее остановило присущее ей чувство авантюризма – Тане вдруг захотелось выяснить все до конца. К тому же не в ее характере было уклоняться от схватки. И, набрав побольше воздуха, она развернулась к незнакомцу, чтобы ринуться в бой.
Но боя, похоже, не предвиделось. В облике его не было ничего угрожающего. Наоборот, незнакомец смотрел на нее задорно и даже с каким-то восторгом. И никакой угрозы не было в его глазах.
– Как ты это сделал? – Таня подошла ближе.
– Простой трюк! Вот, смотри, – он отогнул полу рубашки и показал небольшую губку, привязанную к шее веревочкой телесного цвета, – часть шампанского подержал во рту и выплюнул, часть вылил туда. Ты и не заметила. На самом деле все просто. Слышала хорошую пословицу? Кто предупрежден, тот вооружен!
– Значит, ты знал, кто я такая, – не спросила, а утвердительно произнесла Таня.
– Конечно, знал. Я же сказал, что ищу тебя!
– Кто ты такой? Тебя послал Чигирь?
– Может, и так, – перестав улыбаться, незнакомец испытующе смотрел на нее, – а может, я и сам хотел тебя найти. Был наслышан о подвигах Алмазной. Я правда слышал о тебе. И хотел тебя увидеть.
– Это ложь, – усмехнулась Таня.
– Может, и ложь. Какая тебе разница?
– Кто ты такой? Тебя послал Чигирь? – снова спросила Таня, не спуская с него глаз.
– А если и так? Ты орудуешь на его территории!
– «Канитель» – территория Тучи!
– Территория Тучи теперь вся Одесса, – парировал незнакомец, – а район «Канители» под Чигирем, и ты прекрасно знаешь об этом.
– Чигирь решил меня убить? Боится, что я у него власть отберу? Для этого послал тебя? – Голос Тани прозвучал глухо.
– Зачем спрашивать, если ты и так все знаешь! – снова хохотнул незнакомец.
– Значит, убить, – вздохнула она.
– Чигирь мне не указ! Нет надо мной власти, – незнакомец стал вдруг очень серьезным. – Нет и никогда не будет. Запомни мои слова!
– Кто ты такой? – Тане вдруг стало интересно – так интересно, что она решилась подойти поближе, настолько близко, что едва не присела на краешек кровати, пренебрегая собственной безопасностью. Но странное дело – несмотря на всю нелепость ситуации, она не чувствовала в незнакомце угрозы! А вот тянуло ее к нему с новой силой.
– Меня зовут Михаил, – и, не спуская с Тани глаз, он внятно произнес: – Михаил Няга.
– Мишка Няга! – Таня едва не подпрыгнула. – Я о тебе слышала! Ты правая рука Котовского! И сход поставил тебя заместо Цыгана!
– Ну, не совсем так. Заместо Цыгана я сам встал. А Гришка Котовский – мой давний приятель. Мы воевали вместе.
– Раз так, то ты не на побегушках у Чигиря, – усмехнулась Таня, и вдруг действительно опустилась на кровать, совсем рядом с Мишкой.
– Я тебе уже об этом сказал, – он не спускал с нее глаз, и Таня почувствовала, что вся тает, буквально растекается под этим мужским взглядом.
У него были горящие глаза. В них плясал огонь жизни. Они жадно, не отрываясь, впивались в лицо Тани, словно хотели поглотить ее, вобрать в себя. И от этого застывшая кровь вдруг стала полыхать в ее жилах, согревая невиданным теплом, и Таня теряла голову, не понимая, не чувствуя саму себя.
– Зачем же ты искал меня? – Голос ее прозвучал глухо, потому что так неистово, так мучительно сладко забилось ее сердце, мешая думать, понимать, дышать.
– Хотел посмотреть на тебя. Слышал многое, – Михаил смотрел на нее прямо, не отрываясь, – а теперь…
– Что теперь? – Таня не могла дышать.
– А теперь… так совсем.
Дальше все произошло так быстро, что Таня даже не разобрала, кто сделал первый шаг. Потянувшись к нему, она вдруг оказалась в его объятиях, так, словно это было так привычно и естественно, что и не могло быть иначе. Не понимая, что делает, как могло это произойти, Таня впивалась в его губы как в живительный источник, растворяясь в этом новом, ослепительно опасном огне.
Они любили друг друга до самого утра с какой-то первобытной, иссушающей яростью, и оба были ненасытны настолько, что время просто перестало существовать. Если бы Таня остановилась и задумалась хоть на секунду, она бы поняла, что в этой иссушающей страсти может крыться ловушка, которую необходимо понять. Но думать Таня не могла. Она не могла отличить страсть от чувств, как все женщины мира. Да ей и не хотелось. Все, что ей хотелось, это гореть в этом невероятном пламени, которое создавало иллюзию чувства точно так же, как электрическая лампочка иногда напоминает солнечный свет…
Мишка Няга стал ее постоянным любовником. Официально он был в военном штабе, считался большевиком. В его красном окружении не знали о двойной жизни преданного большевизму комиссара. А потому в связи вдовы чекиста с большевиком никто, при всем желании, не мог найти ничего предосудительного.
Другое дело был Туча. Услышав о любви Тани, он всплеснул руками:
– Да за огнем играешь, глупая шая! Он опасный за ядовитый черт!
– Может, и опасный, – Таня пожала плечами, – а я белая и пушистая, Туча? Вот ты мне скажи!
– Не о том хипишишь! – Туча смотрел на нее строго – точь-в-точь классная дама в гимназии, – он шкура Котовского. За Котовского ты знаешь. Это как в банке навоз. А ты сделала гембель за самую голову! Другого не могла до себя подобрать? Он дохлый! Задохлый, как швицер, аж шкура трескается! Ты до того дойдешь!
– Ты не волнуйся за меня, Туча, – Таня ласково потрепала по руке старого друга, – пусть оно идет как идет. Если жареным запахнет – проскочу, вот увидишь.
– Не проскочишь. Все пятки зашмалишь, – мрачно сказал Туча, – глупая ты фифа, хоть и Алмазная. До всегда за тебя делов.
Тане было приятно, что хоть кто-то в этом мире беспокоится о ней. С каждым годом ее дружба с Тучей становилась все крепче.
Мишка Няга очень нравился Тане. Он был веселый и страстный. С ним никогда не было скучно, и он умел ее рассмешить. Мишка жил на Французском бульваре, занимая крыло той самой виллы, которую занимал Котовский, когда лечился от ранения в Одессе. Однажды Таня приехала к нему. Мишка не ждал ее. В комнате был настоящий бардак. Таня разглядела белый кристаллический порошок на тумбочке возле кровати, у основания лампы. Он отчетливо выделялся на темном дереве и был похож на крупную соль.
Таня потянулась пальцем, чтобы лизнуть и попробовать на вкус. Но Мишка вдруг с силой стукнул ее по руке так, что Таня отдернула пальцы.
– Не смей это делать! – громко вскрикнул он. – Это лекарство. Оно горькое. Еще отравишься, – а затем быстро смахнул порошок в карман. Лицо его при этом было таким хмурым, что Таня не решилась приставать к нему с расспросами. Так она поняла, что у ее любовника есть тайны. И тайны эти опасны.
Глава 6
Кривая старуха, шаркая растрепанным веником, сметала в груду осколки стекла и оборванные ленты яркого бумажного серпантина. Они жалко смотрелись на щербатом полу, сером от пыли и затоптанном множеством ног. Кое-где виднелись следы крови. Их отделили – стулья и столы сдвинули в стороны, чтобы темные пятна были видны на полу, и уборщица могла их замыть. Чтобы так отчетливо не бросались в глаза неуместностью происшедшей здесь трагедии.
Недобро косясь по сторонам блеклым глазом, кривая старуха тяжело переставляла отечные ноги и подметала пол так медленно, словно у нее была сломана спина. Сквозь плотно сдвинутые ставни на грязный пол падали оборванные полоски дневного света. Запах внутри помещения был затхлый. Окна не открывали давно.
Ресторан «Канитель» был закрыт. Сдвинув в сторону один из столиков, Туча сидел верхом на стуле и напряженно подсчитывал убытки. Поломанную в панике мебель успели убрать. За старухой-уборщицей оставались последние штрихи. Погруженный в неприятные для него колонки цифр, Туча не обращал на нее никакого внимания.
Цифры были катастрофой, и Туча понимал это, как никто другой, ведь именно он проверял тайную бухгалтерию всех ресторанов, находящихся под его контролем. Если раньше дела обстояли блестяще, то теперь все сулило беду.
Громкое преступление – расстрел посетителей в ресторане – привлекало внимание не только милиции, но и всевозможных проверок. А это уже было чревато неприятностями. Оказалось, что после выплаты всех счетов и налогов ресторан резко стал убыточным. К большому ущербу добавлялась поломка мебели, разбитые бутылки в баре, дурная слава, и это вовсе не способствовало привлечению клиентов. Туча не знал, как ему поступить – полностью закрыть ресторан и поставить на нем крест, или что-нибудь придумать, чтобы открыть его вновь и поправить свалившиеся на него убытки.
Именно таким, печальным, погруженным в свои мысли, и застала его Таня.
Туча был не просто печальным, он был мрачным. Кажется, Таня никогда не видела его таким. Это кольнуло ее в сердце, и она поняла, что вовремя решила прийти к старому другу.
– Ох, Алмазная, за солнышко ты в точку, – заулыбался Туча, увидев ее, – а я сижу за дохлый гембель такой, что мозги как сопли обвиснут. Ох, бывает же за жисть столько делов, что ни сдохнуть, даже когда потребуется…
– Не расстраивайся, Туча, – Таня опустилась на стул напротив друга, – ты ведь не сдавался никогда. Вспомни, сколько ты уже прошел после смерти Японца.
– То за так давно было, шо и неправда кажется, – вздохнул Туча, – а сейчас мир плохой. Ох, донельзя за плохой мир. Полон дохлых швицеров, как базар цыбули.
– Ты закроешь ресторан? – Тане было его искренне жаль.
– Не додумался пока, – Туча пожал плечами. – Тут за ближайшие недели шо закрывай, шо не закрывай – ни до сюда одной ноги не будет. Слава задохлая как юшка поплывет. Народ все одно ходить не будет.
– Это забудется, – махнула рукой небрежно Таня, – ты и сам знаешь. У людей память короткая, Туча. Кому, как не нам, это знать. Люди долго не помнят.
– Ну да, тупые они, люди, – вздохнул Туча, – а я вот помню. И такой гембель за то…
– Уже знаешь, кто это сделал? – Тане очень хотелось подбодрить старого друга, но она не знала как.
– Актер, – снова вздохнул Туча – Таня уже сбилась со счета его вздохов.
– Как актер? – удивилась она. – Тот, кто стрелял людей, – актер?
– Актеришка, – в бесчетный раз вздохнул Туча, – служил до театра оперетты. А по вечерам пел в кабаре шантон.
– Шансон, – машинально поправила Таня, – шансон пел. А откуда у актера оружие?
– Шуткуешь, Алмазная? – невесело хохотнул Туча. – По городу стволов валандается шо собак не подрезанных! Булку хлеба достать за тяжко, чем наган! Людям хлеба не хватает, а стволов на каждом углу по пятьсот штук! За бутылку водки выменивают! Время-то сейчас какое! Это хлеб – роскошь, колбаса – золотой вид. А стволы, наганы та винтовки – как пыль под ногами. Кто разбираться за той гембель будет?
– Ну да, – кивнула Таня, – но откуда актер умеет обращаться с оружием? Да еще так, чтобы стрелять в людей?
– А пес его знает! – в сердцах ответил Туча. – Научили на свою голову! Швицеры какие-то борзые. И вот…
– Я все равно не понимаю, – Таня задумалась, – как это актер просто так, ни с того ни с сего ворвался в ресторан, полный людей, и принялся в них стрелять? И от чего он умер?
– Пес его знает! – упрямо повторил Туча, по всей видимости, раньше не задумывавшийся об этом.
– А ты уверен, что этот человек был актером? – переспросила Таня, у которой рассказанное Тучей просто не укладывалось в голове.
– Актер, – снова сказал он, – говорю, проверено. В кабаре пел на Пересыпи.
– Пересыпь – не лучший район, – задумалась Таня, – и кабаре там – что кабаре, что кабачки, честно говоря, хреновые. Значит, он был плохой актер?
– Наркоман он был! На кокаине сидел. Подох бы от кокаина лучше, – в сердцах воскликнул Туча, – чем вот так за столько людей положить!
– Значит, он нанюхался кокаина и пошел стрелять в людей? – спросила Таня, пытаясь понять.
– Снова шутишь, Алмазная? – Туча пожал плечами. – На кокаине полгорода сидит! Кокаин щас шо за зубной порошок! Ты сама знаешь! Так шо, люди друг за друга палить начнут? Никто не палил! А этот…
– Как его звали, ты знаешь? – Тане вдруг стало все это действительно интересно. В последние годы в Одессе происходило достаточно массовых убийств, жестоких расстрелов и преступлений, но никто еще не открывал беспорядочного огня по толпе просто так, ни с того ни с сего. Таня не слышала еще о таком преступлении, и ее это заинтересовало, как бывает любопытно охотнику, вдруг столкнувшемуся с новым, невиданным зверем. Как ловец тайком изучает повадки этого зверя, крадется по его следу, так и Таня добывала по крупицам информацию об этом странном, бессмысленном преступлении, которое произвело на нее настолько сильное впечатление.
– Вот, все записано у меня, – Туча полистал конторскую книгу, лежащую перед ним на столе. – Баламут Игорь, 27 лет. Родился в Одессе, в районе Пересыпи. Там и жил. Актер. Гастролировал с передвижным цирком с 14 лет. Потом устроился ассистентом фокусника в Киеве. Позже вернулся в Одессу и стал служить в театре оперетты. Пел сольные партии. В последние годы подрабатывал в кабаре «Рай», что на Пересыпи, в районе порта, там, где Балковская яма в сторону идет. Говорили за него, что смазливый был и с любовников деньги брал.
– С любовников?! – Таня подумала, что ослышалась.
– Ну да… петух был конченый этот… – Туча, что на него было не похоже, грязно выругался, припечатав метким словом сексуальную ориентацию актера, – таких сильно не любили и презирали в бандитских, криминальных кругах.
– Имена его любовников известны? Хотя бы последнего? – стала уточнять Таня.
– Та шо там секрет! – Туча пожал плечами. – Красные до него ходили. Есть такие петухи среди красных. Они и давали ему червонцы на кокаин, он же дорого стоит.
– Зачем же он пришел в «Канитель», что здесь искал? – Тане действительно было интересно.
– Та он и раньше до сюда ходил. Хахеля хозяйки покойной водил. Они в одном театре служили, – сказал Туча, который, похоже, уже успел навести серьезные справки, – хахель хозяйки – он за тоже сидел на кокаине. А швицер тот задохлый за своих красных хахелев кокаин получал.
– И оружие, по-видимому, – задумчиво проговорила Таня, – скорее всего, действительно от красных комиссаров. Странно это, Туча. Очень странно.
– И не говори, Алмазная! – снова загрустил Туча. – История завшивая… Мозги заворачиваются. Оно мине надо? Вот ты скажи! Они мине надо, как до мертвого припарки?
– Кто за Пересыпь? Кто смотрит за этим кабаре «Рай»? – не слушая его стонов, спросила Таня.
– Неразбериха! – фыркнул Туча. – Схватились некоторые. Но вроде как Соляк. Он держит. А хочет за всю Пересыпь. У него за то до меня базар.
– Соляк? – Таня вспомнила, что этот вор появился в авторитете недавно. – А ты что?
– А я за что? Пусть может. За сейчас то время, что до всего момент! И до какого-то швицера завшивого Соляка… – снова горько вздохнул Туча – в бессчетный раз, – как была заваруха за два месяца, когда до туда пострелялись, так оно и висит за Соляком. А до него уже зубы скалят. Много желают морды свои засунуть, как до горшка с кашей, а делать ни за как. Оно до того горько, шо нет порядка в городе, шо хоть за волком вой! Как был Японец, вспомнить любо-дорого. А до сейчас? Вот ты мине за то скажи! – посмотрел он на Таню. – Город шо одеяло, на куски рвут, за всеми не углядишь. А будешь углядывать – кровь людская потечет шо твоя юшка! Плохие времена. Задохлые времена. Шо тебе сказать…
И она прекрасно понимала слова Тучи. Закончился тот железный порядок, который твердой рукой поддерживал Японец. Хаос принес разрушение не только общества, но и бандитского мира. И на этих обломках стали произрастать ядовитые сорняки склок, предательства, алчности и зла, которые вырвать можно было только с корнем, то есть с кровью.
– Да ты зачем до миня пришла? – вдруг очнулся Туча. – Живешь-то как?
– Скучно мне жить, Туча, – теперь пришла очередь Тани вздыхать, потому что сказала она абсолютную правду.
– Шо за так? А Натулька?
– Я плохая мать, Туча, – горько вздохнула Таня, – я оказалась плохой матерью.
– Алмазная, не гони волну! – Туча нахмурился. – Шо ты за себя обговариваешь? До куда воздух запускаешь? Мать ты за всех тех курей лучше будешь, шо над ребенком как квочки квохчут! Ты то, шо надо, ребенку дашь! Миру научишь! Жисть – она не песня с сахаром. Ты-то лучше других знаешь.
– Я-то знаю, – Таня пожала плечами, – а меня кто миру научит? Скучно мне жить! Все оно от скуки, не так, как должно, как было. Ты лучше меня знаешь.
– Ты за швицера борзого своего? – прищурился Туча.
– И за него тоже, – покорно кивнула головой Таня. – Не так все должно было быть в моей жизни, Туча. Не так. – Она смотрела с такой печалью, что Туча снова вздохнул. Даже если бы хотел он утешить свою подругу, то не смог бы. Лучше всех остальных он понимал, что Таня заигралась в рискованную игру. Но и то понимал, что такой утешитель в бедах, как скользкий и сомнительный Мишка Няга, может быть опаснее самого откровенного палача.
– А я ведь к тебе по делу пришла! – вдруг встрепенулась Таня, улыбнувшись через силу. – Из-за подруги своей, Цили.
– А шо за Цилю? Шо с ее чекистом? – Туча был отлично осведомлен обо всем.
– Ты не знаешь, кто рыбаков за Фонтаном пострелял? – прямо спросила Таня. – Муж ее дело это расследует. И за домом их уже следят. Знать хочу, чья лапа здесь тянется. Может, ты знаешь?
– Контрабанду делят, – вздохнул Туча, – то Паук.
– Паук? – Таня стала слушать внимательно.
– Ну, – начал Туча, – Паук до контрабанды давно лапы шарит. За после того, как контрабанда полгода ни под кем ходила, Паук сигареты к рукам прибрал. На амбаре за Жеваховой горой стал их печатать и за контрабанду водить. Многие недовольны были. Паук – он швицер. В общак деньги не платит, да за красных корешится, песья морда. Ходят слухи, что племянница его до одного из комиссаров переехала жить. Комиссару шесть десятков стукнуло, а сопле всего шестнадцать. Так она им вертит, как хочет. Вот Паук этим и пользуется. Он эту девку из деревни специально привез и под большевика подложил. А теперь всю контрабанду к рукам прибрать хочет. Рыбаки – его работа, точно. Деньги ему отказались платить. Я хочу убрать Паука, но не знаю как. Не придумал до того. Но обязательно скумекаю, – Туча стукнул кулаком по столу. – Не будет ему жирного куска. Я уже и склад его за Жеваховой горой палил. Не помогло. Надо дальше кумекать. А мозги другим заняты. Сама видишь, – развел он руками.
– Думаешь, это люди Паука за домом Цили следят? – уточнила Таня.
– А кто еще? Ты ей передай там, шоб не высовывалась! Бо Паук – он гадина. Недаром кликуху такую ему дали. Давить гада нужно – и всё.
Стукнули двери. В «Канители» появились какие-то люди. Тане не хотелось мешать Туче. Поцеловав в щеку старого друга, она ушла, думая о его словах.
Воспоминание. Настойчивое воспоминание из прошлого билось в ней, и появилось оно в нужный момент – отличным дополнением к словам Тучи. Таня уже слышала о Пауке. Именно о нем и было ее воспоминание…
Мишка Няга жил в отдельном флигеле виллы на Французском бульваре, стоявшем в глубине двора. Где-то через две недели после бурного развития их отношений он вручил Тане ключ от него, сказав, что она может приходить к нему, как к себе домой.
Таню это доверие тронуло. Мишка казался искренним, вручая этот ключ, и Таня его взяла. С тех пор она часто оставалась у Няги по ночам.
Это была роскошная вилла, конфискованная большевиками у какой-то из знатных семей. Представители семьи давным-давно были в Париже, а по мраморным ступенькам их дачи теперь топали сапоги большевистских солдат. Дачи на Французском бульваре имели самые богатые и знатные семьи – место это было невероятно престижным, и вся дорога по обеим сторонам была застроена рядами элегантных особняков.
Вот и вилла, где жил Мишка, была такой же элегантной. В глубине обширного – правда, теперь уже запущенного, сада лестница вела прямиком к морю. А из окон особняка было слышно, как по ночам плещутся волны.
На самом деле Мишка был хранителем виллы. От парадных покоев у него был ключ, и в первый же вечер он устроил Тане экскурсию, провел по всем комнатам. Они даже остались ночевать в спальне, которую сдавали гостям и где лечился от ранения Котовский.
Однако ночь в этой спальне произвела на Таню гнетущее впечатление. Она не сомкнула глаз, мучаясь, как на раскаленной решетке. А почему, и сама не могла объяснить. Но утром, набравшись храбрости, заявила Мишке, что больше никогда не хочет ночевать в этой комнате. И Няга, как всегда, не осмелился ей возразить.
Сам Миша жил во флигеле для прислуги, в глубине сада, за домом, в уютной деревянной пристройке. И от нее было еще ближе до моря, чем из самого особняка. Это был маленький домик, состоящий из двух уютных небольших комнат и кухни. Флигель был оборудован со всеми удобствами – там была даже ванна, что было делом совершенно немыслимым для прислуги. Но, несмотря на такую роскошь, Таня не любила здесь бывать.
Она вообще не любила Французский бульвар. Заброшенные павильоны кинофабрики, мимо которых шла дорога вдоль бульвара, вызывали в ее памяти череду мучительных воспоминаний. Таня вспоминала о своем киношном прошлом, о Вере Холодной, которую так и не смогла спасти, о казни Петра Инсарова – с каким достоинством и как красиво он встретил смерть… Эти тени прошлого вставали каждый раз перед глазами Тани по обеим сторонам дороги, когда она ехала в пролетке или в трамвае, который запустили по Французскому бульвару. Они, эти воспоминания прошлого, выходили из мрака и молча смотрели на нее, и под взглядом этих призраков с Тани слетали все остатки уверенности, приобретенной с таким трудом.
Но допустить Мишку в свою квартиру она не могла – Таня скрывала эту связь и от Иды, и от Цили. А потому ей приходилось ездить на Французский бульвар.
В ту ночь она осталась у Мишки во флигеле. У нее раскалывалась голова, и она рано заснула, несмотря на то, что Мишка сидел в гостиной, и в пламени затухающего камина рассматривал какие-то старые журналы, еще царского времени. Таня просто диву давалась – и откуда он их только брал?
К своему удивлению, она обнаружила, что ее любовник любит читать. Это было абсолютно неслыхано для цыгана из табора, каким привыкла считать его Таня! Впрочем, сам Мишка тщательно скрывал это редкое умение – читать и писать – от всех. Но Таню не так-то легко было провести! И, обнаружив, что Мишка не только отлично читает, но и весьма грамотно пишет, она призвала его к ответу: откуда?
– Меня научил старый священник, – сильно смутился Мишка, но в конце концов сдался: – Я к нему ходил. Наш табор стоял под Кишиневом. И там священник был, церковь поблизости.
– Но почему он тебя учил? – удивлялась Таня.
– Умным считал. Говорил, что если учиться стану, далеко пойду. Но я не учился, – вздыхал Мишка.
– Ты же пишешь без ошибок! – Таня была поражена, случайно прочитав письмо Мишки к одному из комиссаров.
– Да, это так, – Няга забрал у нее письмо.
– И читаешь… Газеты, книги, журналы. Я ни разу за всю свою жизнь не видела вора, который любил бы читать!
– А я вообще отличаюсь от всех остальных, – фыркнул Мишка, но было видно, что по какой-то непонятной причине ему не понравились слова Тани. – Я не читать, я лошадей люблю. Я ведь к Котовскому так и попал, из-за конницы.
– Как это? – заинтересовалась она.
– Наш табор в Бессарабии стоял, под Аккерманом, и у нас был самый лучший табун во всей Бессарабии. Ну, я и помог Котовскому добыть лошадей.
– В Бессарабии или под Кишиневом? – Аналитический ум Тани сразу цеплялся за несоответствия.
– И там, и там… Да везде, – Мишка пожал плечами и быстро перевел разговор.
И он продолжал читать. Все чаще сидел в гостиной, листая старые журналы, которые приносил пачками. И проводил за этим занятием часы.
Сон Тани был некрепким, поэтому она почти сразу услышала раздраженные голоса и открыла глаза. Мишки рядом не было. Он еще не ложился. Таня удивилась. Потянувшись к изящным серебряным часикам – подарок самой себе, – она увидела, что сейчас четыре часа ночи. Со стороны двери слышались гневные голоса. Один принадлежал Мишке, другой – мужской, но тонкий и визгливый, был ей незнаком. Голоса звучали одновременно, поэтому слов нельзя было разобрать. Судя по интонации, шла ссора, и ссора серьезная.
Таня поднялась с кровати и накинула на плечи теплую шерстяную шаль. Она решила выйти. Но, едва приблизилась к дверям, столкнулась с входящим Мишкой. Он сжимал кулаки. Волосы его были взъерошены, а глаза горели недобрым огнем.
Увидев ее на ногах, Няга сразу накинулся:
– Зачем ты встала? Шпионишь за мной?
– Уймись! – Тане была неприятна его вспышка. – Очень мне надо за тобою шпионить! Вы так орали, что меня разбудили.
– Что ты слышала? – схватив Таню за локоть, Мишка резко притянул ее к себе. Хватка у него была железная, она почувствовала боль.