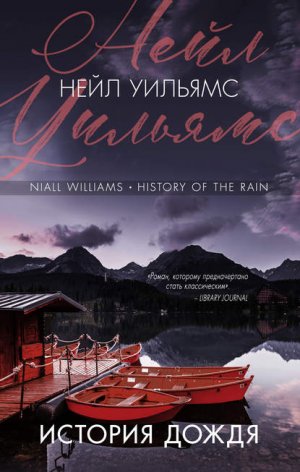
Niall Williams
History of the Rain
Copyright © Niall Williams 2014
The moral right of the author has been asserted ‘River’ from Three Books © Estate of Ted Hughes and reprinted by kind permission of Faber and Faber Ltd
© Осипов А., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2018
Посвящается Крису, под дождем
Пути всего сущего ведут к реке.
Тед Хьюз[1]
Часть первая
Лосось в Ирландии
Глава 1
Чем дольше мой отец пребывал в мире сем, тем крепче верил, что грядет мир иной. Такая вера зиждилась не на убеждении, что сей мир уже не спасти, — не зная точно мысли отца, могу лишь предположить, что ему приходило в голову нечто подобное, — а, скорее, на представлении, что должен существовать лучший мир, где Бог исправил Свои ошибки, и в этой второй редакции Сотворенного Мира мужчины и женщины живут, не зная отчаяния.
Мой отец нес бремя неподъемных стремлений. Хотел, чтобы все стало лучше, чем есть, — начиная с самого себя и заканчивая миром сим. Может быть, такое желание объяснялось тем, что мой отец был поэтом. Возможно, все поэты обречены на разочарование. А оно, скорее всего, вызвано тем, что поэты часто смотрят на мир сквозь розовые очки. Я еще не во всем разобралась. Не знаю, чернит ли время человеческую душу или заставляет ее сверкать. И не уверена в справедливости утверждения, что лучше смотреть вниз, чем вверх.
Мы — это повествования о нас. Мы рассказываем их, чтобы самим оставаться живыми или чтобы живыми оставались те, кто ныне существует только в повествовании. Мне кажется, так, пусть и на короткое время, остаемся живыми мы оба — и рассказчик, и тот, о ком идет речь.
В Фахе[2] каждый человек — длинное повествование.
Вы как-то связаны с МакКарроллами[3], живущими у нас в Лабашиде[4]?
Прежде всего надо отыскать вас на земной поверхности, найти вашу родню и ваше местоположение. А пока этого не сделано, вы пребываете не в своем повествовании.
Моя мать происходит из рода МакКарроллов.
Я так и подумал. А зовут вас…
Суейн. Рут Суейн.
Суейн?
Мы — это повествования о нас.
Река Шаннон[5] течет рядом с нашим домом, направляясь к морю.
«Иди сюда, Рути, почувствуй трепет воды». Так однажды сказал мне отец, став на колени на берегу и опустив в воду руку ладонью навстречу течению. Затем взял меня за руку и засунул оба наши предплечья в холодную реку. Наши руки сразу же потянуло в сторону моря — так поток увлекает за собой весло. Мне было семь лет. В тот день на мне было синее летнее платье.
«Ну же, Рути, почувствуй!»
Рукав его намок и потемнел, но, казалось, отец даже не заметил этого. Он с усилием, будто греб, вернул наши руки на прежнее место и позволил реке вновь увлечь их. Маленькие водовороты негромко булькнули, словно смех вырвался из горла реки, когда она осознала, как экстравагантно выглядят отец и дочь.
Когда Шаннон добирается до графства Клэр[6], когда минует наш дом, то понимает, что до свободы остается всего ничего.
Я простая, неприметная девушка по имени Рут Суейн. Вот она я — девятнадцать лет, узкое лицо, глаза МакКарроллов, тонкие губы и тусклые волосы цвета лесного ореха. Моя кожа блестящая и бледная, вообще не поддающаяся загару, — такая же, как у всех Суейнов. И я ужасно костлявая. А еще страшно люблю книги и еще до того, как мне стукнуло пятнадцать, проглотила уйму романов девятнадцатого века. Вот потому-то я точно стала шибко здравомыслящей и приобрела Синдром Умной Девушки. У меня собственные взгляды и хорошие оценки, я первокурсница Тринити-Колледжа[7], изучающая теорию английского языка.
И дочь поэта.
Моя История в Колледже: я приехала, мое здоровье рухнуло, я вернулась домой. А дальше так: дом — больница, дом — больница, и все эти чертовы поездки туда-сюда, будто я стала маятником. У меня нашли Что-то Не То. Такое, что врачей Озадачило и Привело В Замешательство. Они Терялись В Догадках и вместо диагноза говорили: «Мы Еще Не Уверены». Я была В Порядке, за исключением Падений. Я Сдала Анализы, но Лучше Не Стало. Меня постоянно преследовала Ужасная Слабость. Я «Стала Сама На Себя Не Похожа», а иногда просто «Слегка Не Того» — слова были разными в зависимости от того, кто говорил, громко или шепотом, после Мессы в магазине Нолана или на почте у миссис Прендергаст.
Правды ради следует отметить, что у меня ни разу не было Желтухи, никогда я не жаловалась ни на кишечник, ни на почки, ни на другие внутренние органы. Ни разу не покрывалась пятнами. Не было отеков, паралича, недержания мочи, кровотечений, потливости. И — заруби это себе на носу, сучка, прости меня Господи, Броудер, — у меня нет и не было ни бреда, ни буйства, ни галлюцинаций.
То, что я могу рассказать о себе, — не повествование. Я самая обычная девушка по имени Рут Суейн, прикованная болезнью к постели здесь, в комнате на самом верху. Надо мной крыша, а еще выше — дождь.
Я не на виду, а там, где и должен быть повествователь, — между миром сим и миром грядущим.
Это повествование о моем отце. Я пишу это, чтобы обрести его вновь. Но если хочешь добраться туда, куда намерен попасть, то сначала приходится пойти назад. Именно так в Ирландии обстоят дела с направлениями. Нечто подобное было в семье Т. С. Элиота[8].
Вергилием[9] назвал моего отца его отец Авраам[10]. Аврааму же дал имя его отец, который в стародавние времена был Преподобным Авессаломом[11] Суейном в Солсбери, графство Уилтшир[12]. Кем был отец Преподобного, не имею понятия, но иногда, когда я сижу на синих таблетках и затеваю игру «Кем Ты Себя Считаешь?», я отправляюсь на Суейнсот в прошлое. По тропе времени я иду назад мимо Преподобных и Епископов, мимо христианских ортодоксов, колеблющихся в отношении к Библии, мимо мужчин с бакенбардами и кустистыми бровями. Я все иду и иду — мимо канувших в Лету рыцарей, крестоносцев, всяких разных прочих чудиков — и в конце концов дохожу до времен Потопа. Когда в последние секунды телесюжета заканчивается рекламная вставка и голос за кадром становится тихим до шепота, я, дойдя до конца пути, оказываюсь перед Самим Господом Богом и задаю вопрос: «Кем Ты Себя считаешь?»
Мы — Суейны. Однажды я прочитала эссе, где критик жаловался на то, как сильно отличались персонажи Диккенса от реальных людей, носивших такие же имена. Но тот критик не ведал, что когда Диккенс не мог заснуть ночью, то бродил по кладбищам, читал надписи на надгробиях и подбирал имена некоторым своим персонажам. Другие имена Диккенс брал из реальной жизни, но тоже многого не учитывал.
Например, Диккенс не знал, что реальный Мозес Пиквик был владельцем дилижансов в Бате, или что в церковной метрической книге в Чатеме семья Сауербери числится как предприниматели, или что некий Оливер Твист родился в Солфорде, а мистер Дорретт был заключенным в тюрьме Маршалси, когда старший Диккенс пребывал там. Я понимаю — очень странно, что я знаю все это. Но если бы вы все дни напролет лежали в кровати с одними только книгами, вы тоже стали бы Странными, а Суейны, впрочем, никогда не бывают Просто Нормальными.
Откройте телефонную книгу графства Клэр. Перейдите на букву «С». Проведите пальцем вниз, минуя Патрика Свабба, аптекаря, играющего в hurling[13] в Клэркасле[14], и Файоннуалу Суан, которая живет рядом с исчезающим озером в деревне Тобер. Прежде чем вы доберетесь до фамилии Суини, увидите нас. Между Суан и Суини располагаемся мы, Суейны — единственная запись между дочерью Лира[15] и Королем Птицей[16].
Мир куда диковиннее представлений некоторых людей.
Моего истинного прадеда я ни разу не видела, а ведь именно из-за него все Суейны, как говорит бабушка Нони, чудаки.
Из туманной мглы моей ночной бессонницы иногда я вижу его, Преподобного. Он тоже, когда не может уснуть, уходит прочь от церковной тени и идет походным шагом мимо кладбища, где надгробные плиты торчат вкривь и вкось, как гигантские зубы огромного рта, открытого для посторонних взглядов. Но прадед не может добраться туда, куда хочет попасть. Его крест — интенсивная неугомонность, не дающая ему покоя, и поэтому в то время, когда Агнес, подобно жене Агнца[17], спит на самом краю их кровати, Преподобный разгуливает ночи напролет. Он проходит двадцать миль без остановки, и только слышится низкий гул его бормотания — скорее всего, он читает одну молитву за другой. Его руки заложены за спину, и он так похож на человека, которого Где-то Далеко Ждут Важные дела, что ни одна заблудшая душа, мимо которой он проходит, не осмеливается задерживать его.
У Преподобного настоящий подбородок Суейнов: острый, длинный, выступающий вперед, слегка приподнятый, всегда покрытый седой щетиной, — несмотря на бритье дважды в день, — словно полумаской, которую прадед никак не может содрать с лица. Я вижу, как он вышагивает мимо тиса на кладбище в церковном дворе. Что за дела у Преподобного, куда он идет, чтобы заняться ими, и как именно он покончит с ними — все это окутано тайной предков. За ним можно проследить только до этого момента. Иногда в своем воображении я бросаю горсть звезд выше вон того дерева, которое вижу из окна, и вешаю полумесяц. Но мои полумесяц и звезды не могут остановить Преподобного. Он продолжает шагать в темноту. Еще миг — и вот он уже исчез из виду.
Таково краткое повествование моего прадеда.
Нашему повествованию Преподобный завещал то, что является Философией Суейнов — Философией Невозможного Стандарта. В году одна тысяча восемьсот девяносто пятом он передает ее своему сыну при крещении, погружая мальчика в большую купель с холодной водой, нарекая младенца именем Авраам и, выдвинув подбородок вперед и вверх, отходя на шаг от вопящего ребенка. Преподобный хочет, чтобы его сын добился многого, дерзая и упорствуя. Хочет, чтобы сын пересек границы обыденности и стал для Бога доказательством совершенства Его Создания. Именно так я думаю обо всем этом. Основа Философии Невозможного Стандарта состоит в том, что как бы сильно вы ни старались, вы никогда не сможете стать достаточно хорошими. Стандарт поднимается по мере того, как поднимаетесь вы. И вы должны продолжать очищать свою душу до того времени, как Предстанете Пред Ликом Господа.
Как-то так.
И Дедушка Авраам начал очищать душу немедленно. В возрасте двенадцати лет в одна тысяча девятьсот седьмом году он стал магнитом для медалей. За достижения в Беге на Сто Ярдов, затем на Двести. За Прыжок в Длину, за Тройной Прыжок. Дедушка преуспевал во всем.
А потом он открыл для себя Прыжки с шестом.
В Школе Св. Варфоломея для Мальчиков (основана в 1778 году; директор Томас Таппинг, не прославившийся ничем, кроме того, что у него было слишком много зубов и губы никогда не смыкались) неугомонность Преподобного Авраам вознес к новым высотам: мчась по беговой дорожке и отталкиваясь шестом, он выстреливал себя в небо.
И вот мой неистовый дедушка приходит в мое затуманенное воображение в облике голубоглазого мальчика в белой майке и шортах, с коротенькими перьями растрепанных волос, атакующий невидимого врага, как самый настоящий рыцарь. Но зрителей нет. Обычным сереньким деньком после окончания занятий в школе исполняет он эти прыжки исключительно для себя. На спортивных площадках обосновались черные дрозды. Глухие удары дедушкиных шагов отзываются эхом в шесте, сделанном не из стекловолокна, а из дерева. Ветер должен думать, что это мачта, а дедушка — парус, слишком маленький для подъема.
Дедушка бежит быстрее. Колени поднимаются все выше. Черные дрозды оборачиваются. По гаревой дорожке к ним приближается, хрусь-хрусь-хрусь, человек на нижнем конце длинной палки. Губы растянуты, рот приоткрыт. С каждым шагом бегун, заявляя, что он идет, что он уже здесь, и предупреждая воздух о себе, выдыхает звук, похожий на порыв ветра, уф-уф-уф. Взгляд прикован к бетонному ящику для упора шеста. Сейчас начнется сам прыжок. Шест опускается, чуть прогибаясь. Раздается щелчок — последний звук, который Дедушка слышит на земле.
И вот он, Авраам, отрывается от земли и взлетает вверх. Его душа клокочет, когда он несется вверх, прорезая воздух после идеального толчка. Еще миг — и спортсмен больше не нуждается в шесте, отталкивает его, и тот падает на твердую землю, дважды высоко подпрыгнув. Черные дрозды пугаются, поднимаются в воздух и скользят к футбольным воротам. От удивления глаза моего Дедушки становятся ярко-синими. Он в вершине треугольника, бледный угловатый птице-человек. Его ноги взмыли в воздух и теперь будто шагают по нему, раскрывая всю суть существования Авраама, когда он пересекает планку над всеми нами. Это и есть головокружительный, окрыленный успехом, счастливый глоток Невозможного, и Дедушка, если так можно выразиться, переворачивается в небе, прижатый к чугунно-серым облакам, откуда должен смотреть Бог.
Ум Дедушки заполняет белая мгла, а тело полагает, что обрело крылья и совершило прыжок в какой-то другой способ бытия.
Там, в Небе, намного выше обыденности, Авраам Суейн загребает воздух руками и одно короткое мгновение молится Богу: «Сделай так, чтобы я никогда не упал на землю».
Глава 2
Миссис Куинти говорит, что у меня Преизбыток Стиля и мне следует приструнить себя. Когда-то она преподавала мне английский язык и теперь приезжает к нам по вторникам и четвергам после работы в Техе. Меня она навещает обязательно. Я — ее Вторники с Рут (и Четверги). Благодаря мне миссис Куинти пройдет в обход Чистилища и вознесется прямо на Небеса.
Она предсказывает мне Блестящую Карьеру, если только я немного Приструню Себя.
А еще мне необходимо выжить.
Прежде чем подняться в мою комнату, она перекидывается парой слов с моей матерью о Моем Состоянии.
Миссис Куинти — маленький туго натянутый лук. Я имею в виду, она весьма напряжена. Все у нее должно быть четким и точным, продуманным до мелочей. Но с момента отъезда черноволосого курчавого мистера Куинти, водителя грузовика, покинувшего наше повествование некоторое время тому назад, миссис Куинти теперь все время боится — вдруг что-то тайно ослабнет в ней. Чтобы решить эту проблему, она часто ставит себя на место, резко распрямляя грудь, что видно по ее блузке или жакету. Но в нашей местности такое проходит незамеченным, потому что люди знают ее обстоятельства и допускают подобного рода причуды. Вот если бы мистер Куинти вовсе Ушел из Жизни, все было бы намного лучше. О, если бы только он отправился к Награде на Небесах![18]
Тогда миссис Куинти справилась бы. Стала бы обыкновенной вдовой и обзавелась бы соответствующим гардеробом. Но случилось так: хотя у Томми Куинти был преогромный живот, разросшийся от восемнадцатилетнего поедания Бисквитов Королевы Виктории, Пирогов «Лимонный Дождь»[19], Яблочных Пирогов «Наизнанку»[20], Тортов с Ревенем и Заварным Кремом, а также Карамельных Эклеров и тому подобного… да, так вот, бесстыжей длинноногой парикмахерше по имени Сильвия, живущей в Суонси, Уэльс, удалось не обратить внимания на Полное Собрание Пирогов, а увидеть только черные вьющиеся волосы вышеупомянутого Томми.
Как говорит Бабушка, «Он зашел к Сильвии, чтобы Подстричься, но до сих пор не Подстригся».
В нашем округе все знают о Томми с тех самых пор, как Мартин Конвей повез Учеников Моложе Шестнадцати с Половиной Лет на матч, остановился в Суонси, чтобы поесть жареного картофеля и сходить в туалет, и увидел Томми — с возмутительной прической Квифф[21], в бирюзовом блейзере и белых туфлях. Однако никто не рассказал об этом миссис Куинти. Будто существовало секретное соглашение о том, что Томми Куинти будет выпадать из всех разговоров. Иногда о нем упоминают шепотом в баре Райана, а еще на Перекрестке[22], где люди собираются накануне годовщины восстания сорок пятого года[23] — когда подают пироги, здесь звучат шутки, — но Томми уже почти совсем Ушел из Повествования.
При этом он оставил миссис Куинти простуду. А также приступы мигрени, звон в ушах, катар Евстахиевых труб, временную левостороннюю тугоухость, вызванную втянутой барабанной перепонкой, как миссис Куинти объяснила бы вам. Еще у нее опухоли лимфатических узлов, лакунарная ангина, головокружения, расстройства пищеварительной системы Всех Видов. Кроме того, миссис Куинти сама поставила себе диагноз «сырное дыхание».
Миссис Куинти страдает от болезней вне зависимости от того, что происходит в мире. Ее единственная надежда в том, чтобы сохранять туго натянутой тетиву своего маленького лука и продолжать преподавать. Педагогическая деятельность дает ей стимул к жизни. Когда сто лет назад я была ее ученицей, уроки миссис Куинти отличались от уроков остальных преподавателей тем, что на всем протяжении любого занятия царила абсолютная тишина. Даже хотя ее рост был слишком мал, а стиль в одежде весьма напоминал Костюмную Драму, все знали: не стоит связываться с миссис Куинти. Она входила в аудиторию и первым делом открывала окна, хотя снаружи могли быть и град, и буря. Миссис Куинти открывала окна, несмотря ни на что. Затем вынимала маленькую влажную салфетку и вытирала поверхность стола. Леди приносила с собой собственную атмосферу.
Вместе с тем Тех — вовсе не то учебное заведение, в каком, как вам кажется, миссис Куинти могла бы преподавать. Студенты-аборигены ни в коем смысле не подпадали под контроль мистера Кадди. Руководство подростками привело его в замешательство, из-за чего лицо его стало вытянутым, похожим на букву Z, а сам мистер Кадди почти все время держал его, то есть свое лицо, у себя в офисе, где мистер Кадди находил совсем доступное утешительное занятие — разгадывал кроссворды.
Вот лишь один пример того, как развлекались студенты.
Однажды на Рождество в Актовом зале устроили ясли, разместили гипсовые фигуры в натуральную величину. Младенец Иисус, Мария и Иосиф, два верблюда — к сожалению, не в натуральную величину, — два ягненка, одна корова, один осел и три Волхва, по внешности вылитые мусульмане[24]. Пол скрыли под слоем настоящего прошлогоднего сена — его Джасинта Дайнин принесла в своей сумке. Пока миссис Мерфи в комнате номер 7 исполняла на синтезаторе «Придите, верные»[25], Младенец Иисус был похищен, а в сене оставлена записка. В ней говорилось: «Иисус с нами».
Мистер Кадди вызвал всех студентов, каждому задал вопрос «Ты видел Иисуса?» и в конце концов объявил, что если Иисуса немедленно не возвратят, то не будет никакой Рождественской Мессы.
Младенец Иисус не вернулся. Он не был замечен ни в одном из школьных автобусов, идущих в общем направлении Килраш[26], Килдисарт[27], Эннис[28], и, таким образом, преподаватели пришли к заключению: Господь Наш все еще пребывает в Техе.
На помощь в поисках Иисуса были мобилизованы первокурсники. Каждый стол, чулан, шкафчик были проверены. Но никто не смог найти Его.
В сене появилась еще одна записка. В ней говорилось: «Прекратите поиски».
На этом этапе все студенты были на стороне похитителей и о ложных находках объявляли ежечасно. То Иисус был в химической лаборатории. То перед Игрой в Раздевалке для Девочек. То на уроке Французского Устного — этот урок вела преподавательница, временно заменяющая постоянную преподавательницу мисс Триго.
Тот парень вездесущ, как сказал Томас Халви.
Мистер Кадди решил вывести похитителей на чистую воду; он дал задний ход и сказал, что Рождественская Месса все равно состоится. Он посчитал, что когда соберутся родители, то Младенец Иисус вернется в ясли. Месса устыдит похитителей, они сдадутся и вернут заложника.
Но вышло не так.
Все мы пришли на ту Мессу с яслями на алтаре, но вместо Младенца был ягненок, ко лбу которого кто-то приклеил скотчем надпись «Иисус».
Нет, Тех — последнее место, где вы ожидали бы найти миссис Куинти. Но каким-то образом преподавание спасает ее от себя самой. В классе она неукротима. А вот обычную жизнь миссис Куинти находит тяжелой.
Когда Доктор Мэхон спрашивает ее, почему она не прекратит преподавать по Состоянию Здоровья, она отвечает: «Я несу свой крест».
Входя в наш дом, миссис Куинти прислоняет свой крест к стене и спрашивает мою мать, как у меня дела. Как Синг[29] на островах Аран[30], я слышу мир через аккуратную дырку от выпавшего сучка в полу моей комнаты.
— Ее рот очень сухой? Мой был ужасно сухим.
— Вы принесли пирог? — кричит Бабушка со своего места у огня.
Бабушка — мамина мама — из клана Талти[31], ей девяносто семь или девяносто девять. Она усохла до размера куклы с большими руками и ногами. У нее есть то, что Маргарет Кроу называет Совершенно Симоновским[32] и что можно назвать опровержением времени — для Бабушки время как бы не существует, все времена одинаковы. У нее есть самый замечательный в мире талант — привычка жить. И ее Бабушка так усовершенствовала, что смерть сдалась и убралась восвояси. Закутанная в свое фоксфордское одеяло[33], обутая в древние ирландские сандалии из сыромятной кожи, Бабушка — частично чероки[34] и частично миссис Марклхем из книги «Дэвид Копперфилд». Миссис Марклхем по прозвищу Старый Вояка, махонькая женщина с бойкими глазами, всегда носившая одну и ту же шляпку. Шляпка миссис Марклхем была украшена искусственными цветами и двумя бабочками, будто парящими в воздухе. У Бабушки взгляд такой же острый, но нет разукрашенной шляпки — вместо нее мужская кепка из твида, плоская, старая и поблеклая. К этой кепке мы еще вернемся.
— Как она сегодня? — спрашивает миссис Куинти.
— По правде говоря, никаких изменений, — отвечает Мама.
Как того требует вежливость, разговор продолжается, но на него у нас нет времени. Миссис Куинти становится собранной и взбирается по лестнице. Тринадцать крутых ступеней — скорее корабельный трап, опирающийся на каменные плиты пола напротив кухонной плиты и кухонного стола для посуды. Хоть у миссис Куинти такое количество болезней, у нее твердый шаг — даже когда она несет свой крест.
И вот она появляется в двери.
— Ну-ка! — восклицает она, входя в комнату.
Она говорит это так, будто хочет привлечь внимание к себе или объявляет о своем прибытии в мою спальню, где стоит большая простая кровать ручной работы, есть окно в крыше и книги в количестве три тысячи девятьсот пятьдесят восемь штук.
Миссис Куинти может теперь отдышаться, оценить частоту своего сердцебиения и внутреннее сотрясение, какое-то приглушенное, — желчный пузырь? — а ее глаза привыкают к тому, что она вошла в небо.
— Ну-ка!
В спальне тусклый свет, — к нему вы должны привыкнуть, — особенно тусклый, когда идет дождь. Он так струится по мансардному окну, что кажется, будто мы находимся под рекой. В небе.
— Ну-ка!
— Привет, миссис Куинти.
Дорогой Читатель, познакомься с миссис Куинти, пока она переводит дыхание. Посмотри, как мало места она занимает. Обрати внимание на ее худое лицо, сужающееся к подбородку, как будто ее Жизнь была очень узким путем, по которому ей надо было пройти[35].
Острые, резко очерченные колени закрыты юбкой цвета древесного угля, доходящей до середины голени; серые колготки; туфли шестого размера на шнуровке, начищенные, но заляпанные грязью из-за погоды западной части графства Клэр и из-за того, что пришлось пересечь наш двор. Мышиного цвета блузка с пуговицей наверху, собирающей в гармошку дряблые складки кожи на ее горле и придающей ее голосу тенденцию — Простите, миссис Куинти, но это так — к писклявости. Черный кардиган, весь покрытый белой меловой пылью. Из рукава выглядывает крошечный льняной носовой платок. Он всегда наготове. Волосы собраны в пучок, похожий на круглый тортик — печальное напоминание о Томми, любителе Пирогов, который отнял у миссис Куинти всю ее Свежесть. Ее губы… Где ее губы? От них остался лишь слабый рудимент, линия не вполне розового цвета. Щеки миссис Куинти напудрены, совсем как у тех постаревших пригожих девиц — о них говорил Де Валера[36] — которые стали очень популярными после того, как их изображение впервые появилось за желтым целлофаном в окне магазина МакМагона[37] в Фахе. Очки в круглой оправе делают огромными глаза миссис Куинти, и в них вы увидите страх и доброту. Люди здесь добрые, причем настолько, что дыхание перехватывает. Это своего рода совершенство, которое проявляется лучше всего, когда что-то идет не так, как надо. Именно в такие моменты люди сияют, светятся. Они странные и диковинные, как коты на велосипедах, но теперь всегда сияют вокруг нашей семьи из-за Энея[38]. И больше всех светится миссис Куинти.
Миссис Куинти, познакомьтесь с Читателем.
Миссис Куинти нужны очки для чтения, но их она не принесла и потому снимает свои обычные очки, чтобы оглядеть тебя.
Пока она смотрит, я сижу, опираясь на подушку, и размышляю о фамилии Куинти. Интересно, носили ли когда-то давно ее предки фамилию Куинси, а не Куинти, и, может быть, какой-то их дальний родственник в году, скажем, 1776-м поднялся на борт корабля, направлявшегося в Новый Свет, и написал свою фамилию в спешке, а может, даже поставил кляксу или у него дрогнула рука, но буква «С» стала буквой «Т». Или, возможно, потеряв глаз, он получил прозвище Скуинти[39] и отбросил «С» при возвращении к Достойной Жизни: «Зовите меня Куинти». Или, вероятно, был некто великий, кто основал город Куинси в Массачусетсе[40], но позже был изгнан со скандалом. Или же так: были люди по имени Куин, и один из них собственноручно приписал «Т», и тогда…
Приструни себя, Рут. Приструни себя.
Миссис Куинти возвращает мне страницы моей тетради с самыми последними записями. Я даю ей только те листки, на которых нет упоминания о ней самой. У меня стиль письма, как у мужчины, и я немного Максималистка, сказала она мне ранее. Я — такой анахронизм, книжный червь, и от этого в манере моего письма развилось Сверхизлишество Стилей, Настораживающих Заимствований, Беспорядочных Колебаний, и я Должна потерять мою склонность к неуместному использованию Заглавных Букв.
Однажды, когда я ответила, что Эмили Дикинсон[41] использовала заглавные буквы, миссис Куинти сказала мне, что Эмили Дикинсон не может быть Хорошим Примером, что она была Необычным Случаем, и судя по тому, как миссис Куинти это сказала, было понятно, что она пожалела сразу же, потому что ее рот слегка дрогнул, и можно было заметить, что она уже сложила два и два и вспомнила, что Суейны в значительной степени тоже подпадают под определение «необычные». И потому я так никогда и не спросила ее, что это значит — «стиль письма, как у мужчины».
Двумя руками миссис Куинти снимает очки с носа, напоминающего мне небольшой корень пастернака[42], держит их точно перед собой и тщательно исследует собравшуюся на них пыль. Из-за дождя наши с ней лица пересечены светлыми и темными полосами, будто мы сидим за тюремной решеткой.
Миссис Куинти вытягивает свой носовой платок, тщательно протирает очки, затем критически осматривает их поверхность, находит еще пылинки или пятна от пальцев, появляющиеся во время занятий в аудитории, и продолжает протирать стекла.
— Что ты читала, Рут?
Я уже проглотила всего Диккенса — от Пиквика[43] до Друда[44]. И могу вам сказать, почему Чарльз Диккенс — величайший романист, какой когда-либо был или будет, и почему с тех пор все великие романисты в долгу перед «Большими надеждами». Я могу помнить то, что вы давно забыли. Например: когда Пип выпил слишком много дегтярной воды, от него пахло, как от нового забора. Или когда мистер Памблчук был горд пребывать в компании курицы, которой выпала честь быть съеденной новым джентльменом Пипом. В первый раз я прочитала эту книгу в классе мисс Брейди в Национальной школе Фахи, где была библиотека с проволочными стеллажами, на которых стояли пожертвованные родителями учеников книги в мягкой обложке, растрепанные, с загнутыми уголками страниц, а рядом с ними расположился полный набор Книг рекордов Гиннесса с 1970 до 1980 года. Но только когда появился мистер Мэйсон, — мне тогда было четырнадцать лет, — я поняла, что «Большие надежды» и есть Лучшая Книга Всех Времен.
Я прочитала книги известных писателей, те, что обычно читают, — Остин[45], Бронте[46], Харди[47]. Но Диккенс подобен другой стране, где люди ярче, колоритнее, комичнее либо трагичнее, и в их компании вы чувствуете, что мир богаче и фантастичнее, чем вы себе его представляли.
Но прямо сейчас я читаю РЛС[48]. Он мой новый фаворит. Мне нравятся писатели, которые были больны. Мне нравится, что первой книгой моего отца был «Остров Сокровищ», маленькая красная книга в твердом переплете из серии Регент Классикс (Книга 1, Пернелл и сыновья Лтд., Сомерсет) со штампом внутри: «Школа Хайфилд, Награда за Первое Место».
Мне нравится то, что сказал Роберт Льюис Стивенсон — забыть себя означает быть счастливым. И нравится, что воображение увлекло его в плавание под парусами навстречу приключениям, в то время как его тело покоилось в кровати — у РЛС была ранняя стадия чахотки. Мне нравится, что он называл себя «потерпевшим кораблекрушение вдали от моря» и что еще в молодости он решил, что хочет обойти пешком часть Франции, спать а la belle étoile[49]с ослом. Осел оказался ослицей, которую Стивенсон окрестил Модестиной и которая, по его словам, «обладала некоторым сходством с одной знакомой дамой» (Книга 846, «Путешествие с ослом», Вадсворт Классикс). Я тоже знаю ту даму.
Я и сама собираюсь написать книгу «Путешествия с Лососем», когда доберусь дальше вниз по реке.
Все это мне хочется рассказать миссис Куинти, но говорю я лишь три слова:
— Роберт Льюис Стивенсон. — А затем мимоходом замечаю: — Я хочу прочитать все эти книги.
— Все?
Она оглядывает их, — правильнее будет сказать, библиотеку моего отца, на самом деле огромную коллекцию книг, которую он накопил. Их перенесли в мою комнату, и теперь они сложены стопками от пола до окна в крыше.
— Книги моего отца. Я собираюсь прочесть их все, прежде чем умру.
Миссис Куинти не одобряет разговоров, даже упоминаний, о смерти. Из рукава она вытаскивает носовой платок и легонько проводит им под своим носом, где произнесенное мной беспощадное слово могло бы задержаться. Она прикусывает верхними зубами то, что когда-то, должно быть, было нижней губой. На лице миссис Куинти появляется слабый румянец, означающий прилив чувств, который не может скрыть пудра на щеках. Она смотрит на неаккуратные стопки книг, громоздящиеся одна за другой так, что кажется, будто мы в море, и волны книг приближаются к кораблю-кровати из тех мест, где мой отец ушел в мир иной.
Она даже не знает, что и сказать.
— Даже не знаю, что и сказать, — говорит она.
— Все в порядке, миссис Куинти.
Из-за перехлеста эмоций она напрягается немного сильнее, чем обычно.
Поднимает узкие плечи и прижимает колени друг к другу так, что кажется, будто она на самом деле становится еще меньше. Мне жаль, что я расстроила ее, и я даю ей время, пока мы просто сидим — я в кровати, а она возле меня, — и мы позволяем музыке дождя отвлечь нас от разговора.
— Ну, что ж, — говорит миссис Куинти, слегка одергивая юбку, — сегодня сильный дождь.
И опять никто из нас не произносит ни слова в течение нескольких секунд. Мы просто сидим здесь, в этой комнате под самым небом, с которого льют потоки дождя. Потом я поворачиваюсь к миссис Куинти и киваю на книги, от которых исходят запахи пожарища и дождя, и говорю ей:
— Я собираюсь прочитать их все, потому что только в них смогу найти его.
Глава 3
Итак, я оставила в воздухе мальчика с размытыми очертаниями.
Конечно, вы будете рады узнать, что после каждого прыжка Дедушка приземлялся, но неизменно испытывал невыразимое разочарование.
Он достиг превосходных результатов в школе мистера Таппинга и потому был быстренько переведен в другую. Стандарт повысился. Дедушка перескочил через класс и все равно преуспевал. На праздники он приезжал домой с блистательными отзывами, но каждый раз Преподобный то ли был в своей церкви, то ли искал в Уилтшире те немногие дороги, по которым еще не ступала его нога. Философия допускает только один результат: мы не соответствуем Стандарту. Мы совсем маленькие, сваренные вкрутую камни разочарования во всем. Лица Суейнов узкие, а что касается моих тетушек, то кажется, будто они жуют собственные щеки.
Авраам поехал в Оксфорд, чтобы Подготовиться к Жизни — такие слова употреблял Преподобный для описания того, что Авраам должен был сделать, пока ожидает услышать Зов Божий. Авраам обязан был поступить в Оксфорд и читать Классику — которая не была на самом деле ни книгой Джеймса Фенимора Купера «Последний из Могикан» в красном твердом переплете (Книга 7, Регент Классикс, Сомерсет), ни толстым, вздувшимся от воды томом «Оливера Твиста» (Книга 12, Пингвин Классикс, Лондон), который расклеился на Главе 45 «Роковые Последствия»[50] и от которого шел удивительно приятный запах, как от ломтика хлеба, подрумяненного на огне, ни произведением «Хозяин и работник» Толстого (Книга 745, Евримен Эдишн, Нью-Йорк) — эта книга принадлежала когда-то кому-то, кто не оставил никаких других следов в этом мире, кроме слов, написанных на изумление твердым почерком на форзаце той заскорузлой книги в мягкой обложке: «Принадлежит Тобиасу Гривсу». Оказывается, Классика — вовсе не книги, подобные этим, а греческая и латинская литература — огромное количество одинаковых тонких томов в красных или зеленых твердых переплетах, и глянцевые страницы этих книг имели склонность к склеиванию и слипанию навечно.
Читать и ждать — таков был план.
У Бога было немало клиентов в те дни, и Он еще не заставил никого изобрести мобильные телефоны и эсэмэски, поэтому потребовалось время, чтобы призвать каждого по отдельности к тому, что тот должен делать. Таким образом, надо было просто ждать. Призвание прибудет в должное время. Преподобный был в этом уверен. Авраам собирался стать Священнослужителем. В конце концов, очищение Души было семейным предприятием.
Итак, мой Дедушка ждал. Он прочитал уйму латыни. Он нашел один из освященных веками шестов, хранящихся в Оксфорде, и с ним достиг Новых Высот.
Вы, наверное, считаете, что раз он так часто бывал хоть чуточку ближе к небу и у него было такое имя, как Авраам, то он услышит Зов Божий сразу же. Как будто он стучался в дверь. Мне кажется, Бог мог подумать, что со стороны Авраама это немного дерзко. Возможно, Он мог подумать, что у Авраама было то же, что и у Мики Нолана, про которого Бабушка говорит, что у него на волосах слой геля толщиной в три пальца и он верит, что остроносые туфли делают его Избранным. Поскольку это всегда срабатывало в отношении Полин Фроли, которая в женском туалете бара Райана поднимает свою юбку на четыре дюйма перед тем, как совсем задрать ее перед Мики Ноланом, тот уверен, что он — Божий Подарок.
Ну, как бы то ни было, оказывается, что как раз тогда у Бога было предостаточно таких подарков и вовсе не было нужды в Аврааме Суейне. И Дедушка проводил каждое утро в библиотеке за чтением лирических стихов на латыни, Катулла[51] и Горация[52]. Дедушка подружился с одиннадцатисложником[53], Большим и Малым Асклепиадовым стихом[54], Глаконовым стихом[55], — с такими вот крутыми парнями, — и взлетал в воздух на склоне дня, словно примеряясь к насыщенным влагой небесам Оксфорда и при этом будто крича: «Приве-е-е-е-т, Господи!»
Но нет, Зов Божий так и не прозвучал. Всевышний Рыболов в это время не был занят ловлей[56].
Полагаю, сын другого Преподобного вполне мог прикинуться моим Дедушкой. Он должен был вернуться домой и сказать: «Да, папа, Он уловил меня в среду», но мой Дедушка — истинный Суейн, и он ожидал совершенно честного личного общения, потому что вся его Философия целиком основана на том, что одна-единственная вещь несомненна: Бог соответствует Стандарту.
Когда Он тебя призывает, ты призван.
И потому мой дедушка не мог лгать. Возможно, он думал, что Призвание произойдет в церкви, и потому довольно много времени провел при вечерних свечах. И от стояния на коленях, должно быть, у его произошло некое просветление души, и все благодаря тому, что наша семья заплатила целое состояние изготовителям свечей «Ратборнс и Сыновья»[57], Дублин, и наш дом — единственный в Фахе, где занавески пахнут свечным воском.
(Я думала, что должна была бы назвать нашу деревню как-нибудь иначе. Я потратила целую неделю, записывая названия на последних страницах школьной тетрадки Эшлинг[58]. Музыкальные — Шрин, Глаун, Шида; таинственные — Скрейпул; осмысленные — Иски, что значит «Изобилующий рыбой», или Килбег, чье основное значение «Маленькая церковь». Я собиралась использовать слово Лиснеброушкин — так называлась деревня, где жил герой тощей белой книжицы в мягкой обложке «The Poor Mouth» «Поющие Лазаря, или На редкость бедные люди. Скверный рассказ о дурных временах»[59] (Книга 980, Фланн О’Брайен, Сивер Букс, Нью-Йорк), и ее первая строка «Я делаю заметки в этой рукописи, потому что следующая жизнь быстро приближается ко мне», но каждый раз, когда я произношу слово «Лиснеброушкин», я чувствую, что читатель будет немного запинаться на нем. Лиснеброушкин. Я боялась использовать «Фаха», потому что если эти страницы выйдут в мир, то может получиться нечто под стать Рулабуле[60], но не из-за скандала или нарушения чьих-то прав, но потому, что все попытаются выяснить, находятся ли они В Ней. Быть в книге — в наших местах все еще кое-что да значит.
— А я буду упомянут? — спросил меня отец Типп, садясь подле моей кровати.
Перед тем как сесть, он подтянул брюки на коленях, чтобы сохранить складку, и — хоть это и Веский Довод в Пользу Того, Чтобы Меньше Гладить, — выставил напоказ три дюйма[61] белой голени — самые непривлекательные, какие вы когда-либо видели. Этот священник — прекрасный человек, однако кожа у него ну слишком уж белая.
Оказаться Вне Повествования — самая настоящая катастрофа.
Что такого ты ей сделал, чтобы Оказаться Вне Повествования? Я могу представить себе, как их лица вытягиваются, словно у старого джентльмена в «Пиквике», нашедшего в сосиске обломки брючных пуговиц.
Ирландцы будут читать что угодно, если там написано о них. Так я думаю. Мы сами себе важнейший предмет интереса. Конечно, мы поездили по миру и многое повидали, однако пришли к заключению, что просто не существует ни людей, ни предметов, столь же завораживающих, как Мы Сами. Мы просто сногсшибательны. Итак, даже пока я пишу эти слова в тетрадь с материалами для книги, здесь, возле моей кровати, уже собралась целая толпа. Тут Аллены Барри Брины Консидайны Карти Корри Дули Демпси Данны Игэны Флинны Финакэйны Хейзы Хогансы — даже не буду перечислять тех, чьи фамилии начинаются с Мак и О’ — и все они заглядывают мне через плечо, желая узнать, есть ли они Там.
Ковчег.
Расслабьтесь. Выйдите из комнаты. Если я буду жить, то доберусь до всех вас.
Бог не смог добраться до Авраама Суейна, но Он отправил ему послание, причем самым необычным способом — через девятнадцатилетнего парня по имени Гаврило Принцип[62], который занял позицию неподалеку от моста через невинную реку Миляцку в городе Сараеве. Послание с грохотом вылетело из пистолета Гаврилы и попало в голову проезжавшего мимо эрцгерцога Фердинанда, а потом вылетело из уст лорда Китченера[63] в Англии. Собственно говоря, в то время была довольно неторопливая система передачи данных, работавшая медленнее, чем Интернет с доступом по телефонной линии в Фахе, но за месяц сто тысяч мужчин получили это послание и записались добровольцами, чтобы сражаться За Короля и Страну. Мой дедушка услышал то послание в переполненной комнате в Ориел Колледже[64], где бледные юноши, не обремененные практическими знаниями об окружающем мире, но с сияющими светлыми лицами людей, приверженных высоким нравственным идеалам, проголосовали все разом за то, чтобы вступить в ряды легкой пехоты Оксфордшира и Бакингемшира. Потом молодые люди вывалились наружу, в ночь, под сияние звезд, струящееся с неба, в которое упирались шпили зданий — мистер Александр Морроу, мистер Сидни Икретт, мистер Мэтью Читли, мистер Клайв Пол. (Их имена, как и имена всех Павших, перечислены в алфавитном указателе Книги 547, «Блистательные дни: История легкой пехоты Оксфордшира и Бакингемшира», Оксфорд.) А в то время им всем хотелось прыгать от радости и танцевать, как если бы для каждого из них тяжесть сменилась легкостью, будто в этом и заключалось значение слов Легкая пехота. Когда ставишь свою подпись на нужной строке, то ощущаешь легкость, какой-то подъем. В конце концов, жизнь не так уж и тяжела. Теперь лишь осталось пойти и сообщить родителям.
Авраам подготовил речь в поезде. Он записал Ключевые Фразы каждую на своем листке и разложил их на столе. Проблема была в том, что Образ Жизни Суейнов не допускал гордыни. Авраам не мог сказать: «Я должен Спасти Мою Страну». Не мог сказать: «Богу угодно, чтобы я сделал это, а не то». Не могло быть такого, что стать солдатом в любом случае лучше, чем стать Преподобным.
Щекотливая ситуация, как сказал Александр Морроу.
Авраам решил — пусть пока будет «Не Сейчас. Видишь ли, отец, сейчас Бог не хочет, чтобы я принял духовный сан. Прежде надо заняться военными делами, и было бы тщеславно и корыстно, если бы я посчитал себя лучше других».
Авраам сделает так, что Образ Жизни Суейнов будет противодействовать себе самому.
Молодой человек сошел с поезда и направился вдоль кладбища с покосившимися надгробиями, казавшимся Другим Миром. У Авраама был такой же вид, как и у других мужчин клана Суейнов, — будто у каждого есть какое-то Секретное Задание. Они здесь, с вами, и заняты обычными, повседневными делами, но какая-то часть их все время отсутствует, думая о Секретном Задании. Потому-то женщины влюбляются в таких мужчин — из-за неуловимой малости, которую, как женщинам кажется, они смогут выудить из глубины омута Суейнов. Но это на потом. До темы «Женщины и Суейны» я доберусь позже.
Авраам сказал своей матери Агнес о принятом решении, и она, извинившись, вышла из комнаты — так, как делали дамы в те дни, чтобы хоть Ненадолго Уединиться, пока печаль и тревога, как волки, грызли ее сердце.
Преподобный вошел и, увидев сына, выдвинул подбородок.
— Авраам?
— Отец.
Возможно, именно в этот момент Преподобный все понял. Возможно, ничего больше и не требовалось. Мужчины клана Суейнов не великие мастера вести разговор. Я вижу в своем воображении, как потемнела оставшаяся после бритья маска Преподобного, как холодный блеск рыбьей чешуи мелькнул в его глазах, как при вдохе дернулись ноздри его узкого носа, когда он осознал, что это дано ему в наказание за предположение, что Авраам будет Следующим Великим в Богоданном Мире. Преподобный отвернулся к высокому узкому окну, сжал одну руку другой, ощутил холодок от Присутствия Господа и начал молиться, чтобы его сын бросился навстречу славной смерти.
Лосось в Ирландии
Автор
«Друг рыболова»
Лондон
Кеган Пол, Тренч, Трюбнер и Ко. Лтд.
Бродвей Хаус, 68–84 Картер Лейн, E.C.
Предисловие
Позвольте мне начать с утверждения, которое, возможно, не вызовет сомнений даже у самого неопытного из всех рыболовов в его первый день пребывания в этой стране, но все же заслуживает того, чтобы повторить эти слова здесь: Ирландия — сущий рай для тех, кто ловит лосося на удочку. Обилие рек, дивная прозрачность вод и неувядающая красота природы создают рыболовную идиллию. Конечно, бывает и такая погода, когда может показаться, будто вся страна состоит из рек и озер — рыболов едва ли сможет проехать несколько миль, не наткнувшись на водоем, где полно лосося и кумжи[65]. Когда разливаются многочисленные речушки, рыбы легко переплывают из одной в другую. Сырая погода, бывающая часто, способствует тому, что реки в большинстве своем полноводны. Если рыболов правильно одет и обладает крепким характером, нет никакой причины, почему ловля лосося в Ирландии не может стать для него приключением, столь близким к рыболовному раю, какое вряд ли может быть найдено где-нибудь еще.
Автор намеревается дать в этой книге полное описание, полученное из личного опыта, всех ирландских рек, где водится лосось. Мы представим подробности самых примечательных маршрутов, ежегодные периоды, когда рыбалка запрещена, когда можно забрасывать сеть и когда — ловить на удочку, а также укажем лучшие наживки для ирландского лосося, изготовителей рыболовных снастей и т. д. и т. п. Хотя этого уже было бы достаточно для руководства по ловле рыбы, автор убежден, что было бы небрежностью, если бы он ограничился такими сведениями, когда пишет о лососе в Ирландии. Ведь лососю в этой стране приписывают магические свойства. Здесь не забыто, что он пребывает в двух мирах: и в пресной, и в соленой воде. Он мистический, мифический, и в глазах многих не меньше, чем еще один, иной Бог. Но не только потому, что лосось стремится к невозможному, не только потому, что он стремится быть как существом воздуха[66], так и воды, но и потому, что в моменты потрясающей красоты и запредельности он достигает именно этого. К тому же такую оценку дают не только те, кто ловит лосося. Ирландцы восхищаются героизмом и всеми теми, кто дерзает выступить против возмутительных, вопиющих напастей. Например: маленький мальчик в Голуэе[67] или Лимерике[68], или Слайго расскажет вам историю Финна МакКула[69] так, будто это вчерашние новости. Финн, расскажет вам тот мальчик, пронзил острогой Лосося Мудрости[70] у водопада Ассаро на реке Эрн. Лосось Мудрости получил все знания в мире, поев лесных орехов, упавших в воду, и теперь от лосося Финн узнал — чтобы стать поэтом, нужны Огонь Песни, Свет Знания и Искусство Декламации. Таким образом лосось и поэзия навсегда запечатлены в ирландском уме. Все это, как верит автор, может только служить обогащению опыта того, кто ловит лосося в Ирландии. Поэтому должны быть разные случайные рассказы, фрагменты преданий, суеверия и поверья, и все они в этой стране неразрывно связаны, причем не в последнюю очередь потому, что в Ирландии Святые и Лосось в течение долгого времени были на короткой ноге.
Теперь последуем совету Ричарда Пенна, эсквайра, — а его книга «Принципы и Намеки для Рыболова и Невзгоды Рыбалки» (Джон Мюррей, Олбемарл Стрит, Лондон, 1833 г.) долго была незаменимой для автора той книги, какую вы сейчас читаете, — «Когда вы начинаете свое знакомство с лососем, уделите немного времени, чтобы войти в курс дела». То есть не будем больше откладывать, а примем устойчивое положение, окинем взглядом реку, сделаем вдох и забросим удочку.
Глава 4
Люди — странные создания, такова моя основная мысль. Но не более странные, чем Суейны.
Четырнадцатого августа 1914 года 2-й Батальон легкой пехоты Оксфордшира и Бакингемшира высадился во Франции, в Булони.
Что произошло потом, я иногда представляю себе, когда меня увозят из графства на машине «Скорой помощи». Когда Министр реформировала систему больниц в Ирландии, назвав их Центрами Высоких Стандартов Деятельности, то забыла о графстве Клэр. Такое часто случается. Мы ни то ни се, ни Юг, ни Запад. По внешнему виду мы нечто среднее между скитальцами[71] из графства Керри[72] и широкогрудыми жителями графства Голуэй. И те, и другие щегольски одеваются, красят волосы и выставляются напоказ. Так, если в графстве Клэр у вас Что-то, как у меня, вас надо показать всем.
Тимми и Пэки заезжают за мной. У Тимми огненно-рыжие волосы и жутко сильный энтузиазм к Hurling, и если выказать ему хоть малейшее одобрение, то он позволит вам наслаждаться образцами своего горлового пения. Мать Пэки сделала невозможное, заставив его поверить, что он привлекателен, но оба они, Тимми и Пэки, и в самом деле привлекательны. Мы едем без сирены, но тот запашок, который является изнанкой болезни, все равно заставляет думать о ней. И вот тогда-то я и представляю его, Дедушку Суейна, во Франции.
В том-то и дело, что никто из ныне живущих там не был. Но многие из них находятся на страницах книг. Мой дедушка — в тощей, пахнущей дымом книжке «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка (Книга 672, книга в мягкой обложке издательства Фосетт, Нью-Йорк), на жестких, заскорузлых страницах «Августовских пушек»[73] (Книга 1023, Барбара Такман, Макмиллан, Лондон) и в покоробившемся букинистическом томе «Взгляд в глубины ада: окопная война в Первой мировой войне» (Книга 1024, Джон Эллис, Джонс Хопкинс Юниверсити Пресс, Балтимор). Это книги, которые читал мой отец, пытаясь найти своего отца.
Вот он, высокий и тощий, напряженный Авраам. Он в окопе — холодном крысином ходе с мерзкой, засасывающей и хлюпающей жижей на дне. Воздух пропитан сигаретным дымом и тишиной. Авраам полагает, что здесь он с благой целью, что он призван ради нее. Он на передовой, ждет приказа. Для таких, как Авраам, ожидание хуже всего. В его воспоминаниях существует внутренняя, духовная страна, где он путешествует. Там есть шахты и кратеры, пещеры и тупики в подземельях. В Памяти есть Горы, как сказал Джерард Мэнли Хопкинс[74] (Книга 1555, «Стихи и проза», Пингвин букс, Лондон). Или, скажем иначе, есть некий Джерри Куинн. Он живет под сенью горы Кро-Патрик в графстве Мейо и утверждает, что поднимается на гору почти каждый день. Когда Джерри Куинна спросили на радио, зачем он это делает, то в ответ услышали: «Гора уже стала частью меня». У Мориса Сендака[75] в книге «Ночью в кухне» это звучит как «Я в молоке, а молоко во мне».
И вот там, в окопе, наш Авраам весьма успешно восходит на те духовные горы и спускается с них.
«Что же я должен делать с этой жизнью?» — общеизвестный суейнизм. Он практически неотделим от нас — как рыболовный крючок, вонзившийся вам под кожу, который вы не можете вытащить, ведь иначе станет только хуже. Так вот, Дедушка Авраам бьется над этим вопросом-суейнизмом, — как рыба, старающаяся сорваться с крючка, — и ждет приказа. Наконец звучит команда. В окопе появляется капитан Джон Вейнсли Берк, чистый и аккуратный, как персонаж «Папашиной армии»[76], и говорит: «Парни, сигареты долой. Сегодня я обеспечу вам медали». Теперь Авраам не колеблется ни секунды. Он не думает о том, что немецкое оружие только и ждет, как бы выстрелить в него, Авраама, или что следующий момент может стать последним. Авраам верит, что Настал Тот Самый Миг, O Боже! Верит, что есть благая цель, пусть не основанная на знании и непостижимая, и теперь она влечет Авраама. Он едва может дышать от быстрой подводки[77], от ощущения, что Великий Ловец поймал на удочку его, Авраама, а еще от чувства свободы просто из-за движения, из-за облегчения. Он переполнен внезапным ярко-красным цветением душевного подъема. Авраам отбрасывает сигарету, громко кричит и выпрыгивает из окопа в воздух, уже пронизанный немецким огнем.
Фью-фью-фью — летят в него пули.
Он видит, что его китель разорван в нескольких местах, и думает: «Это интересно».
Но продолжает идти.
Потом видит, что льется кровь. А это еще почему?
Ведь боли еще нет. Слишком много адреналина и риторики в его крови. Есть много грубоватых абзацев о том, Что это Значит для Короля и Страны. Не говоря уже о Боге. В артериях Авраама все еще пульсируют возвышенные речи, главные и придаточные предложения, прилагательные, обстоятельства, великолепие оборотов латинского языка и разгоряченное дыхание. Это Век Речей. Перед мысленным взором Авраама возникают восклицательные знаки, делающие в танце вертикальный шпагат, и Авраам углубляется в войну на двадцать ярдов.
Фью-фью-фью. Плюх — жижа под ногами, плюх.
Авраам смотрит по сторонам и видит, как Хейнс, Харрисон и Бенчли поворачиваются назад, будто их поймали на крючок, и невидимые лески сбивают парней с ног и уносят в Следующую Жизнь. Это очень по-спилберговски[78]. Только без саундтрека Джона Уильямса[79].
Дедушка бежит дальше. Когда тетушка Д рассказывает эту историю, то в этот момент всегда говорит «Да сохранит его Господь», будто до сих пор не уверена, что Авраам доберется до конца ее повествования, а потом, в свое время, родимся все мы. Она с таким выражением произносит эти слова, — сидя, словно аршин проглотив, в Уиндермирском доме престарелых, Блэкрок[80], в комнате при, наверное, тридцати градусах, как любят филиппинские сиделки, — что я каждый раз начинаю сомневаться, что появлюсь на свет.
У Авраама ручьем льется кровь, липкая масса скапливается на его ремне, но он еще бежит и готовится сделать свой Первый Выстрел на Войне. Его винтовка качается — ведь ему не рассказали ту часть, где говорилось, что стрельба на бегу очень отличается от стрельбы стоя, к тому же стрельбе на бегу, когда тебя ранили, по очевидным причинам не учат вообще. Но это знание приходит само; не волнуйтесь, мужчины.
Дедушка не видит немцев. Немцы есть немцы, у них практический подход к делу — они пригибают головы и поднимают винтовки. Это скорее технический прием, а не доблестный британский принцип — бежать навстречу пулям.
Итак, когда Авраам собирается стрелять куда-то туда, где могут быть немцы, фьють! — мундир опять разорван, на этот раз чуть ниже сердца. И сразу же Авраам тяжело падает.
Для Дедушки больше ничего нет.
Но есть Брешь.
Белое пространство, в которое он ушел от мира сего.
Я тоже знаю, на что это похоже, когда последнее, что вы чувствуете, — кто-то ущипнул вас за руку, что может быть немного, ну самую малость, больно, и вы проваливаетесь туда, где все зависит только от силы вашего воображения. В библиотеке моего отца есть особый раздел как раз для таких случаев. Например, Томас Траэрн[81] (1637–1674 гг.), поэт, мистик, входящий в Рай (Книга 1569, «Фаберовская Книга Утопий», Джон Кэри, Фабер и Фабер, Лондон), написал: «Зерно было восточной и бессмертной пшеницей, которую никогда нельзя было ни пожинать, ни даже сеять… пыль и камни на улицах были такими же драгоценными, как золото. Сначала Врата казались мне концом мира сего. Зеленые деревья, когда я впервые увидел их через Врата, привели меня в восторг, и я пришел в восхищение… Человеки! O, какими достопочтенными и благочестивыми созданиями кажутся старцы! Бессмертные Херувимы! И юноши, блестящие и искрящиеся ангелы; и девы, странные и серафические части жизни и красоты! Мальчики и девочки, кувыркающиеся и играющие на улице, похожи на живые бриллианты».
В Раю есть настоящие врата?
Спасибо, Томас. Но мы возвращаемся к повествованию: Дедушка умер в яме.
Это воронка от бомбы. Парни-артиллеристы развлекаются тем, что взрывами делают воронки во Франции, и некоторые, например, та, где лежит Дедушка, очень глубоки. Он лежит на боку, и его душа занята последними приготовлениями к Загробной жизни. А наверху атака уже захлебнулась, англичане отступают, немцы переходят в наступление.
Похоже на Танец у Джейн Остин: Движение Вперед — Движение Назад, только с оружием и в грязи. Атакующие немцы продвигаются вперед мимо Дедушкиной Воронки.
Один из немцев замечает, что Дедушка шевелится, и прыгает вниз. Да, прыгает. Прыгает вниз — в воронку. И выхватывает штык-нож.
Он чистый, потому что тонкие маленькие ножны защищают его от грязи. Дедушка видит блеск металла и хочет вытащить свой револьвер.
Только рука его не работает, и потому вытащить револьвер не удается.
Дедушка пробует еще раз, мысленно говоря себе: «Вытащи твой револьвер!» Но его тело лишь извивается в грязи, а немец уже близко. Дедушка смотрит на свои руки, приказывая им проснуться, и тут замечает, что вся его грудь покрыта липкой темнотой. Приходит понимание того, что штык — наименьшая из проблем.
Немец стоит над Дедушкой. За спиной немца небо, а в руке нож.
Дедушка видит вспотевшее лицо врага, его умные спокойные глаза. Немец склоняется к Дедушке и делает нечто удивительное — дважды похлопывает Дедушку по плечу и произносит:
— Томми[82], окей, Томми, окей.
А затем штык-ножом отрезает полосу ткани и быстрыми умелыми движениями перетягивает жгутом руку Дедушки. Потом открывает свой пакет с тем, Что-Надо-Использовать-Если-Вы-Ранены, — такой пакет в немецкой армии есть у каждого солдата, — вынимает что-то из него и прикладывает к ране в груди Дедушки.
После чего окидывает взглядом свою работу — ведь быть немцем значит не оставлять ничего недоделанного — и кивает. Дедушка опять видит его глаза. Их он будет помнить всю свою жизнь.
— Томми, окей.
И немецкий солдат возвращается на войну.
Он взбирается по склону воронки, попадает во Второй Раунд Атаки-Отступления и мгновенно погибает от пули, попавшей точно в середину лба.
Следующее, что Дедушка осознает, — он на носилках. Он не в Раю; никаких золотых улиц, никакой бессмертной пшеницы, ни одного Херувима. Вместо этого толчки и покачивания — я тоже их знаю. Вы привязаны к носилкам, они несут вас вперед, и вы видите лишь небо над собой. Оно движется назад, будто вы плывете вниз по реке и думаете: «Как же это странно — перемещаться по миру, лежа на спине».
В хорошие дни это может быть немного по-микеланджеловски, будто вы выпили Хевен ап[83]. Однажды я сообщила это Тимми. Ему понравилось, и он заметил:
— Да ты поэт, как и твой папа!
В такие вот хорошие дни, когда вас несут на лечебные процедуры, небо над вами синее и глубокое. Вы чувствуете, что никогда не видели его прежде, вы чувствуете, что это не крыша, а дверь, и она на самом деле уже совсем открыта, вам остается только ждать. Во всяком случае, такое мне было откровение. Впрочем, нет никаких ангелов. Я никогда не увлекалась Сикстинскими Фресками[84].
Перевязанного немцем Дедушку принесли в расположение британских войск. Казалось, на его груди появился набухший красный цветок. По словам Миссис Куинти, это, наверное, опять Преувеличенная Образность, какую я все время использую.
А мне ни холодно ни жарко, могла бы я ей ответить.
Дело в том, что Дедушка не ожидал ничего подобного. То есть сначала — неимоверное изумление: «O, так вот как разворачивается сюжет». Итак, его несут на носилках, и он все время ожидает, что перейдет в мир иной. Что если бы боль стихла, он мог бы просто закрыть глаза и проснуться в стране Томаса Траэрна. Ведь Дедушка на самом деле верит в следующую жизнь, в которой, по его представлениям, всегда голубое небо, и свет льется из-за огромных белых облаков, а святые с длинными вьющимися волосами вроде как стоят на тех облаках и думают, что им следует выглядеть так, будто они совершенно безмятежные супергерои семидесятых годов, и при этом их мантии персиковых или абрикосовых оттенков достаточно удобны для тамошней погоды. Такая себе загробная жизнь. Как бы то ни было, после латинского языка, стояния на коленях и свечей Авраам довольно легко получил паспорт, и вот, покрытый засохшей кровью, он в той стране. Его веки трепещут, как крылья бабочки, на губах у него Kyrie eleison, Christe eleison[85], и вот уже ангелы протягивают руки, чтобы поднять его.
Только те руки грубоваты.
Потому что те руки вовсе не ангела, но молодого врача по имени Оливер Сиссли. Он весьма ревностно относится к своему делу. Взгляд Оливера пылает, и даже жуткие прыщи на шее не помешали ему приехать на войну, чтобы спасать жизни.
Дедушку доставили к Сиссли, будто на тарелочке с голубой каемочкой, и — бинго! Молодой Оливер принимается за работу, пока Дедушка находится в том месте между Жизнью и Смертью, — между Рыбой и Ловцом, как говорит мой отец. Оливер верит, что именно для таких дел он и прибыл на войну. Он начинает быстро извлекать пули — одну, другую, — да, на самом деле да, там три пули, — и оттаскивает Авраама прочь от Загробного Мира.
Дедушка На Волоске От Смерти.
Веселого в этом мало. Уж мне-то поверьте.
Дело в том, что Дедушка воспринял то, что произошло, как просто Падение Обратно На Землю, в чем нет ничего прекрасного для лосося, прыгающего с шестом, — но есть лишь только ужасное.
Глава 5
Извините, увлеклась.
Это же чисто по-МакКарролловски. На завтрак у нас метафоры и диковинные сравнения.
Вот что происходит, мисс Куинти, когда пересаживаешь малую толику английского языка на Болота графства Клэр.
Рут Рут Рут.
Извините, увлеклась.
Рут Суейн!
Дедушка выжил. Война уходит, он остается. Ему дали немного времени, чтобы прийти в себя, после чего будут решать, сможет ли он снова Поднять Оружие. Но он даже не может Поднять Руки. Дырки в его груди и тяжелый для души воздух сражений в полях Булони объединенными усилиями вызвали у него воспаление легких, и вот Дедушка уже на пути в Англию, но с ним уже нет Морроу, Икретта, Читли и Пола — они стали маками[86] во Франции. Дедушку же привезли в военный госпиталь под названием Уитон, в Вулвергемптоне[87].
Много лет спустя мой отец попытался отыскать там следы Дедушки и начал с того, что прочитал о Первой мировой войне все, что смог найти. Затем оставил нас дома — это было в октябре, — а сам на поезде, пароме и автобусе добрался до Вулвергемптона. Со дня смерти Авраама прошло уже много времени, и Уитон был превращен в пятьдесят шесть квартир для людей, которые не видели привидений. Не думаю, что отец нашел Авраама, но когда возвратился, Мама сказала, что от отца пахнет дымом.
Когда Дедушка Авраам вернулся, прабабушки Агнес уже не было в живых. В те дни люди могли красиво умереть от Инфаркта, что с ней и случилось: молитвы произнесены, ладони сложены вместе, глаза закрыты — и она уже растит маргаритки[88], и вот еще одна душа направляется на Злачные Пажити[89] Господа Бога Моего.
Когда власти спросили Авраама, есть ли у него живые родственники, он сказал, что нет ни одного. Жгучий стыд — естественный побочный продукт Невозможного Стандарта.
Итак, на данном этапе Нашего Повествования все выглядит не так уж и великолепно. (См. Книгу 777, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Лоренс Стерн[90], Пингвин Классикс, Лондон.)
(Есть и свои преимущества, я полагаю. Начнем с того, что я не умру в самом конце.)
Душа Авраама обгорела. Так я решила. Он совершил полет, как Икар, только в манере Английского Протестанта. Как и вся Англия, он упал, пролетев огромное расстояние от Редьярда Киплинга[91] до Т. С. Элиота, по-настоящему огромное расстояние, и то падение оставило Авраама с пеплом на душе[92]. Он не достоин уважения. Ему всего двадцать, а он уже Инвалид Войны. Сидит в затхлой комнате с узкой кроватью и маленьким окном, через которое видно дымное небо Вулвергемптона, и начинает морить себя курением. Он не может поверить, что все еще жив. По Божьему Недосмотру. Его, Авраама, должны были торопливо положить в яму глубиной три с половиной фута[93], и он должен сейчас лежать под залитыми солнцем благоуханными полями Франции. Лежать в той же яме, куда положили Морроу, Икретта, Читли и Пола — всех вместе, чтобы в загробной жизни они могли продолжать наслаждаться звуками харди-гарди[94]. Вместо этого Авраама Суейна перехватили на полпути между двумя мирами, и здесь, в Вулвергемптоне, он должен оставаться до конца дней своих.
Он нарушил верность Философии Невозможного Стандарта и потому позволяет своему отцу полагать, что он, Авраам, мертв. И он стал одним из тех, кого никто не замечает. Ведет жизнь тихую, неприметную. Носит коричневые брюки, ходит в магазин, где продавец газет спрашивает «Сегодня Дейли Мейл, сэр?», и долгими унылыми днями непрерывно курит на скачках.
Так, Дорогой Читатель, проходят годы.
Но в жизни обязательно происходит Неожиданный Поворот — такое называется твист[95].
Помните Оливера? Так вот, глядите — прекрасная пожилая леди, обаятельная, величественная, бесконечно опрятная, решительно стучит в дверь Авраама Суейна и врывается в его комнату почти как миссис Раунсуэлл в «Холодном Доме»[96] (страница 84, Книга 179, Пингвин Классикс, Лондон), у которой я позаимствовала часть ее характера.
У миссис Раунсуэлл было два сына, из которых младший вышел из-под контроля, стал солдатом, да так и не вернулся. Даже теперь, если она говорит о нем, ее руки теряют покой, покидают свои обычные места у корсажа, поднимаются и возбужденно парят над ней, а она не устает повторять:
— Каким замечательным юношей он был, каким весельчаком, умницей, и всегда у него было хорошее настроение!
Только прекрасную пожилую леди на самом деле зовут не миссис Раунсуэлл, а миссис Сиссли. Ее Оливер и есть тот самый врач, кто спас Авраама и писал своей матери письма с Фронта — «Какой подающий надежды юноша, какой замечательный!». Руки бедной женщины трепещут от одного лишь упоминания его имени. А письма — «Видите, все они здесь, у меня», — письма действительно у нее. Она опускает руку в свою большую черную сумку и достает пачку желтоватых листков, пахнущих мятой.
— Вот в этих, — говорит она, — в этих говорится, как он спас жизнь вам, Аврааму Суону.
— Суейну.
Она кладет письмо перед ним. Теперь ее руки свободны. Она складывает ладони в воздухе и ради мига покоя опускает их на колени. Затем, пока Дедушка читает о себе как чудом выжившем Суоне, повернув голову и прищурив глаз, чтобы разобрать незнакомый почерк, миссис Сиссли сообщает:
— Его брат умер в детстве. Оливер был Нашей Надеждой.
Бровь Суейна медленно ползет вверх.
Миссис Сиссли поднимает руки с живота, опять складывает ладони, поворачивает их, заламывает руки, сцепляет и расцепляет пальцы и опять дает рукам упасть на колени, оставляя в воздухе аромат старомодного мыла — запах отчаяния, которое никогда не смоет вода. Ее лицо не может вместить все эмоции. Некоторые из них оказываются вытолкнуты на шею, и там, где они сходятся, расцветает цветок мака в форме Франции.
— Видите ли, он хотел бы, чтобы это были вы, — говорит она, прижимая руки одну к другой, но не так, как в молитве, а наоборот, тыльными сторонами кистей.
Мятный аромат смешивается с запахом табачного дыма.
У Дедушки белеет лицо, будто внезапно появилось некое предчувствие, будто посланное сообщение уже пришло — так мобильник вибрирует чуть раньше, чем приходит эсэмэска.
Миссис Сиссли едва может произнести это, едва может высвободить слова, потому что с ними уйдет последний остаток давних грез о будущем ее Оливера. Руки остаются сжаты на миг дольше, словно удерживая надежду в Вулвергемптоне.
— Мой муж, — говорит она, и ее язык касается некоторой горечи на ее нижней губе, — мой муж владел Фолкеркским[97] Железоделательным Заводом. — Горечь также внутри ее правой щеки. Язык прижимается туда, губы сжимаются и белеют. — Два миллиона гранат Миллса[98]. Он нажил на войне целое состояние.
Миссис Сиссли не шевелится, но ее глаза расширяются.
— В Ирландии есть земли, — говорит она наконец, — дом и земли. Они были… — Она не может выговорить. Просто не может. Потом качает головой, и слова выскакивают сами: — …для Оливера.
Она разжимает руки, ладони раскрываются, и душа ее сына улетает.
Глава 6
— Сегодня дождь, Рути!
Бабушка кричит снизу, со своего излюбленного места у очага, и звук проходит сквозь пол моей комнаты.
Она знает, что я знаю. Она знает, что я здесь, наверху, во время дождя и смотрю, как он плачет, и его слезы стекают по окну в крыше.
— Сегодня дождь, Бабуля! — откликаюсь я.
Она не может больше подниматься наверх, к моей комнате. Если она поднимется, то уже никогда не спустится.
— Когда в следующий раз я пойду наверх, то и останусь Наверху, — говорит она, и мы понимаем, что она имеет в виду.
В такие дни, как сегодня, весь дом словно бы находится в реке. Поля завернуты в тонкий дорогой шелк дождя, мягкий и серенький. Вы ничего не видите, но слышите, как вода течет и течет, будто целую страну смывает водой, минуя, однако, нас. Я часто думала, что наш дом уплывет в устье прямо из Графства Клэр. Возможно, он все-таки уплывет.
Но чтобы удержать его, я напишу здесь о нем.
Поезжайте из Энниса на запад по дороге, которая поднимается вверх и проходит мимо старой туберкулезной больницы. Когда-то в ней много месяцев провела Нелли Хейз и семьдесят лет спустя сказала, что помнит, как видела там синих бабочек. Въезжайте прямо на холм, плетитесь позади автобуса Ноэл[99] О'Ши — этот автобус еле тащится по дороге, — и те, кого Мэттью Фитц называет Школярами, помашут вам, оборачиваясь и корча слабоумные рожи, напоминающие лица их дедушек.
Поверните налево и поезжайте мимо больших зданий времен экономического Бума[100] и роста цен на недвижимость — памятников того времени с семью ванными, — затем возьмите правее и увидите, что дорога вдруг становится узкой, а придорожные деревья высокими, поскольку Совет прекратил подрезать их. Теперь вы в зеленом тоннеле, петляющем все дальше и дальше. Вот это «дальше» вы там и почувствуете, а дворники вашей машины будут работать, потому что идет дождь, хоть и не сильный, но такой, падение капель которого вы не вполне можете видеть. Дождь начал лить здесь в шестнадцатом веке, да так и не прекратился. Но мы не замечаем его, и люди все еще говорят «Неплохой День», хотя морось украшает бисером волосы, а капли задерживаются на бровях. Это пелена, как на экране старого черно-белого телевизора, когда нет сигнала. Такой телевизор был у Дэнни Кармоди, но он его не настраивал правильно, потому что не хотел платить за лицензию, а включал Ослепший Канал, утыкался носом в экран и смотрел, как на белом фоне двигаются черные пятнышки. Однако человек из лицензионного ведомства сказал, что все равно телевидение подключено, и тогда Дэнни вынес телевизор в сад и заявил, что у него в доме нет телевизора. Ну, вот так мы и живем. И все, что вы видите, это сочащийся водой воздух мышиного цвета, и потому вы уже думаете, что это какой-то иной мир — вот это место в полутьме, которая даже не наполовину свет, вообще-то нет, даже не на четверть.
Вы направляетесь вперед и знаете, что река где-то рядом, здесь, внизу. Вы чувствуете, что спускаетесь к ней, к реке в зеленом потустороннем мире. А морось вроде как прилипает к ветровому стеклу, и потому дворники практически не подбирают ее, а поля вокруг кажутся помятыми и кочковатыми, так что вам мерещатся зеленые танцоры, как если бы они попали под заклинание и упали на землю. Вот как я думаю — о косогорах и откосах, о зеленых лощинах и холмах по обе стороны от вас.
Но вы продолжайте путь. Оставайтесь в долине реки. Когда вы увидите широкий полноводный эстуарий[101], у вас появится ощущение, будто все уносится в море, и вы не будете неправы. Есть изгиб дороги под названием Янкс, потому что три группы американцев попали там в аварию, пока, охваченные благоговейным трепетом, глядели вбок на реку. Будьте внимательны и осторожны! Но продолжайте ехать. И вот вы уже в Приходе, о котором нет ничего более красноречивого, чем первое предложение в первой книге Чарльза Диккенса: «Как много в том коротком слове Приход!» («Очерки Боза», Книга 2448, Пингвин Классикс, Лондон). Это приход в местности под названием Фаха (Faha, что значит зеленый), а не fada, что значит длинный или протяженный, и не orfado, что значит давно, хотя оба верны, и не fat-ha, что значит место, где обжоры едят стоя, и не fadda, как в Our Fadda who Art in Boston[102], хотя и далеко (far), и Отче (Father) тоже содержатся в этом выражении, Фаха, которую половина местных жителей вежливо называет Фа-Ха, а остальные, то есть те, у кого нет времени на произнесение по слогам, издают звуки вроде растянутого блеяния на ноте, следующей за «до-ре-ми», а именно: Фа.
На дороге к Фахе нет указателей. Когда разразился Кризис, и Киаран, первый из семьи Кроу, должен был эмигрировать, он вытащил столбы с указателями, а заодно и указатель на Янкс. Брат Кириана, плиточник Том, взял один из них — на Киллаймер. Потом это стало обычаем. И теперь Фаха неизвестно где. Дорожные указатели с названием Фаха есть в самых разных странах мира, но в Ирландии нет ни одного.
Сначала вы въезжаете в деревню. Церковь дает вам знать, что кто-то добрался сюда прежде вас и воскликнул «Господи Иисусе!», но именно так вы и подумаете. (Если вы читаете американское издание, то восклицание звучит «Вот так так!».) Вы будете смотреть на извилины главной улицы — она же единственная, — и на то, как церковь и улица наклонились к реке Шаннон, ведь эта улица впадает в реку. Церковь стоит боком. Магазины не расположены на одной прямой. Все они стоят вполоборота задними фасадами друг к другу, будто несколько веков назад каждый из них был построен по соображениям жестокой независимости, расталкивая других «плечами», причем всего за одну ночь. Каждое здание пытается иметь лучший вид, ведь сама улица, являющаяся Главной, Магазинной и Церковной одновременно, — изломанная, обращенная на запад кривая линия, обнимающая реку. Только после того как деревня была построена, владельцы магазинов поняли, что все их здания будет ежегодно затоплять половодье.
Рядом с церковью есть похоронное бюро Карти. У них медные ручки на двери, непрозрачное стекло с кельтскими крестами на нем, и, как мазок вдохновения, тарелка мятных ирисок возле двери. Карти по прозвищу Иисус Мария Иосиф — бочкообразный человек с согнутыми, как у Попая[103], руками, напоминающий человечка, собранного из конструктора Лего, только Карти круглее. Cвое имя он получил из-за того, что часто поминает Святое семейство[104]. Карти восклицает «Иисус Мария Иосиф!» на Второстепенных Матчах против команды «Килмарри Ибрикейн», у игроков которой волосатые ноги. «Иисус Мария Иосиф!» — когда видит цену на бензин. Когда общается с банкирами или застройщиками. И по отношению ко всему, что было когда-либо предложено за всю историю Зеленой Партии[105]. «Иисус Мария Иосиф!» Но не беспокойтесь, на самом деле он милый. Он обладает кротостью крупного мужчины и не выходит из себя, когда выполняет свои обязанности.
Где-нибудь в дверном проеме будет стоять Джон Пол Юстас. Он занят полный рабочий день как агент по Страхованию Жизни, частично занят как чтец Апостольских Посланий, а еще помогает священнику в совершении таинств святого причастия. Высокий, тощий и зеленоглазый, с узким носом, овальным лицом, которое невозможно выбрить начисто, увенчанным вихром каштановых волос, Джон пытался перекраситься в блондина во времена, когда думал, что девочки не смогут устоять перед ним. У него тонкие губы, которые он часто облизывает, и самые белые руки в графстве. Он заметит, что вы проезжаете мимо. Того парня невозможно откормить, говорит Бабушка, и на ее языке это ругательство. В темно-синем костюме, при планшете с зажимом для бумаги в руке, мистер Юстас — «О, зовите меня Джон Пол, пожалуйста» — становится на три дюйма ниже своего роста, когда пригибается, проходя в дверь. Он обходит дома и объезжает таунленды[106], собирая пять евро в неделю на непредвиденные расходы. Свой извиняющийся вид он довел до совершенства. Он сожалеет, что опять зашел именно сейчас. Никогда раньше он не заходил к нам, а потом папа, должно быть, записал нас, и мистер Юстас начал приезжать. Он обиватель порогов. Он ходит от двери к двери, извиняется за беспокойство, пропускает только тех, кто подхватил заразу, кому Немного Осталось, а еще тех, у кого Ничего Нет За Душой, да поможет им Бог.
— Надеюсь, мистер Суейн дома?
В случае, если вы испортили отношения с Карти, то знайте, что на другом конце деревни есть похоронное бюро Линча. Там вы можете покинуть мир сей через гостиную Тоби Линча, превращенную в офис гробовщика. Когда у него есть труп, Тоби выключает телевизор и кладет на него салфетку, — но только если нет Чемпионата Мира. В моем воображении его играет Винсент Краммлз, Театральный Импресарио в книге «Николас Никльби»[107] (Книга 681, Пингвин Классикс, Лондон). Прекрасный человек, как здесь у нас говорят. Прекрасный человек. Тоби работает гримером в Драматическом Кружке во время Фестивального сезона, и потому Линч — хороший выбор, если вам нравится, когда на ваших щеках есть немного Красного Номер Семь и Коричневого Номер Четыре, или если вы планируете Красиво Войти в следующую жизнь.
Если вы проскользнете мимо Смерти и въедете в саму деревню, то минуете Скобяную лавку Каллигана, которая уже больше не скобяная лавка, и Магазин тканей МакМагона, который, в свою очередь, уже больше не Магазин тканей — с тех пор, как в Килраше появился «Лидл»[108] и начал за мелочь продавать латвийские высокие резиновые сапоги и синие цельные комбинезоны, в каких фермеры похожи на инспекторов Ядерных Отходов. Впрочем, на дверях магазинов все еще есть названия, и у Моники Мак в передней гостиной все еще хранится кое-какой оставшийся запас. Его она продает избранным клиентам, которые не могут жить без того, чтобы быть à la Mode MacMahon, что, по сути, означает «Распродается, как носовые платки» — так говорит моя мама.
Мясная лавка Хэнвея — действующий магазин. Мартин Хэнвей тоже прекрасный человек с огромными руками. Он один из тех фермеров-мясников, у которых есть собственный скот на полевом выпасе, и в теплые влажные июньские с жужжащими мухами дни он оставляет черный ход открытым, и вы можете видеть, как сейчас выглядят отбивные следующего месяца — как большеглазые коровы в стойле. Я стала вегетарианкой, когда мне исполнилось десять лет. На магазине Нолана нет надписи «Нолан», зато есть надпись «Спар»[109] кричащего зеленого цвета, но никто не называет его так. Если вы спросите кого-нибудь, где «Спар», то получите в ответ «blankety blank»[110], как говорит Томми Фитц. Несмотря на Экономический Бум и Кризис[111], магазин Нолана держится, выживая за счет продажи сладостей школьникам и «Клэр Чемпион»[112] пенсионерам. Иногда есть кукурузные хлопья с истекшим сроком годности и Weetabix[113] по сниженной цене для клиентов, которым плевать на срок годности. Так как мы решили произвести на немцев впечатление и спасти мир, отменив в Ирландии пластиковые пакеты для покупок, очень и очень многие покупатели будут пытаться при выходе из магазина не уронить яйца, молоко, морковь, репу, капусту, батоны хлеба, которые несут в руках.
В деревне есть три паба, и все их Министр Починки Несломанных Вещей разорил, когда законы о вождении в нетрезвом виде изменились и бензозаправочные станции начали продавать польское пиво. «У Клохесси», «У Кенни» и «У Каллена» — все они теперь пабы-призраки. У них на всех приблизительно семь клиентов, и некоторые все еще живы. Шеймас Клохесси говорит, что у него в баре одного рулона туалетной бумаги хватает на месяц.
В конце деревни есть Почтовое Отделение, которое после Рационализации больше не Почтовое Отделение, однако когда вышел указ, миссис Прендергаст отказалась сдать свои марки. В дни, когда Майна Прендергаст получила место от Министерства почт и телеграфов Ирландии и заняла Высокий Пост начальницы почтового отделения Фахи, она почувствовала свое более высокое положение. Она была официально поднята на несколько дюймов. Тогда-то она и начала надевать к Мессе туфли с открытым носком и шляпы, говорит бабушка. И, как миссис Никльби сказала про мисс Бифин[114], та леди очень гордилась своими пальцами ног. К этому нечего добавить. Прендергасты были Качеством, и даже при том, что они жили в дождливом забытом захолустье, они доказали то, что Эдит Уортон[115] сказала о потерпевших неудачу людях, у которых нет уверенности в их собственном характере, а именно то, что они будут придерживаться манер и морали их завоевателей. Так вот, у Прендергастов были подкладки под торты и небольшие вышитые салфетки и соответствующие чайные чашки и блюдца и те крошечные чайные ложечки, которых вам понадобится пять, чтобы чай Эрл Грей перестал иметь вкус воды в ванне леди. К ним приезжала Би-би-си. Для Майны Почтовое Отделение было доказательством того, что она хоть немного Выше. И забрать у нее марки — такое бесспорно стало бы для нее крахом. Она не потерпела бы этого. И она не стала терпеть. Таким образом, теперь ансамбль пальто, шляпы и обуви еженедельно отправляется в Килраш и покупает марки, возвращается, кладет их на прилавок, и Почтовое Отделение начинает работать, несмотря ни на что. Пусть Министерство управляет остальной частью страны, Майна Прендергаст будет управлять Почтовым Отделением Фахи до конца своей жизни.
Рядом с Почтовым не-Отделением находится здание Отца Типпа, обветшалый Приходской Дом, который когда-то принадлежал Гримблу, агенту по недвижимости. Это большое внушительного вида двухэтажное здание. В нем десять пустых комнат с окнами, выходящими на реку, и в нем Отец Типп разжижает боль от ссылки в Клэр, балуя себя намазанными маслом печеньями Мариетта[116] и скачками. А еще в доме есть прекрасная коллекция изделий из красного дерева и всемогущее братство мышей.
Последний дом деревни стоит поодаль от дороги. Дорожка, клумба и пешеходный переход. Перед домом даже есть уличный фонарь. Этот дом — настоящее великолепие из кованого железа и камня — принадлежит Члену нашего совета, которого почти все зовут Саддамом после того, как он съездил с торговой миссией в Ирак. «Чтоб мне пусто было», — сказал Барни Кассен, когда Член совета вошел в бар «У Райана», — «если это не Саддам». Член совета не возразил. Голос избирателя есть голос избирателя. Да и звучит «Саддам» лучше, чем «Кожаный мяч» — уже к двадцати двум годам у него была лысина. Она создавала мимолетное впечатление ума, что, в свою очередь, привело к тому, что с ним консультировались по всем вопросам. Некоторые люди становятся теми, кем их видят другие, вот что я решила. И как только у Члена совета начали спрашивать его мнение, он окончательно убедил себя в существовании собственного интеллекта. Вы задаете ему вопрос и получаете короткое разъяснение. Он полностью сосредоточен на выполнении своей миссии, даст он вам понять, медленно кивая с умным видом, щурясь и глядя куда-то далеко позади вас, будто его миссия все время пытается ускользнуть от его внимания.
В самом конце деревни кладбище; оно перекошенное, темное и спускается к реке, которая всегда пытается подняться и забрать его, но это удобно для церкви, и, значит, умершим прихожанам никогда не придется покинуть приход. Они могут войти в мир иной, не испытывая нужды приобретать новые привычки.
Вот вы и выехали из деревни. Возьмите вправо, на развилке сверните налево, и вскоре вы попадете на перекресток. Там есть проезды направо и налево. «Налево» не выглядит, как настоящий поворот налево, но больше похоже на разбитую, кое-как проложенную колею там, где во время гололедицы Мартин Нейлон с шестью пинтами[117] внутри, распевая «Low lie the Fields»[118], вылез из канавы на своем тракторе «Мeсси Фергюсон», чем бесплатно расширил дорогу и оставил собственный след в истории в виде названия Нейлонов Поворот.
Вы будете чувствовать себя потерянным, но это вполне нормально, ведь теперь ваш автомобиль единственный, и это хорошо, потому что дорога здесь шириной как раз в одну машину, и вам все равно приходится притормозить позади Мики, который в подвернутых резиновых сапогах ведет перед вами всех своих леди — восемнадцать дойных коров. Он сразу понимает, что вы сейчас позади него, и в качестве приветствия обычно поднимает кусок черной трубы, которая нужна ему, чтобы дубасить зады тех самых леди. Но он не оборачивается и не отводит коров в сторону, потому что они — ходячие бурдюки с молоком, и дорога принадлежит им тоже, и они щиплют скудную траву, растущую вдоль канав, и при виде свисающих вымен, перемазанных навозом, вы поклянетесь, что больше никогда не будете пить молоко.
Так как вы путешествуете со скоростью коровы, у вас есть время, чтобы между взмахами дворников и неровной линией полей разглядеть здания около дороги, спускающиеся в долину слева от вас. А из-за того, что вы приехали летом, вы видите желтые кусты утесника европейского, который мы называем «дрок», а когда я была маленькой, то думала, что это мех. Он похож на свечение на полях, и поскольку вы не фермер, то сочтете это сияние прекрасным — ведь вы не знаете, что на самом деле оно лишь говорит о том, насколько бедна земля. Вы будете думать, что те пятна всплесков просто переходят в другой цвет или какой-то другой вид травы, которую выращивают здесь. И потому, что вы едете со скоростью коровы позади Мики, у вас есть время взглянуть по сторонам, и вы сможете увидеть то сверкание, какое и есть река Шаннон. И тогда вы испытаете чувство завершенности.
Но будьте осторожны, река может поймать вас. У нее есть своя собственная магнетическая сила. Мики поворачивает коров в сарай и затем опять поднимает свою черную трубу, что означает благодарность, извинение и подтверждение, что вы находитесь здесь, с нами, в нашем времени, под нашим дождем.
Теперь проезжайте немного дальше. Оставайтесь с рекой, текущей слева от вас, и следуйте за ней к морю. Почувствуйте возбуждение. Взгляните вбок на ту сторону, на Королевство, которое смотрит на вас с особой умиротворенностью графства Керри, и вот вы уже в нашем таунленде. Будьте осторожнее с очутившимися в канавах по обочинам фигурами в пальто и шляпах. Они уже достигли возраста, когда начинают дряхлеть, а сейчас пытаются собрать сучья и палки для печи, так как им надо сокращать расходы и экономить, чтобы платить банкирам.
Минуйте дом Святых Мерфи, Томми и Бреды, они молятся за нас — и вместо нас. Они в Премьер-дивизионе[119] моления, и иногда из-за того, что мы такие безбожники — ладно, за исключением Бабушки, она своего рода язычница-католичка — мама заходит к ним и просит прочитать несколько раз Отче Наш или Краткое славословие за нас, и они это делают. Томми и Бреде уже восьмой десяток, и у них те прекрасные манеры Старой Ирландии, что дают вам сразу почувствовать некое умиротворение в их обществе, как тогда, когда хор поет на Рождество. У Томми мягкий характер, и он любит Бреду своего рода фольклорной любовью. Она уже начала терять волосы, и часть их приземляется в еду, которую она готовит, и в булочки, которые печет, но Томми не возражает — он видит волосы и съедает их. Он слишком любит Бреду, чтобы что-нибудь сказать ей. Потягивая чай, они сидят по вечерам в светоотражающих жилетах, и кажется, что источают неоново-желтое сияние, как и полагается святым. Томми и Бреда не были благословлены детьми, но у них есть девять молодых несушек на свободном выгуле и сколько угодно яиц. Они дадут вам полдюжины, если вы остановитесь. Но прямо сейчас вы не должны задерживаться.
Проезжайте мимо дома Мейджора Райана и Сэма — склонного к суициду пса, который выбегает на дорогу и пытается попасть под колеса. Прозвище Мейджор дано Райану не из-за военной карьеры[120], а из-за огромного количества сигарет Majors[121], которые он выкурил. По той же причине пальцы его правой руки шишковатые, в груди — мешанина фиброзных разрастаний, а голос — грубый хрип, заставляющий абсолютно всех слушателей в Фахе вытягивать шею вперед во время любительских спектаклей. Пес же пытается убить себя уже в течение семи лет, но ему это пока не удалось.
Фигура впереди — Имон Иган, самый толстый человек в приходе и гордится этим. Бабушка говорит, что он не прошел бы даже расстояния, равного собственному росту. Воплощенная противоположность голода, одетая в самый большой в графстве темно-синий костюм, сидит, прислонившись к передней стене своего дома. Кивните ему, и он нахмурится в ответ, потому что не знает вас, и всю оставшуюся часть вечера будет сходить с ума, играя в игру Кто этот незнакомец?
Вы проедете мимо молодых Магуайров. Оба работали в банке, в Кризис потеряли работу и теперь живут в доме матери Игана, пытаясь выращивать овощи в лужах. В соседнем доме живет семья МакИнерни. Улыбающийся Джимми не блещет красотой, говорит Бабушка, и ничего не слышал о стоматологии, но обнаружил, что секрет успешного брака вовсе не в зубах, но в «Quality Street»[122], потому что он стал отцом четырнадцати детей от Мойры и поддерживает жизнь в Национальной Школе. Как и Мэтью Бегнет в «Холодном Доме», Джимми скажет вам, что оставляет своей жене контроль надо всем. В тех случаях, когда миссис Бегнет моет зелень для еды, Мойра МакИнерни делает то же самое, только с нижним бельем. Дети МакИнерни под забором, или в канаве, или же перекидывают ногами мяч через ваш автомобиль. Одни дети возят детские коляски, в которых сидят другие дети, третьи носятся на велосипедах на одном только заднем колесе, и ни один из них вообще ни о чем не заботится и даже не замечает, что идет дождь.
Вы проедете дальше и подумаете, что дома закончились. Дорога почти соприкасается с берегом реки.
Но взгляните на последний дом. Вот вы и на месте.
По словам Ассампты Эллиотт, наш дом не представляет собой ничего особенного. Ассампта была одной из Сельских Поселенцев, — из тех, кто приехал из Дублина, чтобы заселить наши места. Вскоре она обнаружила, какой жуткий ветер дует с Атлантического океана вверх по реке, не смогла привыкнуть к ходьбе согнувшись и к тому, что под дождем можно промокнуть до костей. А поскольку считала, что представляет собой нечто особенное, то и Переселилась Обратно.
Мне нравится наш дом. Сельский дом, длинный и низкий, с четырьмя окнами, выходящими в небольшой мамин сад с цветами, залитыми водой. За домом три поля с черной болотной землей, где наши коровы шлепают по воде, погрузившись в воспоминания о настоящей траве.
Дом смотрит на юг, будто у первых МакКарроллов, построивших его, был упрямый оптимизм моей мамы, и они верили, что, возможно, хоть иногда здесь будет хоть какой-то солнечный свет. Или, может, они хотели, чтобы дом стоял задним фасадом к деревне, до которой примерно три мили. Вероятно, они взяли себе за правило придавать чему-либо большое значение или, наоборот, были немного равнодушны, из-за чего у меня были проблемы в школе. Когда Ведьмы Малви заявили, что я считаю себя лучше всех, что я Задавака Рут, против чего, если говорить начистоту, я не особо возражала, да и вообще это было только потому, что у меня хорошо подвешен язык.
Вы входите в парадную дверь и в трех футах от нее сразу оказываетесь лицом к стене — МакКарроллы не были искусны в планировании. Вы должны повернуть направо или налево. Направо — проход в маленькую гостиную.
В прежние времена Гостиная была Уютной Комнатой, сохраняемой для возможного визита Его Святейшества[123] или Джона Фрэнсиса Кеннеди[124], кто бы ни заявился первым, с Хорошими Креслами, расставленными так, чтобы было удобно вести вежливые разговоры перед камином, облицованным керамической плиткой. На каминной полке сидят Честер и Лестер, фарфоровые собаки, которые прибыли однажды в Рождество от моих тетушек Суейн и которые в моих грезах часто носились галопом рядом со мной, когда я уходила с Великолепной Пятеркой[125] пить имбирное пиво — подержанные книги Энид Блайтон были специальным ассортиментом у Спеллисси в Эннисе. Они были вашими Первыми Книгами когда-то, и потом вы должны были перейти от Энид к Агате, от Блайтон к Кристи, потому что книги были Тайнами, вся жизнь — Детективом, что является самым Сокровенным для МакКарроллов, если вдуматься.
Но не делайте этого, потому что — Глядите-ка, вот стеклянный футляр с разной керамикой! Крошечный кремовый Белликовский[126] звонок с еще более крошечными трилистниками[127], латунный Кельтский крест, миниатюрная Дева Мария, которая — Первое Чудо в Фахе — превратила себя в пластиковую бутылочку с синей крышкой в форме короны[128], часы из уотерфордского хрусталя[129] без батарейки, которой никогда не было, потому что все это красиво и не должно также говорить вам, что красота и все такое прочее недолговечно — спасибо, мистер Китс[130] — и налево от всего этого стеклянный стол с вышитой салфеткой и лурдской[131] керамической подставкой для стакана на случай, если у Его Святейшества появится желание пропустить пинту.
Когда-то эта комната была sanctum saculorum[132], фидл-ди фидли-дорум[133], местом постоянного пребывания мисс Хэвишем[134] нашего дома, великой нетронутой — и часто покрытой пылью — комнатой, которую сохраняли для счастливых случаев, например, особых торжеств, — но такие случаи так и не пришли в нашу семью. Потом в нее въехала Бабушка Нони, в углу комнаты поставили кровать — Его Святейшество отнесся бы с пониманием — и перехваченный ремнями сундук с Бабушкиной одеждой, который был всегда открыт, и поскольку она предпочитала Брошенное Сложенному, создавалось впечатление бесстыдного выставления напоказ, что могло бы создать небольшую проблему Его Святейшеству, — тем более не будем говорить о Ночном Горшке.
В конце концов Гостиная стала Комнатой Бабушки, а потом Бабушкиной комнатой. Там она держит свое Полное Собрание «Клэр Чемпион» в виде постоянно растущей горы пожелтевших газет, в которой увековечена вся жизнь графства, что означает: если бы у вас было время, вы могли бы здесь, у меня на верхнем этаже, начать читать про похождения неких парней в Трое и проложить себе путь через всю писаную историю цивилизации прямо до резко критического, подробного отчета об учениках школы Святого Сенана моложе 14 лет два дня назад. «Клэр Чемпион» — неистощимая хроника всего, что произошло в наших краях за жизнь Бабушки. Она никогда не перечитывает их, никогда не гуглит[135] в старомодном стиле, то есть пальцами — указательным и почерневшим влажным большим — пролистывая страницы, чтобы что-то найти. Достаточно того, что газеты один раз прошли через ее руки, что один раз она уже прожила именно ту неделю. Теперь тот факт, что их физическое присутствие заполняет комнату, является для нее своего рода свидетельством, что она пережила Реку Времени и не утонет в ней. Во всяком случае у меня возникло такое представление. Никто не обращает на это никакого внимания и не считает хоть чуть-чуть странным. Такова Фаха. Когда Лиззи Фроли была беременна воображаемым ребенком и в течение пятнадцати месяцев, на Мессе сидела бочком, чтобы поудобнее разместить невидимый большой живот, который она иногда нежно похлопывала, никто ни разу не проронил ни слова.
Разве Странное не почти Бог, как говорит Маргарет Кроу.
Поскольку в доме четыре комнаты, каждая глубиной во все здание, мама и папа должны были проходить через Бабушкину, чтобы добраться до своей в конце дома. По правде говоря, их комната — пещера. Вход четыре фута шириной и пять футов высотой, маленький каменный проход, в котором папа должен пригибаться, чтобы проникнуть внутрь. Прошли годы, пока он перестал ударяться головой.
Я до сих пор говорю «комната Мамы и Папы».
Мы не Богатые, никогда не были Богатыми, никогда Не Шагали Вверх По Социальной Лестнице и не Разъезжали по разным местам. Поэт движется вверх в ином смысле, но это не намазывает маслом ваш хлеб, как говорит Томми Девлин. Без объяснений я всегда понимала, что была причина, почему папа никогда не покупал новую одежду, почему носил ботинки с овальными дырами в подошвах, почему Мама сама стригла его волосы, почему она подстригала и мои, почему на кухонном окне стояла банка, где хранились монеты, и почему их количество то увеличивалось, то уменьшалось. Я понимала, что мой отец покупал только подержанные книги, что мог поехать в Эннис в Дедушкином твидовом пиджаке и возвратиться без него, но с «Собранием стихотворений» Одена[136] (Книга 1556, Винтейдж, Лондон), что куртка Дедушки висит теперь в витрине Магазина Фонда Помощи Угандийцам, расположенном на Парнелл-Стрит. Этот магазин торгует подержанными вещами и отдает выручку для помощи жителям Уганды. Я понимала, что был рассказ внутри рассказа, понимала, что когда деньги Дедушки Суейна закончились, им, то есть деньгам, буквально больше неоткуда было взяться. Мой отец никогда бы не принял ни Правительственные Гранты, ни Субсидии на содержание скота, ни Пособие по Безработице. Я не безработный. Таким образом, денег вы не увидите. Но невоспетый, неоцененный гений Мамы совершил Второе Чудо в Фахе, удерживая нашу семью на плаву и обеспечивая крышу у нас над головой.
Теперь вернитесь к входной двери, поверните налево и войдите в Комнату. Пол наклонен в вашу сторону, чтобы при его мытье грязная вода могла вытекать через парадную дверь — особенность, которую МакКарроллы должны были зарегистрировать как торговую марку и продать компании ИКЕА. Косой Пол служит не только для удобства уборки, дамы и господа, — как только вы встаете, наклон увлекает вас к двери и дом предлагает вам выйти в мир. Справа от вас широкий камин, возможно, десять футов — это для тех, кому нужны подробные сведения, — и напротив него платяной шкаф. Для огня есть решетка на полу, и на ней горит торф. Из нашей трубы всегда идет дым. Мама никогда не дает огню погаснуть.
Когда она вечером ложится спать, то снимает последние куски щипцами и размещает их под решеткой, где огонь спит, пока утром она не постучит по ним и не разбудит огонь, чтобы он запылал. Это старая байка МакКарроллов, я думаю. Некое колдовство или предание, какое мне, возможно, когда-то рассказали. Что-то связанное с духом дома, с тем, что нельзя дать очагу совсем остыть. У Мамы тьма-тьмущая таких штучек — МакКарроллизмов. Она научилась держать их в секрете почти все время, но если вы пробудете у нас достаточно долго и тщательно понаблюдаете за нею, за этой красивой женщиной графства Клэр, женщиной с карими глазами и свободной россыпью длинных волнистых каштановых волос, за ее упорством, простой сельской гордостью и храбростью, вы будете иногда их видеть. Вы многое узнаете о сороках и черных дроздах, о том, как входить через парадную дверь и выходить через черный ход, о майском цветении, о том, каким ухом слышно кукование кукушки[137], о сборе наперстянки и о подрезке кустов остролиста.
Бабушкино Кресло с подушкой, состоящей из старых номеров «Клэр Чемпион», стоит прямо у камина. Бабушка ждет «Чемпион» в четверг, и когда ее Симоны не слишком активны, она переходит к Планированию Смерти, что, в основном, представляет собой суперсжатую версию Плана Жизни. Лишь один вдох отделяет «Джонни Фланаган строит планы» от «Джонни Фланаган умер».
Платяной шкаф в Комнате используется как книжный. На верхней полке классические издания в кожаных переплетах, полученные в дар от Тетушек. Я ощутила их запах задолго до того, как прочитала. Думаю, они, должно быть, были мне вместо сосок-пустышек. У меня тогда была красная сыпь на щечках, резались зубки и я кричала, а у Энея тоже резались зубки, но он не кричал. Мама оглядывала комнату — что бы такое найти, что успокоило бы меня, — хватала Марка Аврелия[138] и прикладывала его к моим красным щекам. Харди, Диккенс, Бронте, Остин, Св. Августин[139], Льюис Кэрролл[140], Сэмюэл Батлер[141], — всех их я жевала беззубым ротиком, ощущала вкус и запах прожеванного и так проложила себе путь в Литературу.
Ниже той полки были выставлены большие обеденные тарелки. Они были свадебным фарфором, за несколько лет до Лестера и Честера прибывшим от Тетушек Пенелопы и Дафны. Эти две тетушки жутко любили дарить фарфор, что было, конечно, их тайными военными действиями, потому что чем больше они его дарили, тем больше места вы должны были найти, чтобы выставить все эти штуковины. Ящики с фарфором были у нас в кладовках, и мы не могли его продать, потому что надо было его вынимать, когда приезжали Тетушки. Не так много было чего-то другого в комнате, лишь пара кресел и несколько деревянных табуреток, а еще то, что в Фахе называют форма, произносится фур-ум, а в остальной части мира это просто скамья.
За этой Комнатой расположена Новая Кухня — всего-навсего холодильник, плита и кое-что еще в небольшом пространстве под крышей из оцинкованного железа с оранжевыми пятнами ржавчины на внутренней стороне. Крыша звенит, когда идет дождь. Этой кухне уже двадцать лет, но она все еще зовется Новой.
Узкая лестница начинается в передней части Комнаты и проходит над шкафом. На самом верху моя комната. Вы входите и видите наклонный потолок — МакКарроллы никак не могут обойтись без косых углов — поэтому, если вы выше пяти футов и полутора дюймов[142], вы стоите, наклонившись, пока не дойдете до окна в крыше, и тут вы можете немного выпрямиться.
Мою кровать и кровать Энея пришлось собирать прямо здесь. Однажды папа куда-то ушел и возвратился с досками. В них виднелись большие темные дырки — из них были вынуты болты. Думаю, все это дал Майкл Хонан, который знал, что у папы нет денег, и кому папа обещал уделить Два Дня, чтобы помочь заготовить силос. Такие обмены приняты в Фахе. Мой отец сдал себя в аренду, и мы получили кровати. Он пришел домой с этими большими тяжелыми балками и поднял их по узкой лестнице. Папа не был столяром, но благодаря Философии Суейнов полагал, что сборка кроватей не должна быть вне его сил и возможностей, и потому он пилил и стучал и пилил и стучал в течение трех дней у нас над головами, роняя снежинки опилок через щели между половицами в наш чай. Энею и мне было запрещено подниматься и смотреть, пока кровати не будут готовы, но, если судить по шуму, Папа вел там смертный бой с его собственными ограничениями, что вовсе не было ему свойственно.
Насколько сложно соединить четыре куска дерева?
Ну, если вы не хотели, чтобы кровать шаталась, выходило, что довольно сложно.
Он все завинчивал и завинчивал винты. С ножками было сложнее всего. Четыре не воспринимали бы вес равномерно, а потому он сделал две запасных и добавил их, но все равно кровать качалась, и он все еще чуть-чуть не достиг Невозможного Стандарта, пока Мама не сказала ему, что она надеялась, что кровать не будет слишком прочной и жесткой, но будет немного пружинить, потому что мне нравилось, когда меня качают, чтобы я заснула.
Это всегда было ролью Мамы — показать Папе, что с ним все в порядке, чтобы освободить его из того места, где он держал себя заложником. И наконец мы поднялись по узкой лестнице и увидели: то, что он сделал, было скорее лодками, чем кроватями, но мне они понравились. Вот эта большая тяжелая поднебесная лодка, и я до сих пор хожу на ней под парусом.
Когда я уйду, когда уплыву в мир иной, то, чтобы вынести кровать, ее придется распилить на куски. Если вы были в Башне Йейтса[143] в Горте[144], восстановленной Мэри Хэнли[145] (Да здравствует Мэри, преисполненная Йейтсом, сказала Мартин Макграт во время нашей школьной экскурсии), то вы видели, что кровать Йейтса такая же, как у меня, тоже наверху винтовой лестницы и слишком большая, чтобы ее вообще можно было когда-либо спустить оттуда. Ее не распилили. Даже министр, который изгоняет деятелей культуры из Ирландии, не посмел бы распилить кровать УБЙ, сказал мой отец. Впрочем, там нет матраса, а просто большая пустая рама, и потому — лучшая призрачная кровать, которую вы когда-либо видели. УБЙ иногда там еще спит, вероятно, с сентября по май, когда поднимается вода в реке, протекающей неподалеку. Тогда башня закрыта для путешествующих любителей поэзии, и Йейтсу нужно немного больше очищения души от смешанных с дождем и снегом ветров Горта.
Ну, так или иначе, вот, пожалуйста, таково мое окружение. Так выстраивает описание Бальзак в «Евгении Гранде» (Книга 2017, Пингвин Классикс, Лондон).
Глава 7
Земли, дом, немного денег, сказала миссис Сиссли. Она пользовалась самыми дешевыми духами, но для компенсации наносила их огромное количество.
Что, Дорогой Читатель, действует удушающе.
Далее следует небольшой пропуск в нашем повествовании.
Немного поработайте здесь сами, я на лекарствах. Вернемся к той сцене в Уитоне, когда табачный пепел лежит на брюках Дедушки, льется сумрачный свет, и мизансцена тесновата для воскрешения. Итак, вперед! Приступай к делу, Дорогой Читатель!
Доктор Махон пришел осмотреть меня.
Как говорят на РТИ[146], возможны перебои вещания из-за Текущих Работ.
Авраам прибыл в Ирландию.
Думаю, потому, что здесь не было никаких Суейнов. Можно было начать с чистого листа. Полагаю, он приехал в графство Мит и вступил во владение фермой, потому что решил, что было своего рода Божественное призвание, и он пришел к осознанию того, что существует такая вещь, как «Словно из Ниоткуда». Импульсивность и Суейны — близкие родственники, не дальние. Мы бросаемся в некотором направлении, думая, что это именно то, что надо, и оказываемся неизвестно где.
Проницательность и безрассудство, это мы в Усеченной Версии.
И еще Упрямство. Дедушка приехал в Ирландию точно так же, как американец английского происхождения направился бы в противоположном направлении.
Это просто подняло Стандарт. Дедушка решил, что в графстве Мит он переуилтширит Уилтшир. Он создаст лучшую ферму, чтобы показать ее своему отцу, и однажды пригласит старого Преподобного и скажет «Вот, смотри!». Это проявление Комплекса Рая. (Я собиралась изучать в колледже Психологию, но потом прочитала, что Фрейд сказал Психология бесполезна для ирландцев[147], мы или Слишком Увлечены чем-нибудь, или совсем Не Увлечены.)
Комплекс Рая означает, что вы непрерывно пытаетесь создать рай на земле. Вы никогда не удовлетворены. И в этом суть проблемы, как говорит Философ Дони Доунс. См. также: Иерусалимский Синдром[148].
Дедушка не мог выбрать легкий вариант. Он не мог закрыть глаза и придумать один из тех воображаемых раев, о которых есть столько упоминаний в библиотеке моего отца. Вот Лукиан[149]. В «Правдивой Истории Блаженных Островов» (Книга 1989, «Утопии Разума», Крик и Хоуард, Бристоль) он сказал, что видел город, сделанный из золота, и улицы, вымощенные слоновой костью, и все это окружено «рекой с превосходным благоуханием». Там никогда не бывает тьмы, там никогда не бывает света, но нескончаемые полутьма-полусвет и вечная весна. Виноградные лозы в раю плодоносят каждый месяц, по словам Лукиана. Там 365 источников воды, 365 источников меда, 7 рек из молока, 8 рек из вина (прости, Чарли, шоколадной фабрики[150] нет), и люди носят одежду из паутины, потому что их тела почти неощутимы. Посмотрите в «Энеиде» Вергилия, Книга VI (Книга 1000, перевод. Ж. В. МакКейл, Макмиллан, Лондон), где он говорит о Елисейских Полях. Как насчет того, чтобы отправиться туда, Дедуля?
Есть сколько угодно воображаемых садов, большинство из которых раскритиковал в пух и прах сэр Уолтер Рэли[151], у которого, вероятно, после всех его путешествий появилось то, что Майна Прендергаст, подражая Шекспиру, назвала непринужденным чутьем, и чье эго было достаточно вместительным, чтобы написать «Историю Мира»[152].
Сэр Уолтер указал, что описание сада у Гомера взято из описания Моисея и что на самом деле Пиндар, Гесиод, Овидий, Пифагор, Платон и все те парни были на самом деле сборищем плагиаторов, которые добавили Старику Моисею собственные Поэтические Украшения. Настоящий райский сад был защищен авторским правом Моисея, и на этом все. Остальное — вздор, Ваше Величество.
Спасибо, Уолтер, возьмите сигарету[153].
Нет. Дедушка не пустился в путь к Воображаемому. Это было бы слишком легко. А должен был получиться настоящий Рай с травой и камнями.
Итак, Авраам сравнил графство Мит с Невозможным Стандартом и начал воплощать на ферме свою мечту. Он собирался сделать Так-Похоже-На-Рай-Что-Вы-Не-Поверите-Что-Это-не-Рай. Возможно, там уже было Что-то, с Чем Надо Работать — так на родительском собрании сказала обо мне моей матери та ведьма с желтым мелированием, то есть мисс Доннелли.
И все же Аврааму не могло быть легко.
Во-первых, как вы уже знаете, Дедушка был англичанином.
И как я сказала, не так уж много тех, кто в те дни приезжал в Ирландию с билетом в один конец. Во-первых, Совет по Туризму все еще проводил собрания в какой-то комнатушке на Меррион Сквер[154] и работал над плакатами и лозунгами. Гражданская война[155]Окончена, Приезжайте в Гости. Мы не будем вас убивать. Обещаем. Во-вторых, Дедушка — ш-ш-ш-ш — Не Принадлежал к Нашей церкви (O Боже Всевышний), и, в-третьих, со своим оксфордским образованием он не мог отличить один бок коровы от другого. (Дорогой Читатель, бока точно есть. Когда мне было пять, Бабушка показала мне — принесла трехногий табурет, поставила рядом с Роузи, уперлась головой в бок Роузи и дотянулась до вымени. Зайдешь с другого бока, и Роузи сломает тебе запястье. Уж такая она, эта корова.)
Дело в том, что в Философии есть пункт Не Жаловаться. Вы не можете выражать недовольство вслух и не можете сказать: «Это было ужасной ошибкой».
Вы просто должны добиться большего.
Так он и сделал.
Потребовались годы, но в конце концов Дедушка привел Эшкрофт Хаус и Земли в Абсолютно Безукоризненное Состояние и послал приглашение Преподобному.
«Я жив. Заезжай навестить меня», только на безупречном английском.
И стал ждать.
К тому времени Преподобный был уже старым, как Ветхий Завет. В моем сознании он сливается с отцом Герберта Покета в «Больших надеждах», со Старым Филином[156], стучащим в пол своим костылем, чтобы привлечь внимание. Преподобный уже почти исчерпал ту жизнь, какая была в его теле, увеличивая число пройденных миль пути, по которому он спешил В Другое Место, и потому на данном этапе он был в основном пергаментной бумагой на тонких распорках. Ему не верилось, что Наш Господь еще не взял его на небо. Бог мне свидетель, это истинная правда. Он все молился и каялся, его пропуск на посадку был уже напечатан, и он был одним из первых в очереди. «Иисус Боже Милостивый, что же ты делаешь!», как Марти Финакейн[157] кричит на стадионе «Кьюсак Парк»[158] каждый раз, когда игроки в hurling чувствуют воздействие запрещенного в субботний вечер пива «Гиннесс» и запускают мячи мимо цели — прямо на парковку Теско[159].
Но никакой Иисус Боже Милостивый не появился.
(Если вы учились в Техе, то понимаете, о чем я.)
Преподобный все жил да жил, все больше думал о жизни как о чистилище и колотил по полу своей палкой.
Когда он наконец получил письмо, то Выдвинул Подбородок и немного сузил ноздри. Такое не выглядело привлекательно. Он прищурился сквозь снежную пыль своих очков, чтобы прочитать имя сына, и когда увидел «Ваш сын Авраам», то пришлось прищуриться сильнее.
Так там и было: «Ваш сын Авраам».
Все это время Преподобный думал, что его сын давно на Небесах, предстательствуя за него.
Он думал, что Авраам ушел туда в первых рядах Павших Героев Первой мировой войны и к настоящему времени, вероятно, его кожа была такого же цвета, что и мемориальные доски из мрамора цвета сливок, какие есть в больших Протестантских церквах.
Но нет, Авраам был в Ирландии.
Иисус Боже Милостивый, что же Ты делаешь!
Ну, я не собираюсь говорить, что это было потому, что Преподобный думал, будто грязная ирландская земля передаст его ногам гниль, и не потому, что он не мог без отвращения произнести слово «Ирландия», хотя и то и другое было, вероятно, верно. Несмотря на усилия Совета по туризму, Ирландия в те дни не была в Десятке Лучших Стран для Посещения, а для англичан это было фактически запрещено, как сказал бы Папа Римский. Ирландия? Католики и убийцы, подумал бы Преподобный. Неблагодарные мерзавцы, у кого не было ни малейшей признательности за восемьсот лет цивилизованного правления Его Величества. Те, кто, как только англичане отбыли, раскрыли свою истинную сущность и начали убивать друг друга топорами, серпами и садовыми ножницами.
Ирландия? Лучше бы этому Аврааму оказаться в Аду.
Эта картина так и стояла у него перед глазами, когда Преподобный просунул письмо через решетку в огонь и стал дышать чаще. Образ пропитанных водой болотистых низин — образ Ирландии, — камнем лег ему на грудь.
Не прошло и недели, как он скончался.
Да почиет в мире.
Amen.
И Awomen тоже[160], как Денис Фитц сказал прихожанам через половину секунды после полночной Мессы. Это было еще до того, как мы в Фахе переместили полночь на половину девятого.
Ответ дедушки на отказ преподобного приехать в гости и последовавшая смерть привели к весьма своеобразным последствиям: дедушка перестал верить в Бога и начал верить в лосося. Оказалось, что планы в этом мире не имели смысла. Не было смысла воображать, что он, Дедушка, вообще когда-либо смог бы осуществить мечты своего отца или достичь Невозможного Стандарта.
Дедушка оставил мир сей ради рыбалки.
Справедливости ради следует отметить, что, возможно, был более глубокий смысл — тайно вывести Преподобного из христианства, возвратившись к истокам: к Петру, который был Рыболовом[161], и к Павлу, которому посвящены храмы, ведь так это работает? Я не великий знаток Библии, хотя у нас есть великолепная Библия (Книга 1001, «Библия короля Якова»[162]), черная и мягкая, с такими тонкими, легкими, как перышко, страницами, какие используют для Библий[163], будто бумага для них может прибыть только из одного-единственного источника, и страницы сделаны тонкими до такого изящества, которое каким-то образом ощущается святым, так что даже их переворачивание становится неким священнодействием. Так или иначе, дело было в Лососе. Дедушка остановил все работы в Эшкрофт Хаус и на его землях, вышел из французских дверей, спустился по подстриженной лужайке, созвал рабочих и, обращаясь к собравшимся, стоящим вокруг него с открытыми ртами и чешущими в затылках, объявил: «Прекратите подрезать изгороди, парни, больше не надо косить траву, соберите вещи и отправляйтесь по домам».
Есть фотография Дедушки — на ней ему около тридцати пяти. Он в белой рубашке, застегнутой до подбородка, и у него на лице выражение дикого нетерпения. Его губы крепко сжаты, и можно подумать, он боится, что у него изо рта вытечет мерзкая микстура, если он хоть чуть расслабится. Вся его поза говорит, что он негодует и снова хочет сбежать — опять сбежать в то самое Другое Место, — и уже по его подбородку вы видите, как приезжает Преподобный. Вы видите наклон носа дедушки, борозды между темными глазами и понимаете, что старик прибывает собственной персоной и не будет никакой возможности избежать этого.
Но Дедушка собирается попробовать. Да, сэр. Он собирается применить ко всему подход «Что бы сделал мой отец?» и затем выбрать противоположное. Так, вместо того чтобы погрузиться в тупое благорасположение, присущее середине жизни, вместо удобного самодовольства и респектабельности он берет свои удочки и выходит из ворот Эшкрофта, сопровождаемый двумя скачущими волкодавами. Дедушка покидает дом, предоставив его самому себе, что означает сорняки, плесень, грибы в подвале, разбитые стекла в спальнях наверху, мухи, улитки, мыши и семейство осиротевших грачей, которые застряли в дымоходе, как в ловушке, не в силах выбраться на волю.
Он начинает у Черного Замка на реке Бойн[164]. В блокнотах, куда он записывал свои уловы, есть пометки в скобках под лососем, которого он поймал, и имя — мистер Р. Р. Фицгерберт[165].
Из-за обязанностей перед Его Величеством, я полагаю, возможно, для того, чтобы отправиться в путешествие и добыть для Него что-то хорошее — например, Виргинские острова или что-то в том же духе, Король пожаловал мистеру Фицгерберту всю рыбу, которая прошла туда — Тебе рыба, тебе жареный картофель, а еще Библия, только в ее английском варианте, — и мой дедушка оказался достаточно скрупулезен и записывал, какого из лососей мистера Фицгерберта поймал и на какую мушку[166].
У меня есть его Дневники Лососей, послужившие материалом для Дедушкиной книги. Они здесь, в библиотеке моего отца, спрессованные между «Дон Кихотом» (Книга 1605, Винтидж Классикс, Лондон), своего рода гениальным испанским чудом, и «Лососем по имени Салар» (Книга 1606, Генри Уильямсон[167], Фабер и Фабер, Лондон), книгой настолько хорошей, что, читая ее, вы словно находитесь в реке. Каждый Дневник Дедушка бережно хранил. У них у всех синий рисунок под мрамор внутри и черный кожаный переплет, как у карманного издания Библии. В первый раз, когда я открыла такую, то почувствовала себя неподобающе. Я люблю осязать книги. Я люблю ощущения от прикосновения к ним, их запах, шелест страниц. Я люблю держать их. Книга — чувственная, волнующая вещь. Свернувшись калачиком, вы сидите в кресле с книгой или, как и я, берете ее в кровать, и она, ну, в общем, окутывает вас. До чего же я странная. Я знаю. «Какого черта?» — как говорит Бобби Боуе в ответ на любой вопрос. Вы либо понимаете меня, либо нет. Когда мой отец впервые взял меня в библиотеку Энниса, я ходила среди полок и чувствовала общество, общество не только писателей, но и читателей, потому что они снимали с полок книги, и открывали их, и читали. Книги были потерты так, как их могут потереть только руки, глаза и умы; книги были в буквальном понимании первозданными Facebooks, то есть Книгами Лиц — ведь в эти книги заглядывали лица читателей, — и я полюбила это странное ощущение — быть на борту корабля читателей.
Знаю, знаю. Я не сижу все время в Интернете и не привязана к смартфону. Возможно, я бы стала такой, если бы мы не оказались в пяти процентах. Министр заявляет, что Сеть Широкополосного Доступа теперь охватывает всю страну, за исключением, возможно, пяти процентов. Здрасьте, приехали. Мы даже не Узкополосные. И что касается привязанности, то, как говорит Томас Халви, для девятнадцатого века я старше, чем старомодная. Я знаю. Теперь уже не имеет значения, что Фаху построили в низине возле реки, мы никак не можем получить Широкополосный доступ. Нам все еще звонят откуда-то с Филиппин и предлагают Лучший Интернет всех времен и народов. Мы даем им поговорить с Бабушкой. Она может часами держать их на линии — и мы считаем, что нам предложили не Интернет, а особого рода сиделку для Бабушки.
Но взгляните, вот один из Дедушкиных Дневников Лосося. Осязайте его. Ощутите запах. Страницы вспучились от воды, корешок стал похож на речную волну. Бумага тяжелая, старая, гладкая под рукой. Некоторые страницы слиплись, будто запись была сделана под дождем. Почерк четкий, написано синими чернилами — теперь они светло-лавандовые.
ЛОСОСЬНеделя с 12-го июня 1929 г.18 фунтов 6 унций (Джок Скот)[168]
19 фунтов 4 унции (Блю Джок)
15 фунтов 11 унций (Колли)
14 фунтов 3 унции (Колли)
21 фунт 3 унции (Гаджен)
И так далее, и в том же духе, фунты и фунты рыбы, страница за страницей бледными чернилами. Мне было интересно, как мистер Р. Р. Фицгерберт относился к тому, что Авраам забирает всех его лососей. Возможно, даже не знал. Мистер Р. Р. Фицгерберт в то время жил в Ноттингемшире[169]. Мне было интересно, съел ли мой дедушка всех лососей, была ли челюсть Суейнов хоть немного похожа на рыбью, и однажды я целых полчаса надувала губы, стоя перед зеркалом, когда мне впервые страшно захотелось узнать, смогу ли я увидеть в себе лосося, выпрыгивающего из воды.
Как долго человек может ловить рыбу? Я спросила у миссис Куинти, но она подумала, что это был скрытый намек на Томми и Парикмахершу, что после того, как Томми поймал Сильвию, он устанет, или ему надоест, или же он не сможет держать себя в форме, как говорит Филлис Лиллис, в смысле, ну, вы понимаете, как у Гамлета Country Matters[170]. Но на самом-то деле я спрашивала о рыбалке. Сколько времени мой дедушка мог быть счастлив, просыпаясь утром и с удочкой отправляясь на рыбалку? Потому что, Дорогой Читатель, только это он и делал.
Он ловил лосося.
Он в значительной степени позволил дому и земле стать такими, как у Рэкрентов[171] (Книга 778, «Замок Рэкрент», Мария Эджуорт[172], Пингвин Классикс, Лондон). От первого лосося в сезоне до последней усталой рыбы, возвращающейся осенью вверх по реке, Авраам Суейн стоял прямо в воде, доходившей ему до бедер; небольшой водоворот кружил за ним, и леска с негромким свистом рассекала воздух, чертя вопросительные знаки у него над головой.
Даже волкодавам было скучно. Когда они видели, что он берет удочки, то рысью неслись назад через парадный зал и плюхались, становясь большой неподвижной массой шерсти и костей, и в их сердцах была классическая собачья дилемма — преданность хозяину и понимание, что он слегка спятил. Дедушка оставил их в покое, и волкодавы начали делать то, чем будут заниматься всю оставшуюся жизнь, то есть жевать бахрому восточных ковров и, лежа на боку, грызть острыми зубами смолистые сосновые половицы.
Дедушке все было трын-трава. Он перестал заботиться об этой жизни — ее он стал считать случайной и бессмысленной, постоянно доказывая это себе, — но обрел маленький комфорт в тех лососях, которые проходили мимо, и тех, которых он поймал.
В нашей семейной истории есть немного рассказов о том времени.
Дедушка Ловил Рыбу — и этим почти все сказано.
В качестве немедленной реакции он выбрал безответственность. Пусть Бог или дьявол появились бы, если бы существовали. Дедушка отсутствовал, отправившись на рыбалку. Никакой борьбы за нашу нарождающуюся нацию, ничего общего с Old Roundrims и Old Gimlet-eyes, то есть с нашим Испано-Американским Первым Ирландцем, который сформировал Свою Страну[173]. Мрачная европейская политика не касается жизни Дедушки. Он живет в уединенном не-заточении до девятнадцатого апреля 1939 года, когда появилась последняя запись в середине XIX Дневника Лосося.
Там написано:
26 фунтов[174] (червяк)
потому что здесь соединение факта, истории и легенды представляет собой мутные воды. Слово «лосось» происходит от латинского «salire», прыгать. Это Катулл[175], конечно, прыгающего лосося уподобил фаллосу, вариант которого все еще живет в Ирландии, в легенде, рассказанной мне древним рыбаком графства Уэстмит[176]. В этом сказании бестелесный голос побудил мать Святого Финана[177] пойти купаться в реке после наступления темноты. Плавая в середине потока и, по-видимому, ничего не подозревая, она была оплодотворена лососем.
Можно вообразить ее удивление.
То, как лосось выполняет прыжок, на протяжении веков объясняли по-разному. Держа хвост во рту, согласно поэме семнадцатого века «Poly-Olbion»[178] Майкла Дрейтона[179]
То, что высота прыжка может быть связана с присутствием особи женского пола, может быть не так уж и странно, как могло бы показаться на первый взгляд, если учесть, что в 1922 году Джорджина Баллинтайн вытащила на берег шестидесятичетырехфунтового[180] лосося из Реки Тей[181]. Местные рыболовы, которые безуспешно трудились на том же месте, приписали этот улов тому факту, что женская сущность на самом деле некоторым образом как бы сказалась на приманке, и это принесло лосося, сексуально возбужденного и прыгнувшего к Джорджине.
Все это сказано с целью добраться до моей точки зрения: факт, почерпнутый из опыта автора в Ирландии, — с ростом температуры лососи явно становятся более активными.
Глава 8
Тому червяку придется за многое ответить, говорит Бабушка.
В нашем доме есть видеофильмы, видеоплеер и коллекция больших, довольно древних кассет со старыми фильмами, записанными с телевизора в те времена, когда это было самой-самой крутой вещью. Так, в черно-белой версии фильма «Дедушка и Червяк» режиссера Уильяма Уайлера[182] и продюсера Сэма Голдвина[183]. Дедушку играет Лоренс Оливье[184] в возрасте тридцати пяти лет. Первое сентября 1939 года[185]. Большое серое небо с темными облаками, двигающимися под получившую «Оскара» оркестровую аранжировку Альфреда Ньюмана[186]. Река быстрая, и приближается шторм. Мы видим, как другие рыболовы — второстепенные персонажи — качают головами и расходятся по домам. Но Лоуренс проходит мимо них. Его влечет к реке — внезапное пульсирование баса Арнольда Киша ставит вас в известность, что Великий Момент вот-вот наступит.
Лоуренс сходит с берега в реку.
Крупным планом показана вода, изгибающаяся вокруг сапога. Дедушка немного теряет равновесие, когда дно реки поддается у него под ногами, но он пробирается дальше и забрасывает удочку.
Бум — гремит гром.
Бум-бум — звучит музыка. Будто кто-то знает, что где-то в другом месте Германия только что начала вторжение в Польшу.
И тут начинает хлестать дождь.
Крупным планом залитое дождем лицо Лоуренса, яростное и в то же время сосредоточенное и отрешенное.
Он по пояс в реке. Мы догадываемся, что сейчас он, наверное, думает о Мерл Оберон[187]. Он хотел Вивьен Ли[188], но ее отклонили, и она была Унесена Ветром, так что Лоуренс играл с Оберон, чье имя не кажется ему самым подходящим для любовной истории, потому что он помнил: «Оберон был Королем Фей (Книга 349, „Сон в летнюю ночь“, У. Шекспир, Оксфорд Классикс), и вот мне предстоит поцеловать Короля Фей, что будет проблемой», пока, к счастью, не вспомнил, что тоже играл эту роль[189] и, таким образом, он вроде как любит самого себя, и, ну, в общем, он справится.
Небо такое серо-черное, какое особенно хорошо удается «MGM»[190] и какое они могут непонятным способом заставить выглядеть еще более черным и тяжелым. И вот скрипки играют быстрее и — поглядите! Оп! — у него лосось на леске. Удилище пружинит и сгибается, как лук, дугой, и оператору дождевой установки говорят: «Давай, парень, покажи все, на что ты способен!» или как там это звучит по MGM-ски, и вы можете вообразить, как дирижер Мервин Ольбахер подпрыгивает и размахивает над скрипачами своей палочкой. Он не крупный мужчина, но мальчик, он прилагает большие усилия. Он так вкладывается в исполнение, что, когда вскидывает голову, его волосы разлетаются во все стороны и по лицу струится пот. Итак, река с музыкой дождя На Полную Мощность, — и даже десятикратно, одиннадцатикратно громче, как говорит Маргарет Кроу, — а Лоуренс тянет, и водит, и поднимает в воздух великанского серебряного лосося. Басовый барабан, басовый барабан, дирижерская палочка, Мервин. Еще, еще.
— Иисус Боже Милостивый, — кричит Марти Финакейн. — Вы никогда не видели ничего подобного!
— Иисус Мария Иосиф! — восклицает Иисус Мария Иосиф Карти.
На этот раз бутафоры «MGM» превзошли сами себя.
Боже правый! Это большая рыба.
(«Достаточно большая, мистер Голдвин?» — «Ничто не может быть слишком большим».)
И она приземляется, плюх.
Сожалею, но надо переснять[191].
Лосось падает ПЛЮХ! обратно в реку, и всего Лоуренса тащит вперед, и он теперь в этом сражении показывает силу характера — обе его руки держат удилище, растянутое горизонтально, предплечья дрожат, рот искажен гримасой, которую Лоуренс изображает блестяще, когда пренебрегает опасностью и бросает вызов Богу и людям, а Уильям Уайлер почему-то сказал, что Лоуренс — не самый лучший актер из когда-либо живших.
И он тянет и кряхтит пуще прежнего, есть вспышки молний и есть Лоуренс, старающийся изо всех сил, но студия решает, что уже достаточно, и прекращает съемки на кадре, в котором Лоуренс вываживает пойманного лосося.
Впрочем, в фильме трудно передать, насколько это бесподобно. Помощник режиссера думал, что, возможно, должна быть еще одна рыба, которую Лоуренс поймал раньше, и можно бы для сравнения положить ее рядом, но помрежа никто не слушал, и было решено, что зрители просто поверят, что рыба была Большой, если и музыка к фильму, и молнии, и звуковые эффекты, и игра Лоуренса скажут, что так и есть.
Как бы то ни было, вот он добирается до берега. Взбирается наверх, падает, дождь лупит по-прежнему, Лоуренс извлекает крючок из пасти рыбы, держит ее, взвешивая в руках. Ну и ну! Смотрите-ка. Первоклассный Лосось, как сказали бутафоры, а они отклонили трех, и чтобы донести до всех мысль, что те три рыбешки были просто смешными, они раздобыли эту диковину и, глядя на нее, подняли вверх Большие пальцы.
Вот и все. Человек и Лосось. И вся мудрость, все знание, какие есть у рыбы, так или иначе переходят к человеку. Все секреты мира, все загадки случайностей и совпадений, власти, и силы, и окончательной капитуляции входят в него, и Дедушка отпускает лосося назад, в реку. Отпускает его восвояси, а сам, измученный, ложится плашмя, и вроде как плачет из-за всего, что не удалось в его жизни, и из-за того, что Бог так и не захотел явиться, и дождь стекает по его лицу. Светооператор щелкает выключателем, и Мервин делает музыку тише, так что, даже если вы в этот момент тупо уставились в свой попкорн, вы все равно знаете, что там, на экране, ваш родной человек испытывает муки чего-то вроде откровения.
В следующем кадре он пересекает поле.
Он идет в город. В город Трим в графстве Мит, но поскольку съемки идут в Голливуде, который даже не собирается быть похожим на Студию Илинг[192], то для сохранения грима дождь перестает лить.
Как бы то ни было, вы не можете отвести взгляд от моего дедушки, которого играет наш парень Лоуренс. Он идет в город, к тому большому дому, где Мерл почти закончила возиться с Гримом и Костюмами. Чтобы не нарушать авторские права, сейчас мы не можем заставить ее произнести хоть строчку, но если ваше воображение потерпит неудачу и вы не в Пяти Процентах, то вперед — загружайте текст ее роли.
Свист. Взрыв. Шипение. С-с-с-с. Бах. Ш-ш-ш-ш.
Это не Германия вторгается в Польшу. Это Дедушка и Бабушка в усадьбе в Триме вечером в день Великого Улова, сентябрь 1939 год.
(К сожалению, Цензор вырезал любовную сцену. В то время в Ирландии не было любовных сцен. Большинство людей думало, что поцелуй и есть секс. Языки были пенисами. Разрешенными только для общения. Что, неудивительно, оказалось очень популярным.
Вы не верите мне, ну так навестите ирландский Комитет по Безнравственной Литературе[193], поприветствуйте тамошних парней. Ни одна женщина не была допущена к работе Цензором. Некоторые члены Комитета тайно надеялись, что Присутствие Женщин Вообще Не Будет Разрешено в Ирландии, и это было бы неплохо, за исключением досадной проблемы глаженья.)
Итак, если хотите, создайте свою собственную сексуальную сцену. Вы же понимаете, что хотите этого, как Томми Марр сказал Ифе О'Киф во время Апостольского Собрания у Райана. Так он заигрывал. Такие слова, полфлакона дезодоранта Lynx, джинсы с заниженной талией, чтобы можно было видеть его трусы «Сенбернар»[194], на случай, если она окажется почитательницей этого святого, и подчеркнуто медленное подмигивание, делавшее Томми Марра более или менее похожим на Холи Роша после того, как его хватил удар. Вы же понимаете, что хотите этого.
Так или иначе, поступайте, как вам нравится. Пришел Доктор Махон, и мы должны объявить антракт.
К счастью, в то время Ирландия не существовала[195] в мире. Поэтому мы не участвовали во Второй мировой Войне. Old Roundrims добился этого. Гениально, на самом деле. Вторая мировая война была toirmiscthe, как он сказал. Это слово многие должны были искать в словаре, и когда находили, то оказывалось, что война по существу запрещена[196], только на ирландском языке. Твиттер сошел с ума, заявив, что это было позорным и отсталым, но в те времена Твиттер[197] был разговором одних только птиц. Дело в том, что ирландцам не нравится относиться к вещам прямолинейно, как Джимми Янки узнал в тот раз, когда вернулся домой, поехал в Аптеку Бернса в Килраше и во весь голос попросил что-нибудь от крови, льющейся из его задницы. Нет ничего прямолинейного, когда дело касается нас. Это никакое не совпадение, что у нас нет прямых дорог, да и через черный ход мы ходим неспроста. Люди, приезжающие к нам домой, иногда парковались во дворе и ждали, когда появится мой отец, так что на самом деле они вовсе не приезжали в гости. Итак, нет, мы не были на Войне. Мы были в чем-то другом, названном «Чрезвычайное Положение». Никто другой в мире не был в нем, только мы. Мюнхенская Возня[198], как это событие называет Пэдди Каванах[199] (Книга 973, «Собрание стихотворений», Мартин, Брин и О'Киф), не волновала нас.
Дедушка точно не волновался о сохранности своих материалов. Во-первых, он уже был старым. Он родился в 1895 году, и ему было за сорок. И, во-вторых, он был Вне Игры еще до Ориэл Колледжа и почти совсем забыл о том, что в человеческом разнообразии существует женский пол. (Вьющиеся волосы в ушах, безумные и жесткие, как проволока, брови, словно запутанная леска над слезящимися глазами, и его версия состоящей из точек маски на нижней челюсти, как у Преподобного, были доказательством его забывчивости.)
Но последовавшие события, должно быть, каким-то образом были связаны с Большим Уловом, последним лососем или Дедушкиным собственным Чрезвычайным Положением — когда Бабушка увидела Авраама, уловила аромат Одесомона[200] и в ее сердце запорхали бабочки, он не сбежал от нее.
В то время Бабушка звалась Маргарет Киттеринг. Она была женщиной, какую в те дни назвали бы привлекательной, пусть и в англо-ирландском стиле — костлявой, угловатой, с длинной шеей. Думаю, это означает, что вы можете наблюдать породу. Как у лошадей, вы ее определяете по зубам, по челюсти. Ну, посмотрим, как, должно быть, сказал ее дантист, а затем просто отступил и зааплодировал. Как бы то ни было, безотносительно породы, челюсть Киттерингов встретилась с челюстью Суейнов. (Позже, конечно, МакКарроллы сделали из этого не пойми что. Но это для другой книги — она будет называться «Зубы Суейнов», под редакцией Д. Ф. Махони.) Другими примечательными особенностями Маргарет были слегка вьющиеся золотисто-каштановые волосы, изящные уши и маленький идеальный нос Киттерингов, который позже уплыл вниз по реке, выбрался на берег и оказался на лице моего брата Энея.
Зубы, уши и нос, что еще остается желать мужчине.
Следует отметить, что у Маргарет в молодости была сугубо деловая Директриса, которая заставила будущую Бабушку поверить, что этого мужчину можно Обмять, придать форму — точно так, как обминают тесто, когда давят на него кулаком, — можно Разгладить, что, будучи в прекрасном костном возрасте, да еще и обладая потрясающими локтями, Бабушка была прирожденной обминательницей и разглаживательницей.
Масштаб стоящей перед ней задачи стал ясен, когда Дедушка привез ее в Эшкрофт Хауз. Они подъехали к ферме по дороге, обсаженной деревьями, и она увидела джунгли колючего терна, которые Дедушка не замечал, разбитые оконные стекла, грачей, пытающихся в 576-й раз выбраться через дымовую трубу, — но не позволила себе выказать смятение. В книге «Лосось в Ирландии» говорится, что как только самка лосося найдет нерестилище, то полностью сосредоточится. Она примет вертикальное положение и будет неистово вертеть хвостом, чтобы разбросать большие, как мячи, камни, пока не выроет подходящую яму.
Только тихое «О» вырвалось у Бабушки, когда волкодавы прыгнули на кровать, чтобы присоединиться к Бабушке и Дедушке.
И другое «О», когда она уловила соленый запашок Дедушки.
И еще одно «О», когда она впервые увидела его… скажем, Катулла.
Извините, увлеклась.
Однако Киттеринги не сдаются, нет, в их жилах течет хорошая немецко-английская кровь. Первый раунд Обминания и Разглаживания (который продлился, пока Германия не заявила Mein Gott и не сдалась) произвел на свет дочь Эстер.
Раунды Два и Три произвели Пенелопу и Дафну.
К тому времени Дедушкины львы, как называл их Брендан Фэльви, должно быть, были почти истощены. Он начал поздно. Но ему все еще не хватало сына. И видя трех своих дочерей уже на пути к становлению маленькими Киттерингами, он, должно быть, почувствовал и даже увидел, как Суейны исчезают из мира. К тому времени он уже попал в ловушку первых бесшумных стычек с Маргарет. Он двигал стул туда, куда хотел; оставлял открытой газету, которую, как он знал, она хотела бы сложить и убрать; открывал окна, которые она закрыла — словом, уже участвовал в монотонном повторении событий, в нападении-и-отступлении, каким уже стал их брак. То есть, как он понял с едкой досадой, его поймали на крючок.
Но в те дни, как только вы сочетались браком, то попадали в Святой Тупик, и в Ирландии священники решили, что как только мужчина вошел в женщину, то Выхода Не Было. Вагина была смертоносным таинственным борцом, который мог провести захват за шею — ну, говоря метафорически, — и тогда, парни, вы по-настоящему застряли.
Это Будет Тебе Уроком — в то время таково было назидание Номер Один.
И Назидание Номер Два: Бог терпел и нам велел.
И так, Без Выхода, после сентябрьских наводнений в том году (Книги 359–389, «Old Moore’s Almanack»[201], тома 36–66) и поимки Лосося весом 32 фунта[202], Дедушка, как говорит Джимми МакИнерни, устроил последнюю встряску.
Мой отец высадился на берег в мае. Он выплыл после четырнадцати часов родовых мук и еще не был осушен от околоплодных вод, когда Дедушка Авраам появился в родилке — как неожиданный шторм, — выдвинул суейновский подбородок, рассмотрел свое единственное потомство мужского пола и спросил: каков его вес?
И в тот момент, как щепотку соли, он передал сыну Невозможный Стандарт.
Он дает сыну имя Вергилий.
Истинная правда.
Вергилий.
Авраам сторонится святых, и когда его просят назвать второе имя Вергилия, он думает лишь миг и отвечает: Фесте[203] (Книга 888, «Двенадцатая Ночь», У. Шекспир, Оксфорд Классикс).
Могло быть и хуже.
Могло быть Уом[204].
— Фестер? — Сидящий на передней церковной скамье Клемент Киттеринг поднимает бровь. (Киттеринги считают, что ирландцы в целом Бесспорно Странные, но часто Довольно Очаровательные, а этот возбуждающий любопытство Авраам стал местным жителем, превратился в ирландца.)
— Нет, дорогой. Фесте.
Момент крещения завершен. Дедушка пугает Бабушку, забирая ребенка у нее. Быстро стуча кожаными ботинками, несет моего отца по проходу, как награду, выносит на площадку из гравия перед входной аркой и поднимает к неласковому небу графства Мит.
Можно подумать, Авраам верит, что старый Преподобный не сможет остаться в стороне, а размашистым шагом пройдет через уголья Чистилища, испещренные языками огня, чтобы лицезреть нового Суейна и понять, суждено ли ему Занять Выдающееся Место в святом мире. Авраам держит своего сына, а позади счастливого отца из церковных дверей вытекает, как бормочущая река, поток присутствующих при крещении. Они собираются возле парадного входа, и ребенок, Да возлюбит его Бог, не плачет, не плачет, но внимательно выглядывает из замысловатых кружев, которые кажутся одеянием крошки-священника, которое Маргарет сделала для младенца. Его веки как бы трепещут от легкого бриза, запутавшегося в кружевах. И затем громко, чтобы было слышно и Преподобному, и всем и каждому, Авраам торжественно возглашает:
— Этот мальчик никогда больше не войдет в церковь.
Глава 9
Дядя Ноели, который был не дядей, а кузеном, каждый вечер одевался в то, в чем хотел встретить свою смерть. Однажды он проснулся утром со святым ужасом. (Это было, вероятно, из-за дурацких густых деревьев, выросших вокруг его дома unbeknownst[205], как говорит Шон Хейс. В наших местах вы услышите такие слова, оставшиеся после Шекспира. Unbeknownst. Unbeknownst для самого себя, Департамент разрушил сельский пейзаж с соснами. Unbeknownst собирается сделать то же самое с ветряными мельницами.) Так вот, Дядя Ноели проснулся в жуткой панике — ведь на нем были дырявые трусы мышиного цвета и нательная рубашка, — отправился к Патрику Боерку[206] на Площади в городе Килраш и попросил похоронный костюм Высшего Качества. Естественно, они продали ему костюм, рубашку, галстук, носки и обувь, а потом спросили, кто это отошел.
Что, простите, просто странно. Даже грамматически неверно. Отошел. Слово просто повисло, неопределенное и незавершенное. Это все равно, что сказать он подошел к.
Отошел, а куда именно?
Так или иначе, наряд нужен был Дяде для его собственных похорон. Придя домой, Дядя Ноели положил рубашку, костюм и все прочее на кровать, ботинки поставил под нее. Весь день он работал на своих немногочисленных полях в фермерских штанах, ботинках, шерстяном джемпере и в чем там еще, но когда вечером ложился спать в своем маленьком сельском доме, то надел рубашку, костюм, галстук, у кровати поставил расшнурованные ботинки, улегся со сложенными руками — и если бы он умер ночью, то уже был бы одет для Отбытия в Мир Иной.
В далеком прошлом Джо Брогэн проходил мимо дома Дяди Ноели чуть ли не каждый день по пути к домам, еще когда их строили, и между ними к Перекрестку. Однажды вечером они договорились, что Дядя Ноели должен будет открывать занавески, когда проснется, и потому Джо не надо будет входить в дом, чтобы проверить Дядю Ноели. Джо мог просто проезжать мимо, потому что оба они холостяки и не были столь близкими друзьями, чтобы ходить друг к другу в гости, пить вместе чай с Chocolate Goldgrains[207]. Им обоим было ясно, что ничего подобного между ними и в помине не было, кроме одного этого дела с занавесками, потому что Дядя Ноели рассказал Джо Брогэну о двух своих смертельных страхах.
Первый — что его Не Обнаружат или что он Подвергнется Разложению, как говорит Шон Хейс (среди тех деревьев вы тоже разложились бы быстрее обычного). То, сколько времени занимает разложение, зависит от того, ходили вы на Мессу или нет. Не из-за мистического сохранения, но потому, что если бы вы были Постоянным Прихожанином, то вас хватились бы через два Воскресенья. Ведь появилось бы свободное место в Проходе, где вы стояли рядом с людьми, Склонявшими Головы. Это было негласным, секретным преимуществом посещения церкви. Но если вы были Нерегулярным Прихожанином, как Дядя Ноели, то, кто знает, вас могли Не Обнаружить, пока деревья не провалятся сквозь крышу и какие-нибудь хулиганы не залезут в дом, чтобы ограбить его.
Второй страх — что Обнаружат, но застигнут врасплох, увидят, как называет это Бабушка, В Чем Мать Родила. В голове Дяди Ноели крутилась мысль о целой ораве, обшаривающей кухню, сующей нос в переднюю спальню и видящую его с рогаликом, как эту вещь называет Мона Мойнихан, который просто вроде как лежит там. Такого позора было бы достаточно, чтобы разрушить первые несколько недель пребывания на Небесах.
Итак, Дядя Ноели придумал план. Каждую ночь он задергивал занавески, зачесывал остатки клочковатых волос поперек передней части головы, надевал костюм и ложился на кровать, готовый к Отбытию в Мир Иной.
И это работало.
Но по-разному.
Сначала — когда он просыпался утром в костюме, понимал, что не попал на свои собственные похороны, и улыбался. Улыбался своему прекрасному, маленькому, круглому, как орех, лицу и думал, как хорошо он выглядит и как удивительно, что ни одна женщина не обнаружила этого. Он поднимался и раздевался, ощущая некое секретное знание Счастливого Конца впереди.
И потом, когда однажды утром Джо Брогэн проехал мимо, увидел закрытые занавески, и оказалось, что Дядя Ноели Отбыл в Мир Иной буквально только что, и тем же вечером миссис Куинти сказала моей матери, что Дядя Ноели стал Великолепным Покойником.
Я думала о Дяде Ноели сегодня, когда была в Районной больнице. Я думала о том, что Уйду, и мне было интересно, куда Уходят, и на что может быть похоже то место, и какая там может быть погода. Об этом вы просто никогда не услышите — о погоде в следующей жизни.
С одной стороны, там не может все время идти дождь.
Но ведь если бы вы были африканцем, возможно, именно на это вы бы и надеялись.
С другой стороны, если там полыхает жара, — как было однажды летом, когда Бабушка стала оранжево-розовой, как лосось, и не могла держаться на ногах, а Мик Малви начал щеголять в сомбреро и мазать себя оливковым маслом, а Отец Типп должен был попросить Мартина Мэлоуна не надевать мини-шорты к Мессе, — ну, если там жара, то вообще нет ничего забавного. На солнечных Небесах Ирландцы будут казаться участниками шоу веснушек.
За миг до того, как вошел доктор Нараджан, чтобы Осмотреть меня, мне стало интересно — неужели до Небес можно добраться, только если веришь в них? Или дело с ними обстоит так же, как с Сантой — как только перестаешь верить в него, он перестает приходить? Я знаю, что слишком тщательно обдумываю событие[208], но когда вы лежите в кровати и ваше тело остается на месте, ваш ум вроде как отправляется куда-то. Во всяком случае, всего на минутку, а потом я, возможно, мельком взгляну на То, Как Выглядит Рут, потому что видела, как Дядя Ноели в Хорошем Костюме идет через свои поля, и нету там никаких деревьев, и с полей на холмах за рекой не доносится глухой звук ветряных мельниц, и стоит правильная сентябрьская Всеирландская погода. Волосы Дяди Ноели по-прежнему зачесаны поперек головы, и у него есть зубы, так что улыбается он естественно, и он вернулся в улучшенный вариант своих родных мест. В руке у него маленький флаг графства Клэр для игроков в hurling, будто он узнал, что в этом году парни вместе с Дэйви собираются выиграть, и Дядя Ноели приближается, и я знаю — он хочет сказать мне что-то, и я пытаюсь произнести его имя вслух, но не могу, потому что лежу в палате Районной больницы, и я потеряла веру, или проницательность, или что там еще, и вся сцена вроде как превратилась в ничто, земля стала призрачной, и повествование оказалось неудачным.
Глава 10
Икринка лосося, сброшенная с высоты талии, отскочит точно так же, как теннисный мячик.
Я подумала, вам будет интересно это узнать.
Мой отец не сразу понял, что на его плечах лежит бремя.
Вот если бы каждое воскресенье утром, когда Бабушка водила девочек в церковь в Триме, он видел внушительную вереницу своих дочерей — их Бабушка называла Отрядом Начищенных Туфель, — каждая из которых вполне могла бы стать Старостой, видел, как они, одетые в шерстяные пальто со складками, шествуют к передней церковной скамье, видел природную властность в их лицах и осанке, ведь девочки сидели на скамье удивительно прямо, а Бабушка утверждает, что их порода не допускает даже малейшего изъяна, — возможно, тогда бы он задумался. Но вместо этого он оставался дома наедине с самим собой и строил из себя Сироту.
Он читал. Он читал все, что мог найти. Он любил книги про путешественников-мореплавателей. Марко Поло, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Васко да Гама, Фрэнсис Дрейк, Эрнан Кортес. Одни лишь имена увлекали его. Я вижу, как он поднимает глаза от страницы, и буквально ощущаю то странное безмолвное спокойствие, которое я знаю по сельским воскресным утрам, когда христиане на Мессе, а вы чувствуете себя настолько другим человеком, что вам надо найти себе занятие, иначе вы будете бояться, что сам Ветхозаветный Бог взойдет вверх по лестнице и скажет ТЫ! Дождь вертикальными полосами струится по высоким дребезжащим окнам Эшкрофта. Поют трубы печей, в которых нет огня. Мой отец читает о кораблях, плывущих в Новый Свет, через некоторое время отрывает взгляд от книги и, обращаясь к собственному воображению, произносит вслух «Эрнан Кортес», — возможно, это имя впервые звучит в графстве Мит, однако оно переносит моего отца к ацтекам, будто в суперэкономическом классе на самолете авиакомпании «Суейнэр». Вергилий чувствует, как солнце опаляет его лоб. Древние дубовые половицы Эшкрофта уже стали палубой, мягко покачивающейся под лазоревым небом, потрескивающей в удивлении от внезапно возникшего пекла, обнаружившей соль во всех своих щелях-ранах. А когда Вергилий говорит «Васко Нуньес де Бальбоа», то во влажной комнате мертвым воскресным утром становится первым европейцем, увидевшим Тихий океан[209].
Однажды в воскресенье мой отец нашел на чердаке черный резиновый противогаз своего отца, и когда надел его, то стал чужаком, тяжело втягивающим воздух через фильтр. Вергилий полз вдоль половиц, будто был существом, потерявшим своих или совсем недавно в одиночку оказавшимся на планете. Ему нравилось. Нравилась странная уединенность из-за того, что он стал другим. Нравилась его внутренняя тайная жизнь, и он мог весь день оставаться там, в той выдуманной стране, существующей в нем. Что именно он думал о том, почему не ходит в церковь, не знает никто — он никогда не говорил о таких вещах. Просто не ходил. Вот и все. И когда мы с Энеем стали достаточно взрослыми и смогли понять, что это немного странно и что ни у кого в Фахе не было отца, который давал реке слушать Моцарта, включенного на полную громкость, пока остальные члены нашей семьи были на Мессе, — то для нас это был просто еще один маленький элемент пазла, который мы уже сложили: наш отец был гением.
В конце концов Вергилий отправился в Школу Хайфилд к мистеру Фиггсу. Тот был лысым, малорослым, не перестающим чихать человеком, который приехал из Брайтона и вскоре впал в ужас, когда обнаружил, что ирландская погода идеальна для насморков и простуд. Его лицо никогда не отдыхало от носового платка. Фиггс прикладывал платок к лицу, вытирал его, протирал, сопел, чихал, выдувал содержимое своих ноздрей и потом долго шмыгал носом. Однако Фиггс знал свое дело, разбирался в языке, слоге и стиле, а потому быстро понял, что у Вергилия Суейна есть Серьезный Потенциал. Чтобы спасти Вергилия от осквернения Тупицами, он посадил его в первый ряд почти у своего стола в непосредственной близости от Чиходеона[210]. И пока в Школе Хайфилд Майклы и Мартины, Томми и Тимоти учили друг друга Прогрессивным Способам Питья Чернил, Интенсивному Топоту, Пинанию Столов Ногами, Отбрасыванию Щелчком Соплей и/или Шариков Из Жеваной Бумаги в грязные завитки волос сидящих впереди мальчиков, мистер Фиггс заговорщическим шепотом учил моего отца. Носовой платок лежал в полной боевой готовности на столе у мистера Фиггса. Он придвигал к Вергилию влажное розовое лицо сквозь бледный нимб свободно соединявшихся микробов и говорил об Алгебре.
Мой отец заглотил наживку. Ему понравилось, что с ним обращаются иначе, чем с другими. Вы уже знаете, что ему нравилось чувствовать, что он поднимается. Он не возражал против крючка у себя во рту. Под кудрями у него в голове гудело и жужжало. Он не обращал внимания на других учеников. В перерывы он не выходил во двор, и Фиггс приоткрывал двери его ума еще немного.
И какой это был ум! Залпом проглатывал все. Фиггс не мог поверить в свою удачу. Он посчитал имя моего отца намеком и подсунул ему отрывок из «Энеиды». Мой отец не устоял. Карманного формата Гораций[211] (Книга 237, «Оды Горация», Хамфри и Лайл, Лондон) — обложка этой книги не была ни бумажной, ни картонной, но особенной, удивительной тканью янтарного цвета, тихо шепчущей, когда вы открываете книгу; отрывок из речи Цицерона[212] (Книга 238, «Речи Цицерона», Том I, Хамфри и Лайл, Лондон) в книге с бордовой картонной обложкой, жесткой и с виду официальной, пахнущей спаржей; часть записок о галльской войне Цезаря[213] (Книга 239, «De Bello Gallico», Том I, Хамфри и Лайл, Лондон), — Отец Типп думал, что они были Чесночными[214] войнами, и я не поправляла его, ведь это не имело никакого значения. Мой отец поглощал их все. Он читал с такой же скоростью и с таким же энтузиазмом, с какими другие мальчики ковыряют в носу.
Но латынь не была единственным, в чем он был превосходен. От языка и литературы его мозг воспламенялся. Фиггс скармливал ему поэзию. Дал ему «L’Allegro» Мильтона[215] и, трудясь собственным носом позади развевающегося, будто флаг, носового платка, видел, как строка Hence, loathed Melancholy, of Cerberus and blackest midnight born[216] проложила себе путь в воображение моего отца.
Каждый день мой отец приносил домой тетрадки, в которых были самые аккуратные записи, когда-либо сделанные, и каждая страница была усеяна разнокрылыми галочками, какими мистер Фиггс отмечал особо достойные Заслуги моего отца, что казалось, будто это закодированный язык полетов. Впрочем, так оно и было. Там было сообщение: Этот мальчик возносится.
А еще там могло быть сказано: У этого мальчика нет друзей.
Но в те далекие дни никто не прочитал эти записи. Детская психология в то время не достигла Ирландии, да и сейчас эта наука еще не на низком старте. Шеймас Моран, чьи проволочные темные волосы перекочевали на костяшки его пальцев после того, как он налопался просроченных консервированных сардин, сказал однажды моей матери, что у его сына Питера были Особые Потребности[217]: «Вы знаете, он Самобытный».
Однажды дождливым мартовским вечером Бабушка сообщает Дедушке: «Мистер Фиггс говорит, что Вергилий — превосходный ученик».
А теперь смотрите. Два обитых кожей вольтеровских кресла по обе стороны камина — линия фронта проходит между ними. Две настольные лампы — два янтарных сияния. Большая комната с высоким потолком, высокие окна с подъемными рамами, коричневый с оранжевым ковер на полу, когда-то толстый и яркий, но теперь плоский и безжизненный, с протертым почти до дыр местом, где перед шипящим огнем любят валяться волкодавы, положив головы набок и пуская слюни. Дрова горят, но плохо. Каким-то образом дождь заливает дымоход по всей длине. В комнате пахнет сыростью и дымом — особое сочетание, которое Бабушка считает чисто ирландским и против которого воюет днем и ночью, используя духи в нескольких фиолетовых флаконах с пульверизаторами и резиновыми грушами, которые надо сжимать, выстреливая во врага мелкие брызги. Они приносят лишь кратковременный успех, но уже успели пропитать Бабушку непреходящим ароматом дешевого освежителя воздуха — так Ирландия окончательно победила Киттерингов.
Дедушка и Бабушка сидят по разные стороны камина. Они часто так делают, ведь у них нет телевизора. Смотреть-на-огонь — в то время это занятие было На Первом Месте по количеству зрителей. Дедушка докуривает свои сигареты до бычка и сквозь огонь смотрит на Морроу, Икретта, Читли и Пола в Следующей Жизни. Дедушка — настоящий Суейн, сдержанный, незаметный, глубокий — все это влечет к себе ум Суейнов. И вот он уже на том самом месте, и ему хочется, чтобы немцы оказались немного более умелыми и прицелились на два дюйма правее — тогда пуля попала бы ему в сердце.
— Что ты сказала?
— В Хайфилде. Мистер Фиггс говорит, что Вергилий превосходен.
История повторяется. Вот и все. Картины все время возвращаются, что показывает или то, что люди не так уж сложны, или то, что Божье воображение просто возвращает Его тем же самым навязчивостям. Возможно, мы для Него лишь способ наладить отношения с Его Отцом.
Это Труднопостигаемо.
Но не потому, что Повествователь не умеет дать словесный образ. А потому, что Дедушка превращается в Прадедушку.
Он убирает длинные ноги от огня. Unbeknownst подошвы его ботинок приятно нагрелись, и когда он отодвигает свои длинные ноги прыгуна с шестом и ставит ступни на пол, то неожиданно чувствует небольшой ожог, чертовски жгучую боль, но он не выдаст себя и не отдаст своей жене маленькую победу в виде «Я же тебе говорила». Впрочем, Сарсфилд, более преданный из волкодавов, с беспокойством поднимает бровь, но Дедушка не выдаст секрета. Ему достаточно услышать слово «превосходен» — и, как говорили в те времена, шерсть у него на загривке встает дыбом.
— Превосходен? В чем это он превосходен?
Он очень не хочет, чтобы это слово было произнесено вслух, не хочет его слышать. То, что Суейны никогда, никогда, ни в коем случае не хвалят друг друга открыто и что им становится неудобно, когда они слышат, как другие хвалят их, — это уже стало афоризмом. Суейны хотят, чтобы их дети были превосходны, превзошли превосходное и остались незаметными.
Но в то же время Дедушка лишь в крайнем случае стерпит, если кто-нибудь скажет, что превосходство Вергилия пришло со стороны Киттерингов. Достаточно того, что Бабушка выиграла уже три раза.
— Во всем. Превосходен во всем. — Из-за своего высокомерия, какое Флобер назвал froideur[218], а в семейке Броудеров эту черту характера надо бы обозначить как Стервозность Класса А, Бабушка не может не добавить: — Это у него от моего отца.
Не успела последняя фраза выйти из ее уст, а Дедушка уже идет к двери на своих горячих подошвах.
— Вергилий! Вергилий, спускайся!
В Эшкрофт Хаус два этажа. (Теперь в том доме живет застройщик, но, как говорит Маргарет Кроу, он «сам себя разорил до банкротства».) Комнаты наверху слишком большие для детей, и в комнате Вергилия кровать и стол стоят у противоположных стен.
— Вергилий!
Мальчик поднимает голову от Теннисона[219] (великолепная книга в красном переплете и с золотым обрезом, Книга 444, «Произведения Альфреда Теннисона», Кигэн Пол, Тренч и Ко., 1 Патерностер Сквер, Лондон, внутри которой есть закладка с рекламой «Любое Количество Книг, 56 Чаринг Кросс Роуд»). Вергилий читает «Королевские идиллии»[220]. «Там я также созерцал Экскалибур[221], который держали перед ним на его коронации, меч, который поднялся из лона озера». Но когда отец зовет мальчика по имени, сердце Вергилия подпрыгивает. Он обладает очарованием маленького мальчика и устремляется вниз по большой лестнице. Он открывает и быстро закрывает дверь в Гостиную, тем самым высасывая из камина большое чистилищное облако дыма, окутывающее его родителей.
Бабушка Маргарет стреляет из пульверизатора.
— Расскажи-ка мне о Школе, Вергилий. Как идут дела? — спрашивает Авраам.
Мой отец понятия не имеет, что он — пушечное ядро. Он понятия не имеет, что им заряжают пушку, готовясь выстрелить в его мать.
— Хорошо.
— Хорошо?
Вергилий кивает.
— Мне там нравится.
Он улыбается — у него очаровательная улыбка большеглазого мальчика, которую я буду видеть у Энея.
— Ясно.
— Кажется, он очень хорош в латыни. Так мистер Фиггс говорит, — вмешивается Бабушка. У нее такая манера говорить о вас, которая заставляет вас казаться где-то в другом месте. Она делает паузу, прежде чем бросить в окно шепотом: — Точно так же хорош, как мой отец.
— Ясно. — Авраам поворачивается спиной-к-огню, руки за спиной, подбородок выдвинут и приподнят. — Тебе там трудно, Вергилий?
— Нет.
— Я же сказала тебе, Авраам. Он превосходен.
Бабушка не очень-то часто улыбалась. Она так и не приобрела навык выражать улыбкой удовлетворение. Она приступала к улыбке не с того конца и начинала с губ. Их уголки немного оттягивались назад, но глаза говорили что-то совсем другое.
Улыбка делает с Дедушкой это. На миг он останавливает взгляд на Вергилии, и внезапно кровь замирает в жилах Дедушки. Холодок ползет вверх по его спине. Тот же самый холодок, который был у него тем вечером в Ориэл Колледже. Тот холодок, за которым через три секунды последует поток тепла и вспышка вдохновения. У него нет сил остановиться или сопротивляться ему. Он смотрит на своего сына, видит в нем Смысл и понимает: вот оправдание тому, что он, Авраам, упал раненый в воронку; вот оправдание тому, что «Томми окей», потому что — хотя он сражался против этого с тех самых пор, как умер Преподобный, хотя он пытался поверить, что в этой жизни нет ничего, во что можно верить, — в конце концов Суейны не могут убежать от своего естества.
— Вергилий, — говорит Авраам, — ты не вернешься в Школу Хайфилд.
Брызги-брызги. Брызги-брызги-брызги.
— Что ты такое говоришь, Авраам?
— Эта школа больше ничему не сможет его научить.
— Не говори глупостей. Как тогда он будет учиться?
Бабушка снова растягивает губы в улыбке. На этот раз она вдобавок поднимает бровь в манере Полковника[222].
Дедушка не собирается уступать. Он не позволит, чтобы на него вот так была нацелена бровь.
— Закончим на этом, — говорит он и стреляет в поднятую бровь всем своим подбородком.
Бабушка отвечает обеими бровями; он отвечает ноздрями.
И вот Дедушка берет на себя обучение Вергилия, это решено. Пусть Бабушка занимается девочками — она уже ими занимается, — он же возьмется за Вергилия. У Дедушки будет один настоящий Суейн. Мой отец будет смыслом того, что пули прошли мимо сердца Авраама. Мальчик станет Избранным.
Для более глубокого проникновения в проблему с точки зрения лосося см. книги мистера Уиллиса Банда[223] «Проблемы Лосося» и «Жизнь Лосося»[224] (Книги 477 и 478, Сэмпсон Лоу и Ко., Лондон). С моей же точки зрения — продолжайте читать.
Пока Дедушкины сестры ходили в школу, процессия наставников моего отца прошествовала в Эшкрофт Хауз.
В некоторые дни, когда я совсем слабая, когда у меня нет сил подняться на подушку, когда дождь льется по окну в крыше и я хочу заснуть навсегда, они приходят навестить меня.
Мистер О. У. Торнтон.
Мистер Дж. Дж. Джерард, математик.
Мистер Айвор Нотон, латинский, греческий и классическая литература.
Молодой мистер Олд[225].
Старый мистер Эббинг[226].
Мистер Иеремия Льюис.
Они статисты. Все они были наняты и в конечном счете уволены — сразу после того, как делали фатальную ошибку, объявляя Вергилия блестящим.
Только один, мистер Фадриг МакГилл, производит неизгладимое впечатление. Только он приносит народные предания. Только он в слишком тесном черном костюме с торчащими вверх двумя пучками рыжих волос и пламенными глазами националиста излагает ирландскую мифологию. Учителя не всегда знают, в какой момент они Перегибают Палку. Но МакГилл знал. Он знал, что вошел в воображение Вергилия Суейна и поджег пламя, когда рассказал ему о мальчике[227], который влюбился в девочку по имени Эмер и сказал, что не будет обладать ею, пока не пройдет Невозможные Испытания. Мальчика послали в Шотландию изучать военное искусство под руководством воительницы Скатхах, что значит Тень. Скатхах-Тень жила веков за двадцать до Marvel Comics[228]. В то время Игры были на начальных стадиях разработки. Половина геймеров умерла. Быть шотландцем и воином означало, что Скатхах была сама жестокость. У нее не было Пульта, у нее был ястреб с когтями. Мальчика послали к ней, чтобы он научился, как достичь невозможного, и когда он научился, когда Скатхах провела его через все Уровни, показала ему все Уловки и записала его в Почетный список как Непревзойденного, как Игрока Номер Один Всех Времен, он возвратился и вошел в крепость, где под охраной жила Эмер.
Он вошел в крепость, идя по реке против течения.
Метод, который он использовал, был прыжками лосося.
Кроме шуток.
Вергилий испробовал его на себе. Однажды он ускользнул через черный ход в грубую, растущую пучками траву, похожую на зеленое море позади Эшкрофта. Он прижал руки к бокам, втянул живот, стал стройным, как лосось, вдохнул столько воздуха, сколько смог, и затем, повернув лицо к голубому небу, сильно выдохнул, выгнул спину, как лук, дугой и попытался прыгнуть вверх.
Может быть, это действительно сработало. Может быть, он унаследовал что-то от ног прыгуна с шестом. Он был уверен, что взлетел. Причем совершенно точно выше, чем если бы просто подпрыгнул. Да, точно, был некоторый подъем.
Это было началом. И Фадриг МакГилл, Сын Лиса, знал это. Но не знал, что его собственное положение было гарантировано в тот день, когда он сказал Дедушке, что Вергилий безнадежен в Ирландской Истории, Культуре и Языке.
Тем временем между мужем и женой началась настоящая битва. Обминание и Разглаживание давно в прошлом, теперь Бабушка покоряла новое поле сражения, где ее не превзошел бы Дедушка, и потому настроила девочек на достижение различных высот.
Фортепьяно было особенно любимым. Эстер, Пенелопу и Дафну учила миссис Мойра Хэкетт, чье чувство юмора уже не было в целости и сохранности. У нее в душе не было никакой музыки, и она с большим успехом использовала метод Ирландской Академии «линейкой по пальцам». Эти три девочки скоро могли выступать, сидя очень прямо, как фарфоровые фигурки пианисток, и линия спины была прекрасной, точно по отвесу, а плечи выпрямлены. Только их изогнутые, как когти, пальцы двигались, производя своего рода безупречную механическую музыку, лишь немного хуже, чем самые дешевые заводные музыкальные шкатулки. И вот однажды вечером, когда Авраам вернулся с рыбалки, его позвали в гостиную послушать последовательно одну за другой три версии Фантазии-Экспромта Шопена.
На следующий же день Вергилий начал учиться играть на фортепьяно.
Его три сестры начали учиться играть на скрипке.
Глава 11
Здесь мы делаем паузу, потому что Повествователь должен отправиться в Дублин.
Вообще-то я больше не выхожу на улицу. Это трудно объяснить. Если только вы не чувствовали этого сами, то как только такое слышите, то думаете: «Ох-ох», отводите взгляд, но тут же решаете «Она чокнутая, потому что ну кто же не выходит из дома?» Ну, извините меня, я-то не выхожу. Проехали. Когда я вернулась из университета, у меня появилось ужасное давление на грудь. Если я добиралась до парадной двери, мои ноги переставали работать. Вот и все. Я не могла дышать, возвращалась и присаживалась на подлокотник Бабушкиного кресла. Но ощущение не проходило. Несколько стаканов воды, воздух, глубокие вздохи, дыхание в бумажный пакет, в котором недавно хранили лук, прищипывания рук, ингалятор с «Виксом»[229], горячая вода с «Виксом», еще больше воздуха (обмахивание «Клэр Чемпионом» в качестве веера), еще вода (газированная), уксус, брызги лимонного сока и полный глоток виски — все это не делало погоды, как и небольшой парад психиатров-любителей нашего прихода, которые приходили, садились на мою кровать и играли в игру «Вопросы без ответов».
— Чего ты боишься, дорогая?
Я вас умоляю!
Но теперь я должна отправиться в Дублин. Великий День для Тимми и Пэки. Униформы поглажены, ботинки начищены, и Волосы встретились с Расческой. Будто мы собираемся на Всеирландский чемпионат, однако я увижу не парней в слишком коротких шортах и высоких, почти до колен, гольфах, какие носят в GAA[230], а Консультанта.
Давным-давно где-то в секретной комнате, как говорит Джимми Мак, корифеи Медицины решили, что лучший способ превратить консультантов в миллионеров состоит в том, чтобы их было примерно четыре на всю страну. Как только их становилось четверо, двери для остальных были закрыты. Поэтому требуется приблизительно десять лет, чтобы удалось проконсультироваться у одного из них. Консультанты мистические, как Волхвы, только наоборот — не они приходят, а вы должны прийти к ним. Вы должны находиться в Тяжелом Состоянии, чтобы вас направили к ним, и если так, то это почти конец дороги из желтого кирпича[231]. Мэри Хоулихэн в Ноке[232] уже три года как была похоронена, когда ее пригласили на консультацию. Ее муж Мэтти сказал, что у него было полное право выкопать и привезти ее тело, только Дигнэм, билетный контролер в Эннисе, вряд ли позволил бы ей проехать бесплатно.
Вниз по лестнице меня несут на носилках. Все время я пытаюсь дышать, но у меня такое чувство, будто я под водой.
— Все хорошо, милая, — говорит Мама. — Все хорошо.
Когда мы спустились с лестницы, она берет меня за руку. Тимми держит носилки у моей головы, Пэки — у ног, и я, будто в лодке, выплываю через парадную дверь.
Небо огромное и серое, как медуза, и в нем нет вообще никакого света. Есть только насыщенное водой пространство, из которого текут капли, пока мы идем через сад к машине «Скорой помощи».
Внутри стараниями Тимми и Пэки все блестит. Мама располагается возле меня. Вы видите в ней храбрость. Вы видите, что она не потерпит поражения, и несмотря на то, что мир бросал на нее печаль за печалью и сбивал с ног, она все еще справляется. Она старше, чем на самом деле, и на ее висках есть несколько серебристых волос, и в глазах — та особенная глубина мудрости, которая придает ей особую, непреходящую красоту. Будто она — предвечная Мать, моя Мама. Она будто дамба, удерживающая море, которое поднимается все выше, чтобы забрать меня. Я вижу это в ее глазах. Я вижу, как сильно она надеется, что, может быть, сейчас то самое время, что, может быть, уже Приходит Помощь.
Она надеется — и в то же время пытается не обольщаться надеждой.
И это самое печальное.
Надежда может быть — а может и не быть — Существом с Перьями[233]. Но у того Существа определенно есть Когти.
Мы уже покинули Фаху и едем по дороге, ведущей в Дублин, и поля вокруг нас просыпаются от сегодняшнего дождя. Сегодня это влажная серебристость, которая, как говорит Пэки, соответствует Четвертому Прерывистому режиму дворников, однако Тимми думает, что Пятому. Они говорят все время, пока мы едем. Если бы мы были на пути в Москву, то они тоже говорили бы всю дорогу.
Мне хорошо в машине «Скорой помощи», потому что, как ни крути, это что-то новенькое.
Беседа идет своим чередом. Мы еще не выехали за границы нашего округа и потому говорим о Фахе. О Мартине и Морин Рингах, чья дочь Ноель сбежала с одним из мусульман, живущих в Мейо, а именно с одним из Мясников Баллихониса[234]. О холостяках Братьях Хейз, им уже за шестьдесят, и каждый из них покупает по экземпляру «Чемпион», хотя они живут вместе в одноэтажном доме с тремя комнатами. Снаружи парадной двери братьев есть гора из чайных пакетиков, гигантская дымящаяся куча, которая, как предполагается, должна превратиться в компост на грядке перед домом, но сопротивляется из-за дождя, как говорит Тимми, и воздух, входящий в их парадную дверь, будто несет с собой особенный, резкий запах Индии в сезон муссонов. Если случится наводнение, то получится Ганг из чая, текущий вниз к дому МакКарти.
Разговор заходит про «Апостольские Труды»[235], участницам которых теперь за восемьдесят. Они все еще собираются в Национальной Школе Фахи в семь часов вечера в Первый Вторник месяца, и когда идут туда, освещая себе путь фонариками «Ever Ready», то издали кажется, будто в Фахе иллюминация. Эти почтенные дамы приняли решение объединиться с отрядом Легиона Марии[236], поскольку число Легионеров свелось к двум.
Потом обсуждаем новость — в среду Шон и Шелла Магуайр пошли на кладбище Фахи, чтобы выкопать своего дедушку, похороненного не в той могиле, и наткнулись на настоящую змею, воровато скользившую между участками Киарана Карра и Уны Лайонс, на ком он должен был жениться.
Вот и Перекресток. Видим Дэна Берна в черном костюме и сетчатой майке. Большой любитель визуальных эффектов, Дэн потерял свою рубашку на банковских инвестициях вскоре после того, как Банки прошли свой первый Стресс-Тест.
Каждая собака на улице знает, что наша страна в беде, говорит Пэки. При мне он удерживается от цветистых выражений.
Широкие масштабы становятся узкими, говорит Тимми.
Вот мы и на дороге, ведущей в Эннис, и вскоре подъезжаем к перекрестку с круговым движением, в центре которого возвышается Икар[237]. О нем идет разговор на протяжении последних двадцати миль. Раньше Икар стоял на Рынке, но ненадолго слетал в Грецию и возвратился ничуть не лучше прежнего, говорит Пэки. Нужно было немного постучать по нему молотком. На нем нет золотой эмали или чего-то такого, он не полностью Византийский, но он лучший грек графства Клэр, и люди вроде как любят его, даже если голый мужчина с растопыренными руками и широко расставленными ногами — это немного слишком для молодежи. Люди не отнеслись благожелательно к его крыльям, усеянным углублениями. Ныне он установлен в центре перекрестка на Рокки-Роуд, и есть камера видеонаблюдения, потому что, говорит Пэки, Парни уже сдали бы его на металлолом, если бы он был оставлен там без Присмотра.
— Они бы так и поступили, — говорит Тимми. — Но там ему во всяком случае лучше.
— Лучше.
— Когда он был на Рынке, ученики колледжа Святого Фланнана, что в Эннисе, всегда надевали пластиковый конус дорожного ограждения ему на голову.
— Да, было дело.
— Однажды на нем были лифчик и трусики.
— Такого я не видела.
— А в другой раз ему привязали конус на…
— Вот это я хорошо помню.
— Парни из Святого Фланнана.
— Впрочем, они хорошо играют в hurling.
— Они могут опять сделать это в нынешнем году.
— Не станут.
— Просто ты Фома неверующий. Но это твоя проблема.
Общенациональное обсуждение занимает все то время, что мы едем по новой автостраде, проложенной от Энниса до Дублина. И между короткими периодами неглубокой дремоты, которая приходит, пока я лежу, пристегнутая ремнями безопасности, я слышу: «Почему разрушена страна… Почему последняя толпа была худшей толпой, когда-либо управлявшей этой страной… Почему банкиры должны быть в тюрьме, а преступники на свободе… Почему мы никогда больше не увидим ничего подобного…»
— Лучшее, что мы могли бы сделать, — говорит Пэки, — это стать свободными.
— Что ты имеешь в виду?
— Только то, что сказал. Лучшее, что мы могли бы сделать как страна, это просто обрубить канат. Обрубить канат и уплыть.
У Консультанта нет офиса. У него Кабинет. У него по-настоящему хорошая мебель. Все журналы — за последний месяц. И обложки не измяты. Когда вы ждете Консультанта, вам на самом деле не хочется читать об этих Десяти Лучших Местах, где можно Поесть при Лунном свете.
Я сижу рядом с Мамой, и мы ждем. Я так устала, что даже не могу…
Играющие на фортепьяно Тетушки Пенелопа и Дафна навещают нас после смерти Тети Эстер. Мне одиннадцать лет. Об их визите объявляют заранее. Тетушки в этом плане ну очень консервативны. Наверное, они считают, что следует извещать заранее, чтобы горничные и слуги могли начать взбивать полы и натирать до блеска подушки[238]. Они воображают, что к их прибытию мы станем наводить лоск. Думаю, у них всего лишь благие намерения, но Бабушка Нони не верит в такое. Она полагает, что сестры моего отца — напудренные ведьмы, посланные с востока с единственной целью: опорочить людей запада.
В отличие от всех остальных, кто пользуется черным ходом, Тетушки появляются через парадный, заставляя щеколду кухонной двери казаться приспособлением злоумышленно отсталым.
Вот они уже здесь:
— Хэлло-о-о-о? Хэлло-о-о-о?
Они всматриваются и обе одновременно вертят головами, будто оказались слишком близко к панорамному киноэкрану. Они высокие, ширококостные и похожи на мужчин, играющих женские роли в пьесе Оскара Уайлда.
— Бабушка, сестры Вергилия приехали, — громко объявляет моя мать.
Но Бабушка уже знает и яростно тычет кочергой в огонь, пытаясь выкурить Тетушек из дома. Сейчас Бабушка выступает в роли Престарелого Родителя, только вредности у нее больше, чем у мистера Уэммика в «Больших надеждах», единственной книге, которую мой отец хранит в двух изданиях (Книги 180 и 400, издания Пингвин Классик и Эвримен Классикс, Лондон), обе книги я прочитала дважды, каждый раз решая, что «Большие надежды» — Величайшая Книга. Если вы не согласны, остановитесь здесь, возвратитесь и перечитайте эту книгу. Я буду ждать. Или к тому времени буду мертва.
Бабушка Бриджит, так Тетушки зовут Бабушку Нони.
— Бабушка Бриджит, здравствуйте, — окликают они.
Бабушка не отвечает, но машет «Чемпионом» на огонь и отправляет в комнату огромное вьющееся облако дыма.
В ответ, вроде как указывая на Бабушкину умственную отсталость и, как я полагаю, чтобы подтвердить превосходство генетики с их стороны семьи — и восточной части страны в целом, — Тетушки широко улыбаются, показывая все свои обалденно идеальные зубы.
— O, вот и Рут. Дорогая малышка Рут. Иди же сюда, моя милая, дай взглянуть на тебя. В этом лице так много интеллекта, не так ли, Дафна? И до чего ж интересное платье, дорогая.
Еще одно огромное облако торфяного дыма.
— Ну, Рут, подойди и расскажи нам все. Давай-ка посмотрим на тебя.
Что такого они видят? Я худая, но не как сильфиды[239], более долговязая, чем полагается для Красоты Суейнов, но я ощущаю себя как Стройную Рут. Мои колени на самом деле остры. В том возрасте я официально Жду Свою Грудь. Грудная Фея уже в пути из Бюстландии или еще откуда-то, и все девочки в моем классе засыпают вечером в особенном, у каждой своем, состоянии Большой Надежды, а утром просыпаются и проверяют «Ну что, уже?», а потом отводят плечи далеко назад и становятся грудью против всего мира, будто женственность требует от вас уравновесить груз, который ложится на вашу грудь и может легко опрокинуть вас.
Что, я полагаю, в некотором смысле верно.
Во всяком случае, Грудная Фея проходит мимо меня. Я все еще Жду. А потому, когда Тетушки смотрят на меня, то видят не так уж много того, чем я могу произвести впечатление.
Я усвоила — вы никогда не можете видеть себя так, как видят вас другие. Вы никогда не можете с уверенностью сказать, кто вы для них, — возможно, поймете это намного позже, но никак не сейчас. Вот как я сейчас думаю. Я стою и смотрю на моих тетушек. У них изумительные пальто и платья. Их платья сделаны из ткани, на которой цветочный орнамент приглушенных тонов выглядит так, как я видела лишь на обоях. У них на пальто огромные черные пуговицы, и когда Тетушки отдают свои пальто, мы чувствуем, что они тяжелые, как одеяла, и пахнут так, как пахнет в шкафу.
— Я уверена, что ты лучшая в своем классе, Рут, не так ли? Хорошая девочка, хорошая девочка. Ты такая умная девочка, что когда вырастешь, станешь обворожительной. Разве не так, Дафна? Она будет обворожительна.
— Обворожительна обворожительна обворожительна.
— Твоя мама сказала, что ты любишь читать. Правда?
— Да. Люблю.
— Конечно же любишь, потому что ты очень умна, ты маленький ангел. Если бы твоя бабушка была жива, она бы… Нет. Ничего, Пенелопа, я не… Я не…
— Носовой платок?
— Спасибо, Пенелопа.
— Мы привезли тебе подарок, дорогая.
— Правда?
— Специально для тебя.
Подарок — это книга в твердом переплете «Чувство и Чувствительность»[240] Джейн Остин, и на внутренней странице форзаца есть небольшая овальная черно-белая картинка — ее портрет с детским капором на голове и немного иронической улыбкой, будто Она Знает. Джейн знает, какие глупые, нечувствительные люди живут в мире сем, и это скрывается за каждым словом, которое она пишет. Взгляните на ее портрет — Она Знает. Я думаю, что и у Дорогой Джейн было немного Невозможного Стандарта, хотя, может быть, он не был таким уж невозможным, может быть, она просто рассчитывала на некоторую благопристойность и осведомленность.
— Это Джейн Остин, дорогая, — говорит Тетя П.
— Что? — спрашивает Бабушка, сидя у огня.
— ДЖЕЙН ОСТИН, — рявкает Тетя.
— ЭКСКЛЮЗИВ? — вопит в ответ Бабушка. — ДА, — и кивает, как и положено Престарелому Родителю.
Ни одна из моих тетушек, я убеждена, никогда не пила чай из кружки. Для них всегда достают фарфоровые чашки.
Тетушки Пенелопа и Дафна — на удивление неразлучны. Они всегда обмениваются взглядами — испуганными, тревожными или неодобрительными. Мир то и дело не отвечает их Невозможному Стандарту. Иногда я воображаю себе галерею их неудачливых кавалеров — широколицых фермеров графства Мит, облизанных коровами, но тщательно умывшихся и надевших твидовые костюмы ради вечера в Эшкрофте. Фамилии фермеров Каслбридж, Фарнс, Эйнсли. Сестры остры на язык и, когда гости ушли, смеются над каждым.
— Что за руки у него, ох уж и руки.
Это про Каслбриджа.
— Тебе не показалось, что он ужасно бормотал, дорогая? Могла ты его понять? А я нет. Может, ты в него влюбилась?
Это про Фарнса.
— По правде говоря, я никогда не видела, чтобы вилку так использовали.
Это про Эйнсли.
Поджатые губы, поднятые подбородки, выгнутые брови: каждая сестра уничтожает поклонника другой, будто ножницами режет бумажную куклу. Никто из гостей не дотягивает до стандарта, решают сестры, и их души выбирают общество друг друга как наилучшее.
Так Тетушки стали парой.
— А это…
— Домашний торт, — говорит Мама.
— Домашний торт. Пирог, да. Ясно. Яблочный?
— Ревенный.
— Ревенный. Ну, хорошо. Ревень, Дафна.
— Да. Ревень.
От предрасположения или от скупости, как говорит Бабушка, тети — худощавые женщины. Когда они берут чашки чая, делают это только большим и указательным пальцами, остальные три вытянуты веером для баланса и изящества. Они чуть наклоняются вперед, брови их подняты, губы сжаты в самый маленький сморщенный комочек, они потягивают потрясающее темное варево, которое сделала моя мать.
— Ревень? Ну-ну, хорошо, Дафна.
Папа приходит поздно. Не сняв высокие резиновые сапоги, он входит в кухню, и происходит внезапное волнение. Его сестры взлетают, как воронья стая.
— О Вергилий. — Они порхают вокруг него несколько мгновений. — Вергилий, ты похудел? Что это на тебе надето? — Вопросами Тетушки выказывают свою любовь.
Мой папа немного смущен.
Тот человек — океан эмоций, как сказал Джимми Мак.
Зная, что тетушки собирались приехать, Мама привела все в порядок, как только смогла. Убрала кучу вещей в шкаф, спрятала чайные полотенца, которые мы обычно используем, и достала кремовые, какие я никогда не видела — на время Посещения была спрятана Нормальная Жизнь нашего дома. Мне это в некотором роде нравится. Есть ощущение события. И вот мой папа стоит в своих сапогах и видит, каким опрятным стал дом, приготовленный для его сестер. Он понимает, как много усилий приложили Мама и я, и в его глазах такое сияние, какое появляется, когда чувства, словно волны, поднимаются в его сердце.
— О Вергилий, ты похудел?
Мой отец всегда был худым, и его волосы всегда были серебристыми. Его глаза были синими-синими, такими, какой выглядит вода, когда над ней, как вам кажется, на небосводе вы видите Небеса. В моем уме худоба, и серебристость, и синева — все они были связаны между собой.
— Он же и вправду похудел, да, Дафна?
Тетушка Д резко дергает своим носиком-клювом. Она хочет быть более милой, чем ее сестра; она хочет говорить со своим братом в его мире, и потому весь путь через Ирландию она обдумывала то, что скажет. Теперь она делает наилучшую улыбку, вовлекающую нарисованные брови, и спрашивает:
— Как идут дела у твоих коров, дорогой?
Мужчины скрытны. Это я уже усвоила. Они — целые континенты частной жизни; вы можете дойти только до границы; вы можете заглянуть за нее, но не сможете войти. Это я крепко усвоила. Все это время Эней сидит на узкой лестнице, которая проходит над шкафом к нашим спальням. Он сломал ногу, когда упал с платана[241], и сидит наверху, будто на насесте. Его загипсованная нога покоится перед ним, и он смотрит и слушает. У него улыбка, которую люди описывают как обаятельную, — обаятельная улыбка, которая притягивает вас к нему, вы просто любите его, несмотря ни на что.
— О, быть не может, Эн… ус, — говорит Тетушка П.
Она так и не научилась произносить его имя, а потому соединяет Энеас и Энгус[242]. Она немного удивлена, что он был там все время, но не сердится, потому что вы не можете сердиться на Энея, вы не можете сердиться на его улыбку. Вы видите золотые волосы и улыбку, и некоторая часть вас вроде как успокаивается, будто вы знаете, что он не такой, как все, что он особенный. Не хочу сказать, что, как представляют некоторые, это что-то плохое, я имею в виду нечто противоположное, — будто вы испытываете некое благоговение, «O, мой Бог». Вы смотрите на него и думаете «золотой мальчик».
— О, так вон ты где. Спускайся к нам и расскажи твоим тетушкам о себе все.
Мы ехали четыре часа, чтобы попасть к Консультанту. Мы пробыли у него тридцать три минуты.
Что-то в твоей крови не то, сказал он.
И мы поехали обратно через полстраны в машине «Скорой помощи». Мама держала меня за руку, Тимми и Пэки не говорили вообще. Дневной свет ушел, и дорога была длинной извилистой рекой в желтом свете фар, которая вела нас домой, на запад.
Миновав Типперери[243], мы вернулись в дождь.
Глава 12
Ваша кровь — река.
Глава 13
На рассвете четырнадцатого дня рождения моего отца Авраам появляется в большой, продуваемой насквозь спальне и трясет сына, чтобы разбудить.
— Вставай.
Вергилий моментально одевается, быстро сбегает по лестнице и в мгновение ока оказывается в кухне, застегивая последние пуговицы. Авраам уже упаковал их ланч — мешанину хлеба, спреда, маринованных огурцов, сыра и яблок.
Они натягивают высокие сапоги. Встряхнув жестянку с мушками, Авраам по-особенному вздергивает голову и выходит через парадную дверь, стуча сапогами так, что грохот врывается в сны его дочерей, спящих наверху, и спугивает стаю черных дроздов с лужайки перед домом.
Стоит тихое туманное утро, временами моросит дождь, поля раскинулись в серебряном убранстве, будто спустившемся с Небес, воздух напоен ароматом зеленых молодых листьев, еще липких. Отец и сын, подняв к небу удочки, направляются к реке. Некоторое время они идут по дороге, раздается лишь тихий, глухой топот их сапог да позвякивает металлическая застежка Дедушкиной сумки, висящей на длинном ремне через плечо.
Они идут уже довольно долго, когда Дедушка произносит:
— Я пою[244].
Он не замедляет шага, не сбивается с ноги и даже искоса не глядит на сына.
Мой отец не уверен, что расслышал. Пока Дедушкины ноги прыгуна с шестом несут его на два шага, Вергилию приходилось делать целых три. Он всегда идет немного позади своего старика. А сейчас смотрит на Авраама, который, не оглядываясь, продолжает идти вперед, и, не задав ни одного вопроса, не сделав никакого комментария, отзывается:
— Я внемлю первозданной италийской речи[245].
Так, продолжая играть в «Энеиду», они идут, но уже не по дороге, а напрямик через поля графства Мит.
Пресытившись латынью, Дедушка начинает:
— О, если б только эта плоть во мраке…
И Вергилий подхватывает:
— …могла сама исчезнуть, раствориться и росой предстать[246].
Он знает пять монологов Гамлета наизусть. Он может перейти от «плоти во мраке» к «изгоям и рабам»[247] при любых обстоятельствах. И еще учит четыре из «Макбета».
Дедушка не останавливается. Он не смотрит на сына, не выказывает удивления, но где-то внутри, где-то в Суейновском Недостижимом, в неизвестных глубинах, где хранится его блестящая юность, проведенная в Ориэл Колледже, где-то там, я знаю, его душа радуется.
Тучный скот графства Мит, вырывая языками первую весеннюю травку, настоящую, сочную, поднимает взгляд и следит за тем, как мимо проходят Гамлет и Его Отец.
Мой отец чувствует себя на Небесах в их новой версии. У него нет времени на раздумья, счастлив ли он потому, что спешит по дороге за своим отцом на рассвете, или потому, что Авраам позвал его с собой и что теперь все происходит на самом деле, или потому, что отец попросил произнести строки Шекспира, и фразы, похожие на золотую нить, выходят из его рта даже прежде, чем у него есть время вспомнить их. Слова звучат, текут. Он старается не отставать от отца, и вот он идет рядом с ним, и шаги Вергилия такие же длинные, как шаги Авраама, когда тот готовился прыгнуть с шестом.
Каким-то особым образом в этом самом моменте заключена вся жизнь моего отца — все будущие годы, и все стихи, и все восторги, и страстные желания, и печали.
Авраам больше ничего не говорит, но мой папа знает, что его отец все слышал. Он знает, что достиг своего рода совершенства. Утренний свет, и удочки через плечо, и искрящиеся поля, и суматошная веселость птичьих голосов — все это входит в Вергилия и оставляет вечное сияние глубоко в его душе. Он знает это. Думаю, ради таких вот моментов отец и сын спешат к реке, торопясь забросить удочку, забывая об остальном мире, пересекая плодородные поля Фицгербертов, простирающихся до темного потока вод. В такие вот моменты Вергилий Суейн достигает Невозможного Стандарта.
Вечером того же дня Дедушка возвращается в Эшкрофт Хаус, достает пачку бумаги из верхнего ящика стола, макает перо в чернильницу и пишет первое предложение своей книги «Лосось в Ирландии»: «Ирландия — сущий рай для тех, кто ловит лосося на удочку».
Глава 14
Как сказал мне мой отец, в тот день они поймали лосося.
Думаю, воображаемого, но вслух я этого не сказала.
Взглянув на мое лицо, отец смог понять:
— О, Рути, ты ничему не веришь.
Он сказал это и скорчил рожицу, как разочарованный маленький мальчик.
Я верю, Папа. Верю. Я верю всему.
— Рут, — говорит миссис Куинти. — Мне так жаль.
Ее лицо меньше, а глаза больше, чем бывали когда-либо. Она держит их широко открытыми, чтобы сдержать слезы. В ее взгляде новость о том, что с моей кровью что-то пошло не так.
— Да все в порядке, миссис Куинти.
— Жизнь так несправедлива.
А вот на это мне нечего ответить. То, насколько Жизнь несправедлива, описано в «Истории Суейнов», Тома 1–20. Не только несправедлива, еще и возмутительна. Она тяжелее, чем все, что вы могли бы вообразить, и вдобавок Она Не Имеет Никакого Смысла. Бог призывает вас — и затем меняет Свои намерения. Немцы стреляют в вас — потом спасают вас. Вы пытаетесь умереть спокойно — но кто-то дает вам шанс.
— Смотри, что я принесла тебе, — говорит миссис Куинти. — На этой кассете «Побег из Шоушенка»[248].
(Я уже говорила вам, что у меня в комнате есть телевизор? Джимми Мак провел кабель через щель между половицами, чтобы я могла смотреть «Домой и в путь»[249]. И хоть я и Умная Девочка, изучала Томаса Уайетта[250] — «они убегают от меня, а раньше домогались меня»[251] и Филипа Сидни[252], и целую Бригаду Поэтов в Чулках с Подвязками[253], — я люблю переноситься к антиподам[254] на пляжи Сиднея. Только тогда я вижу солнце.)
— Спасибо, миссис Куинти.
— Сама-то я его не смотрела, но миссис Куинлэвин говорит, что это хороший фильм. Она показала его ученикам Переходного года[255], так те даже притихли.
— Потому что это фильм о невозможном спасении.
— Что ж, — говорит она, — может, не будет никакой пользы.
— Миссис Куинти?
— Да, Рут?
— Вы когда-либо слышали о том, как человек отделился от своей тени[256]? Он отделяется от нее и всю остальную часть повествования пытается поймать и вернуть ее себе. Что-то вроде этого.
Примерно через месяц после того, как приезжали Тетушки, по почте пришел пакет: оберточная бумага, аккуратно перевязанная бечевкой, и в ней смешанная компания Шарлотты Бронте, миссис Элизабет Гаскелл[257] и довольно объемистый, я бы сказала, содержательный, Томас Харди, лежащий между ними. Я проглатывала все эти книги одну за другой со своеобразным постоянным голодом, будто они были яблоками, которые насыщали вас и в то же время делали голодными. Могу признаться — ничто не доставляло мне такого удовольствия, как то, что те книги находились в моей комнате под самой крышей. Возможно, так было потому, что я знала — Это книги для Суейнов. Возможно, потому — и это сущая правда, — что в глубине души я Задавака Рут и не хотела быть МакКарролл, или потому, что было нечто привлекательное в Философии Невозможного Стандарта. Так что когда мне говорят, что эти книги выше моего понимания, это означает, что они те самые, какие мне хотелось прочитать и какие я на самом деле прочитала. То, что Сестра Маргарет-Мэри в Килки[258] сделала для посещения Мессы, я сделала для чтения — Стандарт Чемпионов Мира. Когда мне было восемь лет, Мама повезла меня в Эннис, чтобы купить мне мои первые очки, и самый первый вопрос, который нам задали, был:
— Она много читает?
Будто это был Знак Свыше, будто он мне в лицо сказал «Умная Девочка», и когда я получила очки и надела их в школу, вы могли бы поклясться, что я была Маленькой мисс Фарфоровое-личико, и Джейн Броудер — она сама себя выбрала Матерью Наседкой нашего класса, и у нее уже в возрасте восьми лет были энциклопедические знания о Вещах, Которые Могли У Вас Пойти Не Так, — вроде как отгородила меня и кричала всем, кто приближался ко мне ближе чем на десять футов[259]:
— Осторожно! У нее очки!
Я была просто чуть более деликатной, чем другие, или менее тщеславной, или менее претенциозной, что ли, или какой-то там еще, потому что были и другие, которые не могли хорошо видеть, другие, которые, как вы замечали, прищуривались или заглядывали в чужие тетрадки, когда надо было что-то списать с доски. Но те другие не позволяли портить свою красоту очками в толстой коричневой оправе. И эти самые очки, как решил Комитет по Здравоохранению Среднего Запада, были наилучшим антимальчиковым устройством, какое только можно придумать, либо родители тех девочек не думали, что зрение так важно для их дочек.
В Фахе было легко отличаться от других. Одно время Тетушки присылали мне желтые атласные шлепанцы, и когда я надевала их к Мессе, можно было почувствовать, что вся церковь заметила их, а Мэри Мэлони подумала «Протестантская Обувь» и «Понятия Суейнов», начала содрогаться в своем прекрасном пальто и кашлять так, будто негодование стояло у нее в горле большим комком шерсти, а потом, между Офферторием и Консекрацией[260], нашла утешение в мысли, что через день шлепанцы станут грязными. Я посмотрела на нее и поняла. Такая уж я девочка, все замечаю. Но из-за этого я не перестала бы носить их. Я все же очень Суейн. Я все же очень похожа на Папу с каким-то его глупым упрямством или силой воли, а это ему, должно быть, понадобилось, чтобы прибыть сюда с таким именем, как Вергилий Суейн, к тому же он говорил на латинском языке, ведь первый вопрос, который тогда задавали, был только:
— Суейн?
И этого достаточно. В одном этом слове заключено целое повествование. Не то, что сейчас, когда есть такие фамилии, как Квятковский, Сека и Паулав; а в то время наихудшим для человека было бы сказать: «Неподходящий». Когда вы отличаетесь от других, вы можете выбрать одно из двух — либо выделиться, либо отступить.
Я уже отличаюсь, потому что я близняшка. Забавно, если вы можете сказать:
— Я близняшка.
Я не одна из близнецов, но я на самом деле Близняшка.
Будто бы все время есть две меня, и та, другая, прямо здесь, рядом, и не имеет значения, видите вы ее или нет.
Можно еще сказать, что я — Половина.
Как бы то ни было, в нашем округе близнецов не воспринимают правильно, то есть как понятие. До нас были идентичные близнецы Консепта и Ассампта[261] Тэлти, чьи имена каким-то образом слились в умах местных жителей в одно имя Консампта; ту, кого встречали, называли этим именем, а если сестры были вместе, то им говорили «Привет, Консампта!», и девочки отвечали «Привет!». В нашем округе случаются странные вещи. Мэри Хегарти катала детскую коляску по деревне в течение девяти лет после того, как ее сын Шони умер во младенчестве, и никто так и не сказал ей: «Мэри, твоя коляска пуста».
Люди просто оставляли все как есть, и она катала свое горе по деревне и по проселочным дорогам у реки, куда все горе и стекает.
Во главе Национальной школы Фахи стояла миссис Конхиди. Она приехала из какой-то гористой местности графства Керри, и я скажу лишь одно — когда я впервые увидела ее, то подумала, что она мистер Конхиди. Я знаю, это невежливо, но когда вы находитесь в моем положении с чем-то в крови, у вас есть Особые Привилегии, и первая из них — вы можете говорить правду. У миссис Конхиди лицо было похоже на брюкву. А плечи такие, что вы легко могли вообразить, как она запросто взваливает на них овцу. Там, откуда она приехала, не было никаких стоматологов. Она была последней поклонницей Кримплена, практичной ткани, которая не могла ни сморщиться, ни полинять и которая бросила вызов и времени, и человечеству — всегда выглядела одинаково. Платья миссис Конхиди всегда были с длинной застежкой-молнией вдоль спины от самой шеи. На молнии был язычок с небольшим квадратным отверстием, который миссис Конхиди всегда оставляла торчащим вверх, будто у нее была тайная надежда, что однажды с неба спустится крючок и заберет ее. Я, конечно, надеялась, что так и случится. Джимми Мак сказал, что миссис Конхиди Стала Учительницей, потому что школа была единственным местом, где она могла править без опасения получить отпор и где она могла дать волю своей потрясающе огромной потребности крушить вещи. Мистер Конхиди, видимо, наслаждался этим в первые три месяца их брака, но потом сбежал, чтобы, как сказала Бабушка, в следующий раз попытаться найти миссис Конхиди настоящего женского пола.
— Рут и Энгус Суейн, идите сюда.
— Да, мисс.
Эней подарил ей Обаятельную Улыбку в Полную Силу. Он немного наклонил голову, так, чтобы челка дивных светлых волос увеличила воздействие общего очарования. Он перешел к состоянию Полной Лучезарности. Но это не сработало.
— Рут, ты будешь в классе мисс Барри. Ты, Энгус, будешь в классе мистера Кроссана.
Мы с братом даже не взглянули друг на друга. Не сказали ни слова. Мы просто стояли с ощущением, будто нас отрезали друг от друга.
Вы не можете этого понять. Возможно, вы сможете вообразить, но не сможете понять то, как это чувствуется у вас в крови.
— Мисс?
— Теперь идите. Класс мисс Барри. Класс мистера Кроссана.
— Нельзя ли мне остаться с моим братом?
— Нет. Нельзя.
— Пожалуйста, мисс.
— Никаких «Пожалуйста, мисс». Мисс Барри, мистер Кроссан. Сейчас же. Так будет лучше для вас обоих.
Никогда не забуду, как шла по коридору после того, как мы вышли из ее кабинета. Никогда не забуду липкого воздуха и гула неясных учительских голосов, доносящихся из классов. Казалось, мы выскользнули из мира, а вся эта деятельность продолжалась. Была половина одиннадцатого утра, и был обычный понедельник, и все были на своих местах за дверями, кроме нас. На потолке коридора были квадратные куполообразные световые люки, и солнечный свет стоял столбами, и в них плясали пылинки и какие-то частицы, которые нельзя увидеть при других обстоятельствах. Казалось, мы пересекаем некую границу и пока движемся, не находимся ни в одном мире, ни в другом. Один столб солнечного света закрывал собой другой. И я, возможно, осознавала, что все меняется, что я теряю брата, что в этот момент он начинает ускользать от меня. Возможно, в том шествовании по коридору я могла ощущать, как покидают нас летние дни, совместные игры в полях за нашим домом и на Большом Лугу, прятки среди тюков, наше с Энеем лазанье по деревьям. И еще то, как я излагаю брату Версию Рут того, о чем прочитала в книгах, и то, как мы перекликаемся через верхние слои атмосферы, ведь мы на самой верхотуре, — я на своей кровати под небом, он на своей:
— Ты уже спишь?
— А ты?
Я дотянулась и взяла Энея за руку. Я попробовала применить свою уловку под названием Заставить Все Остановиться, чтобы «все» просто осталось с нами, плавая в столбе солнечного света, там, где перемены до него не смогут добраться.
Это покажется вам такой мелочью. Даже может быть, что вы на стороне Конхиди и полагаете, что Так Будет Лучше. Так говорится во многих книгах — Близнецов Надо Разлучить.
Но такого нет ни в одной из книг, написанных близнецами.
Миссис Конхиди вышла из своего кабинета.
— Рут Суейн, хватит валять дурака. Живо в класс.
Я отпустила руку Энея. Он посмотрел на меня. Улыбнулся одной из тех храбрых улыбок, какими улыбаются маленькие мальчики. Но он был напуган.
Я помню ощущение от холодной ручки двери, ведущей в класс. Я помню, как Эней прошел мимо меня — туда, в класс мистера Кроссана — и не обернулся, а я смотрела, как он идет, думала «Я люблю брата» и чувствовала ту безнадежную утрату, для описания которой в тот момент у меня не было слов, и лишь много позже я нашла в сказке слово «изгнание».
Мисс Барри была ангелом. За все проведенное мной в школе время у меня было четырнадцать учителей. И только мисс Барри была ангелом.
В тот день Эней не сказал мне ни слова о мистере Кроссане. Когда он вышел во двор, то остался на краю группы мальчиков. Они толкали друг друга и громко кричали, он пытался присоединиться к ним — просто вроде как несмело шел немного позади них, пытаясь найти клей, которого, как он только что обнаружил, у него не было. У меня тоже не было. Зайдите в любой школьный двор на перемене, посмотрите и увидите сами. Увидите тех, у кого нет Человеческого Клея, кто выбегает в первый день, преисполненный прекрасным неиспорченным оптимизмом и доверием, и все еще думает о каждом мальчике и девочке как о своем неизвестном друге и верит в то, Как Нам Вместе Будет Весело. Но на том же школьном дворе, в тот же первый день, уже есть кто-нибудь, возникший из злых генов таких людей, как Майкл Муни, или генов Наседки, как Джейн Броудер, и эти люди чувствуют, что от вас исходит нечто, чувствуют то отличие, а вы даже не подозреваете, что оно от вас исходит, и — бум! — вас отторгли, вы не можете быть приняты. Стайка детей бежит по двору, и вы бежите тоже, но это похоже на сигнал, данный на той длине волны, какую вы не приняли вовремя, и потому вы отстаете на несколько шагов. Посмотрите на фотографии класса Энея, и вы поймете. Его будто прифотошопили, вокруг него есть белая полоска, и нет никакого Человеческого Клея.
Я наблюдала за ним в тот день, хотя и стала Девочкой-В-Очках. И думала «Ладно, если я должна быть на своем собственном острове, я сделаю так, чтобы Эней присоединился ко мне».
Остров Суейн меня бы вполне устроил. Но когда я пошла через двор со стороны Девочек к стороне Мальчиков, чтобы поговорить с братом, он отвернулся. Он не хотел смотреть на меня. Он не хотел быть спасенным.
— Отделился от своей тени? — спрашивает миссис Куинти.
— Да.
— Нет. Нет, Рут. Не думаю, что знаю такую сказку.
Глава 15
Если ваша кровь — река, то где море?
Центральный принцип, лежащий в основе Правил миссис Куинти для Стиля Литературного Творчества, состоит в том, что у вас должны быть Начало, Середина и Конец. Если у вас их нет, ваш Читатель Потерялся.
— Но что, если он Потерялся точно там, где и писатель? — спросила я у нее.
— Рут, писатель не может потеряться, — ответила она, тут же поняла, что ответила слишком быстро, и прикусила губу, зная, что я собиралась сказать что-то о Папе. Она прижала колени друг к другу и зашлась в припадке сухого кашля.
Это, Дорогой Читатель, речной рассказ. Я выбрала стиль «Меандр»[262]. Знаю, что в «Братьях Карамазовых» (Книга 1777, Пингвин Классикс, Лондон) Ипполит Кириллович выбрал историческую форму повествования, поскольку Достоевский сказал, что это проверило его собственную буйную риторику. Начала, середины и концы принудительно помещают вас в то место, где вы должны Придерживаться Повествования, как сказал Мейв Малви в тот вечер, когда получившие Сертификат Младшего Цикла Средней Школы[263] должны были пойти в кино в Эннисе, но покупали напитки в алюминиевых банках в Даннесе[264] и пили на парковке Парнелл Стрит, и миссис Пендер видела, что Грайне Хейз прилипла к покрытым слоем соли-и-уксуса губам какого-то прыщавого и тощего, как жердь, парня у Высотки[265], и на Грайне было более чем достаточно карандаша для глаз и туши, из-за чего она выглядела, как диснеевский барсук, а юбка микромини была не больше двух дюймов[266] и выглядела, как кусок черной пластиковой обертки для силоса, и все эти события требовали выбрать историческую форму и Придерживаться Повествования с того момента, как Грайне Хейз вышла из дома Хейзов ранее тем вечером в джинсах и худи. Но есть и другой способ Придерживаться Повествования, какой досаждает вам, действует на нервы, раздражает вас. Это бывает, когда вы погрузились в реку, потом вышли на берег, приняли душ и вытерлись досуха, но ощущение все еще там, и вы не можете забыть, что были в реке. Вот, например, день, когда Мама повела меня и Энея в цирк. Цирк Даффи[267] каждое лето приезжал в Фаху с тех пор, как Даффи в первый раз купил верблюда, и располагался на поле Гэльской атлетической ассоциации в гигантской желтой палатке, пахнущей магией, если магию считать слоновьим навозом, сеном и табаком. Эта палатка становилась домом для экзотической коллекции мух, мотыльков и комаров, и я представляла себе, как эти насекомые вращаются вокруг головы Мелькиадеса, когда несколько лет спустя читала отцовский экземпляр книги с пожелтевшими страницами «Сто Лет Одиночества» (Книга 2000, Габриэль Гарсия Маркес[268], Пикадор, Лондон), тот самый, в котором есть надпись «A mi amigo V, que me ha enseñado un nuevo modo de entender la vida, Paco»[269], но я так никогда и не узнала, кем был этот Пако, или какой новый образ жизни В преподал ему.
Цирк Даффи приезжал, пока животные не одряхлели, и даже через год после того. Их двугорбый верблюд уже едва таскал ноги, и его номер состоял в том, что он стоял неподвижно, когда вам разрешали погладить его грубую волосатую кожу, которая на ощупь была точно такой, как волосатый диван, купленный Малвейсами в магазине Бродерика в Килленене[270]. (Как только цирк Даффи уехал, приехал Большой Американский Цирк со звездами и полосами, нарисованными на чем только можно было, и с безупречным акцентом Маллингара[271], но к тому времени, как ни прискорбно, я уже была Вне Цирков.) Мы с Энеем садимся в первом ряду. Трапеция высоко над нами. Мы откидываемся назад, чтобы видеть блестящую девочку. На вид ей лет четырнадцать. Нам семь. Бочкообразный человек с усами, про которого мы думаем, что это и есть Даффи, ударяет в тарелки, и лицо у него блестит, будто лакированное, — совсем как у мистера Майкобера после того, как он выпьет пунш. Усатый человек выгибает шею назад, чтобы повнимательнее взглянуть вверх, и вот девочка идет по воздуху над нами. Мы не видим каната, по которому она ступает. Для нас она просто идет по пустоте, ее руки вытянуты в стороны для равновесия, подбородок слегка приподнят, будто Монахини оказались правы, и только прекрасная осанка приводит вас на Небеса. Девочка идет прямо над нашими головами, не обращая внимания на людей внизу. Эней поворачивается ко мне, его глаза широко раскрыты от изумления. Он ничего не говорит. Не говорит «Ух ты», или «Боже», или «Ты видишь ее?». Он знает, что ему и не надо ничего мне говорить. Он просто смотрит и улыбается, и я улыбаюсь, и, не задумываясь, он сжимает мою руку, одно быстрое пожатие просто от радости, и затем отпускает мою руку, и мы вместе смотрим на ту невозможную девочку.
И вот мгновение разворачивается, ускользает от меня и уходит вниз по реке. Вниз по течению моего повествования все что угодно будет плыть на поверхности воды. Но не мистер Кроссан. Я утоплю его прямо здесь. И если Бог спросит о причине, я назову ее. Я скажу Ему, что мистер Кроссан состоял из двух ярдов[272] костей, увенчанных веточкой имбиря, он был занудой с крысиным лицом и узкой челюстью, у него был сдавленный писк вместо голоса, голова набок, в ноздрях видны похожие на проволоку волосы, когда он смотрит вниз на того, кого выбрал сегодня для унижения; я предоставлю Богу Гордость и Предубеждение мистера Кроссана, этого тощего волдыря в блестящем костюме с лицом цвета сырого фарша, пошедшего в учителя для того, чтобы иметь возможность унижать других, говоря:
— Энгус[273] Суейн, разве это почерк? Скажи мне. Не могу разобрать. Это почерк? ЭТО ПОЧЕРК?
Были у меня тупые учителя, ленивые учителя, скучные учителя, учителя, которые ими стали, потому что у них учителями были родители, а детям этих родителей не хватило воображения подумать о каком-либо другом занятии; учителя, которые стали ими из трусости, из страха, из-за каникул, из-за пенсий; из-за того, что учителей никогда не привлекают к ответственности; из-за того, что никогда не должны на самом деле быть справедливыми; а еще в учителя пошли те, кто не мог выжить ни в какой другой профессии, кто не понимал, что они наступили на бабочек. Но ни один из тех учителей не выдержал бы сравнения с мистером Морисом Кроссаном — именно он начал топтать душу моего брата. Он был темным, как говорят здесь. Для тех, кто хочет больше узнать о нем, зайдите в гости к темному персонажу по имени Долдж Орлик в «Больших надеждах» и скрестите его с рыжеволосой скользкой крысой.
Но Морис Кроссан сюда не проникнет. Его нет в Ковчеге.
Прозвенел звонок. Я ждала Энея у ворот. Он подошел, и стало понятно — ему не хочется видеть меня. Он прошел мимо, и я поняла, что должна молча идти за ним. Когда мы пришли домой, у Мамы был накрыт стол, и у нее на лице была одна из тех натянутых улыбок, какие бывают у матерей, когда они весь день сильно надеются, что у их детей все будет хорошо, и надежда дает им точку опоры в борьбе со страхом и дурными предчувствиями, хотя на самом деле в их душах ужасная неразбериха, а улыбка всего лишь приклеена поверх нее.
— Ну? Как все прошло?
— Хорошо, — сказал Эней.
Так обстоит дело с мальчишками. Возможно, только с ирландскими. У мальчиков есть Запретные Зоны, у них есть вся география мест, куда вы не можете пойти, потому что если вы только сунетесь туда, мальчишечья раковина даст трещину, и они сами развалятся на части, которые вы больше никогда не сможете сложить вместе. Девочки знают это. Мы знаем. Даже любовь не может проникнуть в некоторые места.
Эней сказал «Хорошо», хотя не было вообще никакой возможности, что с ним все было хорошо — ведь от истинного описания того, что он чувствовал, это было так далеко, как только возможно. Но было именно так. Больше он не произнес ни слова, и Мама почти незаметно прикусила губу, налила нам MiWadi[274] и сказала, что у нее есть Petit Filous[275] — любимый десерт Энея. Он съел обед. И не захотел Petit Filous. Поднялся в свою комнату и закрыл дверь. Когда я подошла к его комнате и спросила, не хочет ли он учить правописание вместе со мной, он ответил «Нет». Я сидела в своей комнате под небом, он сидел в своей. Потом я услышала, как он плачет. Сначала — сдавленное дыхание. Похожее на то, какое бывает после того, как вы ушли глубоко под воду и с ужасом почувствовали, что жизнь уходит от вас, и вы выныриваете на воздух, выпучив глаза и задыхаясь, хватаете ртом воздух, чувствуя, что вам пришел конец и вас опять затянет назад, в глубину. Он судорожно втягивал воздух, потом застонал и издал тот звук, который не был похож ни на что, кроме звука, который издает дух, когда отделяется от тела.
— Эней, впусти меня. Эней?
Он не ответил. Просто продолжал плакать, и были слышны мучительные, полные безнадежности рвотные позывы, будто слезы были осколками, и каждый оставлял порез, когда выходил из глаза. Эней сидел на полу, прислонившись к двери, и потому я не могла войти, а Мама повела Бабушку к Мерфи, и я просто опустилась на пол с другой стороны двери, и из-за силы его плача дверь и перегородка вздрагивали, качались, будто на всем втором этаже бушевал шторм, и мой брат был в другой лодке, уплывающей вдаль, и как бы я ни старалась добраться до него, что бы ни делала и ни говорила, все это было бы напрасно — я чувствовала, что никогда не смогу добраться до него.
Мистер МакГилл был настоящим учителем. Он-то и познакомил моего отца с Королем-Под-Волной. У мистера МакГилла была старая книга сказок (Книга 390, «Ирландские героические сказки», Джеремия Кертин, Литтл, Браун, Бостон) — такие в то время уже вышли из моды, но он использовал их, чтобы воображение моего отца оставалось ярким. Он не хотел, чтобы мой отец изучал только Шекспира и Гомера. Я не знаю, объяснил ли он Вергилию, что Шекспир был ирландцем (см. Книгу 1904, «Улисс», Джеймс Джойс[276], Бодли Хед, Лондон)[277], и что на самом деле корни всех великих писателей могут быть прослежены до Ирландии, если вы пройдете достаточно далеко, но вселил в моего отца убеждение, что Ирландия — страна, не имеющая себе равных в том, что касается воображения, фантазии и культуры. Мистер МакГилл вываливал мифологические имена, какие его ученик никогда не слышал, и каждое было экзотической наживкой, которую — в этом мистер МакГилл был уверен, — мальчик должен был проглотить. В Эшкрофте, в длинной комнате наверху, где никто не мог их услышать, он говорил с моим отцом на ирландском языке.
По словам МакГилла, в какой-то момент с Ирландией что-то пошло не так. Было произнесено некое заклинание, и страна начала забывать себя. Начала превращаться в Малую Британию. Такова была суть доводов мистера МакГилла. Наша история, наш фольклор и культура были смыты в море, и их надо защищать и поддерживать. МакГилл был слишком увлечен своим делом, чтобы волноваться о том, что его обобщения слишком широкие, а мазки чересчур свободные, и не позволял рациональным рассуждениям вставать на пути его аргументации. И при этом он не был обеспокоен тем, что бледный цвет его лица совсем не соответствовал такой страсти, и его лицо покрывалось хаотичными пятнами, когда он добирался до своей любимой темы. Он говорил стоя, сжав руки, разжимая их только для того, чтобы раздраженно запустить пальцы в свои рыжие волосы. Взгляд его был направлен вверх и влево, в пустоту, если только не упирался в Вергилия, чтобы навечно запечатлеть приведенные доводы. Мистер МакГилл говорил, поднимаясь на цыпочки, перекатываясь на пятках. Говорил, наклонившись вперед, подняв плечи, указывая пальцем и ударяя воздух кулаком. Он делал словесные пируэты, говорил длинные фразы. Он позволял утверждениям собираться у реки и пениться там, пока они не находили выхода в виде брызг слюны. Он говорил приглушенно, важные вопросы изрекал шепотом, затем продолжал их с настойчивыми балетными волнами рук и поднимал бровь, когда повторял сказанное, только громче. Он не был националистом с оружием и бомбами. Он был более опасным. Он был националистом со стихами и повествованиями.
В качестве доказательства его влияния мой отец сохранил все книги, какие мистер МакГилл дал ему: Книга 391, «Кувшин золота», Джеймс Стивенс[278], Макмиллан, Лондон; Книга 392, «Ирландские сказки», Джеймс Стивенс, Макмиллан, Лондон; Книга 393, «Три печали повествования», Дуглас Хайд[279], Т. Фишер Анвин, Лондон; Книга 394, «Рассказы о смерти героев Ольстера», Куно Мейер[280], Ходжес, Фиггис и Ко., Дублин; Книга 395, «Silva Gadelica», Том II, Стэндиш Хейс О’Грейди[281], Уильямс и Норгейт, Лондон; и с кольцами от чашек чая Книга 396, «Кухулин: ирландский Ахиллес», Альфред Натт[282], Д. Натт[283], Лондон. От мистера МакГилла мой отец услышал о Короле, который жил под волнами, о Глас Гайнах — корове, чье молоко было почти маслом. О Королеве по имени Мор, которая жила в Данкуине[284], и пастухе, который пришел Из Глубин Моря. А еще узнал о Кахеле — Сыне Конора, о Черным Воре, о Туате Де Дананн, о Детях Лира, о Путешествии Брэна.
Для моего отца мир будто раскололся, и оттуда вышел этот парад Замечательных.
Если бы здесь была Америка, то они были бы материалом для Блокбастера, к настоящему времени был бы «КУХУЛИН VII» в 3D с Лиамом Нисоном[285] с длинными волосами из «Звездных войн», с Гае Болга[286] вместо Светового меча, и у них была бы франшиза для Ошина в Тир на ног[287], а история Диармида и Грайне[288] обрела бы новую жизнь как Величайшая История Любви, и получившаяся в результате дневная мыльная опера длилась бы в течение семи сезонов.
Там бездна материала.
И во всем этом, во всех тех сказаниях, герой сталкивается с невозможными задачами.
И одерживает победу.
С таким блестящим учеником мистер МакГилл сиял, показывая себя с наилучшей стороны. Это было просто: мы — повествователи. Воображение в Ирландии выходит за рамки потустороннего мира. Это было где-то там. Это было где-то Далеко, прежде чем «далеко» было изобретено в Калифорнии, потому что несколько веков сидения без дела под дождем создает далекие земли и простор для воображения. В качестве доказательства подумайте о Брэме Стокере[289] — он был прикован к постели, пока ему не исполнилось восемь лет, и, дыша влажным воздухом Дублина, лежал там без телевизора и радио, но с поднимающимся хрипом из его груди, действующим как постоянное напоминание, что скоро он отправится в мир иной. Даже после того, как он женился на Флоренс Болкомб с улицы Марино Кресент в Дублине (у нее был непревзойденный талант выбирать не того человека; она уже рассталась с Оскаром Уайлдом, как с проигранным делом в Департаменте Любви, когда встретила этого Брэма Стокера и подумала, какой он милый), даже после того, как Брэм переехал в Лондон, он не мог ускользнуть от своих больших темных фантазий, какие были в Дублине, и вот однажды дальше по течению реки он отнерестился «Дракулой» (Книга 123, Нортон, Нью-Йорк). Джонатан Свифт[290] только устраивался на Честерфилдском Диване[291] в Дублине, когда его мозг начал плыть в Лилипутию и Блефуску (Книга 778, «Путешествия Гулливера», Джонатан Свифт, Пингвин, Лондон). Еще пара наводнений, и он отправился дальше, отправился в Бробдиньяг, Лапуту, Бальнибарби, Глаббдобдриб, Лаггнегг и… Японию, прежде чем поехал еще дальше, к Гуигнгнмам. Прочитайте «Путешествия Гулливера», когда заболеете и свалитесь в постель, и вы будете в отъезде. Смею вас уверить. Вы мысленно перенесетесь далеко-далеко, и даже когда вас унесет поток, вы будете думать, что ни один писатель никогда не заходил столь Далеко. Что-то вроде того могло пригрезиться только в Ирландии.
Чарльз Диккенс признавал это. Он приезжает в Дублин 25 августа 1858 года для того, чтобы Наполнить свое воображение. Останавливается в Отеле Моррисона на Нассо-Стрит[292] (я знаю, вас пугает, что я это знаю, но я знаю. Жареная Свинина с яблочным пюре, Хлебный пудинг). Четыре дня спустя он отправляется в Корк[293], регистрируется в отеле «Империал»[294], где, по словам швейцара Иеремии Перселла, часы в переднем фойе показывают без двадцати девять уже около года, ожидая, когда их придет починить кто-нибудь из Стокс Клокс[295] на Мак Кертэйн Стрит[296]. (Чарльз Диккенс весьма пунктуален. Он ценит пунктуальность выше исправного посещения церкви. Он стоит, глядя на часы. Иеремия приближается и объясняет:
— Они стоят.
Чарльз смотрит на него.
— Они стоят?
— Да, сэр. Стоят. Заведены, но не идут после того, как покажут без двадцати минут.)
На следующий день рано утром Чарльз садится в экипаж и едет в Замок Бларни[297], построенный из темного камня. Из-за дождя здесь даже днем мрачно, и это место заставляет Диккенса задуматься. Он шагает вверх через ступеньку, немного намокает, но продолжает идти, затем выгибает спину назад, перегибаясь через край парапета — нет-нет, это вовсе не остеопатия[298], — чтобы поцеловать Камень Бларни[299].
Дорогой Читатель, Диккенс делает это, ведь даже Самому Богатому Воображению В Мире, Самому Неподражаемому, нужно было немного ирландского. И это сработало. Чарльз Диккенс не вернулся в Лондон через два дня. Его удобные ботинки 8 размера[300] для пеших походов еще не высохли у огня, от пальто еще веет торфяным дымом и клонакилтской кровяной колбасой[301], когда он углубляется в раздумья о темном каменном доме. Диккенс сидит в кабинете, говорит себе: «Без двадцати девять. Часы стоят. Без двадцати девять». Вот и все, что требуется. Эта деталь — все, что ему надо[302]. Хороший человек Иеремия. Спасибо, Стокс на Мак Кертэйн Стрит. Поскольку теперь, Боз, о, Боз, Чарльз сосет дольку апельсина, в тридцать седьмой раз пытаясь очистить свое небо от жаркого, какое готовят в графстве Корк, выплевывает косточку приличного размера, и она со звоном падает в металлическое мусорное ведро около его стола. Он берет перо и создает Филипа Пиррипа[303].
— Это правда, Рут? — спросила миссис Куинти, сделав огромные глаза и подняв брови, но при этом совершенно упустив суть повествований.
Три года подряд мистер МакГилл приезжал в Эшкрофт. Отметка, которую он оставил в нашем повествовании, осталась в душе моего отца. Мистер МакГилл заставил моего отца поверить, что это отдельная страна. Он заставил его думать, что это мог быть Рай. И мистер МакГилл вдохновил Вергилия впервые задуматься о писательской стезе.
Все, что случилось потом, вылилось из этого и потекло вниз по реке.
Вы когда-нибудь видели, как быстро бежит река?
Возможно, видели. Возможно, стояли однажды на берегу в конце весны, когда дожди сбегают с холмов и вся страна как бы уплывает прочь быстрее, чем вы можете себе представить. Может, когда вы были маленькими, как мы с Энеем, вы отламывали ясеневые ветки и швыряли их в Шаннон, только чтобы посмотреть, как тянет их шумящая речная вода, как ветки ложатся на движущийся мир и несутся быстрее, чем, как вам кажется, могли бы двигаться. Они могли бы плыть и кружиться еще быстрее, качаться и вертеться, прежде чем немного проплывут спокойно, затем уйдут под воду и опять всплывут, черные и глянцевые, кажущиеся меньше из-за того, что уплыли уже далеко, — и вот они уже уплыли прочь навсегда.
Однажды днем сразу после полудня в июне, когда лососи шли косяком, Дедушка Авраам отправился к Преподобному. Дедушка закончил писать «Лосось в Ирландии» накануне вечером, завернул рукопись в коричневую оберточную бумагу, перевязал леской и послал в издательство господам Кеган Пол, Тренч, Трабнер, Бродвей Хаус, 68–74 Картер Лейн, Лондон, E.C. Он вышел из дома с внутренней легкостью автора, наконец-то разрешившегося от бремени. На Дедушке был зеленый твидовый костюм с клапанами на карманах, он забросил удочку в реку Роснари[304], у него случился сердечный приступ, и Дедушка вошел в Загробную жизнь сразу после того, как лосось клюнул на его мушку.
Глава 16
У меня есть кавалер. Зовут его Винсент Каннингем.
Поскольку у меня Что-то Не То, поскольку я и Простая Рут Суейн, и Задавака Рут, и Рут, прикованная к постели болезнью, и поскольку читаю я слишком много, да еще и не выхожу на улицу, да к тому же бледная, не поддающаяся загару веснушчатая речная девчонка, не должно быть никакой нормальной причины, чтобы у меня был кавалер, особенно такой милый, как Винсент Каннингем. А поскольку он выбрал меня, вы, возможно, уже успели предположить, что с ним что-то не так. Да, в самом деле не так. У него та самая штуковина, которая была у мистера Куэйла в «Холодном Доме» — сила неразборчивого восхищения. Для него все — источник радости. Все — фантастическое и потрясающее. И я кажусь ему красавицей.
Это просто безумие какое-то.
Как говорит Маргарет Кроу, «Этот парень Неправдоподобен».
Первый раз он сделал мне предложение, когда мне было восемь. Во время Короткой Переменки, во дворе Национальной школы Фахи, — этот двор не числится в списке Самых Романтичных Мест для Влюбленных в Ирландии. Он выбрал прямолинейный подход.
— Рути, ты выйдешь за меня замуж?
— Нет.
Подумав об Эстелле[305] и сливочных крекерах, я поняла, что лучше всего просто разбить его сердце пополам. Иначе получатся беспорядочные осколки. Чтобы подчеркнуть мою позицию, я добавила сердито нахмуренные брови и неодобрительный взгляд, возмущенно покачала головой, круто развернулась на каблуке моей лаковой туфли и как можно быстрее прошла через двор.
Но Винсент Каннингем, будучи Винсентом Каннингемом, принял это за поощрение и отправился по пути Любви На Расстоянии. Нечто подобное, думаю, есть у Овидия, и в Издание для Начальной Школы следовало бы включить указание, что вы должны рисовать Сердечки на вашем пенале, таскать помятые маргаритки в кармане вашего дафлкота[306] и наносить инициалы Предмета Вашего Обожания на внутренней части вашего запястья, где парни не смогут видеть их во время Футбола.
В следующий раз он сделал мне предложение, когда ему было десять, но немного менее откровенно. Мы шли из школы домой. По крайней мере, я шла в направлении своего дома, он шел в прямо противоположном направлении от своего — факт, на который я в то время не обратила внимания.
— Рути, — сказал он, — когда мы станем старше, ты не думаешь, что я тебе понравлюсь?
— Нет.
Он кивнул, как умеет кивать один только Винсент Каннингем, будто ожидал услышать такой ответ, будто Овидий уже все это описал и пообещал, что при следующей попытке ответом должно быть: «Окей».
Разговор и Прогулка Рядом с Нею в Полном Молчании — надо отдать Винсенту должное, он все сделал действительно прекрасно, — пока мы не добрались до наших ворот, и тут он тяжело выдохнул, лицо его стало пунцовым, он нахмурился, по-мальчишески сделал носком ботинка небольшую, не терпящую отлагательства ямку в гравии, внимательно изучил раскопки и, не поднимая глаз, сказал:
— Ну, а я буду любить тебя.
— Винсент Каннингем.
— Да?
Он не поднял на меня свои коричневые, цвета лесного ореха, глаза. Он продолжал смотреть вниз, рассматривая ямку, которую только что сделал.
— Не будь дураком.
Я не хотела, чтобы так прозвучало. Некоторые вещи происходят прежде, чем вы продумали их, так Шеймас Мак сбивает цветки фуксии куском шланга, когда идет на луг к коровам. Разорванные красные цветочки, разбросанные по всей дороге, заставляют вас подумать «Вот почему их называют Божьими Слезами».
— Окей, — сказал он, будто хотел сказать «Ну и ладно!», будто это вообще не имело значения, а ему все равно пора спешить домой, потому что вечером в парке состоится матч между учениками до 12 лет, что было правдой, и, как я услышала позже, он играл Из Кожи Вон, бросаясь на клюшки, и был Самым Ценным Игроком, достойным всяких наград, которые ему давали, пока во время одного из матчей какой-то парень-переросток из Куилти[307] не сломал Винсенту ногу.
После чего его ухаживание ушло в подполье. В Техе, когда было обнаружено, что в Математике я на самом деле ни на что не способна, Ноль Очков, он приходил к нам домой и занимался со мной. Тогда его колени делали попытки ухаживания. То же самое делал его Пифагор. Потому, что Винсент Каннингем помогал папе по выходным и во время летних каникул, а еще и потому, что в четырнадцать он уже умел водить трактор, он то уходил, то приходил к нам домой и во двор, и только иногда бросал на меня взгляд Рут-Я-Хочу-Жениться-На-Тебе, — так, как могут делать вожделеющие мальчики, только чтобы дать мне понять, что все остается актуальным. У него был небольшой Синдром У. Б. Йейтса, который, пока ему не стукнуло пятьдесят, делал предложение Мод Гонн[308] каждые несколько недель даже при том, что она отвечала «Ни за какие коврижки!», и был увлечен неподходящим, и имя этого «неподходящего» было Мод.
Так что теперь мы здесь, в моей в комнате. Винсент Каннингем вырос высоким и тощим. У него безумно длинные ресницы, окружающие лесные орехи его глаз, характер сладкий, как я не знаю что, и два года обучения инженерному делу среди микроюбок в Голуэе оказались не в состоянии сдвинуть его с его восьмилетней упертости.
Дело в том, что чем больше он проводит свою линию восхищения, и благоговения, и общей сладости, тем больше я нахожу себя кислой. Это частично противоречие Суейнов, частично Синдром Эстеллы. И я ничего не могу с этим поделать.
— Я похожа на… Я выгляжу так… Как я выгляжу?
— Ты красавица.
— Среди писательниц не бывает красавиц.
— Нет, бывает.
Нет, не бывает. Ну, за исключением Эдны О Брайен[309]. Она на самом деле гениальна и получила мое вечное восхищение, когда сказала, что сюжеты предназначены для рано развившихся, одаренных школьников (Книга 2738, «Писатели за Работой», Интервью в «The Paris Review»[310], Серия 7, Секер и Варбург, Лондон).
— Вот, посмотри на Эмили Дикинсон, — сказала я и показала ему фотографию паспортного размера на задней обложке «Собрания Стихотворений». — У нее лицо, как два чернослива в овсяной каше.
— Ну… не знаю, думаю, она красивая, — сказал он.
— Красивая?
— Так и есть. Она выглядит интересно.
Дорогой Читатель, возьмите любую книгу Бронте. Какую, не имеет значения. Что вы видите? Вы видите ум и интеллект, вы видите наблюдательного человека, вы видите широту взглядов, но вы ни за что не разглядите красоту. Взгляните на Марию Эджуорт[311], миссис Гаскелл[312]. Взгляните на Эдит Уортон, она — Генри Джеймс[313] в платье. Генри по имени Эдит Ангел Опустошения, что точно не является Самым высоким результатом в Департаменте Женского Очарования. Агата Кристи — идеальная пара для Аластера Сима[314], когда он играл директрису мисс Фриттон в старой комедии «Красавицы Сент-Тринианз», она у меня в коробках[315] компании Tesco. Нельзя быть красавицей и писательницей одновременно, ведь чтобы писать, надо смотреть; а если вы красивы, то люди смотрят на вас.
— Мне все равно. Ты прекрасна, — говорит Винсент Каннингем и теми словами подтверждает свое место Наименее Вероятного Ирландца. Мне иногда даже кажется, что я придумала его.
— Ты безнадежный идиот.
— Я знаю.
Он улыбается. Сидит возле моей кровати, и все его большое лицо сияет. Смешно, каким счастливым он может быть. Это в крови Каннингемов. Его отца Совет взял на должность регулировщика движения. Джонни Каннингем появляется повсюду, где в графстве ведут дорожные работы. Он устраивается со своим большим красно-зеленым леденцом на палочке, и когда разрешает машинам двигаться, то поднимает большие пальцы вверх и сияет такой же улыбкой. Для некоторых людей мир — просто рай земной.
Винсент был в том же классе мистера Кроссана, где учился Эней, сидел позади него в классе и на некоторое время стал его единственным другом. Винсент по-прежнему худой и угловатый. Если бы вам пришлось рисовать его, используя только прямые линии, вы смогли бы запросто изобразить его. Даже волосы у него прямые — короткий коричневый ежик, равномерно поднимающийся над вершиной его интеллекта. Он говорит, что я привела его к Литературе. Он произносит эти слова так, будто Литература — весьма отдаленное место, и он никак не смог бы узнать, как добраться туда, если бы я не рассказывала о книге, какую только что прочитала, и он уходил, чтобы найти ее. Конечно, как только я это поняла, то начала намеренно упоминать некоторые из Малоизвестных Книг. Это — часть МакКарроллов и часть Невозможного Стандарта Суейнов. Я говорила, что прочитала великолепную книгу Монтегю Родса Джеймса[316] «Школьное Предание»[317] (Книга 555, «Сборник Рассказов о Призраках», М. Р. Джеймс, Оксфорд), в которой идет речь о человеке, которого нашли мертвым в его собственной постели с отпечатком подковы на лбу, и Винсент сразу же пошел сводить с ума Элинор Пендер в Передвижной Библиотеке, пока она не разыскала книгу. Он прочитал ее, в спешке вернулся и взбежал вверх по лестнице, чтобы сказать «Ты была права, Рут, эта книга оказалась хорошей».
— Которая?
— «Школьное Предание». Помнишь? Подкова на лбу.
— А, та… Совсем забыла о ней. Сейчас я читаю «Райсимен-Степс» Арнольда Беннетта[318].
Добродетель провоцирует стервозность. Это доказано математически. Это находится где-то в человеческих генах. На свете есть сколько угодно прекрасных людей в браке с ужасными. Прочтите «Миддлмарч» (Книга 989, Джордж Элиот[319], Пингвин Классикс, Лондон), если не верите мне. Есть во мне такое, что не может просто позволить всему оставаться как есть. Благородство души, высокая нравственность — аккуратно натянутый лук, и вы просто не можете сдержать желание освободить его.
Кроме того, есть дополнительное осложнение: я нездорова. Если бы я не была нездорова, если бы в нашем округе я не была Пациентом Номер Один из семьи, которую уже посетила смерть, приходил ли Винсент навестить меня? А может, я — путь Винсента Каннингема к Святости? Видите, вы просто не можете доверять добродетели.
Иногда после того, как он уходит, я спрашиваю себя, на что это было бы похоже, если бы я проскользнула в другое повествование и там на самом деле закончила тем, что стала миссис Винсент Каннингем. Знаете, как в Главе XXXVIII: «Читатель, я вышла за него. У нас была тихая свадьба, он и я, были только пастор и дьячок» (Книга 789, «Джейн Эйр», Пингвин Классикс, Лондон.)?
Каннингем[320] — плохая фамилия, но это не ужасно. Не настолько плохо, как Бигг-Уизер[321]. Мистер Бигг-Уизер (я не шучу) был кавалером Джейн Остин и сделал ей предложение. Он влюбился в острый взгляд под капором, был очень неравнодушен к одному разглаженному завитку волос спереди и крошечным черным глазам. Он подтянулся и распушил бакенбарды, чтобы сделать ей предложение.
Ну, это потребовало мужества. Вы должны признать, что у него было мужество. Сделать предложение Джейн Остин — это вам не погулять в парке, это в той же самой лиге, в какой Джерри Туоми сделал предложение Ниам ни Эохаде, у которой были лицо и манеры терновника. Однако Бигг-Уизер дошел до конца. Он сделал предложение.
И Джейн Остин приняла его. Честно, она так и сделала. Она обручилась с ним. Она произвела наилучшее впечатление улыбкой Джейн Остин, затем ретировалась прямо в кровать. Там она лежала в своей большой ночной рубашке и не могла спать, и не из-за капора, что достаточно удивительно, но из-за удушающего действия имени Бигг-Уизер. А еще ее смущало, что у нее родятся маленькие Бигг-Уизеры.
На следующее утро она спустилась к нему, отправлявшему тост с мармеладом между бакенбардами, и сказала «Я не могу стать Бигг-Уизер» или другие слова в том же роде, помолвка была разорвана, и все Читатели в мире вздохнули с облегчением. Поскольку счастливая Джейн Остин была бы бесполезна для Мировой Литературы.
Однажды, чтобы продвинуть ухаживание, Винсент наклонился вперед, к кровати — капли дождя сияли на его волосах, — и сказал мне, что любимая няня Роберта Льюиса Стивенсона носила фамилию Каннингем.
Он знает, что у меня слабость к РЛС не только потому, что он был болен, или потому, что у нас одинаковые инициалы, но потому, что у него есть что-то невозможно романтическое, и потому, что прежде чем начать писать «Остров Сокровищ», он нарисовал карту неизвестного острова, и потому, что он верил в невидимые места и был одним из последних писателей, кто знает, что значит слово приключение. Я могу привести вам сотни причин, почему РЛС — это Человек. Загляните в его «Искусство слова» (Книга 683, Чатто и Уиндус, Лондон), где он говорит, что никто из ныне живущих людей не оказал на него столь же сильного хорошего влияния, как Гамлет или Розалинда[322]. Или когда он говорит, что его лучший друг — Д’Артаньян из «Трех Мушкетеров» (Книга 5, Регент Классикс, Лондон). РЛС сказал: «Когда мой дух страдает, то повествования — мое утешение, я цепляюсь за них, как за опиум». И когда вы читаете «Остров Сокровищ», то чувствуете, что отдали швартовы. В этом-то все и дело. Вы отчаливаете и оставляете позади обычную тусклость мира.
Винсенту было так же просто принести мне новости о няне Каннингем, как принести мне шоколад. Он сел у моей кровати и был счастлив, как… ну, в общем, как Каннингем. Он читал РЛС (Винсент — инженер и потому воспользовался Интернетом, здешним медленным коммутируемым доступом. Министр все еще Разворачивает широкополосную сеть, но ему следует Развернуть ее вокруг своего собственного дома, как говорит Пэдди Кэрролл). Винсент потратил несколько часов и собрал довольно много знаний о РЛС, даже выучил наизусть кое-что из «Страны на Стеганом Одеяле»[323] — в этой стране РЛС лежит в постели больной и играет с игрушечными солдатиками в воображаемом мире, раскинувшемся на одеяле.
— У Энея были солдатики, — сказал он. — Я их помню. Он хранил их в коробке из-под печенья. И у него была ферма. Помнишь? Маленькие пластмассовые коровы, лошади, свиньи и все такое, разные вещи.
Я ничего не ответила.
— Еще у него были заборы, и…
Я опять ничего не сказала.
— Я идиот, — сказал он немного погодя.
Отдайте мне должное. Я знаю, что сейчас должна сказать «Нет, Винсент, ты не идиот, вовсе нет», взять его за руку в стиле девятнадцатого века и позволить этим секундам стать мостиком между нами, — но я, конечно же, ничего такого не сделала. Нельзя поощрять Винсента Каннингема, потому что правда в том, что мальчики могут глубже упасть в бездну любви, чем девочки, ведь мальчики больше и тяжелее, они могут упасть гораздо дальше в глубину и расшибиться. Когда же они ударятся о землю реальности, от них останется лишь ужасная лужица, и собрать ее обратно в бутылку поторопится какая-нибудь другая женщина.
— У РЛС, — объявил Винсент, через некоторое время возвратившись на безопасную почву, — грудь не была здоровой.
Жителям графства Клэр не нравится быть слишком прямолинейными.
— У него был туберкулез, Винсент, — уточнила я (Книга 684, «Жизнь Роберта Льюиса Стивенсона», в двух томах, Томас Грэм Бэлфур, Метуэн, Лондон). У моего отца был только разваливающийся подержанный Второй Том, книга, побывавшая в море, со вспухшими от воды страницами, в ней были две Главы Четвертых и запахи Шотландии.
— Но он купил четыреста акров на Уполу, Самоа, — продолжал Винсент. Каннингемы склонны смотреть на все с радостной стороны.
— Он полюбил некую Фанни[324], — сказала я ему.
На миг он задумался.
— Когда он отправился жить туда, то взял имя Туситала. Что означает «Сказитель», — ответил он, улыбаясь так, будто добрался до внутреннего слоя шоколадной конфеты.
— Как и Китс[325].
— Взял то же самое имя? Ничего себе.
— Любил некую Фанни[326].
— О.
Дождь начал барабанить по окну в крыше, и Винсент вспомнил, что еще нашел в окнах Windows:
— РЛС должен был проектировать маяки.
— Его отец этим занимался.
— Значит, он в самом деле был своего рода инженером, — торжествуя, сказал Винсент и закончил собственный подвиг умственного проектирования, соединив Винсента Каннингема с РЛС и, таким образом, со мной. Такого рода вещи не упомянуты у Овидия, но будут в книге «Особенности Винсента», если я когда-нибудь соберусь написать ее.
Он выглядел таким счастливым, что я не удержалась:
— Он ненавидел проектирование.
Я ничего не услышала в ответ. Некоторое время он сидел тихо, а я откинулась на ужасные подушки и думала: «Рут Суейн, ты ужасна». Дождь все лил, Винсент изучал свои руки, лежащие у него на коленях, и я, наконец, решилась:
— Когда РЛС умер на острове Самоа, то пробили дорогу через джунгли на гору Ваеа, чтобы он был похоронен на вершине и мог видеть море. Так что, думаю, некоторое проектирование было.
Винсент же сказал:
— Рут Суейн, — всего лишь Рут Суейн, покачал своей длинной головой, будто я была настоящим чудом, и его лицо расплылось в широченной улыбке, будто что-то было исправлено, или Воскресла Надежда, или я на самом деле поцеловала его.
Не-реально.
Глава 17
Мой отец любил Энея больше всего на свете. Мне можно это сказать. Я говорю это не из-за обиды или разочарования, не для того, чтобы вправить какой-то вывих в моем сердце. Я говорю так не в манере той сучки, прости меня, Господи, Броудер, которая, прикрывая рот тыльной стороной руки и выпучив глаза, исподтишка выпускает в мир злобу раздраженным шепотом. Я говорю так потому, что это правда, и еще потому, что вам необходимо это понять. Эней был волшебным мальчиком. Я знала. Мы все знали. Есть в мире люди, заставляющие вас лучше относиться к жизни. При встрече с ними вы чувствуете подъем в душе, то самое «Ах», потому что у них есть что-то более яркое и легкое, что-то более красивое, что-то лучшее, чем у вас, и вот тут возникает волшебство: вместо того чтобы чувствовать себя хуже, вместо того чтобы чувствовать «Почему я такой обыкновенный?», вы чувствуете нечто противоположное — радость. Странным образом вы чувствуете себя лучше, потому что до сих пор не понимали — или уже забыли, — что люди могут так сиять.
Сияние Энея началось с Первого Дня. Он плыл по течению Реки по имени Мама впереди меня, и когда высадился на берег, оказался в изумленных влажных глазах моего отца. Его, сияющего, подняли успокаивающие гигантские руки Терезы Доулинг, Районной медсестры, и она сказала: «Вот, глядите!», и она широко улыбнулась, и у нее появились ямочки на щеках, хотя Эней начал плакать. Он плакал, как будто плач был языком, который знал он один, и в плаче было что-то срочное, о чем он должен был объявить. Не подбрасывание и покачивание в пухлых руках-лодках Районной Медсестры, не вид бурлящей реки Шаннон, к которой его поднесли, не первое сверхосторожное укачивание в люльке — этим занялся Папа, — ни теплая влажная грудь Мамы не остановили его. Семейное предание гласит, что Эней плакал, пока я не поплыла по той же реке вслед за ним, и Тереза Доулинг сказала «О», и я выплыла наружу австралийским кролем на груди, красная и хватающая ртом воздух, и, по-видимому, была особенно волосатая. Вот тогда-то он и перестал плакать.
Из-за того что наш отец, как и его отец, не был молод, когда мы родились, наше появление на свет стало дополнительной радостью. Не то чтобы мы были нежданными, совсем наоборот, но пока его дети не оказались у него на руках, он лишь представлял нас и никак не мог продвинуться дальше. Он был поэтом и самым непрактичным человеком в мире. А ребенок — вещь практичная.
Два младенца, ну что ж.
Эней сразу же оказался во всем лучше меня. У него были хорошие младенческие инстинкты, он быстро Прибавлял в Весе и стал красавцем еще до того, как ему исполнился год. Люди на него заглядывались. Он был Ребенком Номер Один на Мессе. В наше первое Рождество Морин Пендер хотела, чтобы он играл Иисуса на алтаре, и он потерпел неудачу только потому, что Джозефин Карр из комитета дисквалифицировала его словами, что Иисус не был близнецом, и пропихнула на эту роль своего крошечного трехлетнего Питера, которого, Да Благословит Его Господь, она, должно быть, кормила птичьим кормом, потому что кончилось тем, что вообще не рос и играл Иисуса Фахи, пока ему не исполнилось пять лет, а теперь он учится на жокея в Кулморе[327].
У Энея почти сразу же после рождения волосы стали золотыми, а глаза начали синеть. У нас обоих одинаковые глаза, но его стали синими, как у нашего отца, будто он проплыл через некое подземное Средиземное море и часть его все еще светится в заводи его глаз.
Как поймать брата, столь неуловимого, как Эней? Как поймать того, кто всегда ускользает?
Его любимая еда — яблоки, сыр чеддер, фиолетовые Cadbury’s Roses[328] и Petit Filous.
Его любимый цвет — красный.
Его любимый звук — кукование кукушки, и он всегда хотел услышать его раньше других, и для этого он отправлялся к Райанам и МакИнерни, но всегда бывал побит Фрэнси Фэхи, которая удерживала титул «Первая в Фахе Слышит Кукушку». Но, как говорит Джимми Мак, с кукушкой у Фрэнси были семейные связи.
Любимая одежда Энея — пара грязных синих кроссовок неизвестно какой фирмы, шнурки которых всегда запачканы, и если не заметить мест в дырочках для шнурков, то было невозможно сказать, что когда-то они были белыми; штаны цвета хаки, колени которых Бабушка латала так часто, что они выглядели подбитыми ватой; красный джемпер, на два размера больше, чем надо, — его Эней носил, удерживая манжеты, достающие до половины его ладоней. Манжеты обтрепывались от того, что он все время держал их в руках, и время от времени Мама подрезала нитки. Он опять его надевал, и манжеты опять обтрепывались, и она подрезала их снова, но джемпер так и не выбросила. Ему нравилось держаться за что-то. Когда он был маленьким, то во сне держал в руке лейбл своей наволочки. Только я знаю это. Я не была соней. Эней шарил рукой во сне, пока не находил его. Он зажимал лейбл между большим и указательным пальцами и немного двигал его туда-сюда, будто самого маленького трения было достаточно, будто так он получал уверенность, что все еще находится в этом мире.
И он очень любил бегать. Он летун, как сказал мистер Мак в тот год, когда создал новый Комитет Общины по Играм и решил, что Фаха будет Нанесена на Карту. Эней был в группе детей моложе восьми лет на поле возле часовни Хонан в Корке.
В тот раз предполагалось, что не я буду Наносить Фаху на Карту, и потому, как только начались соревнования по бегу, я должна была вместе с Димпной Луни делать важную работу — Держать Ленту на финише, что я не считала таким уж важным, но мой отец сказал, это было Гомерическим, и я, хоть и не знала, что это значит, почувствовала небольшой прилив важности.
— Когда разрываешь грудью ленту, Рути, — сказал Папа, — ты оказываешься на границе между одним миром и другим.
Он мог говорить подобные вещи. Он мог говорить такие вещи, какие никакой другой папа не мог сказать, и потому что во всяком случае родители такие таинственные, и потому что они принадлежат к другому миру, вы не спрашиваете, а просто киваете и чувствуете, что сами немного приобщились к тайне.
Поле было размечено треугольными флагами, которые Маргарет Кроу вырезала из бледно-синего куска плаща Девы Марии, полученного от Боуси Кейси, а Рори Кроули вручную нарисовала большой кривой овал на поле, усеянном коровьими лепешками. Там наши крепыши развлекались, как говорит Гомер, что в нашем случае означало делать Серьезную Растяжку и бегать взад-вперед показушными рывками, какие показывали в Олимпийских репортажах РТИ с Патриком Клохесси[329], а рядом с полем чокнутый Джимми Макги комментировал происходящее, держа пустую бутылку из-под кока-колы вместо микрофона. Весь клан Мак-Инерни был там. Они носились сломя голову, как мясные синие мухи с коричневыми головами, и не было никакой надежды, что кто-нибудь из них сможет бежать по прямой.
Чтобы Нанести Фаху на Карту, собрался весь округ. Иисус Мария Иосиф Карти, Отец Типп, Моника Мак, Томми Фитц, Джимми Мак, Мейджор, Святые Мерфи, Винсент Каннингем и его отец Джонни, Джон Пол Юстас в своем темно-синем костюме, даже Саддам. Все собрались в добродушном восхищении собственным семенем и породой, как говорит Марти Манговэн. Коровы были сосланы с поля Хонан на заросший бурьяном пустырь, где слабо натянутая электроизгородь удерживала их, и оттуда они показывали нам скорбные мычащие морды, — хотя, возможно, это были коровьи улыбки из-за того, что немалое количество навоза на беговой дорожке в изобилии снабжало окружающую среду мошками и мухами. Если вам случится участвовать в Играх Общины Фахи, то бегать придется с закрытым ртом.
Папе всегда было неловко в подобных сценах. Он был Суейн, а Суейны не предназначены для того, чтобы к чему-то присоединяться. Во всяком случае они не часть Всего Населения. У Суейнов есть небольшое отдаление, отступление, и потому Папа собирается быть в одиночестве на краю поля. Пока Мама помогает организаторам, — продвигает инвалидное кресло Моны Хэлви по земле с торчащими пучками травы, продает лотерейные билеты, наливет MiWadi в небольшие пластмассовые чашки и пытается помешать большому семейству Мак-Инерни выпить все до начала игры, — папа полностью предоставлен самому себе. На нем красные вельветовые брюки, достаточно мешковатые и стянутые на талии, где ремень пытается не дать им упасть, и вторая рубашка вместо куртки. У него длинные серебристые волосы, иногда разлетающиеся по ветру беспорядочными прядями. Но ему на все наплевать. У него с собой книга. Тем, кто его не знает, может показаться, что он не хочет быть частью всего этого, что он нарочно держится обособленно и что это происходит из-за того, что он не один из них.
Он и вправду не один из них. Это не гордость, даже не выбор. Быть среди людей — это умение, которого у папы нет, и поскольку он стоит на краю поля, его сердце немного падает, когда он поднимает глаза от страницы и понимает, что у его детей такого умения тоже нет.
Энею прикрепляют бумажный номер. Мистер Мак опускается на одно колено, объясняя ему тактику для семилетних. Я уже собираюсь размотать ленту, когда эта сучка, прости меня Господи, Джейн Броудер говорит:
— Скажи своему брату, чтобы не победил. Должен победить Ноели Хегарти, потому что его младший братик, младенец Шон, умер.
У Джейн есть небольшая компания, бригада святых выпендрежниц в белых коротких носочках. Такие даже Мать Терезу заставят уйти из монашества.
— Не буду я ему говорить такое.
— Ну так я сама скажу, — и она бросается к Энею прямиком через поле.
Я держу ленту натянутой, когда к финишу приближается Эней. Я вижу дикий восторг в его глазах. Он опередил всех.
Ноги мелькают так сверхбыстро, что кажется, он упадет, если будет бежать в том же темпе, и все наблюдающие за ним улыбаются. Вы тоже не смогли бы удержаться. Он бежит так быстро, что его номер отлетает. От его волос отражается настоящий июльский солнечный свет. Весь округ подбадривает его криками. Он приближается к повороту, грудь вперед, маленькие руки мелькают, и впереди он видит, как я держу ленту. Предполагается, что Держатели Ленты не должны приветствовать участников, но в реве зрителей я немного подбадриваю брата «Давай, Эней, Беги, Эней». И лента немного дрожит, пока Димпна не бросает на меня взгляд будущей директрисы и не натягивает ленту туго.
Вдруг Эней замедляет бег, движется, как в замедленной съемке.
Медленнее и еще медленнее.
А Ноели Хегарти приближается к нему — вот они бегут рядом, бок о бок.
И вот уже Ноели Хегарти пробегает мимо Энея, обходит его.
«Беги, Эней».
Но он медлит. Ноели Хегарти касается ленты грудью.
Потом Джейн Броудер подходит и что-то говорит Энею, она говорит с ним так, будто они Новые Лучшие Друзья, и затем проходит мимо меня, надувшись, и ее нос-пуговка поднят «на десять часов», и она чертовски красноречиво вертит задницей передо мной.
Энею Папа сказал «Молодец! Здорово сработано!». Он сказал это спокойно, твердо, и когда смотрел на Энея, то, казалось, видел глубже, как будто они оба разделили некую тайну, и это было нечто Суейновское.
В следующем году Эней не бежал. После того раза ему нравилось бегать одному, и он бегал у реки. Папа никогда не говорил Энею «Тебе надо бы принять участие в соревнованиях» или «Ты должен», ни разу не сказал ничего подобного, ни разу не выказал разочарования, но годы спустя в Книге VI «Энеиды» Вергилия я нашла тщательно сложенный бумажный прямоугольник — номер Энея, отвалившийся в тот день.
Эней предпочитал бывать на открытом воздухе, а не в закрытом помещении. У него не появлялись веснушки. Он загорал, и если вы спросите меня, я скажу, что это явный признак Избранности. Примерно так обстоят дела с прекрасными волосами или зубами, которые на самом деле помещаются у вас во рту.
Эней залезал на каждое дерево, какое только мог найти. Думаю, это был Синдром Джима Хокинса[330], желавшего быть Наверху, в вороньем гнезде на «Эспаньоле». Я стояла и смотрела, как он прокладывает себе путь по большому каштану у ворот в Длинный Луг. Если бы дерево не закончилось, если бы не было самой высокой ветки, то, думаю, он поднялся бы еще выше. Таков мой брат. Я теряла его под пологом листьев. Я сидела внизу и читала книгу, часто вытягивая шею, чтобы посмотреть вверх. Так вы смотрите, когда птица исчезает в листве дерева, но все еще слышно ее пение. Впрочем, Эней не был птицей. Часто на верхушке дерева раздавался внезапный шум, затем быстрый треск и крик. Длилось это мгновение. Я опускала книгу, окликала Энея по имени, искала и не находила его, но видела, что где-то наверху дерево оживает, трепет листьев спускается, белая отломанная ветка приплывает вниз, и дотоле невидимый Эней падает сквозь зелень, крутясь и хватаясь за ветки. Это была своего рода шутовская акробатика, ею занимаются некоторые мальчишки, не замечающие и не чувствующие опасности. Эней пролетает пятнадцать футов[331] внутри кроны дерева, но цепляется за что-то, и я вижу только, как на мгновение свисают его синие кроссовки. Они движутся в воздухе, будто крутят педали, пока не находят ветку.
— Эней? Эней, ты в порядке?
Я слышу его смех. Там, наверху, на дереве, он смеется. Потом отзывается:
— Да.
И снова карабкается вверх. Он карабкается, будто находится в своем собственном внутреннем Цирке Даффи, и где-то там, на самом верху, сидит блистательная девочка. Он лезет вверх, пока не оказывается в небе. Тогда он смотрит на реку сверху.
Как сказала Полин Демпси, у некоторых людей на плечах лежит рука Божья.
Ему следует лучше закрывать колени, сказала Бабушка.
Несмотря на Бабушкины латки на коленях, к тому времени, когда Энею исполнилось семь, на обоих его коленях были припухшие морщинистые шрамы в форме полумесяцев. Он показал их мне, но ему было все равно. С кровяной коркой, с застрявшими камешками, сорванной кожей, часто пурпурно-синие, намазанные йодом, колени были исписаны его приключениями. Как-то раз, несколько лет спустя, я подумала об этом в классе миссис Куинти, когда мы читали стихотворение Элизабет Бишоп[332] об огромной рыбе. Рыба избежала крючков, но несла их отметины. В конце концов ее поймали. (Книга 2993, «Собрание Стихотворений», Элизабет Бишоп, Фаррар, Страус и Жиру, Нью-Йорк.) Но та рыба была старой.
Когда папа в первый раз взял Энея на рыбалку, то, конечно, не знал, что произойдет. Меня спросили, хотела бы я пойти с ними, но к тому времени я уже работала над своей Теорией Близнецов, согласно которой, если один близнец любит улицу, другой любит находиться в закрытом помещении, если один любит книги, другой — музыку, один — красное, другой — черное. На последних страницах моих рукописей целые списки чего-то подобного. Итак, когда Эней сказал рыбалке «да», я сказала «нет». В то время я еще не знала историю лосося в семье Суейнов, я не видела Дедушкиных Дневников Лосося, не прочитала «Лосося в Ирландии» и не думала, что моя способность все помнить, накапливать знания была в любом случае связана с рыбой.
Мой отец к тому времени был В Другом Месте. Писал стихи, которые приходили ему в голову, как таинственные бабочки, неизвестно откуда прилетающие в марте. Обрабатывал четырнадцать акров худшей в Ирландии земли, выращивал бурьян среди луж и заботился о самых тощих фризских дамах[333], какие когда-либо появлялись в Клэр Мартс[334]. Я должна была уже что-то заметить, когда он достал удочку. А глядя, как он собирает ее, как стоит в садике перед домом, тренируясь забрасывать удочку, бросая леску через завесу мошки, пытаясь подсечь невидимое, я должна была понять, что ловля лосося — дело серьезное.
Таким же, как недоедание. У вас нет денег, но есть река, полная рыбы, плывущей мимо вашей парадной двери. Можете себе представить.
Папа любил Энея больше всего на свете, но не мог показать этого. Просто не мог. Есть Кодекс отцов в Ирландии. Возможно, как и везде, я не знаю, не выясняла. Мой отец следовал Кодексу. Он был осторожен со своими детьми, он не хотел испортить нас, хотя каким-то образом чувствовал, что сделает это. Он думал, что Эней и я были чудесными, но не хотел ошибиться. Возможно, думал, что Авраам наблюдает за ним. И, вероятно, думал об этом в течение долгого времени, прежде чем понял. Перестав понарошку забрасывать удочку, он решил, что должен порыбачить с Энеем. Папа мог быть таким внезапным. Он ничего не мог с этим поделать. Такова природа Поэтов. Если вы мне не верите, то посмотрите на Уильяма Блейка[335] и поприветствуйте его душевные порывы. Повстречайтесь с мистером Джоном Донном[336] в темной церкви, проведите летний день с молодым Уильямом Батлером[337], Первоклассным Ловцом Бабочек.
На рассвете Папа потряс Энея, чтобы разбудить.
— Пошли.
Я лежу в своей кровати-лодке, а они шепчутся внизу, и затем я слышу тихий глухой стук, когда они надевают резиновые сапоги, негромкий скрежет жестяной коробки, в которой хранятся мушки, и четкий отскок защелки, когда они выходят за дверь.
Я должна была пойти.
В тот момент я поняла, что должна была пойти. Но я была одержима собственным умничаньем и не пошла в обход теории близнецов.
В семьях трудно проследить последовательность событий. Если вы участвуете в ней, то есть в этой последовательности, то Сюжетную Линию ясно не видите. Что-то меняется, но вы узнаете об этом значительно позже. Вы думаете, что каждый день уныл, как и любой другой, и если что-то случается, то не в вашей семье и уж никак не в Фахе. Вы думаете, что ваша странность — это норма. Вы думаете, что если Бабушка всю жизнь собирает «Клэр Чемпион», то это нормально. Вы думаете, что если Дедушка издал книгу, но не захотел указать на ней свое имя, то это нормально. Вы думаете, что если ваш отец хочет быть поэтом, но должен быть фермером, если он ничего не смыслит в сельском хозяйстве и не издаст никаких стихов — все это Нормально.
Лосося в тот день Папа с Энеем не поймали. Поймали какую-то другую рыбу. То, что произошло, не имело отношения ни к улову, ни к отцу с сыном, стоявшим на берегу реки Шаннон. Это не было «Теперь послушай, Сын», это не было как у режиссера Роберта Рэдфорда в великолепном фильме «Там, где течет река»[338], и мой отец не открыл свое сердце и не сказал «Думаю, моя жизнь была огромной ошибкой, все мои стихотворения плохие, у нас нет денег», и Эней не признался ему, что тайно влюблен в Джейн Броудер. То, что произошло, сначала не было ни замечено, ни понято.
А произошло вот что: в тот день мой брат Эней влюбился в реку.
Глава 18
Когда Дедушки Авраама не стало, Бабушка ощутила краткий миг Победы, как будто, пережив Дедушку, она могла раскрыть все свои карты и объявить, что наконец-то одержала победу в Игре Под Названием Брак. Только через год, когда долгими зимними вечерами волкодавы — у них уже начали появляться первые признаки аромата карри от недержания мочи, как сказал мой отец, — грызли волокнистую бахрому индийского ковра, подъемные рамы высоких окон дребезжали, будто смеющиеся зубные протезы, а из камина вырывались огромные черные клубы дыма, Бабушка поняла, что Дедушка мог бы теперь сказать «Ну, и кто смеется последним?».
Тетушки учились в такой школе, где книги носят на голове. Эстер, старшая, окончила школу через год и сразу пошла работать в Банк. Так это делалось в те дни. Такие девушки, как Эстер, умные и правильные, умеющие носить юбку и блузку, наученные первоклассными монахинями сидеть совершенно прямо, держать колени вместе, собирать волосы в плотный-плотный-плотный пучок, — такие девушки могли бы работать секретарем у самого мистера Энрайта. Такие девушки могли жить в квартире в Ратмайнсе[339], у них мог быть Женский Велосипед Рали[340], они могли проводить вечера со стиральным порошком Persil и паровым утюгом Philips, после чего утром отправляться в Дублин свежими, как Palmolive. Начинались Шестидесятые — но только не в Ирландии. Возможно, Министры думали о Развертывании новой эры, но они должны были заручиться решением Совета по Цензуре[341], впрочем, Тетушка Эстер всегда опаздывала на несколько десятилетий. Бедняжка была слабонервной, не могла вынести даже мысли о нарушении порядка и делала все, как полагалось. У мистера Энрайта карандаш ни разу не оказался не на своем месте. Банки в те дни были очень похожи на церкви; если вы собирались в Банк, то должны были надеть лучшую одежду, и Банковский Служащий считался Очень Хорошим Уловом. Полагаю, у тетушки Эстер были надежды, но мистер Энрайт понял, что если женится на ней, то потеряет превосходную секретаршу. И он выбрал совсем не подходящую ему дочь президента банка и начал играть в гольф. Тетушка Эстер присутствовала на их свадьбе. Когда я думаю о ней, то представляю высокую девушку на заднем плане свадебных фотографий, ширококостную, со смущенным видом, без устали ходившую по магазинам в поисках подходящего платья, но сказавшую «Да, конечно», когда фотограф решил, что лучшее место для нее было в третьем ряду. Думаю, Тетушка Эстер присутствовала на многих свадьбах, и постепенно едкое разочарование в окружающем ее мире проложило себе путь ей в душу. Надежде, знаете ли, нужно много времени, чтобы умереть. Когда мы навестили тетушку Эстер в «Сент Джуде» — это дом престарелых, потом он будет называться Уиндермирским и в конечном счете окажет радушный прием Тетушке Дафне, — Тетушка Эстер должна была крепко сжимать руки, так они дрожали. В тот наш приезд Тетушка Эстер была в бледно-синем кардигане и белой блузке с едва выступающими манжетами, белый льняной носовой платочек был засунут в левый рукав у самого запястья. Она не могла держать неподвижно голову, которая вздрагивала как-то странно, будто от разрядов электричества, однако Тетушка не прекращала борьбы с ними, пытаясь держаться неподвижно, как и полагается такой, как она, даме, и Принимала детей своего брата, потому что это было правильным поступком, а мы с Энеем просто стояли рядом с нашим отцом, видели, как стекленеют его глаза, и думали, что для женщины, страдающей столь ужасно, попытка следовать правилам приличия и была Невозможным.
Дафна и Пенелопа были не только сестрами, но и близкими подругами. Бабушке они никогда не доставляли неприятностей, были своей собственной мини-компанией и, как я сказала, с самого начала Выбрали свое собственное Общество и захлопнули дверь.
Но что Бабушке было делать с Вергилием? Она боялась, что без отца сын будет… ну, в общем, я не уверена, чего точно она боялась, но если учесть, какими был Авраам и Преподобный, возможно, было благоразумно предположить, что и у Вергилия окажутся Странности Суейнов. В те дни Эшкрофт уже начал ветшать. Общепризнанно, что женщина без мужа замечает дряхлость своего жилища внезапно. Она, конечно, понимает, что это произошло не за одну ночь, но, проснувшись однажды утром, видит, что сухая, влажная и средней влажности плесень обосновалась в доме повсюду, краска слезает с верхней части стен в гостиной пугающе большими вздутыми хлопьями, концы половиц в прихожей изъедены гнилью, у крышки фортепьяно неизвестно откуда взялся небольшой, но вполне заметный изгиб, а труба камина — того, что в комнате для гостей — лежит на Круговой Подъездной Дорожке. И вот, после раздумий о том, что же ей теперь делать с Вергилием, она попросила его уделить внимание дому.
Таков был Бабушкин стиль. «Вергилий, займись этим, пожалуйста». И на этом все. Бабушка уходит к себе, строя из себя королеву Викторию в представлении Киттерингов, с достоинством подняв нос и всем своим видом показывая, что дальнейшее ее не интересует.
Ясно же, она никогда не понимала моего отца.
Ведь не вызывало сомнения, что, во-первых, он приступит к делу с той жестокой мальчишеской сосредоточенностью, какую — и я это хорошо помню — я видела у Энея, и, во-вторых, у Вергилия конечно же ничего не получится. Однако он стучал и пилил, закрашивал темные пятна, появившиеся на стенах, и заполнял газетами щели между оконными рамами.
Эшкрофт отстал от жизни. Я даже не уверена, что он вообще был в этой стране. Когда мой отец вспоминал о нем, повествование всегда получалось отрывочным, и эти куски отец вставлял в другие рассказы, но как только я слышала их, то сразу представляла, как от мальчика ждут, что он станет мужчиной в большом разваливающемся доме, и куда Гаффни и Бучэр, здоровенные мужчины Мита, приезжают в фургоне с привязанными к крыше лестницами и чешут в затылке, увидев, что в Ирландии еще остались люди, живущие в таких условиях. Гаффни и Бучэру подают чай с булочками в задней кухне, но в фарфоровых чашках Эйнсли[342] с волосными трещинами. Мой отец сам подает еду. Он — Маленький Лорд Суейн, как я предполагаю. У него одежда из магазина «Switzer»[343] в Дублине, то есть Высшего Качества, но изношенная и не того размера, а мистеру Гаффни и мистеру Бучэру кажется эксцентричной. Папа носит шлепанцы и в доме, и снаружи, его пальцы ног в красных носках высовываются наружу. На нем три слоя рубашек, с воротниками и без, ни одна из них не заправлена в штаны. У него тот английский тип волос, которые не подчиняются расческе, а теперь еще и перемазаны красками, но, кажется, Папу это совсем не беспокоит. Пока он заваривает чай на «Аге»[344], мужчины обсуждают происходящее в графстве Мит, а мой отец стоит и читает книгу. Он понятия не имеет, о чем они говорят. Возможно, рассказывают друг другу новости из Бробдиньяга. Я искала такую сцену у Элизабет Боуэн[345] (Книга 1365, «Последний сентябрь»; Книга 1366, «Смерть сердца», Анкор, Нью-Йорк), у Уильяма Тревора[346] (Книга 1976, «Сборник рассказов», Пингвин, Лондон), у Молли Кин[347] (Книга 1876, «Хорошее Поведение», Вираго, Лондон) и в «Березовой роще» (Книга 1973, Джон Бэнвилл[348], У. У. Нортон, Нью-Йорк), но так и не нашла, а потому мне лишь остается верить, что мой отец этого не выдумал, значит, так все и было. Итак, он стоит, читает «И восходит солнце» Хемингуэя, держа книгу в левой руке, а правой наливает чай, не отводя глаз от страницы. Мужчины замолкают. Они ожидали, что Вергилий окажется со странностями, он же Суейн в Эшкрофте, но одновременно наливать чай и держать книгу Хемингуэя — это уже определенная ловкость, признают они. Так выглядит человек, Погруженный в Книгу. Они это понимают и относятся со своего рода уважением, как свойственно сельским жителям. Бучэр спрашивает моего отца, почему тот не в школе, но Вергилий не отрывается от книги, чувствуя боль Джейка Барнса и восхищение леди Бретт Эшли[349]. Снаружи пасмурный летний день, Вергилий стоит в подвале Эшкрофт Хауса, в сырой кухне, но в мыслях уже на пути к кипящим боям быков в Памплоне[350] и, не отрывая глаз от страницы, отвечает:
— Потому что собираюсь стать писателем.
Подростки могут быть несносными из-за своей уверенности. Это правда. Отвратительное нытье, как говорит Маргарет Кроу.
Но в одном Вергилий был прав. Не было никакого смысла ходить в школу. Приходилось бы притворяться, что познания у него гораздо меньше, чем на самом деле. В то время школа в Ирландии была в значительной степени фабрикой священников и государственных служащих — в зависимости от предрасположенности учеников. Отчисленных отправляли учиться ремеслу, потому что к деньгам и деланию денег обычно относились неодобрительно. Если же не давались Предметы Высшего Уровня, Математика и Латынь, то путь лежал в Торговлю, а в то время это слово считалось непристойным. Мне кажется, потребовалось примерно полвека, чтобы все поменялось, и к мальчикам с Математикой и Латынью стали относиться пренебрежительно, а какой-нибудь продавец газет вроде Шони О мог купить четыре отеля в Болгарии и, чувствуя себя Маленьким Диктатором, проезжать через Фаху в «Ленд Ровере» с черными стеклами. Как бы то ни было, мой отец не собирался ходить в школу.
В то же время он был практически бесполезен дома. Какое-то время Бабушка не замечала — или делала вид, что не замечает — этого. Чтобы занять его, она давала ему работу по дому.
— Перила, Вергилий, ты посмотришь их?
— Вергилий, дверь в гостевую комнату на верхней площадке, — роняла она мимоходом, вручая ему фарфоровую дверную ручку, которая отвалилась, когда Бабушка всего лишь дотронулась до нее.
И тому подобное. Они были чужими друг другу и жили в том большом вакууме, который появился после того, как Авраам ушел из жизни. Такое происходит и в Библии — когда уходит выдающаяся личность, образуется естественная пустота, пока Бог думает, кого прислать. В Библии Авраам умирает, когда ему исполняется 175 лет. Он был личностью, и Бог не хотел позволить ему уйти. Через некоторое время Он послал Исава. Такого нельзя не заметить. Когда он появился, говорится в Библии, то весь был красным и будто в волосатом одеянии[351].
Шучу.
Папа не мог ничего починить, хотя и старался. Так они и жили, он и его мать, слоняясь без цели по большому дому.
— Вергилий, будь умницей, похорони Сарсфилда[352].
История снова стала грубой, и мистер МакГилл с особым светом в глазах отправился на Север. Он оставил книги моего отца с застрявшими между страницами прядями рыжих волос и слабым серным душком национализма.
Мой отец и его мать так и жили в пыли постепенно разрушавшегося дома, где тихо потрескивало радио, настроенное на канал Би-би-си. Они почти ничего не ели, кроме Branston Pickle[353] на тосте, консервированного лосося и Bird’s Custard[354] — заварного крема, неудачно названного «птичьим». Бабушка не верила, что у продуктов должен быть Срок Годности. Она соглашалась, что продукты испортились, лишь много позже того, как были срезаны посиневшие куски и части, ставшие мохнатыми, но даже тогда «То, что осталось, совершенно съедобно, Вергилий». Именно так, совершенно съедобно. Сроки Годности были для нее полной ерундой, заговором владельцев магазинов, чтобы обманом заставить менее проницательных людей делать покупки. На кухне было немного Marmite[355], который должен был закончиться год назад. Но и он был совершенно съедобным. «Marmite не может испортиться, Вергилий». Она почти ничего не покупала в магазинах, и, хотя об этом не говорили, в Эшкрофте возникла стратегия импровизации. Вы смотрите в шкаф и выбираете банку чего-нибудь, открываете ее и нюхаете. Если после этого вы еще держитесь на ногах, вы съедаете содержимое. Все еще существовал большой винный погреб, и Бабушка начала с самых старых бутылок, рассуждая — впрочем, Ваш Повествователь с ней в этом согласен, — что она может умереть прежде, чем дойдет до современных бутылок. В кабинете Авраама мой отец обнаружил огромные запасы сигарет, и осенними вечерами, когда читал Хемингуэя на верхней площадке лестницы под единственной в доме неперегоревшей лампочкой, пристрастился к курению и почти сразу очутился рядом со своим отцом на поле битвы во Франции.
В один прекрасный летний день служащий банка по имени мистер Хоулихэн — в нем я всегда вижу мистера Гашера из «Холодного Дома», обрюзглого джентльмена, покрытого влагой, — позвонил в неработающий дверной звонок. Некоторое время он ждал, затем повернулся, чтобы рассмотреть дымовую трубу, лежащую на Круговой Подъездной Дорожке, повернулся к двери, ладонью вытер пот на лбу, но безрезультатно, пожевал дряблую жирную нижнюю губу, опять позвонил в неработающий звонок, посмотрел вверх на разрушенное величие Эшкрофта. Потом посмотрел вниз на блеск своей обуви, решительно постучал дверным молоточком, — три сильных уверенных удара, как и подобает положению мистера Хоулихэна, еще раз промокнул лоб и уже начал было третью попытку, когда Вергилий вышел из-за угла и сообщил, что дверь больше не открывается.
На Вергилии была пижама под слишком большим синим блейзером Авраама. Он провел мистера Хоулихэна вниз по ступенькам и впустил в подвал, провел через кухню, где кот Парвис облизывал крышку от Branston Pickle, а четыре немытые бутылки из-под молока наполняли воздух прокисшим запахом, и, наконец, по лестнице черного хода, предупредив, что не надо наступать на четвертую сверху ступеньку. Ботинки мистера Хоулихэна скрипели. Во мраке коридора без окон, где не горела лампочка, Вергилий шел с уверенностью незрячего в ослепшем мире, и мистер Хоулихэн с ужасом следовал за своим проводником, покрываясь холодным потом.
Вот так, окольным путем, они прибыли в передний зал точно за той самой парадной дверью, и Вергилий сказал:
— Я позову Маму.
Мистер Хоулихэн подождал, опять вытер лоб и рассмотрел сложившиеся обстоятельства. Он ни разу не был в Эшкрофте, лишь в детстве один раз залез на стену сада, а в другой раз смотрел на экзотическое королевство, каким в то время был Эшкрофт, из дикой травы Длинного Луга. А однажды, когда шел домой от Братьев, Авраам проехал мимо в старом пыльном «Хамбере»[356] цвета чернослива, и будущему мистеру Хоулихэну захотелось иметь такую же машину. Но сейчас мистер Хоулихэн здесь, в Эшкрофте, по делам банка. Он потянул вниз нижний край своей куртки — от сырости она стала короче. Потом пожевал губу и моргнул. В переднем зале было два высоких стула из красного дерева. Они стояли у стены по обе стороны парадной двери, и на них никто никогда не сидел. Они были лишней мебелью, какая бывает в таких зданиях, как это. Их подарили на свадьбу, один стул для Него, другой для Нее. Стулья для Его и Ее Величеств, с жесткими спинками и полинявшими вышитыми сиденьями, которые какая-то швея сделала во времена кого-то из первых Людовиков, были такого рода вещами, какие любят французы потому, что стулья красивые и абсолютно непрактичные, и еще потому, что только французские derrières[357] могли помещаться на них. Ведь глядя, например, на Тетушку Дафну, было трудно представить, как ирландские ягодицы могут устроиться на таком стуле.
Однако мистер Хоулихэн смог. Возможно, им овладело беспокойство из-за происходящего, возможно, он хотел избежать скрипа своих ботинок, который, казалось, подрывал его авторитет. Итак, мистер Хоулихэн сел на стул.
Едва он там очутился, то понял, что пропорции стула были более декоративными, чем пропорции человеческого тела, потому что его ноги не касались земли.
— Мистер Хоулихэн, — пророкотала Бабушка глубоким голосом.
Английское наследие бабушки означало, что у нее был голос Империи, голос выйдите-из-своих-травяных-хижин-и-отдайте-нам-свои-сокровища-для-наших-музеев. Эта женщина могла рокотать глубоким голосом, и звук был действительно ужасающим. Даже много лет спустя, когда мой отец подражал ей, она казалась нам частично Маргарет Тэтчер, частично лошадью, и мы с Энеем каждый раз пугались.
Так вот, Бабушка пророкотала глубоким голосом имя гостя и пошла перед ним в гостиную. Она не сказала «Как дела» и не спросила, зачем он пришел, она просто вела его. Есть некоторая бесцеремонность, которая пришла со стороны Киттерингов, и они ничего не могут с ней поделать. Они ожидают, что люди будут следовать за ними. Мистер Хоулихэн с трудом спустился со стула, последовал за Бабушкой, и его ботинки скрипели.
Бабушка заняла лучшее место во главе обеденного стола. Окно находилось позади нее, так что она была похожа на статую или, точнее, на античный бюст.
Как и мистер Гашер, мистер Хоулихэн нашел, что его потливость становится чрезмерной. Он блестел. Блеск сам по себе не был проблематичным и мог быть интерпретирован как страстный. Но в тот раз блеск произвел впечатление обычной потливости.
— Вам жарко, мистер Хоулихэн?
— Нет, нисколько, спасибо, миссис Суейн.
— Киттеринг-Суейн.
— Извините. Миссис Киттеринг-Суейн. Ну, возможно, да, только чуть-чуть. Тепло, на самом деле. Жарко. Да. Здесь ведь жарко?
— Я не думаю, что это так.
Гостиная летом порождала мух. Хотя высокие окна никогда не открывались, а мой отец газетами заткнул все щели между рамами, мухи находили дорогу в комнату. Возможно, спускались по дымоходу. Они жили в воздухе между полом и потолком, и многие умирали, и их бренные останки оставались на полу. Мой отец называл мух местным населением. За пять минут они нашли сырой очищенный лук, который был мистером Хоулихэном.
Он открыл свой кейс и вынул тонкую папочку:
— Фактическое финансовое положение, миссис Киттеринг-Суейн.
А затем — с этого, собственно, он и должен был начать, — начал отмахиваться от первой мухи.
Приближаться к Бабушке мухи не смели.
— Финансовое положение?
— Да, ну, на самом деле мистер Суейн не… — Хоулихэн нырнул, уклоняясь от синей мухи, сделал паузу, погрыз еще немного свою резиноподобную нижнюю губу. — Ипотека, которую он взял на дом…
Синяя муха возвратилась к нему, потом прилетели другие. Много лет спустя мой отец сделал из этого пантомиму. Он лежал на кровати, а мы с Энеем изображали мух — жужжали, быстро двигали пальцами в воздухе и искали багровое лицо мистера Хоулихэна, когда он пытался сказать Бабушке, что Дедушка взял деньги под залог дома и не возвратил ни пенса. Мы летели в рот мистера Хоулихэна, когда он показывал Бабушке составленный им график погашения долга и просил ее согласиться. Мы вопили и смеялись, когда мистер Хоулихэн глотал муху и кашлял, и плевал, и махал своими толстыми руками, и выкатывал большие пузыри глаз. Мы щекотали мистера Хоулихэна под ребрами, где он не мог остановить нас, и он не мог закончить предложение иначе, как криком «Но деньги, миссис Киттеринг-Суейн, деньги!», и затем он падал с кровати бряк! на пол и затихал, а мы с Энеем, еще немного похихикав, начинали волноваться и смотрели через край кровати вниз, туда, где лежал папа, и его лицо было промокшим насквозь от смеха или слез, мы не могли точно сказать.
Глава 19
Где ты, Эней?
Ты ускользаешь от меня, как всегда. Где ты?
Глава 20
— Миссис Куинти, а вы смогли бы с Небес увидеть землю?
— Да ладно тебе, Рут.
Миссис Куинти выпрямилась еще больше и прижала коленные чашечки одну к другой.
— А они могут нас увидеть? Вот прямо сейчас? Через крышу или окно в крыше? Как вы думаете?
Миссис Куинти на самом деле не нравится этот разговор.
— Мне на самом деле не нравится этот разговор, Рут.
— Но каково ваше мнение?
— Я на самом деле не думаю, что уместно говорить об этом. И я скажу тебе, почему.
— Вы верите в Небеса?
Миссис Куинти резко вздохнула, будто воздух был горьким, но целительным лекарством, которое надо принять.
— Ну, так вы можете или не можете видеть то, что происходит здесь, когда вы там?
У миссис Куинти появились ямочки от смятения. Она взяла себя в руки и поглядела через дверь, желая заглянуть в комнату Энея, где у Мамы все выстиранное белье висит на стульях и табуретах, потому что снаружи ничего теперь не сохнет и, несмотря на дождь, здесь, в комнатах под небом, самое сухое место в Фахе. Использовать комнату таким образом практично, хотя она похожа на призрак прачечной — как в том описании, какое я читала у Шеймаса Хини[358], где он повествует о призраках, которые, уходя в свой призрачный мир, оставляют одежду на живых изгородях, — а еще комната Энея похожа на тайную Стартовую Площадку для Взлета. Миссис Куинти продолжала смотреть туда, подбирая слова. Возможно, она хотела, чтобы ответ прозвучал официально. Возможно, проводила в уме свой собственный внутренний поиск в Гугле и — на самом деле впервые — искала «Небеса». Ей не надо было искать Пиндара, Гесиода, Гомера, Овидия, Пифагора, Платона, Августина, Фому Аквинского[359]. Ей не надо было открывать те книги моего отца, что были куплены на монастырской распродаже и пахли ладаном или сыром с голубой плесенью, — ни «Хвалу божественной мудрости» Александра Неккама[360], ни «Weltchronik» Рудольфа Эмсского[361], ни переведенное сочинение «Картина мира» Гонтье Меца[362], составленное в 1247 году[363], в нем он определил местонахождение Рая точно «в точке, где начинается Азия».
Те писатели, которые связали себя с географией, пытаются объяснить, как это Рай не был смыт во время Всемирного Потопа. А другие должны были объяснить, что Небеса обычно размещали над нами, когда землю считали плоской. Поскольку умершие, ну, я не знаю, например, в Австралии, когда шли вверх на Небеса, то должны были вознестись где-то в Литриме[364], который, в свою очередь, мог бы быть Раем для мокролицых мужчин в резиновых сапогах из Драмшанбо[365], но станет святым испугом, как говорит Томми Фитц, для любящих солнце обладателей сандалий из страны Оз[366]. Нет, миссис Куинти не должна была двигаться от Святого Брендана[367] к Данте. Все, что она сделала, — перевела сияющий взгляд на дождевой свет[368], и вот — она в дождливый день после полудня в младшем классе Макросс Парк Колледжа[369] смотрит на картину, на которой святые стоят на облаках, и монахиня в белом говорит:
— Смотрите, девочки, это Небеса.
Точная физика и география небес были Неизвестны, и это так, как должно быть.
Пока не прибыли вы.
И внезапно все поняли, даже если у вас тусклый ум, как у Денниса Делани, лицо которого похоже на морду летучей мыши, кто не мог пользоваться календарем и писал собственное имя Дис. Все действия Божьего ума вдруг стали ясны для вас, и вы сказали «А-а». А до тех пор это Тайна.
— Я не верю в Небеса, — сказала я.
Миссис Куинти возвратилась из младшего класса.
— О, Рут.
— Не верю. Бывают дни, когда просто не верю. Думаю, нет никакого смысла ни в чем этом. Просто несусветная чушь. Просто сказка. Люди умирают и исчезают. Они не видят вас, а вы никогда не увидите их. Это просто сказка, чтобы уменьшить боль.
Миссис Куинти смотрела на меня. Смотрела так, как вы смотрели бы на собаку, упавшую в реку и с трудом вернувшуюся на берег.
— Возможно, и сказка, — сказала она наконец. — Но это наша сказка, Рут.
К концу того лета в Эшкрофте у моего отца почти закончились рассказы. Он прочитал без малого всю библиотеку своего отца и наконец дошел до «Моби Дика». То издание, что у меня, это книга в мягкой обложке, оранжевой с белым (Книга 2333, Герман Мелвилл, Пингвин, Лондон). Она очень замусолена, по крайней мере трижды прочитана, и у нее тот запах, какой приобретают эти книги, когда вспучиваются, а их страницы желтеют, — в сущности, это запах совокупного человечества, что-то вроде пота и соли, и стараний. Оранжевые книги издательства «Пингвин» становятся толще от чтения, как и должно быть, потому что, в определенном смысле, чем больше вы читаете ее, тем больше становится ваш собственный опыт восприятия мира, тем шире ваша душа. Попробуйте и сами увидите.
Мой отец часто возвращался к «Моби».
Возможно, потому, что в целом мире нет другого романа, в каком Невозможный Стандарт был бы уловлен лучше.
Лето шло к концу. В Эшкрофте Вергилий читал «Моби». Однажды вечером — потому ли, что он скучал, потому ли, что он был в одной из тех безумных глав, в каких описан внешний вид китов, — он пошел и снял с полки один из неиспользованных Дневников Лосося, принадлежавших Аврааму, и вскоре после этого начал писать роман, сидя среди Хэвишемской пыли и паутины в не-обеденной Обеденной Зале Эшкрофта. Действие должно происходить на корабле в море.
Но нужен некий выверт ума, чтобы быть способным написать что-либо. И еще один выверт, чтобы быть способным писать каждый день в разрушающемся доме, в обществе матери, посещающей винный погреб, и потного Менеджера Банка, ожидающего согласия на «Миссис Киттеринг-Суейн, сделайте хотя бы шаг навстречу».
У моего отца были оба эти выверта. Как Мэтти Нолан сказал об Отце Фоли, когда тот возвратился с коричневыми ступнями после тридцати лет жизни в Африке, «Бедняга, он был Очень Далеко». Вергилий обладал способностью сосредоточиться и передал ее мне. Он заполнял один Дневник Лосося и начинал следующий. Он пошел немного по пути Марка Аврелия (Книга 746, «Медитации», Пингвин Классикс, Лондон), который сказал, что люди рождаются с разными одержимостями. Молодой Марк хотел из воображаемых событий сделать развлечение. Вергилий Суейн был знаком с Марком. Воображаемые события, воображаемые люди, воображаемые места, — все, что у вас есть, ваше. Одержимость, достойная золотой медали.
Полагаю, на самом деле это были просто прыжки с шестом, только более коротким.
Дело в том, что он был Очень Далеко.
Там он и был, когда пришли забирать мебель. Сам мистер Хоулихэн не вошел в дом. Он оставался у ворот в своем автомобиле, прикладывая руку ко лбу и потея, заглядывал в дом, моргая быстрыми вспышками смутной вины, и поймал себя на том, что жевал губы, пока они не стали похожи на лопнувшие сосиски на перегретой сковороде. Приехали Гаффни и Бучэр, припарковали грузовик на Круговой Подъездной Дорожке около упавшей дымовой трубы и вошли, как птицы с длинными шеями, выкрикивая на весь дом разные вежливые, но так и оставшиеся без ответа приветствия. У обоих плечи были низко опущены, взор потуплен и очень виноватый вид. Бабушка не появилась. Они вошли в фойе и начали снимать со стены золотые зеркала. Один винт никак не желал отвинчиваться, лишь поворачивался и поворачивался, и Гаффни, приложив усилия и мясистость Мита, отломал кусок лепной рамы девятнадцатого века. Бучэр плечом высадил парадную дверь, и впервые за многие годы Эшкрофт открылся дневному свету. Гаффни и Бучэр забрали длинный буфет (оставив на полу двух фарфоровых собак-близнецов, будто на страже), стоячие часы Ньюгейт[370], стулья с вышитыми сиденьями — то, что в стиле кого-то из первых Людовиков, — Честерфилдский Диван, четыре кресла с разными подушками. Гаффни и Бучэр сердились и пыхтели, пока двигали длинный обеденный стол, сделанный из дуба, — этот стол ударялся о косяк и никак не хотел пролезть в дверь, ни боком, ни вверх ногами, вообще никак, Фил; Ты сейчас здесь, Майкл[371] — и в конце концов его так и оставили, точно в двери столовой.
Ко времени вечернего чая Вергилий высадился на берег в этом мире. Он не понял, что произошли изменения, пока не спустился вниз, не пересек переднее фойе и не почувствовал что-то под ногой. Он наклонился, поднял кусок золотой лепнины и именно тогда увидел, что зеркала исчезли, а парадная дверь широко открыта. Он позвал мать. Она не ответила. Он позвал ее снова, на этот раз поднявшись по лестнице, решил «Нас ограбили», и подумал, что это произошло, пока он был занят охотой на китов у берегов Нантакета[372].
Постучал в дверь Бабушки. Позвал ее. Открыл дверь и увидел, что она, согнувшись, лежит на кровати, одна рука свисает набок, будто Бабушку поймали и потянули вкось, а затем она либо высвободилась, либо была отброшена назад. Лицо Бабушки перекошено, губа с одной стороны оттянута вниз, будто рыболовным крючком.
Инсульт — не то слово, как говорит философ Дони Доунс. Лучше сказать сильный удар. Долбаный удар, когда бьют где-то внутри затылка. Вот так: Хрясь! И вы отключаетесь, как если бы в Электрической Сети пропала энергия. И вы лежите в Большой Тишине, безмолвно проклиная закрытие отделения Скорой помощи в Эннисской Больнице и надеясь, Боже мой, что Тимми и Пэки уже едут. Дэн вернулся к нормальной жизни, СБ, сказал он, что значит Слава Богу, за исключением непреодолимого желания рассказывать о точном характере и размере его удара каждой проходящей мимо живой душе у Райана, Нолана, Хэнвея, в почтовом отделении, приходя или уходя с Мессы.
Бабушка не поправилась. Возможно, и не хотела. Возможно, как только ее пронесли через парадную дверь Эшкрофта, потом грубо, хорошенько встряхнув, сквозь дымный выхлоп машины «Скорой помощи» вкатили в мрачный металлический интерьер и привязали ремнями, один ее властный глаз сверкнул, и она, возможно, осознала, что больше не будет ходить в винный погреб. В этот миг у нее случился второй инсульт. В Фахе слово, смертельно присоединенное к инсульту, — «обширный». Этот был Обширным, да еще, к ее вечному унижению, случился не в отдельной комнате, не на кровати с кучей подушек из гусиного пуха, элегантным постельным бельем и дежурными медсестрами, говорящими с правильным акцентом. Нет, все произошло в машине «Скорой помощи», застрявшей на узком изгибе где-то возле Навана[373] в ожидании, пока дорогу перейдут своенравные пугливые телята. Бабушкин сын сидел рядом с нею.
Через три недели после смерти бабушки Вергилий тоже покинул Эшкрофт. В мире этом он не мог найти себе места.
Взяв «Моби Дика», он отправился на автобусе в Дублин. Через два дня Вергилий поднялся на борт Торгового Морского судна, пришвартованного на реке Лиффи.
И вышел в море.
Часть вторая
Легенды и мифы
Глава 1
Давным-давно, когда все мы были морскими водорослями, начинает Томми Девлин и устраивается поудобнее в предвкушении долгого повествования.
Томми Девлин — двоюродный брат Бабушки. Он признает лишь строго коричневые брюки. Он постоянный читатель газеты «Айриш индепендент». Он всегда бьет себя кулаком по ладони, когда на стадионе «Кьюзак-парк» парни из Бродфорда[374] выигрывают очко. Ну надо же! История Мира в изложении Томми не записана, но твердо зафиксирована в его уме, как и то, что Chocolate Goldgrains — единственное печенье, Flahavan’s[375] — единственная каша и Фианна Файл[376] — Истинные Правители (как и остальные мифологические герои, в настоящее время претерпевают временный период изгнания).
Давным-давно, когда все мы были морскими водорослями, говорит он, в некоторых морских водорослях уже были микробы — или геномы, или что там еще — МакКарроллов, а остальное было вопросом только времени и творения.
В то время Ирландия находилась внизу, на Южном полюсе. Поэтому, я думаю, это была замороженная морская водоросль того вида, какой Пэдди Коннолли начал продавать в вышеупомянутой деревне Куилти, думая, что во время Бума она завоюет такую же популярность, как замороженный йогурт, но не рассчитал силу соли, заставляющей ваши губы раздуться наподобие слизняков во влажном июне, пока вы стоите там, посасывая морскую водоросль Куилти. Потом наступил Кризис, у японцев случилось землетрясение и мини-взрыв ядерного реактора[377], они больше не могли есть собственные водоросли и начали рассылать делегации по всему миру в поисках хороших морских водорослей. Некий мистер Оониси прибыл в Графство Клэр, попробовал на вкус замороженный карраген[378], пришел в odorokuhodo yoi, что на японском означает полный восторг, и семейство Коннолли вернулось в бизнес.
Извините, течением снесло от темы. Это ведь речное повествование. Когда-то все мы были замороженной морской водорослью.
Затем, продолжает Томми, Америка откололась от Африки, сказала: «Парни, увидимся позже» — и поступила по-американски — отправилась на запад.
Ирландия, конечно, поступила по-своему и отправилась на север. Все мы жили в море. Независимо от того, каких видов микробы бултыхались в Ирландии, все они были жестоко упрямы и не потрудились остановиться в какой-нибудь более солнечной стране, не сказали: «Парни, как насчет того, чтобы жить на Канарских островах?» Не сказали: «Мадейра выглядит мило». Нет, они двигались дальше, удаляясь ото всех, и так бы и продолжали двигаться еще дальше, говорит Томми, но Ирландия, как было сказано выше, уже отделилась и теперь нашла себе место. Микробы были похожи на семейку МакИнерни, которая отправляется в Донегол[379] каждый год, втиснув, как сельдей в бочку, незнамо сколько детей в заднюю часть старого «Пежо» — по трое под каждый ремень безопасности, — и где-нибудь к северу от Клэрголуэя[380] дети окончательно сводят мать и отца с ума вопросом «А мы уже приехали?». Деревня Инишкрон в графстве Слайго — самое далекое место, куда они когда-либо добирались. Главная идея Томми: к тому времени микробы становились все более неугомонными. Солнце придавало им живости. Потом дождь превратил их в правильное рагу. Внезапно мы воспряли.
Ирландия остановилась. Люди-водоросли начали передвигаться по земле.
И среди них были МакКарроллы.
Поскольку мы когда-то были морскими водорослями, нам не терпелось возвратиться в море. Это постулат. Море — наша Плавучая База. Это объясняет возникновение Килки Лехинч Фанор Балливон[381] и всех бунгало, построенных вдоль Атлантического побережья. Именно по этой причине планировщики не могли сказать, что это будет смотреться немного безумно и заставит целую страну выглядеть так, будто мы извращенные морские вуайеристы.
Так вот, люди-водоросли начали перемещаться во время дождя. Некоторые из них, те, кто негодовал на своих матерей и сразу же выяснил, что запад был самой дождливой частью, пошли в Мидлендс, как называют центральную часть страны, чтобы выплеснуть свои чувства и изобрести Hurling. МакКарроллы остались там, где и были. Они уже чуть не высохли к тому времени, когда начался Всемирный Потоп, говорит Томми.
— И все утонули? — спрашиваю я.
— Некоторые выжили, — отвечает он, — став птицами.
— Это было умно придумано.
— Другие стали пловцами.
После того как Потоп прекратился, какое-то время все было великолепно. И тогда пришло племя Партолона[382]. Они уже заскучали со своим солнцезащитным кремом и шезлонгами в восточном Средиземноморье и во время соленой бури прибыли в Донегол, немного половили рыбу в Киллибегсе[383] и направились на юг, где встретили Фоморов[384]. Фоморы были безобразными, одноглазыми, одноногими, жрущими отходы прыгунами, в те времена населяющими Оффали[385].
Поскольку Фоморы одноногие, они не были очень уж хороши в битвах. Члены племени Партолона сделали из них мясную начинку для пирога[386] и бледные упругие боураны — ирландские бубны.
К году примерно так 520-му, говорит Томми, в Ирландии было 9046 членов племени Партолона. Но однажды в мае появилась орда мошек, принесших моровую язву, и вымела всех.
За исключением одного.
Туан мак Кайрилл[387] выжил, став лососем.
Это факт. Он есть в Истории Ирландии.
Это не так уж странно, если учесть, что предание записано в Книге Бурой Коровы[388], которая является Книгой Номер 1 в Ирландской Литературе и была написана на шкуре любимой коровы Святого Сиарана[389] в Клонмакнойсе[390].
Я не шучу.
Туан выжил, став лососем.
А теперь, прежде чем вы скажете «Ох уж эти ирландцы» или «Хватит заливать!», я укажу, что хотя Туан был, возможно, первым, использовавшим этот метод, но не был последним. В толстой желтой книге в мягкой обложке Дэвида Гроссмана[391] «См. статью „Любовь“» (Книга 2001, Пикадор, Лондон), одна из нескольких книг, на которых мой отец надписал свое имя (синей шариковой ручкой), Бруно Шульц ускользает от нацистов, став лососем. Проверьте сами.
Так или иначе, но несколько лет спустя (согласно шкуре любимой коровы Святого Сиарана), лосось, который был когда-то Дядей Туаном, был пойман женщиной, которая съела его. Это правда. Она поймала его, съела и затем, в виде поворота сюжета, который получается, когда вы пишете на шкуре Бурой Коровы, родила его снова — и родившийся был прекрасным парнем с неповторимыми рыжими волосами и лососевого цвета веснушками, и в нем была заключена история Ирландии.
Я не шучу.
МакКарроллы всегда были в повествованиях. Но сначала повествования были в них.
Туан мак Кайрилл видел племена Немеда, Партолона, Фир Болг и Туата Де Дананн[392]. Последние были народом богини Дану. Они прибыли в Ирландию на длинных деревянных лодках, и могучие мужчины сожгли их сразу после того, как высадились на берег, чтобы не было никакой возможности вернуться назад. Некоторые местные жители подняли глаза, увидели большое облако дыма в форме лодки — ведь горели лодки — и поверили, что те парни приплыли с неба.
— Повествования о них наполнили бы все библиотеки известного мира, — сказал Томми.
Туан знал всех. Он один мог рассказать о великой битве против Балора Дурного Глаза[393], которая была первой всеирландской, но произошла на Равнине Мойтура. Судьей была ворона по имени Морриган[394]. Она свистела перед Вбрасыванием Шайбы и смотрела с дерева. Когда последние фоморы были мертвы, равнина стала скользкой от их черной крови, и земля под ногами стала мягкой, как печенье в чае, Морриган свистком возвестила конец игры.
Туан мак Кайрилл видел это сам. Он был первым Прикомандированным Журналистом, он оставил нам подлинные Свидетельства очевидца, создал Лососевую Новостную Корпорацию, состоящую из него одного. Он был там и видел это, делая широкоугольные Эксклюзивные фотографии всего — от Фоморов до Фианны[395].
И потому, что он был здесь, начав свою жизнь с морской водоросли, он рассказал раннюю историю Ирландии Святому Финниану Мовилльскому[396], который, будучи монахом, обладал хорошим пером.
Так это рассказывает Томми.
Если бы первым историком Ирландии была девочка, а не мальчик-лосось, то и повествование было бы другим. Если бы человек, записывающий это, не был святым, то были бы и другие женские роли, помимо Богинь, ведьм и лебедей.
Итак, были люди морской водоросли и были люди неба.
Со временем люди морской водоросли и люди неба нашли друг друга привлекательными, переженились и стали ирландцами. Такова короткая версия. Вот почему одни из нас всегда стремятся к небу, другие к морю, а третьи, как мой отец, и к тому, и к другому.
Мы раса людей из другого места. Это-то и делает нас лучшими святыми и лучшими поэтами и лучшими музыкантами и худшими в мире банкирами. Вот почему везде, куда бы вы ни отправились, вы будете видеть некоторых из нас — и не имеет никакого значения, если там будет мягко и тепло и прекрасно и не будет ничего такого, что кто-нибудь мог бы счесть неправильным, но всегда будет то, что Джимми Янки называет Стремлением. Оно видно в глазах. Идея лучшего места обитания. У одних из нас это Стремление сильнее, чем у других. У моего отца оно текло рекой, какой был он сам.
МакКарроллы остались вблизи реки. Рядом с рекой есть две вещи, которые вы никогда не забываете: первая — в тот момент, когда вы посмотрели на реку, этот момент уже ушел, и вторая — все стремится куда-то, в другое место. МакКарроллы не были поэтами. Они были слишком упрямы для схем размеров и рифмовки. Костяшки пальцев и колени у МакКарроллов были ободранными, ключицы переломанными, а волосы длинными. МакКарроллы были рыбаками и лодочниками. Чертой их характера была дикая необузданность такой же самой ширины и глубины, как у реки Шаннон, и у них не было привязанности ни к кому, кроме самих себя, и это было так, как и должно быть, говорит Томми, потому что Ирландия тогда была в полном раздрае между королями и кланами и Викингами и норманнами и кто там был еще, и многое из этого относилось к О’Нейллу с Севера страны[397], что в повествовании Томми означает «Все ясно, добавить нечего».
В любом случае МакКарроллы остались в стороне от всего этого. Из-за того, что Эпоха Лосося была в их кровотоке, у них было довольно много знаний, и они не забыли важную вещь, которую река преподала им: все проходит. Место под их ногами изменило название дюжину раз, но они остались на том же самом месте.
Некоторые МакКарроллы сели в лодки и направились к горизонту, что вполне логично, говорит Томми. Не было ли это неугомонностью тех людей, которые когда-то были лососями и плавающими морскими водорослями?
С этим не поспоришь.
В любом случае я бы не стала спорить с Томми. Миссис Куинти говорит — три месяца назад, когда Томми привели в Районную больницу, хирург открыл его и сразу же закрыл, будто Томми Девлин стал Томми Книгой и на каждой странице было напечатано слово Рак. Потом Томми забрал свою Книгу обратно домой, в Фаху, и продолжал жить, ни на что не обращая внимания. Теперь он стал знаменитым, как Лазарь. Нет человека в округе, кто отказал ему хотя бы в чем-то.
— Я считаю, — говорит он, — что неугомонность есть естественный побочный продукт лососьности.
Вот почему есть родня МакКарроллов в Куинсе[398], Лейк Вью[399], Чикаго, Мичигане[400] и Сан-Франциско[401], и вот почему есть Рэнди МакКарролл, который разводит лошадей в Кентукки[402], Пэдди МакКарролл, который разводит овец в Крайстчерче, Новая Зеландия, и Кэролл МакКарролл, который разводит черепах на Бали[403].
Но часть их осталась на том месте, которое стало называться Клэр.
— У семьи есть определенное противоречие, — говорит Томми. — Разве не видно? Время от времени семья взрывается в споре, одна группа занимает одну позицию, другая — противоположную, даже если только ради того, чтобы противоречить, что является специфическим вывертом ирландского ума, который относится ко времени людей неба и моря. У некоторых МакКарроллов случается припадок раздражения или гнева и — опа! — они откололись и ушли через горы в Керри и даже, Да Поможет Нам Бог, в Корк.
Что тогда есть в хронике страны? Несколько веков игры в Мятеж-Предательство, Мятеж-Предательство, Восстание-Подавление — и в Разбитые Надежды.
История Ирландии в двух словах: А, ну и что!
Вторжение Викингов: А, ну и что!
Вторжение норманнов, Бегство графов[404], мистер Оливер Кромвель[405], Дэниел О’Коннелл, Роберт Эммет[406], Голод[407], Чарльз Стюарт Парнелл[408], Пасхальное Восстание[409], Майкл Коллинз[410], Имон Де Валера, опять Имон Де Валера (Дорогая Германия, мы с сожалением узнали о смерти вашего мистера Гитлера)[411] и снова Имон Де Валера, Смута[412], Трибуналы[413], Партия Фианна Файл, Церковь, Банки, восемьсот лет дождя: А, ну и что!
В «Энеиде» Вергилий называет это Sunt lacrimae rerum, что в переводе Роберта Фицджеральда[414] означает «они оплакивают то, как меняется мир», — что более красноречиво, чем «А, ну и что!», однако означает то же самое.
МакКарроллы каждый раз были с обеих сторон. Они в равной мере были За и Против. Единственное, в чем вы могли быть уверены с МакКарроллами, говорит Томми, так это в том, что их мнения Крепко Держались. Это было благодаря сочетанию лосося и морской водоросли. Лососи не разумны. Они мальчишки потому, что идут против потока.
— Что поддерживает их определенную привлекательность для Противоположного Пола, — говорит Томми, используя Заглавные Буквы.
— Неужели?
— О, да, — подтверждает он.
И тут он начинает говорить в стиле Ветхого Завета и перечисляет, кто кого Родил. Кирбхол МакКаррилл женился на Файоннуале Ни Как ее Там, которая родила Финна, который женился на Фидельме Ни Как-то Там Еще, и родил Финина, который женился на Фионе и родил Финтана, и так далее. Когда эти люди появляются из дымки времен, пахнущих морскими водорослями, они все еще женятся и рождают, некоторые из них пропустили А, другие Мак, и некоторые превзошли себя и взяли O[415]. Таким образом, есть МакКарроллы, МкКарроллы, Карроллы и О’Карроллы, все они с огромным, как море, упорством и характером, состоявшим из того, что Бабушка просто называет солью. У некоторых из них двенадцать человек в семье, одна из Ни награждена званием Яичники Года, поскольку дала миру восемнадцать МакКарроллов, прежде чем послать яичники в Музей Клэр в Эннисе и лечь на постель из сена, прихватив с собой ведро молока.
Томми — большой знаток фольклора, он преуспел в ceol agus rince[416], как говорит Майкл Табриди, напечатал себе Посадочный Талон и несколько раз буквально улетал с Феями[417], веря, что мы, ирландцы — народ Номер Один в том, что касается преданий и легенд, и на самом деле нашими самыми скромными и вежливыми личностями может быть объяснена если не вся, то огромная часть истории мира. Он знает все семя и потомство МакКарроллов, едва ли не точно повторяет «And it came to pass» так, как это говорит Иисус Навин в «Книге Иисуса Навина»[418], придавая своим словам то же самое звучание. Как некоторые женщины, я, возможно, дремала во время рутинных повторений порождения, но я вовремя возвращалась, чтобы услышать, как мой Дедушка Фиакра, которого, как я знаю благодаря фильмам на дискам в коробках Tesco, играет молодой Спенсер Трейси[419] в «Отважных Капитанах», где Спенсер — португальско-американский рыбак по имени Мануэль Фиделдо, и в более позднем фильме «Старик и Море», где старый Спенсер Трейси играет Старика и получает номинацию на Оскара, но Оскар отправляется к тонким усикам Дэвида Нивена[420], и соленая глубоководная ирландская меланхолия навсегда поселяется в глазах Спенсера.
У Дедушки Фиакра глаза Спенсера Трейси и волосы Спенсера Трейси, тот неукладываемый волнистый материал, который заставляет думать, что его хозяин только что вынырнул в Мир Сей с остатком серебряного моря, все еще текущего поперек его головы. Я никогда не видела его. Дедушка МакКарролл есть на двух черно-белых фотографиях в комнате Бабушки. На одной из них он на своей собственной свадьбе. Вот он в черном костюме с заостренными лацканами стоит в переднем подъезде церкви Фахи. Он крупный и широкогрудый, и похоже, что в мире нет ничего, навстречу чему он не выйдет с открытым забралом. В то время все выглядели серьезными. Вы будете потрясены, когда узнаете, что на фотографии ему всего двадцать восемь лет, потому что костюм, внешний вид и поза делают его старше всех молодых людей того же возраста в наши дни. В уголках его рта улыбка, а в глазах живет что-то танцующее. Он ждет свою Невесту.
Она из семьи Талти.
Должна ли я сказать что-то еще?
(Дорогой Читатель, времени мало, мы не можем даже приоткрыть Книгу Талти, потому что если мы ее откроем, нас засосет в тот поток. Мы уйдем на Некоторое Время и окажемся далеко в повествованиях Иеремии Талти, врача, такого же умного, как и доктор наук, только без степени, и Тобиаса Талти, который держал лошадь у себя в доме, перебивался яблоками и отрастил самую длинную бороду в Графстве Клэр, а еще его сестры Джозефины, которая разговаривала с феями, и брата Корнелиуса, который пошел на Американскую Гражданскую Войну[421] и сражался за обе стороны. Может случиться, что мы так и не вернемся.)
Бриджит Талти прибывает в церковь на тележке, запряженной одной лошадью, проехав пятнадцать миль из Килбахи[422] по разбитой дороге, связанной с морем любовными узами. Бриджит сидит в том драндулете рядом со своим отцом, на ней подвенечное платье, с которым она воюет, потому что не хотела его надевать, и уже бросила фату в канаву по эту сторону Килраша. Повозка с грохотом движется вперед в облаке морских брызг, сопротивляясь порывам соленого ветра, и обычный дождь внезапно становится проливным. Льет как из ведра, и отец говорит, что дождь — счастливая свадебная примета, но невеста не отвечает. Она нервно возится с пуговицами на вороте платья, потому что они не дают ей нормально дышать и — пинг! — одна из пуговиц отлетает, и — пинг! — другая летит следом. Бриджит оттягивает ворот и держит голову так высоко, что скоро лицо, шея и верхняя выпуклость ее груди блестят от дождя, а волосы становятся дикими беспорядочными струями. Она прибывает к церкви Фахи на своей тележке, насквозь промокшая, гордая, красивая и беспомощная, слезает с тележки, попадает в большую лужу, шагает по ней, испачкав туфли и обрызгав чулки, что добавляет заключительные штрихи к облику Невесты à la Талти, и входит в церковные ворота.
И стоя там в ожидании, не у алтаря, а у парадной двери, потому что так он хочет, Дедушка выпускает на свет улыбку Спенсера Трейси из уголков губ, видит всю свою семейную жизнь наперед и думает: «Ну, что ж. Это будет интересно».
Вторую фотографию сделал Мартин Ливерпул через несколько лет, когда приехал домой на Фла[423], говорит Томми. Мартин работал в Мерсисайде[424] десять лет и вернулся домой с легким налетом Джона Хинда[425], веснушчатого фольклориста, видя Ирландию в Техниколоре[426] и Кодак-ая[427] торфяные холмы, осликов и детей, так что когда вернется в Англию, у него будет страна, вроде как запечатленная на снимках, которые он хранит в картонных коробках из-под обуви, находя утешение в том, что сумел остановить время, и не признавая, что эмиграция разорвала его сердце. Мартин Ливерпул проехал мимо нашего дома в тот день, когда Дедушка был наверху, покрывая крышу соломой.
На фотографии Спенсер Трейси все еще узнаваем как Спенсер Трейси, но его волосы теперь белые. Они выглядывают лохмами из-под плоской твидовой кепки. Вы видите, что волосы у него по-прежнему волнистые, только стали мягче. Больших диких потоков, как в юности, уже нет. Уже прошли годы буйного веселья, танцев, крика и рева, беготни друг за другом, веселья с девушками, внезапных бессловесных примирений, на которые он всегда шел, потому что, несмотря на его выносливость и лососевые черты характера, Спенсер был безнадежно сентиментален, как могут быть сентиментальны только мужчины. Рождение Мамы, годы, проведенные в этом доме, когда надо было давать пристанище двум благородным сердцам и умам, нападающим друг на друга и заставляющим лететь искры, из которых возникла любовь, — мне даже не хватает воображения, чтобы представить себе все это. Вы не можете представлять себе свою бабушку таким образом. Она слишком Бабушка, чтобы видеть в ней ее молодую версию. Я знаю только то, что еще до того, как Бриджит Талти стала Бабушкой, до того, как стала Хранительницей «Клэр Чэмпион» и Стражем Огня, до того, как принялась притворяться глухой, до того, как начала проводить дни и ночи, надев на голову кепку Спенсера Трейси, — до всего этого она была молодой замужней женщиной, весь день была занята тем, что пекла хлеб, стирала рубашки, добывала торф, заботилась о курах, утках и гусях и не возражала против этих занятий, пока могла иметь пачку из десяти сигарет Номер Один Карролл[428] и ходить на танцы по вечерам. Так гласит легенда. Бабушка посещала бары «У Комерфорда», «У Табриди», «У Даунса», «У Райана», «У Дэли» и «У МкНамара», а еще могла смотаться через поля на домашние танцы, захватив с собой своего большого застенчивого Спенсера Трейси, пересекая поля и целуясь при звездном свете, после чего разрумянившиеся Бабушка и Дедушка входили через черный ход в чью-нибудь кухню с полом из каменных плит, и начиналось веселье[429], — Сaledonian set[430], South Galway Set, Clare Set, Battering steps, пять Фигур, крики «House!», Цилиндры и Фраки, лица блестят, — танцы делают мир простым и счастливым.
На фотографии у Дедушки белая рубашка с закатанными рукавами, широкие брюки из грубой ткани, похожей на твид, через которую не проникнет и соломинка. С крыши свисают две лестницы, похожие на самодельные. Они зацеплены за конек, и потому похоже, что Дедушка поднимается в огромное синее-синее небо. Мартин Ливерпул окликнул его, поэтому он обернулся на полпути, взбираясь по лестнице, и теперь он в прекрасной позе и ракурсе, голубое небо позади него, а прямо перед ним тот же вид на несущуюся реку Шаннон, какой открывается у меня из окна в крыше. Дедушка еще не знает, что его сердечный приступ уже в пути. Еще не знает, что у него есть время только на то, чтобы покрыть крышу соломой, привезти домой торф и подковать двух лошадей.
Jaykers God[431], как говорит Томми, но он был прекрасным воплощением мужчины.
А, ну и что!
На этом история Томми заканчивается.
Но это не конец.
Следующая часть — волшебная сказка.
Апрельский день. Идет дождь. Быстро бежит река. Девушка, чей отец умер, живет вдвоем с матерью в покосившемся доме у реки. В душе той девушки что-то надломилось в день смерти отца, и если вы девушка, а вашим отцом был Спенсер Трейси, то вы не можете ни починить, ни исправить ту сломанную часть, чтобы она перестала болеть. Однако та девушка смогла найти в себе и терпение, и силу, и не ожесточилась, и имя ее было Мэри МакКарролл, и она была красива, не осознавая этого, и еще в детстве мать с отцом восхищались и гордились ею. Так вот, та девушка гуляет по берегу реки под апрельским дождем.
А на том месте, которое во владениях Шонесси называется Порог Рыболова, где земля вроде как немного приподнимается и нависает над рекой Шаннон, точно на том самом месте, о котором в книге «Лосось в Ирландии» Авраам Суейн говорит, что лососи туда проходят каждый день, и, хотя земля там коварна, он называет это место счастливым, — на том месте стоит незнакомец. У него такой вид, будто он долгое время отсутствовал и возвратился с тем, что в книге «Авессалом, Авессалом!» (Книга 1666, Пингвин Классикс, Лондон) Уильям Фолкнер[432] называет робким изумлением, будто в одиночку прошел через некое тяжелое испытание, вышел из него с другой стороны и сейчас стоит там. Лицо его покрыто загаром, светло-голубые глаза пытаются сквозь дымку разглядеть что-то вдали, губы сжаты. Ему двадцать девять лет, хоть он и выглядит старше, и вернулся он в Ирландию меньше двух недель тому назад, и его ноги все еще чувствуют движение океана, но, как ни странно, река теперь предоставляет ему речную передышку Он стоит там, и зовут его Вергилий Суейн.
Глава 2
Это мы, от Морской водоросли до Суейнов.
Я устроила длинный разбег. Вы просто обязаны так делать, иначе шест не перенесет вас через перекладину.
Именно так и поступил Чарльз Диккенс в «Мартине Чезлвите» (Книга 180, Пингвин Классикс), где в Первой Главе он прослеживает родословную Чезлвитов до Адама и Евы. Родословная МакКарроллов уходит в прошлое гораздо дальше. Она тянется назад за пределы, как говорит Мартин Фини.
Суейны — это письменное, МакКарролл — устное. То, что наше — это история бракосочетания языка и бумаги, бракосочетание невероятного с невозможным. Дети этого брака поразительны.
Когда я говорю, что моего отца зовут Вергилий Суейн, то думаю, что он — повествование. Думаю, что выдумала его. Думаю, что, может быть, у меня никогда не было отца, и в том месте, где он должен быть, я поместила повествование. Я вижу ту фигуру на берегу реки и пытаюсь совместить ее с мальчиком, которого я придумала, но нахожу вместо этого хрящ правды, состоящей в том, что люди не безупречные однородные создания, у них есть необъяснимые части, и чем внимательнее вы на них смотрите, тем более таинственными они становятся.
Никто в нашем округе никогда не называл моего отца Вергилий. Все звали его Верг[433]. И однажды я написала Верг на странице моей тетрадки Эшлинг, про-тезаурус-ила и нашла Край, Границу, Поле страницы, прежде чем дошла до слова Грань, и затем я подумала об этом слове как о глаголе[434] и испытала дрожь, когда написала Приближаться.
Мой отец никогда не говорил нам, где побывал. Глубоко, глубоко, все еще глубоко и еще глубже должны мы пойти, если хотим узнать сердце человека, говорит старый Герман Мелвилл в книге моего отца «Пьер, или Двусмысленности» (Книга 1997, Э. П. Даттон, Нью-Йорк), та книга пахнет подвалом, и в ней на странице 167 есть чайное пятно в форме Гренландии.
Годы между отъездом моего отца из Эшкрофта и его прибытием на Порог Рыболова утеряны. Если вы — ребенок, выросший на Приключенческих Романах, если у вас Спенсер Трейси вместо дедушки Талти, если за дверью несется река, то у вас есть определенный авторитет из-за того, что вы можете объявить в Национальной школе Фахи, что прежде, чем поселиться здесь, ваш отец Уходил в Море. В округе, где река открывается в море, счастливые дети мечтают о том, чтобы отправиться в дальнее путешествие, печальные — мечтают, чтобы их вытянуло отсюда, но и так, и так море остается в центре волшебства. Уходил в Море — определенное положение в обществе. Но авторитет оказался недолгим, потому что я не могла выйти за пределы этой фразы, потому что была застигнута врасплох, когда меня спрашивали, и потому что маленький пучеглазый Шеймас Малви бегал за мной по двору, распевая «Где он был? Где он был?», подвывая при этом таким высоким голосом, какой все Малви получили от горения пластиковых бутылок, потому что стали бросать их в костер после того, как местный Совет начал взимать плату за переработку мусора.
— Он был в Африке? Он был в Австралии?
Круглая голова Шеймаса слегка покачивается из стороны в сторону, выпученные рыбьи глаза блестят, как облизанные лакричные леденцы, и он распевает насмешки и преподает мне универсальную правду, что человеческий ум не выносит неопределенности, даже такой крошечный ум, как у Шеймаса Малви.
Наш отец вышел в море с Ахавом и Измаилом[435]. Это факт. Но не нашел кита. И возвратился с прежними беспокойными исканиями в себе и вдобавок с ощущением, что все зыбко в мире сем.
— Куда ты плавал? — спросил Эней.
Папа лежит между нами в лодке-кровати Энея. Нам по восемь лет, и в школе мы начали изучать Географию. По ночам Эней брал Атлас в кровать, и прежде чем Мама велит Выключить Свет, я присоединялась к нему под синим пуховым одеялом с белыми плавающими облаками на нем, мы разглядывали карты и испытывали особое успокоение от того, что не имеет значения, насколько велико какое-либо место, пусть даже большое, как, скажем, вся Южная Америка, раз оно помещается на странице. Эней был мальчиком, который мечтал. И когда он рассматривал карты, можно было вроде как чувствовать, как его мозг жужжит, и что потом в своих снах он будет путешествовать в тех местах.
— Куда ты плавал?
Папа лежит между нами поверх плывущих облаков, его длинное тонкое тело — горный хребет, по которому я могу идти двумя пальцами. В тот апрельский день, когда Мама впервые увидела Папу на Пороге Рыболова, у него была всклокоченная красновато-каштановая борода Д. Г. Лоуренса[436], как на жутко помятой обложке «Избранных Стихотворений» (Книга 2994, Пингвин, Лондон), но мы родились много позже того дня, а потому теперь борода у Папы серебристая, и я могу идти своими пальцами прямо вдоль его плеч и по его воротнику прийти к его лицу, и у меня есть хороший способ проникнуть в мягкость его бороды, прежде чем он сделает вид, что кусает меня, и изобразит звук, с каким захлопываются челюсти акулы, а я завизжу и захочу спасти пальцы для другого раза.
— Куда ты плавал, когда был матросом?
— Ну, — говорит он, — я вам расскажу, но вы должны сохранить это в тайне.
— Мы никому не скажем. Правда ведь, не скажем, Эней?
Я лежу, глядя вбок на Энея, чтобы удостовериться, что он ничего не расскажет Шеймасу Малви.
Эней качает головой так, как делают маленькие мальчики, со своего рода полной и прекрасной серьезностью. Его глаза круглые, как буквы О, от изумления и важности.
— Расскажи нам.
— Ну, — говорит папа. — Вы знаете, где Карибское море?
Эней быстро перелистывает Атлас.
— Вот здесь.
Он протягивает его через горный хребет так, чтобы я видела.
Папа улыбается той своей улыбкой, которая близка к плачу.
— Верно.
— Ты плавал туда?
— Плавал.
— Как там было? Расскажи.
— Жарко.
— Насколько жарко?
— Очень-очень жарко.
— А почему ты там был? Почему ты туда плавал?
Эней хочет понять, как можно войти в карту, которая находится на странице 28 Атласа.
— Почему я там был? — переспрашивает Папа.
— Да.
Глаза моего отца смотрят на наклонный потолок и на вырез в нем, где окно в крыше выглядит темно-синим прямоугольником без звезд. Вопрос слишком значителен для Папы. В последующие годы я часто буду видеть, как он внезапно делает паузу во фразе или даже в слове, будто в нем есть дверной проем, в который выходит Папин Ум, покидая нас на мгновение. А в то время мы думали, что так делают все отцы. Мы думали, что отцовство было такой же огромной тяжестью, как большое пальто, и отец должен был все время думать о многих разных вещах, только чтобы не быть раздавленным этим пальто.
— Ну, — говорит он наконец, — это длинная история.
— Хорошо.
Эней привстает на локте. Один взгляд на его лицо, и вы понимаете, что нельзя разочаровать его. Просто нельзя. Прежде чем они будут сломлены, маленькие мальчики — прекрасные создания.
— Ну, — говорит папа. — Я расскажу вам коротко.
Я придвигаюсь ближе. Моя голова сбоку от моего отца. Мне тепло потому, что тело отца теплое, а его рубашка пахнет так, как может пахнуть только рубашка собственного отца. Это невозможно объяснить или даже уловить, потому что это больше, чем запах, больше, чем сумма Кастильского мыла и фермерского пота, и мечты, и дерзания. Это больше, чем лосьон после бритья «Old Spice» или шампунь «Lux», больше, чем любая комбинация всего того, что вы можете найти в шкафчике в его ванной. Это в его тепле и в его жизни. Это покидает его одежду через три дня. Вот что я узнала и запомнила.
Но ни о чем таком я в то время не думала.
Итак, я прижимаюсь к теплу моего отца, и его рука поднимается, чтобы обнять меня. Другой рукой он обнимает Энея.
— Ну, я был на довольно большом корабле, — начинает мой отец. — Он принадлежал мистеру Трелони[437].
Энею нужны подробности.
— Какой он был?
— Хороший. Но не умел хранить тайны.
— Почему не умел?
— Уж такая у него слабость. Но зато трезвый ум, так что все было хорошо. Во всяком случае, он владел судном и поплыл с нами. И взял с собой своего друга доктора Ливси.
— Он был хорошим?
— Да. Он лечил всех одинаково.
— Это хорошо.
— Да.
— А Капитана как звали?
— Смоллетт. Он был хорошим Капитаном.
— Вам был нужен хороший Капитан. Кто еще?
— Было много народу. Мистер Аллардайс, мистер Андерсон и мистер Арроу.
— Они все начинаются с «А».
— Не мешай, Рут. Какой был мистер Арроу?
— Мистер Арроу был любитель выпить. Несмотря на то, что такого не позволяли.
— Он свалился за борт?
— Да. Он свалился за борт в ту ночь, когда мы добрались до Карибского моря. Его тела так никогда и не нашли.
Папа делает паузу, пока тело мистера Арроу тонет, исчезая без следа.
— Был еще Авраам Грэй.
— Какой он был?
— Он был плотником. Сначала он мне не нравился, и когда ты на корабле с тем, кого не любишь, в этом нет ничего хорошего. Но потом он сделал кое-какие хорошие вещи, и я увидел его с другой стороны. А в конце он спас мне жизнь.
— Спас жизнь?
— Точно спас.
— Как?
— Это случилось позже. Кто же еще был с нами? Был Джон Хантер, был Ричард Джойс. И Дик Джонсон. У него всегда была с собой Библия. Куда бы он ни пошел. Он думал, что она защитит его в морях.
— И защитила?
— Он не утонул. Но заразился малярией.
— Это ужасно?
— Да, Рути.
— Он умер?
— Умер.
Мы отдаем дань уважения мистеру Джонсону, когда он следует за мистером Арроу во тьму.
— Джордж Мерри, Том Морган, О’Брайен. Мы никогда не знали имя О’Брайена. Он был просто О’Брайен.
— Хороший?
Глаза Энея опять становятся круглыми, как буква O.
Папа изображает дрожь невидимой бутылки виски у своих губ. Бедный О’Брайен.
— Карибское море, знаете ли, не просто место. Это много мест. Там есть острова. Некоторые такие маленькие, что даже не нанесены на эту карту. Но все они красивы. Вода изумительно синяя. Синяя-синяя, и как только вы видите ее, то понимаете, что никогда прежде не видели синего цвета. Та вещь, которую вы называли синей, какого-то другого цвета, не синего. А вот это синее. Это синева, которая спускается с неба в воду так, что когда вы смотрите на море, то думаете, что это небо, а когда смотрите на небо, думаете, что это море.
Мы с Энеем лежим и понимаем, что никогда не видели синевы и как удивительно это должно быть. Некоторое время я пытаюсь исхитриться и увидеть то, чего никогда не видела, о чем знаю лишь из рассказов моего отца. Я отправляю его в плавание по самому лучшему синему цвету, какой только могу вообразить, но знаю, что он недостаточно синий.
— Закройте глаза, чтобы увидеть это, — предлагает Папа.
Мы закрываем глаза. И когда я думаю, что вижу, отец убирает от нас руки, и наши головы соскальзывают в глубину подушек на кровати Энея. Кровать приподнимается, когда горный хребет уходит — мой отец встает. Я все еще в теплом пространстве, которое все еще пахнет им, и я представляю, что мы плывем к острову в изумительной синеве.
Эней не хочет представлять. Он хочет видеть реальные вещи. Он хочет быть там.
— Расскажи еще.
— Расскажу, — говорит папа. — Но пока просто доберитесь до острова. Просто приплывите туда. А завтра я расскажу вам о мистере Сильвере.
— Мистер Сильвер?
— Ш-ш-ш. Ложитесь.
— А кто он?
— Его имя Джон. Мы прозвали его Долговязым, хотя он таким не был.
Мои глаза закрыты, но я могу чувствовать, как папа поплотнее укрывает Энея одеялом. Он говорит тихо, потому что думает, что Рути уже спит. Очень нежно он гладит Энея по голове и шепчет ему в самое ухо:
— У него была деревянная нога.
Глава 3
Мы рассказываем повести. Мы рассказываем повести, чтобы скоротать время, чтобы хоть на время отвлечься от реального мира или же, наоборот, углубиться в него. Мы рассказываем повести, чтобы исцелить боль от жизни.
Когда Мэри МакКарролл видит Вергилия Суейна на Пороге Рыболова, то любовь не разгорается в тот же миг. Разгорается Любопытство, менее глубокое, но более распространенное чувство. Она видит мужчину с загорелым лицом и всклокоченной бородой, предполагает, что это рыболов. Она вышла из дома, захотев проветрить голову, и бесцельно гуляла под апрельским дождем, даже не зная, где окажется. Она часто прогуливалась по берегу реки. Шаннон — мужественная река. Суровая, и коричневая, и вздувшаяся от дождя. Раздвинув берега плечами с силой, о которой сама не подозревает, она проложила себе путь между графствами Керри и Клэр[438], и когда вы идете вдоль реки в сторону океана, то видите, как поля отдаляются от берега, а граница земли превращается в неровный зеленый край, то вы ощущаете речное умиротворение, совершенно особенное. Я любила гулять там. Бегущая вода — лучшее, что нужно для грез наяву, сказал Чарльз Диккенс, и был прав.
Итак, Мэри видит мужчину и понимает, что он нездешний. Он стоит, глядя на реку, — так только делают рыболовы. Но не видно ни удочки, ни снасти, и Мэри приближается, предвкушая, что он повернется посмотреть на нее — она же прекрасно знает, как она красива.
А он не поворачивается.
Она проходит в трех футах позади него, а он даже не поворачивает голову. Она идет по берегу и чувствует — семя любопытства уже проросло в ней, и росток открывается, разворачивая первый тоненький край листочка, и у нее появляется мысль, что незнакомец уже разглядывает ее, и Мэри делает вид, что просто встряхивает волосами, а на самом деле тайком смотрит, повернута ли его голова.
Нет, не повернута.
Ей только восемнадцать, но она уже достаточно овладела миром, чтобы осознавать собственное воздействие на него. Это не тщеславие, как у Анны Прендер из Килмарри[439], которая была бы счастлива, если бы вы несли рядом с нею зеркало размером во весь рост, и не секрет Розмари Карр из Килраша, которая, как говорит Бабушка, влюблена в собственную задницу. Нет, Мэри просто ведет себя естественно. Такое бывает в небольших поселках. Например, если вашим отцом был Спенсер Трейси и вы с легкостью и изяществом приходите на Мессу, высоко подняв голову, как принято у МакКарроллов, — люди это замечают. И пол бокового Прохода для Мужчин начинает стонать под ногами устремляющихся вперед, чтобы лучше видеть, когда вы подходите к Причастию, или когда вечером Дня Святого Власия в церкви Фахи наблюдается самое большое мужское присутствие, потому что Отец Типп собирается благословить ваше выгнутое дугой обнаженное горло[440]. Нечто подобное есть в стихотворении Остина Кларка[441] в Soundings[442], которую в переходный год мы изучали с миссис Куинти. В том стихотворении, где говорится про «Воскресенье каждой недели»[443].
Мэри привыкла ко всему этому, вот и все.
А незнакомец не оборачивается.
Ну что ж, прекрасно. На самом деле ей все равно. Она идет по берегу реки до конца земли Райанов, пересекает место, где заканчивается забор из проволоки, потом продвигается вдоль владения О’Брайенов до границы с Энрайтами, и все время тихо капает дождь, а росток любопытства становится еще чуть-чуть выше.
Кто же он такой?
Она останавливается поговорить с одним из Маков, которые вышли пересчитать коров, мимоходом упоминает, что прошла мимо незнакомца, слышит в ответ «Вон там?», и это не дает того, чего жаждет Любопытство. Оно хочет говорить о незнакомце. Не так важно что, лишь бы хоть что-то было сказано, пока тайна того мужчины как-нибудь не прояснится там, внутри нее, где проросток уже становится безумным.
Мэри возвращается вдоль берега. Проходит мимо Энрайтов и О’Брайенов, мимо проволочного забора проникает во владения Шонесси.
Вот он, на том же самом месте. Не сдвинулся ни на йоту.
На этот раз она может рассмотреть его, пока приближается к нему. Она может дать Любопытству то, что ему нужно. А нужны детали: в профиль его волосы выглядят небрежно подстриженными; борода сбегает вниз, в воротник его рубашки; видно, что солнце и море рано состарили его. Если же подробнее: у него ботинки без шнурков — она никогда раньше не видела таких ботинок; брюки, ставшие короткими от долгого ношения, с пузырями на коленях; рубашка когда-то была белой. На незнакомце куртка из желтовато-коричневой кожи, с прямыми полами, с множеством складок, местами глянцевая, местами тусклая от пребывания под открытым небом — куртка, как Мэри узнает позже, в которой он добрался до Кито в Эквадоре и с которой не может расстаться. В кармане куртки книга в мягкой обложке, слишком высокая для такого кармана. (Издательство Коллье Букс, «Мифология» У. Б. Йейтса, Книга 1002, издана в Нью-Йорке, цена $4.95, на обложке поэт молод и меланхоличен, у него на лбу прядь волос, падающая на левую бровь. Это книга, которая возвратила Вергилия в Ирландию, тот ее раздел[444], который начинается со «Сказителя», — где УБ говорит, что те истории были рассказаны ему Пэдди Флинном в маленькой хибарке с дырявой крышей в деревне Баллисадэре[445]. В том сказании говорится, что В Ирландии мир сей и мир, куда мы идем после смерти, находятся недалеко один от другого. Верхние края страниц покоробились от речной воды и дождя, вся книга немного растрепана от путешествий, возраста и засовывания в карманы, но ощущается по-особому приветливой, если вы понимаете, что я имею в виду. В ней много страниц с подчеркнутыми строчками, а кое-где с поднимающимися, подобно крыльям Ники[446], пометками-галочками рядом с абзацным отступом. Разные пометки сделаны разными чернилами и, следовательно, в разное время, так что в «Драмклифф и Россес»[447] — после того, как Йейтс сказал о Бен Балбен и Святом Колумбе[448], есть волнистая черная линия под описанием того, как он «поднялся однажды на гору, чтобы оказаться ближе к Небесам со своими молитвами», а в «Земле, Огне и Воде»[449] — две красных полосы, косо проведенные внизу у края рядом со словами: «Я уверен, что вода, вода морей, и озер, и тумана, и дождя создала ирландцев едва ли не по своему подобию». Между страницами 64 и 65 — «Волшебные Твари»,[450] — один из тех старых серых билетов в кино, на которых напечатано «Admit One»[451].)
Мэри никогда не видела, чтобы мужчина стоял столь неподвижно, никогда не видела мужчину в такой куртке, да еще и с книгой в кармане.
И вот она идет назад, направляясь к нему. На этот раз он поздоровается, думает она. Поймет, что это я. Ведь должен же он был увидеть меня в первый раз, хоть я и не заметила, а в этот раз он обернется и поприветствует меня.
Возможно, просто обернется и кивнет, думает она. И тогда она увидит его лицо.
Она продвигается по тропинке у реки, там липкая смесь навоза с дождем, и каблуки ее сапог проваливаются в жижу. Мэри в десяти ярдах от незнакомца, потом в пяти, потом проходит позади него.
Он так и не обернулся.
Что же с ним такое?
Если бы она вытянула руку, то могла бы дотянуться до его спины. Если бы она дотянулась, то смогла бы спихнуть его в реку, — на миг Мэри становится девчонкой, которая вот-вот сделает это, просто неожиданно остановится, подтолкнет его обеими руками в поясницу и отправит его, поворачивающегося в воздухе, прямо в Шаннон.
Что же с ним такое? Он глухой, или слепой, или просто дурно воспитан?
Она проходит уже десять ярдов, когда решает повернуться и сказать незнакомцу, что это поле Мэтти Шонесси, и это частное владение. Пятнадцать — решает, что не станет говорить этого. Двадцать — надо бы споткнуться, и все получится, как у Джейн Остин: Мэри повредит лодыжку и вскрикнет[452]. Двадцать пять — нет, она слишком сердита на его невнимание. Тридцать — Мэри доходит до границы поля, минует забор, оглядывается и видит, что незнакомец все еще стоит там, где стоял.
— У реки незнакомец, — сообщает она матери.
И это первое облегчение. Облегчение уже в том, что можно сказать незнакомец, потому что тогда он уже становится кем-то, а она уже как-то связана с ним.
Во всяком случае, так я вижу это. Так я вижу это, когда спрашиваю Маму: «Как ты встретилась с папой в первый раз?», и каждый раз она повествует о том, как Не Встретилась, как Прошла Мимо, и как — или это мне кажется? — Бог давал им шанс за шансом не встретиться, а уникальная природа их характеров будет означать, что их повествования будут идти параллельно и никогда не будут такими, как у Фланнери О’Коннор[453]. Никогда не сойдутся в одной точке.
— В самом деле? — откликается Бабушка.
В этой сцене ее руки в муке по самые локти. Немного похоже на то, как если бы Уолтер МакКен[454] встретился с Джоном Б. Кином[455], потому что она занимается выпечкой хлеба и буханки продает в магазине Нолана, чтобы было на что жить. Ее дни танцев закончены, и Спенсер Трейси остался у нее в голове только в черно-белых повторных показах, но она знает — этот день скоро наступит. Вы не можете не знать, если у вас такая красивая дочь.
— Незнакомец? — переспрашивает она. У Бабушки острый, как бритва, ум, и она весьма привлекательна. Она не поднимет глаз от теста, но конечно же позволит дочери рассказать о своих проблемах.
— Я не знаю, кто он, — говорит Мэри.
— Не знаешь?
— Нет.
Мэри бросает свое пальто на дверной крюк и садится, чтобы носком сапога упереться в пятку другого и снять его.
Бабушка показывает большие пальцы, перемазанные тестом. Она называет их «Всемогущие Пальцы». Их суставы стали лоснящимися шишками после долгих лет хлебопечения.
— Какой он?
— Не знаю. Я едва видела его.
— Едва видела?
Мэри идет к огню, небрежно гребет кочергой по колосниковой решетке и собирает тлеющие угольки в небольшую кучку.
— Высокий, я полагаю? — спрашивает Бабушка.
— Наверное. Не знаю. Я же сказала тебе, что едва видела его.
Бабушка месит это повествование еще немного.
— Что ж он там делал? Хотела бы я это знать. На земле Шонесси?
Мэри не отвечает. Она больше не собирается говорить о нем.
— Ничего, — произносит она через некоторое время.
— Ничего?
— Ничего. Просто смотрел на реку.
Той ночью он с нею в ее постели.
Не так, как вы подумали.
Она лежит в своей кровати, занавески задернуты, окно открыто, потому что апрельская ночь мягче паутины и потому что Мэри не хватает воздуха. Она лежит на боку лицом к окну, в комнате громко звучит та песня, какую поет река, когда дождь по-весеннему сильный и Шаннон течет быстро. Мэри не может спать. Незнакомец не дает ей. Что он делал там? Почему не обернулся? Она ощущает безнадежную грусть и не хочет его отпустить, но в то же время сердита на него — будто их отношения уже стали живым существом, и она уже может сердиться на того незнакомца. Мэри переворачивается на другой бок и кладет подушку себе на ухо. Бесполезно. Почему-то река начинает шуметь громче, когда вы закрываете уши подушкой. Шумит, как море в ракушке. Вы слышите его в своей крови. Я раньше пыталась избежать этого, надевая наушники — а потом сказала Маме, что больше не могу выносить шум реки, и в течение многих недель она перепробовала все, заклеивая скотчем форточку в окне на крыше, вешала колокольчики, сделанные из ракушек, увеличивала громкость папиного проигрывателя, но даже И. С. Бах должен время от времени делать паузу, и между Частями его музыкального произведения река пела. В конце концов я вставала, в одной ночной рубашке подходила к окну, открывала его и кричала на реку, но, во-первых, такое поведение портит вашу репутацию, и, во-вторых, река не перестает шуметь.
Мэри сердится на него. Потом сердится на себя за то, что вообще думает о нем. И потому в постели они соединяются. Это не идеальные отношения, но это начало. У меня такая же штука с Винсентом Каннингемом, поэтому я знаю. Мэри велит себе забыть о незнакомце, но если существует один верный способ не забыть о чем-то, так это сказать: «Забудь об этом».
Почему ее подушка такая комковатая?
Почему простыня так скручена вокруг ее ног?
Почему, почему, почему в апреле так мало воздуха?
Вдвоем они проводят адскую ночь.
Утром птицы поют так сверхбезумно громко, как всегда бывает весной в графстве Клэр, у них точно СДВГ[456], и они получили срочное сообщение, которое пытаются доставить, но поскольку Бог — автор комедий, то птицы могут сообщать нам новости только щебетанием. Мэри входит в кухню. Бабушка уже там. С тех пор, как ее муж умер, она не может лежать в постели и спит в кресле, а потому встает с петухами. Буханки хлеба уже вынуты из форм и лежат вверх тормашками, чтобы подсохла нижняя корочка, и теперь их опять переворачивают, чтобы успеть до того, как Марти Манговэн — который влюблен в Бабушку с тех дней, как она ходила на танцы, — приедет и заберет их.
— Доброе утро, — говорит Бабушка своей дочери.
Но Мэри идет прямо через черный ход и через гумно к выгулу для кур. Она поднимает и открывает ворота из проволочной сетки, и куры начинают возбужденно кудахтать. Те, что постарше, видят, что Мэри не принесла ведерка из-под маргарина с Мешанкой Для Несушек, и отходят, а те, что помоложе, в ужасе налетают на проволочную сетку и просовывают через нее головы, скребут землю, отталкиваясь, двигаясь в никуда, но пронзительно кудахтая, потому что понимают — происходит что-то необычное. И это правда, что-то случилось. Мэри пересекает Выгул, наклоняется, входит в Курятник и из деревянного ящика, на котором краской нанесено «Satsumas»[457], а внутри лежит слой утоптанного сена, берет шесть яиц.
Она возвращается в кухню и сразу начинает разбивать их прямо в миску.
Бабушка достаточно разбирается в человеческих сердцах, чтобы ничего не говорить.
Мэри взбивает. Взбивает великолепно. Солит и перчит. Потом взбивает еще немного.
Потом отставляет в сторону. Просто посреди взмаха прекращает взбивать и оставляет их, и опять выходит через черный ход, но на этот раз идет не на гумно, а по дорожке из темно-серого гравия, сквозь который растет влажная апрельская трава, и потому та дорожка буквально зазывает слизней в сад. Мэри выходит за ворота, идет, скрестив руки на груди, а ее зеленый кардиган накинут, но не застегнут. Она никогда не застегивает его. Есть что-то у нее такое, не выдерживающее заточения. Это от МакКарроллов. Она идет по дороге, и Марти Манговэн проезжает мимо нее в своем фургоне, чтобы забрать хлеб, и кивает ей, и она только чуть наклоняет голову в самом кратком приветствии. Мэри не причесала волосы, не сделала ничего из того, что могла бы сделать, готовясь пойти и встретить своего будущего мужа.
Поскольку прямо сейчас ей просто любопытно, она всего лишь хочет разобраться, больше ничего. И она идет по дороге, бегущей параллельно реке и повторяющей ее изгибы, пока не добирается до ворот Мерфи. Мгновение колеблется, всего один момент, всего один момент, в который могла бы сказать себе что, черт возьми, ты делаешь? и повернуть назад, всего один момент, который улетает с безумным щебетом птиц.
А потом влезает на ворота.
И видит его сразу же. Он там, на том же самом месте, в той же самой позе, смотрит на реку точно так же, как и вчера.
Просто от одного этого факта, просто от странности, неподвижности и основательности незнакомца, о ком думала всю ночь, у нее перехватывает дыхание. Она чувствует, что ее сердце прыгает прямо в горло. Она осознает, что земля топкая и мягкая, будто губка, а небо огромно. Опять он там, он стоит, глядя на запад. Он там. Похож на женщину Французского Лейтенанта в «Женщине французского лейтенанта»[458], только наоборот[459], и вместо моря — река, но ощущается та же самая неизбежность, тот же самый смысл событий, уже собирающихся взорваться.
Что он там делает?
Мэри не продумала свой следующий шаг. Она и вправду не ожидала, что он будет там, и пришла, немного надеясь, что его исчезновение освободит ее от размышлений о нем. Но теперь она должна выяснить, что же будет дальше. Она опять пересекает поле, выходит на грязную дорожку и крепче сжимает руки вокруг себя. Немного опустив голову, Мэри думает: «Неужели он пробыл здесь всю ночь?» В этом есть одновременно и безумие, и привлекательность. Сейчас у нее нет слов, чтобы объяснить его поведение. Это похоже на то, как было у Колетт Малвихилл в Килбахе, которая покинула церковь и увлеклась Леонардом Коэном[460], и когда Отец Типп спросил ее, почему, она просто ответила «Тайна, Отец», что стало для него ударом, потому что Церковь потратила пятьдесят лет, раскрывая эту тайну, чтобы теперь такие непойманные преступники, как, например, Киран Койн и Морис Кроссан, могли стать Евхаристическими Священниками, а Поставщики приезжали сюда из Порт-Лиише[461] в синем фургоне с надписью на боку «Братья Магуайр, Облачения для Духовенства и Припасы, Все Религии», под которой нацарапано пальцем «Помой Меня, Пожалуйста».
Тайна, Отец — было почти то же самое.
Мэри идет по дорожке. Она не смотрит на незнакомца. И не посмотрит. Но она так глубоко впала в Любопытство, что не сможет снова вернуться домой, пока не узнает хоть что-нибудь. Ее мысли заняты тайной, а потому проходят мимо Речного Следопыта, Топографа Речных Берегов, Инспектора Почв и Эрозии, Рыболова-бойскаута, Лососевого шпиона, Исследователя, Священника, однако даже не приближаются к Человеку в конце Жизни, не приближаются к Человеку, Который Пришел, Чтобы Утопиться, потому что еще ничего не знает о Суейнах. Она не знает ни о Дедушке Авессаломе, который ждал в свете свечей, когда его Призовет Господь, ни о прыжках с шестом, ни о Философии Невозможного Стандарта. Она не знает, что у поэтов может быть пепел в душе, ведь после долгого и сильного горения наступает момент, когда не остается ничего, разве что сдуть пепел, — или из того пепла возрождается Феникс. Она не читала ни «Поэтов в Юности» Эйлин Симпсон[462] (Книга 3333, Пикадор, Лондон), ни «Свободы Поэта» Джона Берримена[463] (Книга 3334, Фаррар, Страус и Жиру), ни «Блейка»[464] Питера Акройда[465] (Книга 3340, Винтедж, Лондон), ни «Дилана Томаса»[466] Пола Ферриса[467] (Книга 3341, Дайал Пресс, Нью-Йорк), ни «Джерарда Мэнли Хопкинса» Пэдди Китчен[468] (Книга 3342, Карканет Пресс, Лондон), ни других книг, с которыми мой отец оказался в безумной компании под наклонным окном в крыше, а однажды задымился огонь, и все промокло — понадобилось много воды из пожарного шланга. Мэри не знает — лишь смутно чувствует, — что незнакомец повидал полмира или даже больше. Не знает, что он вернулся в Ирландию, неся в себе едкое разочарование, и что сейчас он чувствует «И это все, что есть?». Мэри не знает и того, что жизнь незнакомца ни к чему не привела и ничего не произошло, только прошло Время, и теперь он идет Стилем Суейна через всю Ирландию, ловя рыбу в реках, которые описал его отец. Мэри не знает и того, что самое опасное в мире — это человек, ищущий знак. Никаких знаков он не видел до вчерашнего дня, когда пришел на то место у реки и там, без каких бы то ни было объяснимых причин, обрел убеждение, что ему было предназначено оказаться там.
Но почему он там, он знает не больше, чем она.
Но у него есть способность Суейнов верить в необычайное. У его семьи в этом есть своя история.
— Что вы здесь делаете? — спрашивает Мэри незнакомца. У нее слишком много эмоций, чтобы вышло изящно.
Он не двигается. Он стоял неподвижно слишком долго и, возможно, думает, что его собственный разум задал этот вопрос. Но что-то изменилось в воздухе. Что-то, чего он не может увидеть, но чувствует. И он поворачивается и смотрит на нее.
Лицо женщины французского Лейтенанта незабываемо и трагично. Печаль изливается так же естественно, как вода, говорит Фаулз.
И я думаю, Мэри это понимает. Незнакомец поворачивается, она видит печаль и сразу же начинает жалеть, что была слишком прямолинейна, что в ней так много от МакКарроллов, что нет возможности перемотать обратно этот момент.
— Простите, — говорит он. — Я не осознавал, что мне не следует находиться здесь.
— Нет, — говорит она слишком быстро. — Все в порядке.
Ее руки все еще сложены на груди, и Мэри немного потирает кисти, будто ей холодно, хотя на самом деле ей не холодно.
— Я уйду.
Но он не уходит. Он использует будущее время, а не настоящее, и между двумя временами находится наша жизнь и история.
Мэри чувствует на себе взгляд незнакомца. Чувствует, что его взгляд на мгновение задерживает ее, и в той задержке есть и опасность, и предупреждение, и головокружение, но главным образом непреодолимое напряжение, возникающее при встрече взглядов, потому что — хотя она еще не знает этого, — есть Любовь и Смерть в одном и том же дыхании, и вот настал один из тех моментов, какие меняют течение повествования, и прямо сейчас Мэри поднимает лицо и улыбается, — тем самым моя мать вот-вот спасет моего отца.
— Да ничего, — говорит она. — Можете остаться.
(— Мама, как ты встретила папу?[469]
— Я просто встретила его.
— Но как?
— Он был как раз там. Вот и все.
— Там?
— Да. Он был как раз там.)
Я решила, что ее привлекает Другое Место в нем. Как и теперь, в округе Фаха тогда тоже уживались два склада ума. Одним обладали люди, считавшие, что события, происходящие где-то в мире, были вовсе не столь же интересны и примечательны, как те, что происходят в их собственном округе. Для таких людей путешествие было пустой тратой времени и денег. Вопрос «Зачем вам туда ехать?» они задавали с таким уксусным пренебрежением, что у этой идеи крылья сразу же оказывались подрезаны, и одну лишь мысль о возможности совершить путешествие за дорожный указатель с надписью «Фаха» они считали доказательством некой генетической слабости. Для людей же другого склада не имело почти никакого значения все то, что когда-либо происходило в границах округа. Как доказано вечерними новостями РТИ, в которых Фаха не появилась ни единого раза, в мире события происходили где-то в других местах. К настоящему времени вся история человечества прошла мимо округа, и чем раньше вы могли бы попасть на дорогу № 68[470] и доехать до конца, тем раньше могли бы столкнуться с реальной жизнью. Только в Кризис, когда у людей со Складом Ума Номер Один уже не осталось выбора, и все кровельщики, и маляры, и плотники, и штукатуры исчезли, а молодежная сборная вообще перестала существовать, вышло так, что Склады Ума Номер Один и Номер Два — то есть «Дома» и «Далеко от Дома», — начали смешиваться. Тогда девчонки вроде Моны Фитц и Мэриан Каллинан начали устраивать Фаху-в-Куинсе и Фаху-в-Мельбурне, появились интернет-издания информационного бюллетеня округа с расписаниями Мессы в Фахе, Чтений отрывков из апостольского послания на этой неделе, встреч Weight Watchers[471], Распродажи Выпечки Пожилыми Людьми и соревнований спортсменов моложе 14 лет — просто чтобы люди могли притворяться, что они не В Другом Месте.
Это «Другое Место» в Вергилии Суейне привлекает Мэри. Он незнакомец. Это самый старый сюжет. Но это хороший сюжет. Она говорит ему, что он может остаться, будто это в ее власти, будто она, так или иначе, уже в ответе за него, будто она решила, что лучший способ скрыть свое влечение к нему состоит в отрицании существования такого влечения.
Это записано в Книге Женских Уловок.
Она говорит, что он может остаться, а сама уходит.
Но на самом деле они уже находятся в отношениях. Она уже думает о местах, где он бывал, и уже хочет, чтобы он рассказал ей, и такой рассказ будет первым мостом между моими матерью и отцом. Его рассказы приведут ее к нему.
Вергилий Суейн остается в деревне, поселившись в неофициальном отеле типа «постель и завтрак», который открыла Филлис Томас, когда муж оставил ее ради Gourmet Tart[472]. Через три дня Вергилий Суейн уже не просто какой-то там незнакомец, но такой Незнакомец, какие бывают в комиксах издательства DC Comics, и нарисован он фиолетовым или серым цветом, потому что в то время незнакомцы появлялись в округе разве что на похоронах или свадьбах, а такого явления, как туристы, не было в Фахе, и все это происходило за двадцать пять лет до того, как Нолан начал продавать польское пиво и странный хлеб со вкусом деревяшки. Вергилий живет в деревне, бродит по дорогам округа так, что это уже отмечено как нечто странное. Фермеры не ходят пешком, если могут залезть на трактор и поехать. Мужчины ходят, только если их автомобили сломаны. Никто в те времена не ходил просто ради ходьбы. Пешеходы есть на дороге только перед Мессой и после нее. Таким образом, Вергилий уже создает мифологию. Он высок и спокоен, и Специалисты по Распознаванию Характеров, сидящие на высоких табуретах в баре Кармоди или прислонившиеся к подоконнику на почте Майны Прендергаст, до и после Мессы уже облизывают свои большие пальцы и перелистывают страницы воображаемой книги «Кем бы Он Мог Быть».
Мэри не знает, что с ним делать. Она знает лишь одно — хочет, чтобы он вошел в ее жизнь. Ей нравится, что он поблизости и что когда она повезет на своем велосипеде яйца или хлеб, то увидит его где-нибудь. Увидит его высокую фигуру над каменной стеной, его петляющий шаг, длинную спину, подъем его подбородка, когда он идет, — тот самый угол Суейнов, будто он всегда смотрит немного вверх.
И еще он так спокоен. В этом есть что-то неотразимое.
Они становятся тем, что Дилси Хьюз из Дублина называет «Пара в Романтических Отношениях».
Главным образом прогуливающаяся Пара.
Они гуляют. Так говорит Мама. Они гуляют везде. Иногда он молчит, и она вставляет небольшие колючие комментарии, чтобы вынудить его ответить. Она говорит что-то, чтобы заставить его серьезность разрушиться, и когда удается, Мама смеется, и затем он тоже начинает улыбаться, и она чувствует, как поток тепла охватывает ее, и теперь она знает, что это больше, чем любопытство, но она не станет говорить слово Люблю. Он должен сказать это первым.
Но теперь она боится, что он может уйти. Боится, что однажды она проснется, а он уже исчез так же, как и появился.
Таким образом, она размышляет, может ли отвадить его. У МакКарроллов есть такая извращенная черточка характера. Мама скорее сама разобьет свое сердце, чем позволит кому-то разбить его. Есть в этом ирландская логика. Но, возможно, вы должны пробыть здесь сто дождливых лет, прежде чем это поймете. Мама пытается не Показывать Беспокойства. Это еще одна уловка. Мама сходит с ума, когда выходит на улицу и натыкается на него, но ни за что не позволит себе выйти из себя. Она остается в доме и взбивает яйца. Она бдительно следит через окно, не вошел ли он в ворота. Но он не входит. У него та особенность Суейнов, сущность которой — разочарование и боль, и он стоит у реки и чувствует, что когти вонзаются в его сердце.
Есть бзик Суейнов и есть бзик МакКарроллов; все это не выглядит таким уж замечательным.
Когда в то время я говорила это себе, я беспокоилась и за себя, и за Энея.
Поскольку и Маме, и Папе так хорошо удается страдание. Папа возвратился в Ирландию и полагает, что в Мэри МакКарролл нашел Смысл. И я имею в виду именно Смысл. Что на обычном языке является достаточно значительным, но в Суейниной Песне — значительным в высшей степени. Он полагает, что до сих пор все было бессмысленным. Что я делал все это время? Путешествия, моря с высоченными валами, лишенные света ночные горизонты, лихорадки, болезни, опаленная кожа лба и верхушек ушей, отплытия и приплытия, все такое, вся Собственность Мальчика, Мелвилл и Конрад[473], тщеславие из-за этого, все это бежало прочь, и уклонение от всего этого текло в его крови все время, и было ощущение существует то, что я должен сделать. И то, что должно быть сделано, на самом деле здесь, в этом округе, у этой реки, с этой женщиной.
Я не эксперт, но когда мужчина находит Смысл в женщине, то мне кажется, что вы понимаете две вещи. Первая — вы идете В Глубины, и Вторая — вы знаете, что это самая рискованная любовь, какая только есть в мире.
Маме риск уже ясен. Она знает, что не будет никакого другого Вергилия Суейна, проезжающего через Фаху. Она знает, что должна оставаться здесь и заботиться о Бабушке, потому что у Мамы есть великодушие Спенсера Трейси, и она никогда никого не подведет. Она пожертвует всем, чем придется. Есть люди просто хорошие, у них осталась невредимой святость долга, даже дыхание перехватывает, потому что иногда забываешь, что иные люди могут быть образцами добродетели. Так вот, она поймана, потому что знает, что это оно самое. Это оно самое. И несмотря на все предостережения, которые озвучивает Центральный Совет Фахского Филиала Ирландской Ассоциации Сельских Женщин[474], что человек, не родившийся в округе, графстве или хотя бы на Западе, человек, не имеющий привычки ни к работе на земле, ни к уходу за скотом, не сможет быть счастлив здесь, Мама хочет верить, что Вергилий Суейн будет любить ее так, что решит остаться, и как только так решит, то все будет в порядке.
Но она не спросит его. Она не пойдет дальше в Книге Уловок. И потому нет никаких летних платьев, никакой губной помады, никакой прически, никаких духов, никаких приглашений на чай, никаких «Вот пирог, я его сама испекла», или «Сегодня танцы в баре у Табриди», или «Я видела, что вчера вы ловили рыбу».
Ничего.
Она ждет и страдает, и он ждет и страдает, и оба они словно в напряженной кульминации в конце главы.
Глава 4
По словам Винсента Каннингема, я неизлечимо больна романтикой.
Неизлечимо, что ни говори, уточнила я.
Потом я сказала ему, что в переводе на латинский waiting по значению весьма близко к suffering[475], и он воскликнул «Ух ты!», как будто я была хранительницей Крутых Вещей, и если бы он мог, то поцеловал бы мое Знание.
Мой отец начал ловить рыбу. Так прямо у Шонесси и начал. Мэри увидела его утром, когда пошла забрать яйца. Она остановилась на выгуле, услышала тихий свист, морщащий воздух, повернулась и увидела, как леска рисует над рекой вопросительный знак.
— Он ловит рыбу, — сказала она курам, которые не остались равнодушны к новостям, потому что она пощадила несколько яиц в тот день.
Вы знаете, и я знаю, что Вергилий Суейн не собирался никуда уезжать. Мы знаем, что у него была та самая уверенность Суейнов, какую его отцу давали свечи в Оксфорде. Вот именно то, что я должен сделать. И это было непоколебимым стальным стержнем в нем.
Вера — самая необычная вещь. Номер Один в перечне человеческих тайн. Как вы это делаете? Где вы это узнаете? Если вы Верующие, то для вас не имеет значения, в какие диковинные или маловероятные вещи вы верите, ведь если вы верите, вас никто не переспорит. Молодость Пифагора прошла, пока он был огурцом. А после того жил как сардина. Посмотрите у Гераклита[476]. Вот во что Пифагор верил. На восточном берегу реки Конг в графстве Мейо был Рыболовный Дом Монахов, и монахи расставляли ловушки в реке так, чтобы когда лосось войдет в нее, леска натягивалась и звонил маленький звонок в кухне монахов, и хотя существовали строгие законы, запрещающие любые ловушки, никто никогда не останавливал монахов, потому что всем было известно, что монахи верили — лососи посланы Небесами, и разве можно неверующим облагать налогом Небеса. Это я говорю просто на всякий случай. Об этом написано в книге «Лосось в Ирландии». Брайди Клохесси верит, что ее вес — целиком вода, Шон Конвей верит, что немцы виноваты почти во всем, Пэки Нолан — что красные M & M-ски[477] обеспечили ему рак. Там, где есть вера, нет места доказательствам.
Вергилий Суейн верил, что это именно то самое место, где он и должен быть. Это было место, о каком он мечтал. Так я думаю, когда воображаю, как в бреду и лихорадке он лежит в душном трюме где-то в Вест-Индии или в Кейптауне, высаживается на берег с теми, кто в реальной жизни был живой версией Абрахама Грэя, Джона Хантера и Ричарда Джойса[478].
Дело было не столько в том, что все происходило в Фахе. Дело было в том самом изгибе реки.
У речных изгибов есть собственное могущество. С того момента, как чья-то рука написала, что река вытекает из Эдема[479], реки и Рай практически неразделимы. Если вы читаете об этом на персидском языке[480], то найдите Apirindaeza[481], на иврите Pardes[482]. Насколько я могу уразуметь, реки есть в каждом Раю. Хотя не всегда есть рыболовы. У епископа Епифания в 403 году н. э. было видение, и тогда он решил, что в Раю на самом деле две реки, Тигр и Евфрат, но текут ли они в Рай или из Рая, не было ясно, и Августин запутал этот вопрос еще больше, когда сказал, что река вытекала из Рая и орошала Эдем, и это привело к серьезным проблемам, потому что согласно всем картам Рая означало, что вода должна была течь вверх. Это было загадкой, пока Джон Мильтон не разрешил ее, объяснив, что райская вода бросает вызов силе тяжести[483]. Нам всем не терпится посмотреть на это.
Итак, для моего отца важен был этот изгиб реки.
А возможно, еще и земля отсюда до владений Мак-Инерни и до Порога Рыболова, еще и обильная широкая вода, а еще и предчувствие того, что река неотвратимо встретит море.
И потому правда в том, что он не впал в любовь, он впал в Веру, которая была когда-то, возможно, Лигой чемпионов Любви, пока не ушли спонсоры, а теперь нет больше никаких репортажей. Но все еще есть в поэзии. Как раз там, где вы находите веру. Я вернусь к этому позже.
Вергилий Суейн жил и ловил рыбу. И ждал столько, сколько потребовалось Мэри МакКарролл, чтобы победить свои сомнения и начать думать, что, возможно, он и есть Тот Самый Единственный. И, может быть, он не уйдет.
Когда в этот дом впервые вошел папа, с ним был лосось.
Это не было столь странным, как прозвучало. Мама видела, как Папа поймал его. Вначале она видела, как он ничего не мог поймать. Он проводил день за днем, забрасывая удочку и вылавливая большое количество ничего — в деревне говорили «У твоего Мужчины опять на конце лески ничего, никакой даже наживки» (или крючка, по словам Старого Броудера), говорили «Он откуда-то сбежал», говорили «Он Простоват», говорили «Он надеется, что лосось его поймает».
Мама видела Папу и знала, что он ловит рыбу. Она видела, как он ходил туда-сюда, совершая ритмичные ритуалы, как напрягались мышцы его спины и предплечья, как дружно работали удилище и леска, наматываясь на катушку и разматываясь. Мама видела, как немного расслаблялась его рука, прежде чем забросить то, что было над ней. Она видела, что рыбалка продолжалась в течение многих дней, фактически была бдением, когда Папа стоял там, отличаясь как постоянством, так и терпением, будто был в подобном трансу состоянии, в какое, казалось, и вы могли бы войти, если бы были мужчиной, прикрепленным к реке рыболовным крючком.
Но Мама не знала, что Вергилий пытается поймать своего отца.
Она не знала, что, как только Вергилий встал на грязном берегу во владениях Шонесси, а крючок вошел в воду, то надо было прочно стоять на ногах, сопротивляясь тянущему потоку. В тот момент Папа и понял, что оказался на пороге реальной жизни, что та самая реальная жизнь течет точно позади него, в нашем доме. И еще Папа понял — ему предстоит совершить Невозможное. И он был поражен пробуждением одной из главных человеческих потребностей: он захотел поговорить со своим отцом. Захотел сказать «Папа», потому что не был уверен, что хоть раз сказал это Аврааму, пока тот был жив. «Папа, я нашел, что именно собираюсь создать. Я собираюсь создать то, чего не смог создать ты. Я собираюсь создать счастье. И создам его здесь».
Авраам не ответил. Но, возможно, в тот миг он посмотрел вниз и увидел, что свечи горят в глазах его сына, потому что именно там и тогда Вергилий поймал лосося.
Тебе, Дорогой Читатель, это может не казаться Главным Пунктом Плана. Но это было благословение — те из нас, кто сведущ в Суейности, уверены, что так и было.
Если вы похожи на Мону Бойс, у которой самый узкий нос в округе и которая постоянно занята наукой педантизма, то вы скажете, что Папа поймал кумжу. Но я-то знаю, что лосося.
Бабушка смотрела на Вергилия, стоящего в дверном проеме. Папа, казалось, состоял из беспорядочных углов. Если бы он не держал лосося, то руки смотрелись бы слишком длинными. Волосы и лицо были мокры, а глаза блестели опасным сочетанием разнообразных чувств.
— Мэри! — окликнула Бабушка через плечо, не отводя от Папы глаз. — Мэри!
Мама вошла лишь за несколько минут до него. Она видела, как он поднимает рыбу в небо, и быстро побежала домой. Она влетела и подскочила к мутному, с серыми пятнами зеркалу в ванной и начала борьбу с волосами. Она растрепала их свободными прядями, но они смеялись над нею, затем связала их слишком плотно, и у нее возникло такое чувство, будто чья-то рука схватила ее сверху и потянула за макушку, потом снова распустила их и похлопала по ним, будто их было необходимо приободрить и, если бы этого оказалось достаточно, они легли бы так как надо, хотя бы в этот раз, ну пожалуйста.
— Мэри!!!
Когда она появилась, Папа все еще стоял в дверном проеме с лососем в руках, а Бабушка все еще смотрела на него, будто существовал языковой барьер, будто между Суейнами и МакКарроллами был океан, что, конечно, было верно, потому что Суейны были в основном англичанами, а МакКарроллы ирландцами, и потому я — дитя двух языков[484] и двух религий[485], женщина мужского типа и вдобавок самая старая молодая особа.
— Привет, — сказала мама.
В моей версии повествования она сказала это, как у Джейн Остин, будто он был капитаном Уэнтвортом[486] и они с Папой были в Лайм-Реджис[487], и маска невозмутимости была необходима на случай, что она просто подойдет и схватит его за влажную куртку и начнет целовать, поскольку, хотя они и Ходили Гулять, что было первым шагом на пути к их близости, сейчас такое было совсем другим шагом — моему Папе предстояло войти в дом и познакомиться с моей Бабушкой.
— Я поймал одного.
— Ну наконец-то, — сказала Мэри.
Папа смотрел на нее, но не шевелился.
А что шевелилось, так это мысли Бабушки. Она быстро пролистывала страницы — точно так же, как когда вы читаете каждый третий абзац, чтобы обогнать повествование. Бабушка стояла и смотрела на них обоих, а Папа и Мама смотрели друг на друга.
— Я приготовлю рыбу, — объявила Бабушка.
Иногда — когда я лежу здесь, а день снаружи всего лишь теплая сырость, какая у нас бывает влажным летом, и я знаю, что солнце сияет где-то высоко над моросящим дождем, а тут, внизу, лишь теплая, как в джунглях, влага, переполненная мошкарой, — так вот, иногда в моем воображении возникает нечто подобное тому, как Гарсия Маркес мог бы познакомиться с Финном МакКулом, а когда Бабушка готовит рыбу на огне, весь дом пропитывается лосось-ностью и предчувствием. Наша всецелая история заполняет воздух.
Вергилий должен сесть за стол.
— Садись за тот стол, — говорит Мэри. Она сама деловитость. У нее сугубо деловая практичность ирландской сельской женщины, и в мгновение ока она возвращается из кухни с кружками, тарелками и столовыми приборами. Она наполняет молочник из большого кувшина, разрезает хлеб, раскладывает ломти на тарелки, подбрасывает торф в огонь, — и ни разу не бросает взгляд на Вергилия Суейна.
Он садится. На стул Спенсера Трейси.
— Это был стул моего мужа, — говорит Бабушка, отрезая рыбью голову.
— Простите.
Он вскакивает как ужаленный, мгновение стоит озадаченно, пока Мэри не говорит:
— Все в порядке, давай, садись.
— Ты уверена?
— Садись.
— Вот на этот…
— Садись.
Папа садится на тот стул, но на самый край, и откидывается на спинку. Папины штанины, будто темные флаги, облепили его бедра, из сапог вытекает река и по наклонному полу бежит двумя ручейками, — так, в виде двух ручейков, Папа вошел в жизнь МакКарроллов.
— А рыба неплохая, — говорит Бабушка, склонив голову и усердно работая ножом.
На самом деле рыба невероятная. Это рыба Элизабет Бишоп и может быть найдена в ее «Собрании Стихотворений» (см. Книгу 2993), но Бабушка полагает, что похвала — предшественница погибели. Голова и хвост отправляются на сковороду с маслом и солью. Брызги не дают разговаривать. Потом Мэри несет их на тарелке к парадной двери, открывает ее и зовет «Сибби-Сибби-Сибби», и хотя в графстве Клэр я никогда не видела кошку, которую не звали бы Сибби, эта знает, что зовут именно ее, и появляется, спустившись с крыши курятника, где целый день сидит и смотрит Куриный Канал. Вергилий видит Мэри через окно. Он смотрит, как падают ее волосы, когда она нагибается к Сибби, как ее платье очерчивает линию ее колена, как ее пальцы играют на голове кошки и смущают ее, заставляя выбрать между двумя удовольствиями, ведь кошке хочется получить одновременно и ласку, и лосося.
Мэри возвращается в кухню. Она не смотрит на Вергилия. У нее такой вид, что ей надо много чего еще сделать. Такой вид бывает, когда надо Накормить Гостя. Это сельский обычай. Возможно, даже ирландский. Радушный прием важнее чего бы то ни было. Вы можете быть при смерти, у вас может не быть денег в банке, ваше сердце может разбиваться от невыносимых болей, но вы все равно должны накрыть на стол и устроить Радушный прием. Накормить Гостя. Помидоры должны быть нарезаны ломтиками, салат промыт под краном и промокнут досуха, ровно по три листа на тарелке. Зеленый лук. Вареные яйца? Вот они. Хлеб, масло, соль. Не имеет никакого значения, что именно происходит в вашей жизни, если вы должны оказать Радушный прием.
— Ты садись, — говорит Мэри Бабушка. Она не привыкла к роли Купидона. Это ее первый и единственный выход на сцену, и Бабушка чуть грубовата.
— Я принесу салфетки.
Бабушка бросает на дочь взгляд, говорящий «Салфетки?», только в таких субтитрах, какие только МакКарроллы могут прочитать.
У них есть салфетки?
Есть. Бумажные, Рождественские. Мэри кладет по одной на каждую тарелку. Потом поворачивается, прижимает руки друг к другу и смотрит на кухню, будто там должно быть что-то еще, что она могла бы подать на стол.
— Выпьешь что-нибудь, — это не вопрос, а утверждение, — у нас есть Смисвик[488]. — И, обращаясь к Бабушке: — Ведь есть?
— Есть бутылка Гиннесс[489].
— Смисвик или Гиннесс?
Ее лицо повернуто к нему, и его ответ застревает в горле.
— На самом деле… простая вода была бы прекрасна.
Именно тогда Бабушка поворачивается. Именно тогда она понимает, что это повествование, которого она не читала прежде.
— Простая… вода. Если…
Слова опять где-то застряли.
Обе женщины смотрят на него. Что он хочет добавить? Если у вас вообще есть вода?
— Я не пью. — У него извиняющийся тон. — Когда я был в море, было много… — И на этом все. Его рассказ окончен. А остальное пусть скажет само за себя. На короткое время, пока длится то повествование, все замирают. Сражаясь с головой лосося, Сибби заставляет миску грохотать по каменной плите пола за дверью. — Простая вода была бы прекрасна.
— Вода, — говорит Бабушка своей дочери и возвращается к заворачиванию лосося в фольгу.
Мэри наполняет большой белый кувшин с синими полосами. Она наполняет его до краев и ставит, расплескав воду на стол прямо перед ним.
— Прекрасно, — говорит он. — Спасибо.
Он имеет в виду не только воду. У него есть такая вещь, такое качество, какое я представляла себе, сидя на лекциях и слушая про Эдмунда Спенсера[490] или Томаса Уайетта, — старинное джентльменское благородство и обходительность Вергилия Суейна, как будто все, что приходит к нему в такие моменты, так неожиданно и чудесно, что он чувствует благодать.
— Сядь же ты наконец, — говорит Бабушка, все еще не вполне справляясь с ролью Купидона.
И когда стол накрыт, а в шкафчике не остается абсолютно ничего, что может быть вытащено — салат из шинкованной капусты, горчица Колмана[491], перец, кетчуп, — то начинается следующая часть Радушного приема: настала пора сесть и спросить: «Ну и как тебе здесь?» Мэри дважды проводит ладонями вниз по платью, запускает пальцы в волосы, сдается, пересекает кухню, резко выдвигает стул напротив Папы и спрашивает:
— Ну и как тебе здесь?
— Мне нравится.
— Хорошо.
Что исчерпывает диалог. Мэри вспоминает, что не сложила салфетки, берет свою и начинает складывать ее пополам. Вергилий делает то же самое. У обоих не получается выровнять как следует. Возможно, выравнивание — нечто такое, чего не может выдержать любовь. Возможно, есть какой-то закон, я не знаю. Мэри выравнивает половины своей салфетки, проводит указательным пальцем по складке. Когда она поднимает салфетку, та сложена криво. Впрочем, его салфетка тоже. Мэри распрямляет сгиб и складывает снова, но салфетка хочет согнуться по той же самой линии и делает так специально, чтобы позлить ее, а потом делает то же самое, чтобы позлить его, — а может, хочет занять обоих нерешаемыми загадками, а может, хочет сказать на причудливом языке любви, что путь, лежащий перед ними, не будет прямым.
Она не сдается, не сдается и он. И в этом заключена целая повесть, повесть для тех, кто понимает язык Салфеток.
Мэри и Вергилий сидят у накрытого стола прямо перед окном, выходящим на реку. Сложенная «Клэр Чемпион» Бабушки лежит на подоконнике, и на сгибе видно объявление «Свадьбы в Инис Катаиг Отеле[492]», — как видно, в Бабушке больше хитрого Купидона, чем можно было подумать. Мэри и Вергилий сидят и смотрят на всезнающую реку, стремительно мчащуюся мимо, и красный свет Пресвятого Сердца Иисуса горит в небе, и аромат лосося постепенно распространяется по кухне, заменяя собой разговор.
Это не такой рыбный запах, как у Лэйси, где, с тех пор как Томми потерял работу, подают только макрель и черствый старый хлеб из «Лидл»; и не такой, как у Криганов, которые, с тех пор как строительство остановилось, питаются едва ли не одними только речными угрями; и не такой, как у зулусов[493], которых Диккенс видел в Гайд-парке[494] и сказал, что от них заметно пахло; нет, это теплая розовая вкрадчивость в воздухе. Аромат прекрасен и нежен, он проникает везде, и в воздухе пахнет сверхъестественно вкусно. По моему мнению, то приготовление лосося было в значительной степени Суейновой версией Кадила, а Бабушка стала Кадильщицей, мешая кочергой торф и возвращая огонь к жизни, переворачивая рыбу, отгибая фольгу, чтобы проверить, как идет процесс, открывая розовую плоть и выпуская гигантскую струю невозможного аромата.
И я думаю, что вот тогда-то Вергилий и посмотрел на Маму. Он смотрит через стол, и когда она чувствует его взгляд, то вспыхивает румянцем и теплом, а потом не спускает глаз с реки, которую видит из окна. Она смотрит на реку, а Папа смотрит, как Мама смотрит на реку, и теперь для него уже нет пути назад. Его жизнь прямо здесь, — так говорит ему лосось. Вот так говорит лосось, и поскольку лосось есть мудрость и знает все, то и Вергилий знает, что это правда. Сам воздух изменился, и то, что казалось невозможным, то, что он мог бы перестать путешествовать и перестать искать лучший мир где-то в другом месте, внезапно не только становится возможным, но и неизбежным, и здесь, перед лицом этой женщины, это все и начинается.
— Теперь готово, — объявляет Бабушка, облизывая ожог на своем пальце, и переправляет рыбу на стол.
Глава 5
Вы не можете по-настоящему представить себе своих родителей целующимися. Я-то уж точно не могу.
Вы не можете представить себе, каким образом вы появились на свет, и точно так же вы не можете представить себе начало мира. Не все может быть объяснено, это стандартный Суейнизм. Вы просто не можете представить себе ту цепь событий, которые привели к вашему появлению, или вообразить, что те события не произошли. Вы не можете представить себе мир без вас, потому что как только вы представляете это, все остальное принимает вид временного отблеска, как если подышать на окно. Я знаю, что не должна даже думать об этом, но, возможно, думаю об этом потому, что я, как Оливер в Главе Первой «Оливера Твиста», неустойчиво балансирую между этим миром и следующим. В любом случае таково мое оправдание. Вы не можете представить себе свое собственное появление на свет. Это как таинственный источник или родник где-то далеко от вас. Вы знаете, что это произошло; вот и все.
Свадьба моих родителей была в церкви Св. Петра в Фахе. Последующий прием состоялся в Инис Катаиг Отеле в Килраше. Тетушки были единственными гостьями со стороны жениха, вся Фаха — со стороны МакКарроллов, и были заполнены все церковные скамьи на Половине Невесты. Народу набилось, как сельдей в бочку, и церковь, казалось, кренилась на правый борт. Хотя Мама еще не знала этого, в день их свадьбы мой отец впервые был в церкви после собственного крещения. Он никогда не был конфирмован[495], однако Отец Муни — не очень-то верящий в бумажки, любитель ростбифов, на своем последнем году службы перед тем, как удалиться на покой в праведные окрестности Киллало[496], — так вот, Отец Муни предположил, что свидетельство о конфирмации уже шло по почте и продвигалось на всех парах.
В памяти округа эта свадьба осталась как выдающаяся. Я думаю, так вышло потому, что Папу все еще считали фигурой из комиксов DC Comics, Незнакомцем[497], и потому что ни один мужчина в округе не мог поверить, что Мама не выбрала ни одного из них. Еще было далеко до Посвящения — то есть до той части, когда склоняют голову, а Невеста и Жених вместе стоят на коленях и присутствует ощущение Чего-то Возвышенного в происходящем, — а мужские сердца уже начали разбиваться. Куски их тоски и грез откалывались прочь и соскальзывали так далеко, как и поле Фини, соскользнувшее в море. Отец Муни, должно быть, чувствовал эту гигантскую боль, наполнившую его церковь. Те, кто находился в Мужском Проходе, молитвенно сложив руки, сжатые до побеления суставов, со щеками, расцвеченными пятнами румянца, с тонкими сеточками лилового цвета и голубыми, как Атлантический океан, глазами, с тоской опускались на красные и черные плитки пола в надежде на Заступничество перед Господом. Когда же оно не приходило, они делали то, что здесь делают мужчины, то есть к полуночи опустошали бар в Инис Катаиг отеле, а еще и срочно доставленные ящики и бочонки, принесенные из бара Кротти.
Маме было все равно. Она только думала вот моя жизнь, вот она начинается, и хотя Мама успела выслушать лишь самые неопределенные обрывки истории Суейнов, знала всего лишь несколько абзацев из разных глав, она не беспокоилась. Когда Мама была девочкой, в ней было некое неистовство. У нее было немного от Анны Карениной, не в смысле Другого Мужчины, а в том, как Анна жаждала Жизнь с большой буквы. Я дважды прочитала «Анну Каренину» (Книга 1970, Пингвин, Лондон) от первой до последней страницы, и оба раза не могла не думать, что в той широте сердца, той способности к чувству, желанию и страсти есть некая святость. Я с Анной. Она — величайший женский образ, когда-либо созданный, и я больше всего хочу, чтобы она поднялась по лестнице, села бы у моей кровати и подсказала, что мне делать с Винсентом Каннингемом.
Мама сделала прыжок в неизвестность. Вот в чем дело. Она сделала прыжок с мужчиной, у которого не было ни работы, ни явных друзей, и чьи сестры были странными газелями в длинных шерстяных пальто с ужасными пуговицами. С мужчиной, тайна которого была заключена в словах Далеко в Море, кто возвратился ни по какой другой причине, кроме как найти Мэри. Откуда ей было знать, что она будет счастлива с Вергилием Суейном? Но она была дочерью Спенсера Трейси, а в Вергилии было что-то такое, чему она доверяла. Она не смогла бы ничего объяснить, поскольку это было тайной. Но она верила в нее. В том-то и штука с МакКарроллами, как говорит Томми, они верят в тайну. Это хорошо известно. Он женился на своей Морин, потому что в Кьюсак Парке у них закончились чипсы, а у нее их был целый большой пакет.
Медовый месяц был одной лишь ночью, проведенной в Голуэе.
К тому времени, как они возвратились, Бабушка приготовила Комнату. Папа въехал с обескураженной глубоководной застенчивостью человека, только что вошедшего в уже идущее повествование. У него была неловкость чужака. Это был его первый дом, но это не был его дом. Как мистер Лоутер в «Мисс Джин Броди в Расцвете Лет»[498] (Книга 1980, Пингвин Классикс, Лондон), он никогда не был вполне дома в своем собственном доме. МакКарроллы были в камнях, МакКарроллы в потолочных балках, МакКарроллы в дымовой трубе. И еще была Бабушка.
В те первые недели Папа должен был плавать вокруг нее. Кухня была ее собственностью. Она уже была в ней, когда он просыпался. Она все еще была в ней, когда вечером Мама и Папа ложились спать. Первые звуки утра были глухим буханьем хлебного теста.
— Доброе утро, Бриджит.
Бабушке казалось, что Папа говорит, как американец. Она затягивалась сигаретой.
— Доброе утро.
Она все еще не могла произнести его имя.
Ему приходилось наклоняться, чтобы посмотреть в окно за широким подоконником.
— Дождя нет, — сказал он.
— Пока еще нет.
— Хотите чаю?
— Я уже пила чай.
— Я собираюсь сделать чай для Мэри.
Бух. Бабушка перевернула тесто, несколько раз ткнула костяшками пальцев в его раздутый живот, взяла сигарету и еще раз затянулась. Поскольку она ненавидела зрелище окурков — они ассоциировались у нее с мужчинами с итальянским акцентом, которых всегда убивали первыми в черно-белых фильмах, — Бабушка уже развила в себе способность выкуривать сигареты целиком, не теряя ни крошки пепла. После нескольких первых затяжек она начинала курить вверх, поворачивая голову набок и под сигарету, которая теперь была расположена вертикально, будто дымовая труба, так что башенка пепла балансировала над Бабушкиной рукой и никогда не падала.
Вергилий передвинул чайник с края плиты на горячую конфорку и стоял, грея руки, которые вовсе не нуждались в обогреве. Его глаза бродили по полкам, стенам, шкафу, вбирая все: маленький серебряный трофей, который один из Дедушкиных грейхаундов выиграл много лет назад в Голуэе; небольшую стопку памятных карточек, смотревших прямо на него в память о последнем Усопшем; пластикового Святого Младенца Иисуса Пражского; пакетик из оберточной бумаги с неиспользованными морковными семенами из магазина Чемберсов в Килраше; календарь Отцов Миссии Святейшего Сердца Иисуса Христа[499] с одной картинкой темнокожих африканских детей; картинку Святого Мартина де Поррес[500], которую никогда не использовали с картинкой перуанцев и вечного января; счет за электричество, торчащий из кружки, чтобы о нем не забыли; три белых фарфоровых подставки для яиц с миниатюрными сценами охоты — их подарила Пегги Ноттингем, и их никогда не использовали для яиц, но хранили в них чертежные кнопки и иногда заколки для волос, а еще две запасные красные Рождественские лампочки, и все это составляло целую историю вещей, которые создавали Наш Дом.
Все уже было на своих местах. В этом-то все дело. Если бы Папа открыл ящик в шкафу, то нашел бы, что он переполнен тем, что на первый взгляд было мусором. Высохшие маркеры Крайола[501], огрызки карандашей, путаницы тесемок и круглых резинок, игральные карты с пропавшими без вести Семеркой бубен и Тройкой Пик, единственная красная батарейка, круглая плоская коробка давно слипшихся леденцов, мяч для гольфа, крошечная отвертка из рождественской хлопушки, картонные пакетики с бумажными спичками, йо-йо[502], губная гармошка — вещи ничем не примечательные, за исключением того, что после смерти владельцев они станут объектом внимания вновь пришедших.
Где он нашел бы себе место в этом доме?
Чайник начал кипеть.
— Вы точно не хотите чаю?
— Он не готов. Оставь его, чтобы вскипел. — Бабушка не подняла глаз. Тесто ей поддавалось. — Что ты собираешься делать?
— Делать?
— Здесь. Чтобы заработать на жизнь.
С полной силой предплечья, бух! она бросила тесто на посыпанный мукой стол.
— Ну, есть земля, — сказал Вергилий.
— Земля плохая. И ты не фермер.
— Могу научиться.
Теперь чайник был на всех парах, но он не снял его.
— Ты умеешь делать что-нибудь еще?
Она не смотрела на него. Она месила тесто большими пальцами.
Но что он умел? Что знал?
Он знал Ахава, он знал мистера Талкингхорна[503], он знал Квентина Компсона[504] и Себастьяна Флайта[505] и Элизабет Беннет[506] и Эмму Бовари[507] и Алешу Карамазова[508], он знал Латинские Склонения и Французские Глаголы, Эрнана Кортеса, Евклида[509], «Узлы»[510], Столицы Мира, умел делать синтаксический разбор предложения, умел жить на консервах и сухом молоке. Он знал, как выглядит солнце в вечернее время в декабре недалеко от города Пунта-Аренас[511], как ветер из Кейптауна[512] несет аромат полыни весной, знал приливы и бури, знал, что на Кубе был остров La Isla de la Juventud[513], который имел точное географическое сходство с Островом Сокровищ РЛС, — но Вергилий Суейн не знал и не умел ничего, что мог бы делать в Графстве Клэр.
Бабушка слепила тесто в грубый круг и ребром ладони наметила крест на верхней поверхности.
— Что ж, пусть тогда будет земля, — сказала она. Затем похлопала ладонями, стряхивая крошки. — А я буду пить чай. — Она в последний раз затянулась сигаретой, повернула кран и облила водой пепельную башенку. Потом посмотрела из окна на выгул и на сенной амбар с тремя болтающимися досками. — Если справишься.
Ирландцы очень не любят терять лицо. Это правило Номер Один. Вот почему Кевин Коннорс назвал Кризис дьявольским шоу, и почему вся страна была унижена действиями банкиров и застройщиков. Не столько потому, что такое произошло, сколько потому, что все в мире теперь знали, что оно произошло, и мы еще раз стали «Этими ирландцами». Мы что угодно вынесем в уединенности наших собственных домов при условии, что мир не должен узнать об этом.
«Как народ, подобно лягушке»[514] является версией дорогой Эмили (Книга 2500, Эмили Дикинсон, «Полное собрание стихотворений», Фабер и Фабер, Лондон), так, прямо там и тогда, Бабушка решила, что если Вергилий Суейн станет фермером, он не станет таким, над каким люди будут смеяться.
Она открыла кухонную дверь, крикнула «Мэри, иди пить чай!» и сказала Вергилию «Иди со мной».
Они вышли в поля, Бабушка в резиновых сапогах с отогнутыми вниз голенищами и в зеленом армейском плаще с капюшоном, Вергилий в слишком долго ношенном шерстяном джемпере под кожаной курткой и в низких ботинках рыболова, которые успели зачерпнуть грязь, прежде чем Бабушка и Вергилий пересекли Поле Форта. Они вошли в Режим Всасывающего Погружения, каждый их шаг чавканьем оповещал о себе. Это была своего рода хлюп-плюх-процессия, которая распугала черных дроздов, ринувшихся вверх навстречу дождю и перелетевших на соседнее поле. Бабушка шла быстрее Вергилия, потому что знала, как поворачиваться и покачивать бедрами, опускать и поднимать ноги — так умеют только здешние жители. Когда вы идете по мокрым полям у реки, это означает, что вы не просто ставите ногу, а вроде как перекатываетесь стопой, что может быть прекрасным для ходьбы по пропитанной водой земле, но еще и является причиной того, что наш округ занимает место Номер Один в Клэр по замене тазобедренных суставов, чем и знаменит.
Бабушка шла и отрывисто говорила.
— Канаву в западном углу нужно прочищать раз в месяц. — Было похоже, что ее не чистили уже много лет. — Если весна влажная, ты не сможешь пройти по этому полю до августа. — На поле было несколько серебряных водоемов. — Вот Большой Луг. Вот Малый Луг. Мой муж косил его собственноручно. — Бабушка провела Вергилия по каждому дюйму земли, на которой уродились навозные лужи, камыши, бурьян и случайная трава.
Папа ничего не сказал. Чтобы попасть на Нижний Луг, предстояло преодолеть стену, потому что ворота больше не были присоединены к столбу, но привязаны бечевкой, а чтобы не отвалились, зацеплены петлей за страшно колючий куст. Папа предложил Бабушке руку, но она не взяла ее, стала перед ним и перелезла с прыткостью козы, а потом оглянулась, когда услышала грохот падающих камней, ведь Папа шел следом. На Топком Лугу Бабушка показала четырех коров. На вершине перелаза крикнула «Хап!», — возможно, так она сообщила им о появлении нового фермера, а возможно, хотела заставить их встряхнуться всем телом, как делают лошади, и представить Папе свои лучшие профили. Но коровы были в своем коровьем оцепенении и не пожелали двинуться — то ли от гипноза дождя, то ли от вялости нескольких желудков[515], набитых перевариваемой массой, то ли от того, что у них на ногах были коричневые чулки из грязи, достающие до скакательных суставов.
— Вот и наш скот, — пояснила Бабушка.
Вергилий посмотрел на коров. Он не знал, что сказать. Дождь — его и дождем-то не назовешь, — капал на всех. Река бежала, как обычно, и дул резковатый ветерок со стороны поля МакИнерни, напоминая Папе, что у него шея сзади мокрая.
— Красивые, — сказал Папа.
Но не это ожидала услышать от него Бабушка. На такое у нее не был приготовлен ответ. Она посмотрела на Папу.
Но Вергилий уже углубился в Философию Невозможного Стандарта. В некотором смысле ему помогало то, что земля была настолько плоха. Это означало, что здесь он должен будет не только переуилтширить Уилтшир, но и переэшкрофтить Эшкрофт. А потому увиденное вовсе не обескуражило его, совсем наоборот. Возможно, только одна я думаю, что здесь расположено место Навоза-и-Дождя, наименее-похожее-на-рай во всей стране, но даже если я права, Папе все равно нужна была надежда на лучшее.
— Это все, — сказала Бабушка таким тихим голосом, какой бывает у людей в конце долгой исповеди, когда все ужасное уже сказано. — Итак, мы возвращаемся. Мэри давно встала.
— Я пока останусь. Скоро вернусь.
— В этом нет необходимости.
— Я знаю. Но мне хочется.
Его глаза были опасны. Так, должно быть, показалось Бабушке. У них было такое выражение, будто они видят что-то еще.
— Если ты в этом уверен…
Она не смотрела ему в глаза.
— Уверен.
— Ну, раз так, ладно.
Она закачала бедрами, пролагая свой путь назад через поля, и когда вошла в кухню, дочь вопросительно взглянула на мать.
— Он хочет побыть там, — сказала Бабушка.
Через секунду они обменялись взглядами, беседуя на беззвучном языке матери-дочери, — постороннему, чтобы понимать его, нужны сотни книг и еще больше лет.
После кур, и посуды, и золы, и чистки овощей Мэри пошла искать Вергилия. Она боялась, что его сердце треснуло. Она боялась, что реальность места потрясет его, и она найдет его под живой изгородью, с которой капает вода, в дальнем углу, и он будет готов объявить, что они не могут строить здесь свою жизнь. И вот она увидела его. На дальнем краю Топкого Луга стоял Вергилий — с серебряным нимбом над головой.
Это была игра света. Желая произвести впечатление на тот пейзаж, Вергилий наткнулся на кусок колючей проволоки, похороненной в траве, начал тянуть его и обнаружил, что у времени и природы крепкая хватка. Но упорствовал так, как мог упорствовать только мой отец. Безнадежным было это занятие. Но Папа так просто не сдавался. Колючки раскровянили его пальцы. Одна оставила длинный извилистый рубец на тыльной стороне его руки, о котором много лет спустя мы с Энеем сказали, что он похож на реку, и отец спросил, на какую, и тогда мы назвали ее Вергилиевой Рекой. Наконец, трава обиделась, разорвалась и отдала Папе проволоку. Тогда он отправился вдоль нее, нашел забытые границы, поднял сгнившие палки, которые когда-то служили столбами забора. Но когда он это сделал, проволока, освободившись от натяжения, начала скручиваться и запутываться позади него. Именно так Бог играл с моим отцом. Даже за маленьким успехом беспощадно следовала неудача. Отец возвратился, чтобы попытаться распрямить проволоку, и к тому времени, когда моя Мама увидела Папу, он стоял внутри мотка, и проволока мерцала вспышками в дождевом свете, и мой отец — вернее его промокшая фигура, — смеялся в ловушке, созданной собственными руками.
Я думаю, тогда-то Мама и поняла, что Папа не сдается никогда.
— Ты будто тонул в реке, — сказала она.
Вечером того же дня, после ужина, Вергилий вышел проверить коров. Это, как он уже знал, было важной частью сельского хозяйства. Незадолго до темноты Проверьте Коров. Если вы уже составили некоторое представление о моем отце, то знаете, что он понятия не имел, что еще надо проверять, кроме их фактического наличия. Если они стояли, он считал, что с ними все хорошо. Если они лежали, то он несколько раз крикнул бы «Хап!», чтобы заставить их встать, и затем ушел, оставив тех самых дам задаваться вопросом, почему их разбудили и подняли, и у них на мордах было бы коровье выражение, означающее Люди такие Странные. В тот первый вечер, в то самое время, когда Мама и Бабушка мыли посуду, он пошел через поля. Темнело на глазах. Он привык к темноте моря, а ведь она темнее всего, что еще есть в мире. Но он не привык к ощущению, будто нечто невидимое пролетает над ним. У него создалось впечатление, что воздух полон черных, чернее ночи, клочков ткани — или тряпок, — падающих с небес. Но не приземляющихся. С невозможной стремительностью одна такая тряпка нагоняла Папу и, прочертив дугу, исчезала, но тут же появлялась другая. Он наклонил голову, поднял руку и затем понял, что воздух наполнен летучими мышами.
Я их знаю. Я видела их внуков. Их жилище — крошечное отверстие в углу карниза в доме МакИнерни. Выходящих больше, чем входящих, но так всегда было в доме МакИнерни. Я выросла в деревне, и летучие мыши не пугают меня. Однако в тот вечер кровь Вергилия похолодела, будто летучие мыши были предзнаменованиями, будто напоминали, что рай не будет простым делом и что в мире есть темнота. В тот вечер Папа не возвратился через поля, а пробрался через кривые ворота на дорогу к МакИнерни.
Под ногами был гравий, идти было легче. Летучие мыши не перелетали через дорогу. Он шел между высокими зарослями дикой фуксии.
И увидел факелы.
В широкой и глубокой темноте Фахи даже один-единственный факел виден издалека, а сейчас их было столько, что казалось, из деревни вытекала извилистая огненная река, сужавшаяся в одних местах, становившаяся шире в других, и приближалась та река к нашему дому.
Прежде всего Вергилий почувствовал вину.
Отец Типп говорит, что два признака святых — во-первых, чувствовать, пусть и без причины, свою вину, и, во-вторых, постоянно чувствовать себя недостойным. Полагаю, мой отец думал, что заслужил то, что приближалось. Думаю, он понимал, что взял в жены самую красивую девушку в округе и потому его первой мыслью было: «Они доберутся до меня».
Он был в отъезде, помните? Долгое время он провел в море со своим воображением, и сейчас в его воображении произошло то же самое, что и в книге Уильяма Фолкнера, когда пришли с факелами[516].
Люди высвобождают свое неодобрение в огне. Они хотят прийти и сжечь наш дом дотла.
Но там было не несколько мужчин.
Там были все. Весь округ был уже в пути.
Папа стоял на дороге. Вот я и вовлечена в это повествование. И меня саму удивляет, как у меня получается заставить Томми Девлина рассказывать нашу повесть. Так вот, Вергилий просто стоял на дороге. Он не побежал предупредить Маму и Бабушку, не ворвался в кухню, не запер дверь, не придвинул стол к двери в ковбойском стиле и не заорал «Индейцы»[517]. Он стоял на дороге и ждал, а огненная река приближалась.
Когда река обогнула угол дома Мерфи, он увидел, что она состоит не из людей. Это были фигуры из мира фантомов, как говорит Томми. Он наслаждается этим словом. Фантомы. У одних были конические головы и деформированные тела. На других были маски. И еще были высокие, огромные женщины в платьях, которые не сходились на их бюсте. Некоторые были белыми, похожими на гору из-за простыней, наброшенных сверху; другие в мешках и соломе. Лица закрашены черным. И никого не узнать.
Когда река обогнула угол дома Мерфи, то увидела Вергилия Суейна.
И остановилась.
Остановить быстро столь длинную реку не так-то легко, и потому фигуры пихались и толкались, затем поднялся глухой рокот и прокатился по всей ее длине. Глухой рокот не принял форму настоящей речи. Но был хором шшшшшшшшшш, а Вергилий стоял в ста ярдах от нашего дома лицом к лицу с фигурой, голова которой была плетеным конусом, поднимавшимся на восемь футов[518] над землей.
— Поворачивайте назад, — сказал мой отец. Он сказал это точно так, как сказал бы Спенсер Трейси, потому что, хотя река превосходила его численно как триста двадцать семь к одному, он не собирался позволить этим людям прийти и сжечь дом дотла.
Конусоголовый покачал головой. Река не повернет назад, но и не скажет, почему. Конусная Голова не хотела уступать. Из-за такого пустячка возникло затруднение. Тот покачал конусом более красноречиво. Весь передний ряд отрицательно покачал конусными головами. А потом еще.
— Поворачивайте назад! — мой отец выкрикнул вверх и вдаль так, чтобы было слышно всей реке, которая раздувалась и расширялась. Фигуры в масках устремлялись вперед, чтобы увидеть, что происходит.
— Поворачивайте назад. Расходитесь по домам!
И опять отрицательно покачиваются конусные головы, видны жесты замешательства и отказа. И никто так и не произнес ни слова.
Полагаю, что так бы и могло продолжаться, и все остались бы стоять там, но Мама позвала «Вергилий!» — ее резкий шепот раздался позади него.
— Вергилий! — Он повернулся, чтобы взглянуть на нее, и она отчаянно помахала, чтобы он подошел. — Это наши bacochs, — сказала она. — Соломенные Парни. Они пришли отпраздновать нашу свадьбу.
Вергилий посмотрел на реку, состоящую из мужчин и женщин всего округа, разглядел разнообразные, изобретательно сделанные, причудливые наряды, какие только эти люди смогли придумать, и увидел, что некоторые несли не оружие, а скрипки и бубны, и Папа сделал шаг назад, затем другой, а Мама прижала руки ко рту, чтобы сдержать смех, но хихиканье было видно в ее глазах. Она взяла Папу за руку, и они пробежали последний кусок пути назад вдоль дороги, и вбежали в ворота, и оказались в доме за секунду до того, как река влилась вслед за ними.
Глава 6
Вы еще здесь?
В такие, как этот, дни, когда я просыпаюсь и чувствую себя более усталой, чем когда засыпала, я не могу вполне верить, что вы существуете.
Дорогой Читатель, ты плод моего воображения?
Трудно жить одной лишь надеждой. Живя надеждой, становишься худой и усталой. Надежда выскабливает тебя изнутри. Все время живешь в будущем времени. Надеешься, что там, в будущем, все будет лучше: и сама ты почувствуешь себя лучше, и не будешь просыпаться, чувствуя, что кто-то вынимал из тебя жизнь каплю за каплей, пока ты спала. Теперь целая страна живет будущим. Мы находимся в Ужасном Времени, но в будущем у нас снова все будет в порядке. Мы просто должны продолжать надеяться. Вот, например, Мойра Колпойс получила диплом с отличием первой степени по Социологии, и миссис Куинти говорит, что Мойра разослала сотню резюме в Дублине, претендуя на любую работу, однако получила всего лишь один ответ, а когда пошла на интервью, там было триста человек, и у двухсот был десятилетний опыт работы, и потому вчера мистер и миссис Колпойс повезли дочь в Шаннон, и сейчас она, должно быть, подъезжает к Перту[519], а завтра начнет искать Даворенов, с которыми на самом деле не знакома. Они из нашего округа, переселились туда в прошлом году и начали работать на заводе по производству шин. Колпойсам уже за шестьдесят, и Мойра — их единственная дочь. Миссис Куинти говорит, что когда на обратном пути мистер и миссис Колпойс остановились у Магуайров купить бензина и молока, то выглядели на десять лет старше. И теперь они просто будут надеяться, что все наладится, говорит миссис Куинти. У них большой сырой старый дом, в котором они целыми днями болтаются без дела, тот дом, что похож на высокую серую ракушку — именно таким я впервые представила себе Сатис-Хаус Мисс Хэвишем. Этот их дом уже дважды грабили после начала Кризиса, и там мистер и миссис Колпойс будут влачить свое существование, надевая по три пары носков, садясь поближе к огню, — и надеясь.
Чтобы была надежда, у вас должна быть вера. Это безумное сочетание. Вы должны верить, что все может стать лучше. Вы понятия не имеете, как именно, но каким-то образом должно. Это слепая штука, вера. Но я, кажется, вижу слишком много. Я лежу здесь в кровати-лодке, когда просыпаюсь. Я должна сразу же позвать Маму, чтобы она пришла, и раздвинула шторы, и использовала свой лучший радостный голос, чтобы изгнать мое уныние, но иногда я так не делаю — то есть не зову ее. Просыпаюсь и чувствую утреннюю усталость. Интересно, куда я пойду отсюда и каким образом я вообще могу пойти, — я смотрю через комнату на все мои книги и спрашиваю себя — а вдруг у меня получится сделать то, что я намеревалась? А вдруг у меня получится найти моего отца?
Я выгляжу серой. На самом деле так выгляжу. Зеркала должны быть запрещены точно так же, как Дядя Ноели запретил Новости. И то, и другое — враги надежды. Дядя Ноели объяснил, что не может слушать всезнающих экспертов по Плохим Ситуациям, — ведь те эксперты прежде были специалистами по экономическому процветанию, то есть по Буму, а потом, в Кризис, многие из них, будто мрачные соседи, втайне наслаждались своим участием в важных похоронах, — и поскольку время требовало чрезвычайной тактики, а сердце должно было быть чем-то поддержано, Дядя Ноели переключился на «Lyric FM»[520], стал слушать еще и «Marty in the Morning»[521] и подружился с Моцартом. Но нет возможности выключить зеркало, оно висит вот тут, над раковиной в ванной комнате, от него не уклониться, и в нем я серая.
— Я выгляжу серой? — спросила я Винсента Каннингема.
— Что?
Он сделал то, что делают люди, когда надеются, что вопрос отпадет сам собой, — притворился, будто он Роберт Де Ниро[522], что означает — он должен смахнуть три невидимых ворсинки с колена своих брюк и начать исследовать свои пальцы, а потом, нахмурившись, глядеть на то, что только он мог там увидеть. Если бы, как у мистера Пекснифа[523], у него была шляпа, он искал бы ответ в ней.
— Какое слово ты не понимаешь? Серая? Мое лицо, оно выглядит серым?
— Нет. Нет. Конечно, нет.
— Какого цвета мое лицо, как бы ты сказал?
— Нормального цвета.
— Это смешно. Очевидно же, у меня совсем не нормальный цвет. Никогда не был нормальным и никогда не будет.
— Ну ты же понимаешь, что я имею в виду.
— У меня под глазами круги. Какого они цвета?
— Нормального.
— Винсент.
— Син…еватые.
— Синевато-серые?
— Синевато-бледные.
— Это и есть то, что люди называют серым.
— Если ты не чувствуешь себя хорошо, возможно, тебе стоит лечь в больницу.
Существовало так много причин, почему это было смешно, что я даже не рискнула начать. В больнице графства началась Зимняя Рвотная Вирусная Инфекция[524], а Осенняя Рвотная Вирусная Инфекция, по-видимому, отбыла в Африку. Серый цвет лица не был состоянием, требующим неотложного лечения. У меня был Свой Взгляд на это, доказательством чему служило то, что я ела огромное количество говядины, чечевицы, бобов и шпината, принимала двойные дозы таблеток с Высоким Содержанием Железа, а мои внутренности были волшебной детской площадкой с качелями и горками для Pfizer[525], Roche[526], GlaxoSmithKline[527] и лекарства с названием, будто из «Звездного пути», AstraZeneca[528].
— Просто признай это. Я выгляжу серой.
— Выглядишь.
— Спасибо.
— На здоровье.
Я получила меньше удовлетворения, чем надеялась.
— Мои волосы похожи на старую солому.
— О, Рут, нет, они… Хотя да, похожи.
— Спасибо.
Если вы чувствуете безнадежность, вам хочется, чтобы кто-нибудь еще тоже ее чувствовал. Это одно из высших противоречий в человеческой натуре. Но у Винсента Каннингема одно из тех жизнерадостных сердец, какие всплывают, когда вы пытаетесь затолкнуть их под воду.
— Я вымою их, — сказал он.
— Что?
— Да ладно. Я вымою твои волосы.
— Сначала полетай вокруг комнаты. Почему бы нет?
— Да ладно, почувствуешь себя лучше.
— Я не позволю тебе мыть мои волосы.
Он уже направлялся в ванную.
— Я подготовлю воду.
— Винсент! Винсент!
Я услышала, как из кранов льется вода. Нужно время, чтобы теплая вода поднялась сюда. Мой отец устроил ванную, пользуясь указаниями из подержанной книги «Руководство для Домовладельцев» (Книга 1981, Ридерз дайджест, Нью-Йорк), которую раздобыл в магазине Спеллисси в Эннисе. Устройство ванной оказалось крепким орешком. Корешок книги сломан, на страницах, вспухших от воды, приведены Основы Домашнего Водопровода и Канализации, и либо мой отец, либо один из предыдущих владельцев немного утопил книгу во время своих попыток что-то сделать. Но теперь поворачиваешь кран… и ничего не происходит. Когда я была моложе, то часто воображала, что вода должна прибыть в ванную из реки, и не возражала против того, чтобы подождать — ведь мой отец сам сотворил это чудо техники. Сначала ничего не происходит; кран открыт до упора, и это будто испытание — насколько крепка вера в то, что вода появится, и как только поверишь, можно на самом деле услышать крошечный вздох, исходящий из носика крана. Это подтверждение веры в то, что скоро воздух станет водой, надо лишь вынести стояние на холоде еще чуть дольше. Холодная вода бежит целую вечность. Бежит, пока не начинаешь думать, что тепла не существует, и тут раздается стук из «Макбета»[529]. Стук где-то в доме, но никто не может сказать, где именно. Потом стук переходит в лязг, доносящийся из-под деревянной обшивки стен, и трубы трещат так, как щелкают больные суставы при артрите. Затем ощущается болезненное сопротивление течению, и наконец становится понятно, что вера принесла результат, и горячая вода начинает литься с серией воздушных отрыжек и внезапным громким всплеском триумфа.
Винсент вошел с банным полотенцем.
— Ладно, — сказал он.
— Что ладно?
— Ты почувствуешь себя лучше.
— Спятил, что ли?
— Да, — ответил он. Его волосы торчали вверх, и он безумно хлопал ресницами, когда начал стягивать с меня пуховое одеяло. — Давай же.
— Послушай, Видал[530], не то чтобы я не ценила…
Он уже просунул руку мне под спину и понял, что я легче, чем ему казалось, что у меня так мало субстанции, и на мгновение он, должно быть, подумал, что его рука прошла сквозь меня, что я ему пригрезилась, за исключением того, что если бы и вправду пригрезилась, то ему, вероятно, не пригрезилась бы серая кожа, или соломенные волосы, или, вполне возможно, мои замашки. Он приподнял меня. Я держалась за него.
— Ты спятил, — повторила я. Я была так удивлена, что не могла говорить длинными предложениями.
Он приладил деревянный стул спинкой к раковине и положил дважды свернутое полотенце, сделав из него опору для шеи. От воды поднимался пар.
— Вот.
— Ты ошпаришь меня.
Он осторожно усадил меня, потом отвел свою руку, сделав паузу лишь на миг, чтобы убедиться, что я все еще сижу на стуле. Засучивая рукава, он повернулся к раковине.
— Винсент.
Я сидела к нему спиной.
— Я знаю.
Он опустил в воду локоть.
— Нет, но…
— Давай. — Он взял мои волосы. — Откинься назад.
— Ты вообще когда-нибудь…
— Рут, откинься назад.
Я положила голову на опору. И мои волосы оказались в воде. Его руки подталкивали воду к волосам, обращаясь с ними так, будто они были золотыми волосами из сказки. Потом он зачерпнул воду рукой и дал воде течь по моей голове, опускал руку, опять зачерпывал воду и опять давал ей течь, и это почему-то казалось теперь самым древним и естественным ритмом в мире, то течение воды по голове. Я сидела, откинувшись назад, и мои глаза были обращены на Винсента, но он смотрел только на мои волосы и на то, что делал, а взгляд у него был такой, какой можно видеть у мальчиков и мужчин, когда они заняты серьезной, запутанной и жизненно важной задачей. Его пальцы нанесли шампунь на мои волосы. Моя голова стала утешительной твердостью, я знала это, и на краю моей субстанции был череп, и Винсент взбил пену на нем, а затем разглаживал мои волосы по всей длине, иногда позволяя им перемещаться между его ладонями. Время от времени он одной рукой добавлял шампунь, а другой наливал на волосы воду. Она пролилась мне на лоб, Винсент принес свои извинения, я сказала, что все в порядке, но со своего рода высшей нежностью он промокнул мои глаза концом полотенца и затем возвратился к мытью с той же сосредоточенной нежностью. Мне было нечего сказать. Я лежу на полотенце, Винсент меняет воду и начинает ополаскивать волосы. Вода не кажется водой. Она похожа на грезы о воде, текущей по мне, я закрыла глаза и чувствовала руки Винсента, и воду, и ее течение, и своего рода невозможное ощущение освобождения, наполнения и очищения, будто происходящее было крещением, простым и чистым потоком благодати, будто вопреки всему появились основания для надежды.
Глава 7
Мой отец не умел водить машину. Он ушел от тепличных условий «острова» Эшкрофт далеко в море и пропустил годы, когда должен был учиться. Мама же водить машину умела. Когда ей было одиннадцать лет, она училась этому на большом заднем лугу, сперва просто сидя на коленях у Спенсера, когда он вел свой трактор «Zetor»[531], у которого не было кабины. Мама приходила в восторг от громкого тарахтения и подпрыгивающей езды по открытым просторам, а еще и от того, что можно поехать сюда, или туда, или еще вон туда, и все просто потому, что так хочется. Уже очень скоро Мама водила трактор так же легко, как ходила пешком, вольным стилем, известным и под другим названием — Трясучий. На самом деле она не имела понятия ни о правой, ни о левой полосе, впрочем, такое считалось нормальным по эту сторону Фахи, где дорога шириной с повозку и с ирокезами травы по обочинам, а когда встречаются два автомобиля, нет никакой надежды проехать, и кто-то должен повернуться на сиденье влево, закинув левую руку назад[532], и ехать задним ходом до ближайшего промежутка между заборами или до ворот. Жители Фахи делают это блестяще, вдавив педаль газа в пол и мчась плавными зигзагами туда, где только что были, побеждая и время, и пространство, а заодно лишая смысла не только прошлое и настоящее, но и такие понятия, как «здесь» и «там». Как знает любой студент, изучающий историю Ирландии, древнюю и новую, мы — страна великолепных знатоков перемены направления.
В низкой хижине, которая была когда-то Первым Домом МакКарроллов, а затем стала Хлевом и потом Гаражом, стоял бледно-голубой «Форд Кортина». Ранними вечерами после работы по хозяйству, но прежде чем свет умирал, Мама брала ключ и везла Папу на запад вдоль границы Клэр. И мама, и Папа проявляли пристрастие к краям. Им нравилось следовать за рекой Шаннон в сторону моря, видеть край земли с левой стороны, где течение и прилив встречаются в изменчивом коричневом слиянии. Место назначения было таким же, как у автобуса «Further»[533] Кена Кизи[534]. Мама и ее пассажир двигались, как беглецы[535]. У Мамы был особый стиль вождения, состоявший в основном из слепой веры, скорости и простодушия, и автомобиль со свистом несся на поворотах. Мама не обращала внимания на разбитые трещины в боковых зеркалах, на хлещущие ветки фуксий, на птиц, с криками взмывающих в вихре позади машины, резко и сильно нажимала на тормоза, когда заворачивали за угол и едва не врезались в идущих домой коров.
Я люблю представлять себе, как Мама и Папа едут в голубой «Кортине» вдоль зеленого края земли. Я вижу их, когда смотрю на Карту номер 17 военно-геодезического управления Великобритании. На карте — Эстуарий Шаннон, и это одна из многих помятых карт с загнутыми уголками. Те карты по неясным причинам втиснуты между «Идиотом» Достоевского (Книга 1958, Пингвин Классикс, Лондон), «Уолденом»[536] Генри Дейвида Торо[537] (Книга 746, Оксфордская Мировая Классика, Оксфорд) и «Моллой» Сэмюэла Беккета[538] (Книга 1304, Гроув Пресс, Нью-Йорк). На карте река показана четырьмя оттенками синего — Отметка Наибольшего Прилива, Отметка Наибольшего Отлива, 5 и 10 фатом[539]. Я долго рассматривала, как зеленый цвет земли будто вытягивается, переходит с одного листа на другой, так что самая западная точка, Луп Хед[540], не поместилась на карте и находится в небольшой прямоугольной врезке наверху. В другие вечера Мама и Папа ездили вдоль берега: в Лабашиду, Нок, Киллаймер, на Каппу[541], в Килраш и около него, в Мойасту[542] и дальше вокруг залива Поулнашерри, в Кверрин и Дунаху, по дорогам, которые заканчиваются у ворот на берегу реки или ведут в Лискрону и Карригахольт[543], к Мысу Килкридаун с артиллерийским фортом, куда Вергилий хочет поехать, но дорога не позволит. Летними вечерами Мама и Папа добираются до Килклоера[544], чтобы насладиться видом оттуда, потом едут в Килбаху и, наконец, мчась к закату, добираются до белого маяка на Луп Хед, где река становится пенящимся морем. Никакого «Дальше» больше нет.
В тех поездках Вергилий чувствовал свет, чувствовал озарение. Он смотрел на Мэри, и его сердце всплывало. Это была такая любовь, которая излучает свет, которая начинается в глазах, но скоро оказывается во всем. Любовь, которая заставляет мир казаться лучше, и все становится просто немного более изумительным. Возможно, это потому, что он так долго был в море; возможно, потому, что он понимал, каким потерянным был и что теперь здесь зарождалась реальная жизнь; возможно, потому, что он чувствовал себя спасенным.
Вергилий сидел на пассажирском месте, глядя на поля, на подъемы и косогоры, на птиц, летящих дугой, на яркие отблески реки, на расширяющееся небо.
И он смотрел на вещи.
Я знаю, это звучит смешно, но нет никакого другого способа сказать это. Мой отец мог впасть в тишину, скрестив руки на груди, повернув голову, внимательно сосредоточив взгляд, и вы будете точно знать: это все. Каким-то образом мы это знали. Чужаки могли бы посмотреть на него и подумать, что он ушел в себя, что он затерялся в каком-то созерцании, неподвижно и глубоко, но на самом деле он вовсе не отсутствовал. Он был здесь, но более глубоким образом, чем я когда-либо могла уловить. Мой отец смотрел на вещи так, как должен был смотреть Адам, — так я себе это иногда представляю. Как будто те вещи были только что созданы, и у отца был бесконечный поток удивлений, будто он никогда не видел такого света, падающего именно на этот пейзаж, будто никогда не замечал, как ветер пойман еловой чащей или как бьется пульс реки. Восторги могли быть маленькими или большими, могли прибывать один за другим потоком или по одному, в этом случае были отделены один от другого долгими серыми буднями. Для Папы жизнь была постоянной драмой прозрения и слепоты, но в моменты прозрения он видел мир, внезапно казавшийся ему насыщенным. «Насыщенный» — это слово, которое я нашла в классе миссис Куинти, когда мы изучали творчество Хопкинса, и это лучший способ сказать, что в те моменты, я думаю, мир для Папы был, вероятно, своего рода небесами.
Он сидел в машине молча, и внезапно приходило освобождение.
— Вот здесь остановись. Здесь.
Мэри смотрит вбок на него.
— Мы должны выйти здесь.
Она встряхивает автомобиль, въезжая в канаву. Парковки нет в наборе ее навыков. Вергилий уже снаружи.
— Пойдем.
Мама спешит за ним. Он поворачивается и ловит ее за руку. Они пересекают поле, коровы медленно подходят к ним, будто притянутые неведомой силой.
— Посмотри туда.
Заходящее солнце окаймляет облака. Лучи падают на землю, ясно видимые, полосы света распространяются так, будто идут от перевернутого вверх ногами транспортира, прижатого к небу. Река внезапно становится золотой.
Все длится несколько секунд. Не больше.
— Это прекрасно, — говорит она.
— Нам не следует пропускать такие моменты.
— Нет, не следует, — соглашается она, глядя на него и в сотый раз пытаясь решить: его глаза синие, как небо, или синие, как море?
Я догадываюсь, что Мама сразу же поняла, что Папа никогда не был фермером. Я догадываюсь, что если бы она хотела мужа-фермера, то, возможно, выбирала бы его на скотопригонном рынке. Но она, может быть, не знала, что он был поэтом.
Он еще не знал и самого себя. Он еще не думал о поэзии.
Посвятив себя тому, чтобы повидать в мире все, что сможет, мой отец теперь точно так же посвятил себя тому, что было здесь. Он сделал точно то, что сделал бы его отец — бросился в работу на земле. У Папы сразу же проявились удивительные способности — он заставлял гвозди гнуться, и не только гвозди, однажды ему удалось изогнуть один зуб у вил; в его руках сенные ножи слишком быстро становились тупыми, черенки лопат ломались. Дела у него шли не совсем так, как надо, но он не сдавался. И вот он пошел прочистить сток на заднем лугу, скосил траву, увидел заросшую камышом и бурьяном слякотную канаву и спустился в нее.
У меня, как вы уже, вероятно, поняли, нет опыта в вопросах сельского хозяйства, но даже я знаю, что на нашей земле камни наделены даром находить путь в такие места, где вообще не должно быть никаких камней; и я полагаю, что сорняки, вдохновленные красотой Маминых клумб, решают поселиться на них среди цветов, а черные слизняки размером с ваши пальцы появляются из реки по ночам, получив приглашение от наших приветливых кочанов капусты. Наше хозяйство стремится вернуться в некое прошлое состояние, когда процветали только лишь грязь да бурьян. Если вы летом хоть на миг отвернетесь, ваш сад станет джунглями. Если зимой — станет озером. Именно от моей матери я услышала повести о первых попытках моего отца заниматься сельским хозяйством. Когда я была маленькой и Мама рассказывала, как Папе было трудно, мне стало интересно — не падали ли камни, сорняки и слизняки с неба, не было ли особого знака на нашей двери, и не шагал ли Преподобный где-то на небесах, выдвинув подбородок, подсматривая за нами сверху и говоря: «Вот, я пошлю это. Оно будет ему испытанием».
Вергилий весь день оставался в той слякотной канаве. Он работал лопатой вслепую, стоя в коричневой жиже. Он поднимал скользкие слои перегноя, жирно намазывал их на край канавы, и грязная трава вдоль границы луга демонстрировала Папины успехи. Он рассчитывал провести всего-то час, освобождая канаву от камней, и еще два, откапывая затянутое илом дно. Почему вообще сточные канавы засоряются — для меня загадка. Почему, когда все лишнее выкопано и вода течет, так не остается навсегда, — не могу сказать. Не знаю, происходит ли это везде, или существует в природе нечто, что не любит стекать, — спасибо, Роберт Фрост[545], — или Фаха — Особый Случай, или на самом деле здесь Избранное Место, где Бог проводит эксперимент с месивом из слякоти, ила и навоза, потому что не смог провести его в Израиле.
Черенок лопаты в конце концов сломался, однако отец продолжал работать, используя только железную часть, закатав рукава и опуская руки гораздо глубже. После долгого перерыва с моря пришел дождь и полился на спину мужчины, склонившегося ниже уровня земли. Подошли Коровы и с любопытством стали разглядывать Папу. После обеда, надев огромное всепогодное пальто электромонтера, какие были выданы всем в Фахе, когда начали строить электростанцию, вышла Мама и сказала Папе, что на сегодня он сделал достаточно. Он выпрямился, продолжая стоять в канаве и испытывая дюжину разных болей. Его волосы сроднились с грязью, лицо было неумело раскрашено всплесками из канавы, глаза будто подведены тушью. Дождевая и сточная воды пропитали его одежду насквозь.
— Вергилий, иди домой.
Он улыбнулся. Да, он это сделал: улыбнулся.
Это был восторг. Ведь Суейны еще и люди крайностей.
Точно как святые. Или как безумные.
— Осталось совсем немного, — сказал Папа.
— Ты весь промок.
— Со мной все хорошо.
Дождь лил вниз по вертикали, омывая Папино лицо, лупил по плечам и скатывался со всепогодного Маминого пальто электромонтера.
— Вергилий.
— Я дочищу канаву. Будет одна сделанная работа.
Мама посмотрела сверху вниз на него, на своего молодого мужа, потом посмотрела назад. Три четверти канавы были очищены, но вода по ней еще не бежала. Темные кучи выкопанной массы тянулись вдоль края канавы, как некий код, как символы в неясном математическом доказательстве, которое продвинулось досюда, но еще не дошло до заключения. Еще ничего не было доказано.
— Ты собираешься достичь невозможного? — спросила Мама, уже зная ответ.
Дождь и энтузиазм придавали блеск Папиным глазам.
— Думаю, да.
Ей пришлось кусать губы, чтобы не дать себе улыбнуться. У нее было то чувство отпадения от мира, какое часто исходило от Папы. Быстрое и легкое чувство, так непохожее на бремя ответственности, вошедшее в дом после того, как умер Мамин отец. И это новое чувство было похоже на крылья, зарождающиеся внутри нее.
— Ладно, раз так, — сказала она.
Затем развернулась и зашагала назад через покрытый лужами луг. Три ярких светозарных полосы на спине ее пальто отражали последний свет, и казалось, будто в Маме зажжены три ряда свечей.
Тогда в нашем доме не было ни котла, ни центрального отопления. Была печь, и был огонь, и большие кастрюли для горячей воды. Когда Вергилий вернулся, уже было темно. Бабушка ушла в церковь к чтению Апостольских Посланий. Наклонившись, Папа вошел под песню дождя на рифленой крыше задней кухни. От него исходил запах чего-то доисторического.
— Я ее прочистил.
— Снимай одежду, — сказала Мэри. Чтобы устоять перед непреодолимым желанием обнять Папу, она повернулась к тем четырем кастрюлям, которые нагрела так, что от них поднимался пар.
Папа увидел стоячую ванну на полу.
— Снимай все.
Когда я читала ароматизированные белой лилией издания в мягкой обложке «Сыновья и любовники» и «Радуга» Д. Г. Лоуренса (Книги 1666 и 1667, Пингвин Классикс, Лондон), то находила там своих родителей.
Мэри опускает в воду губку и отжимает ее. Поднимается пар.
Голый Вергилий шагает по каменным плитам пола.
Глава 8
Сегодня, когда меня несли из дома в машину «Скорой помощи», Мама крепко держала меня за руку. Я закрыла глаза. Тимми и Пэки хорошо справились со спуском по лестнице и с узкой дверью, не ударили меня о косяк и не дергали на ступеньках. Когда дождь коснулся моего лица, я не запаниковала и не открывала глаза, пока меня не закрепили ремнями в небольшом пространстве машины. Мы начали двигаться, и тогда Мама дважды слегка дотронулась до моего лица. Всего два нежных прикосновения. Затем она снова взяла мою руку в свои, и я была рада этому, хотя мне не десять лет и даже не двенадцать. Все потому, что люди такие скоропортящиеся. В этом-то все и дело. Все потому, что для всех, кто рядом с вами, наступит последний миг, тот миг, когда ваша рука выскользнет из их рук, и все подернется рябью, в последний раз вы ощутите в своих руках усилие их руки, и оно с каждой секундой будет становиться слабее, и вот вы смотрите вниз, на свою собственную руку, и пытаетесь вспомнить, какие ощущения были у вас за миг до того, как их рука ускользнула. И не можете. Не можете ощутить руки тех людей. А потом даже видеть их самих не можете, есть только размытые пятна, будто вы смотрите сквозь водянистый туман, но вы не бросаете попыток увидеть, вы пытаетесь удержаться, но те люди исчезают прямо у вас на глазах и прямо у вас на глазах становятся все больше похожими на призраков.
Мы доехали до Типперери[546], прежде чем Мама убрала свою руку с моей.
Поскольку мы опять направлялись в Дублин из-за того, что Консультант был именно там, Тимми и Пэки стали Чрезмерно Услужливыми. И поскольку Тимми видел, что я стала еще более бледной и худой, чем прошлый раз, и поскольку он также знал, что я была Книжной Девочкой, он попытался привлечь в наш разговор литературу.
— Рут, скажи мне вот что. Разве Ирландия не выиграла бы Кубок мира по Литературному Творчеству?
— Нет никаких Кубков мира по Литературному Творчеству, — заявил Пэки и затем, обнаружив у себя в уме волосок сомнения, повернулся ко мне: — Или есть?
— Я и без тебя знаю, что нет, — сказал Тимми. — Ну, а если бы был? Вот что я хочу сказать. Надеюсь, ты знаешь, для чего нужно слово «ЕСЛИ»?
— До чего же ты наивен.
— «ЕСЛИ» нужно в тех случаях, когда какой-нибудь штуки нет, но если бы была. Вот почему надо использовать «ЕСЛИ». «ЕСЛИ» ты не используешь «ЕСЛИ», то та штука уже есть. Вот в чем разница.
Вместо ответа Пэки переключил стеклоочистители в Прерывистый режим 4.
— Больше половины жизни зависит от «ЕСЛИ», — глубокомысленно произнес Тимми.
Мы проехали, наверное, целую милю, пока он снова не заговорил:
— У нас была бы команда из одиннадцати человек На Уровне Мировых Стандартов, не так ли, Рут?
— Живых или мертвых? — спросил Пэки, и когда Тимми искоса бросил на него свирепый взгляд, Пэки пожал плечами и добавил: — Ну что? Я просто говорю. Ты должен знать правила.
— Для писателей это не имеет никакого значения.
— Тогда ладно, — и Пэки стал вспоминать стихи, которые учил в школе.
Тимми протянул руку и переключил на Прерывистый 3.
— Во всяком случае, Йейтс один из них.
— Центральный полузащитник, — уточнил Тимми.
— А тот, другой, вратарь.
— Кто?
— Ну тот, помнишь, мы его проходили в Выпускном.
— Кто?
— Да вратарь же. — Пэки всматривался в дождь через лобовое стекло. — Пэдди Каванах.
— А-а.
— Да. Я это слышал однажды. Вратарь. Да еще слепой, как летучая мышь[547]. А кто будет центральным нападающим?
— Кто думаешь, Рут?
Глядя в зеркало, Тимми смотрел мне в глаза.
— Выбирать любого пола? — поинтересовался Пэки.
— Чего?
— Ну, живые или мертвые, понятно. Затем мужчины или женщины, верно?
Тимми посмотрел на Пэки, как на человека, который вдруг начал учиться играть в гольф, и морщинка недоумения пересекла лоб Тимми.
— А та, ну, она получила премию? Как ее там? — Пэки пытался выудить из памяти имя.
Капли дождя быстро падали, оставаясь долгое время на лобовом стекле между взмахами дворников, так что мы неслись, почти ничего не видя, затем недолго видели, затем опять были слепыми в ловушке дождя.
— Согласен. У нас была бы хорошая команда, — сказал Тимми. Его глаза вернулись на мои. Я отвела взгляд. У меня не было сил для разговора. Я чувствовала такую слабость, какую вы чувствуете там, где, по вашим представлениям, должен быть кран, открытый где-то внутри вас. Где-то у вас утечка. Это происходит медленно и тихо, но все время что-то вытекает из вас, иногда поток уменьшается и вас отпускает, а иногда вы становитесь столь усталыми, что не хотите бороться с этим, просто хотите закрыть глаза и сказать: «Ну и ладно, вытекай».
— Энрайт![548] — вспомнил Пэки. — Это она.
Тимми сидел вполоборота к нам и говорил через раздвижное окно.
— Ты ее читала, Рут?
Миссис Куинти дала мне «The Gathering»[549] отчасти потому, что этому роману присудили премию[550], отчасти потому, что это была Серьезная Книга, Написанная Женщиной, и миссис Куинти хотела подбодрить меня. Хотела сказать Смотри, Серьезные Девочки Могут Победить, но боялась сказать подобное столь прямолинейно, так что книга должна была высказаться за нее, как книги часто делают. Я полюбила тот роман, но на первую страницу мягкой обложки издатели поместили пристально глядящего мальчика в черно-белых тонах, только его глаза были в цвете, и они были такими пронзительно синими, что я просто не могла смотреть, и потому пришлось отогнуть обложку. Потом, когда я добралась до страницы 71, где Энн Энрайт пишет о человеке с несмываемой печатью неудачника, я должна была прекратить читать из-за внезапно наступившей слабости.
— Как твоя-то собственная книга продвигается, Рут? — спросил Тимми. — Рут хочет стать писательницей, — пояснил он Пэки.
Я не хотела стать писательницей, я хотела быть читательницей, а такое встречается реже. Но одно привело к другому.
Мне хотелось ответить «Я не пишу книгу, я пишу реку. Она течет вдаль».
— Что-то мне захотелось поспать, — сказала я.
Мама погладила мой лоб. Тремя нежными прикосновениями.
— Поспи, — сказала она. — Закрой глаза.
— Мы бы в любом случае разбили британцев в пух и прах, — похвастался Пэки. Помолчав секунду, добавил: — Правда, в свою команду они бы взяли Шекспира. — Спустя мгновение: — И Чарльза Диккенса. — Спустя еще мгновение: — И Гарри Поттера.
Консультант говорит, что надо использовать более агрессивный подход. Говорит, что Этап Наблюдения закончен. Я должна буду провести в больнице много времени. Доктор предпочитает Дублин Голуэю, но выбор за нами. Лечение будет в два этапа, терапия на этапе ремиссии и постремиссионная терапия. Потребуется устройство венозного доступа. Интерферон-Альфа надо вводить ежедневно. Могут быть побочные эффекты — лихорадка, озноб, боли в мышцах, в костях, головные боли, ошибки внимания, усталость, тошнота и рвота.
Но Консультант очень оптимистичен. Очень.
Мы должны отправиться домой и подготовиться. Он ждет меня через пару недель.
И мы обратим болезнь вспять, говорит он.
Глава 9
Удивительно, что после секса моя мать не забеременела. Она, возможно, была единственной женщиной в Ирландии, которая не забеременела. В то время женщины становились беременными, просто надев короткие юбки и высокие каблуки. Высокие каблуки были скандально известны этим. В Килраше практически все обувные магазины были забиты туфлями на высоких каблуках.
В тот первый год весь округ ждал, когда же появимся мы с Энеем. Женщины в Женском Проходе были убеждены, что настоящая причина, по которой Мэри вышла за Незнакомца, — она уже Ждала Ребенка, и бросали косые взгляды во время Согласия на Создание, как Маргарет Кроу называет это, чтобы увидеть, изогнулось ли шерстяное пальто моей матери по кривой, напоминающей речной изгиб. Мужчины в Мужском Проходе намеренно отводили взгляды, потому что мужские мечты умирают с медленным упорным нежеланием, и отрицание — сильная сторона в нашей местности. Она не замужем, она не замужем, звучит, как басовая партия в низком гуле догорающих свечей.
А мы — Эней и я — все еще плавали в открытом море.
Тем временем фермерская деятельность моего отца шла плохо. Наши коровы были уникальны в способности есть траву и при этом худеть. Да еще у них была склонность к утоплению. Одна утонувшая скотина — невезение, две — сам дьявол, три — Бог.
Но Бог (или, по-фрейдовски, Авраам) не сможет победить Вергилия. Мой отец воспринимал каждую неудачу как испытание. Он удвоил число проволок, заменил столбы забора, затем сделал двойную внешнюю границу вдоль реки. Как-то утром он вышел и увидел, что целая секция забора — и столбы, и проволока, — повалены в воду. Следующую ночь он провел в поле под открытым небом, сидел на корточках в пальто под дождем, всматриваясь в темноту, стараясь увидеть призрачные силуэты коров и за песней бегущей реки расслышать звуки приближающихся копыт. Он не будет побежден. Больше ни одно животное не утонет, даже если надо будет разбивать здесь лагерь каждую ночь. Когда же он, наконец, увидел темное пятно на темном фоне, которое было коровой, приближающейся к забору, то встал, дико замахал руками и громко закричал. Корова вынырнула из своей коровьей грезы и посмотрела на него, будто он-то и был безумным.
— Назад! Пошла! Назад! Хап! Хап!
Старая корова не двинулась, так тверда она была в своем решении утопиться.
Вергилий не подумал заранее, что надо было захватить палку.
— Хап! Пошла! Хап!
Тем не менее она стояла там, ее глаза становились диковатыми, и она смотрела мимо него на реку и была в замешательстве, почему он не позволяет ей пройти. Она развернулась, сделав полшага, чтобы посмотреть, успокоит ли его это.
Не успокоило. Вергилий хлопнул рукой по ее задней стороне, «Хап!», и от удивления она лягнула его задними ногами, сделав весьма изящный подъем и резкий удар назад, который попал Папе по голени и согнул ее. Теперь он лежал на земле возле проволоки, и его мозгу хватило времени сообщить ему, что корова сломала ему большую берцовую кость.
Задняя сторона коровы все еще была обращена к нему. Теперь и все стадо приближалось через темноту.
Они все пришли, чтобы утопиться? Он схватил голень обеими руками, надавил, как будто мог прижать осколки друг к другу, но от давления боль только стрельнула глубже. Он взревел. И, возможно, потому, что скотина понимала крик боли, или потому, что ее отвлекли от пути к реке, или потому, что коровы не могут держать две мысли в голове одновременно, они остановились. Они стояли и наблюдали за Папой. Через некоторое время одна из них подумала, что трава, возможно, более сладкая там, в дальнем углу, где коровы были часом ранее, — конечно, этого не было на самом деле, но она все равно пошла, и другие по коровьей моде пошли за ней, и той ночью ни одна не утонула.
Мой отец пополз назад через поле. Он забарабанил в дверь черного хода, потому что не мог встать, повернуть ручку и открыть дверь.
Назавтра после обеда, когда нога Вергилия уже была в гипсе и его усадили на два стула у окна, Джимми Мак зашел проведать его. Он выслушал полный отчет о наших коровах, которые были повернуты на утоплении. Потом медленно кивнул и поскреб в начинающейся щетине бороды, которая у него была всегда, за исключением воскресений.
— Ничего такого не случилось бы, — сказал он, — но они ищут воду, чтобы напиться.
Мой отец рассказал это нам. Как и все другое, что он рассказывал, эта повесть тоже была не в его пользу. Он никогда не был героем, и из этого я делаю вывод, что мы должны были познать нечто вроде благодати, — если для познания благодати надо потерпеть жестокое поражение.
В тот год он решил отвести Большой Луг под картофель. Я думаю, надо говорить «посадить картофель». Принцип был прост. Вы покупаете семенной картофель, выкапываете ямки, всовываете в каждую по картофелине и закапываете. Каждый семенной клубень, купленный вами, даст минимум десятикратный урожай. Возможно, двадцатикратный, если год будет хорошим. У Томми Мерфи был в Корке кузен с бороной. Тот кузен приехал в Клэр и только вносил корректировку. Он пришел, влез на стену и посмотрел на поле.
— Там несколько камней, — сказал он. — Их нужно убрать.
Оказывается, у него было Корковское мастерство преуменьшения. Кто знал, что одно поле может скрывать столько камней? Если бы их выложить один к другому, то там не было бы вообще никакого поля. Если бы у вас была склонность к Ветхому Завету, как у Мэтью Бэйли, то вы предположили бы, что камни дождем сыпались с неба[551] каждую ночь. Возможно, так и было. Или, возможно, каждый фермер в округе откопал свои камни несколько лет назад и свалил их на наши поля, пока МакКарроллы мечтательно смотрели на Атлантику и сосали водоросль. Оказалось, у нас коллекция мирового класса. Были верхние камни, средние камни, глубинные камни. И еще валуны.
Вергилий взялся за дело. Кожа на кончиках его пальцев, суставы обоих больших пальцев, костяшки пальцев обеих рук, коленные чашечки сразу почувствовали это. Он вышел в поле еще до петухов мартовским утром, впечатывая тепло своих ног в высокие резиновые сапоги. Он вышел через черный ход, тихо бормоча на выдохе. Кончиками ушей почувствовал мороз, пока пересекал открытое поле, направляясь к верхнему углу, где опустился на колени, решив, что стоять на коленях гораздо лучше, чем наклоняться. Он скреб в земле, выбирал камни и бросал их в ручную тележку. Утренняя заря вставала под скорбный стук, — стук, пугавший сорок, пока не стал для них привычным, и они опять прилетали клевать червей. Те поднимались на поверхность, не понимая того, что понимали птицы, а именно того, что мужчины готовили землю Весной, а картофель сажали около Дня Святого Патрика[552].
О чем думает мужчина, когда целый день стоит на коленях в поле возле реки? Понятия не имею. Полагаю, некоторым пришло бы в голову, что, возможно, поле было непригодно. Но, как и я, в вопросах сельского хозяйства мой отец был простаком, и потому я полагаю, что он просто подумал, что это и было то, что называют «обрабатывать землю». Если вы знаете латынь, сделайте перерыв, прочитайте «Георгики» Вергилия, написанные приблизительно в 30-м году до н. э., и тогда увидите, что Вергилий тоже испытал затруднения с занятием сельским хозяйством. Но у него не было наших камней. У нас на ферме всегда их было слишком много.
Мой отец наполнил тележку до краев и внезапно обнаружил, что изобрел новую боль под названием «разгибание спины». Он подошел к тележке и хотел поднять ее за ручки, и тут его озарило — он понял Архимеда: камни тяжелые, земля мягкая[553]. Папа не мог толкать тележку. Колесо погрязло в земле.
— Только птицы были свидетелями позора вашего отца, — сказал он нам. — Пришлось вынимать камни из тележки.
Он решил не вывозить камни на ручной тележке, а собирать их в конические кучи по краям борозд. Камни все еще там. Они заросли травой, и потому наш задний луг похож на инсталляцию художника или на зеленое море с замороженными гребнями волн. Эти кучи — памятник Картофельным Годам, я полагаю. Коровы Мака используют эти камни как скребки для задниц.
Вергилий оставил нам Метод Суейнов. День за днем он продвигался на коленях, вынимая камни. Потом он продвигался на коленях, кладя в землю семенной картофель. Его руки стали похожи на старые географические карты. В каждой морщине и линии была часть нашего поля. Когда он посадил всю картошку, кузен Мерфи возвратился с бороной и закрыл их землей. Потом Кузен стоял на стене, и мой отец в виде С-образной кривой стоял возле него.
— Это место здорово проклято камнями, — сказал кузен с акцентом жителя Корка. Потом напустил на себя проницательный вид, помолчал, кратко кивнул на теперь невидимый картофель и добавил Язычески-Христиански-Суеверное Благословение, которое мы здесь используем во всех случаях:
— Ну, да принесут они вам удачу. Да благословит их Господь[554].
Бог, оказывается, не является большим поклонником картофеля в Ирландии. Может быть, осталось какое-то незаконченное дело между Ним и Уолтером Рэли. Может быть, как и табак, картофель не должен был быть принесен в эту часть мира. Может быть, Бог специально не поместил здесь ни того, ни другого, ведь Он знал, что делает, и тем растениям было предназначено оставаться в Южной Америке. Ясно же, они не должны были прибыть в эту страну. Это-то ясно. Если вы помните, Он уже послал довольно серьезное сообщение. Прекрати Жить на Картошке, Ирландский Народ, — такова была суть. Ловите Рыбу — это было продолжение, но люди не отнеслись к этому серьезно.
Однако за две недели до Пасхи первый картофель моего отца пророс. Мэри пришла к задним воротам и взглянула на своего мужа, осматривающего борозды, и в зеленых побегах, я полагаю, она увидела оправдание. Папа не был безумцем, он был всего лишь мечтателем. Мужчины вообще гораздо более склонны к мечтательности, чем женщины. Это данность. Прочитайте «Ностромо» (Книга 2819, Джозеф Конрад, Пингвин Классикс, Лондон), прочитайте «Джуда Незаметного» (Книга 1999, Томас Харди, Макмиллан, Лондон), прочитайте до того места, до которого дочитал мой отец и до которого потом добралась и я, до страницы 286, Том Первый, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста[555] (Книга 2016, Даблдей, Нью-Йорк), прочитайте «Ридерз Дайджест, Краткая История Мира»[556] 1975 года (Книга 1955, Ридерз Дайджест, Нью-Йорк) и после этого скажите мне, что мужчины не мечтатели. Но у Папы была хорошая мечта. Возможно, лучшая, настоящая, мечта о том, что мужчина и женщина могут жить вместе на участке земли возле реки, мечта, в которой вы могли просто быть. Хотя каждый сидящий на подоконнике в почтовом отделении утверждал, что все пять акров поля МакКарроллов не годятся для выращивания картофеля, картофель там был. Мэри вошла в кухню, будто танцуя. Ее мать месила кулаками тесто.
— Он растет, — сказала Мэри.
Бабушка еще немного помесила кулаками тесто.
— Он растет, — повторила Мэри. — Картофель растет.
— Мои кости говорят, что мне не понравится погода, которая будет, — ответила Бабушка и подсунула рот под башенку пепла.
Потом пошел не то чтобы дождь. Это была погода, и она спустилась, как облако. На Страстной Неделе туман стал больше, чем туман, а изморось была больше, чем изморось, — нечто плотное, как туман, и влажное, как изморось, но оно не было ни моросью, ни настоящим дождем. Какая-то мгла возникла между землей и небом. Висела там, эта мокрая серая вуаль, через которую река текла и убегала вдаль. Но картофельные стебли наслаждались ею. Может, потому, что погода была вроде той, какая бывает в южноамериканских джунглях, а может, потому, что она была такой же мифической, как и сами джунгли, — как бы то ни было, картофель пышно рос, быстро поднимаясь в ожидании мая. Мой отец был в поле со своей лопатой, окучивал ростки, ничего не думал ни о погоде, которая прилипала к нему, ни о том, что уже сорок дней поле не видело солнца.
Это был триумф. Несмотря на погоду, появились цветки. От моего отца исходило великолепное, вспыхивающее искрами сияние, та избыточность света, или энергии, или просто жизни, которую мы с Энеем так хорошо узнаем. Буквально своего рода блеск, я полагаю. Вы видели его и на нем, и в нем. Папа должен был найти, как выпустить его, но он еще не нашел поэзию.
Прошла еще неделя, прежде чем Вергилий увидел, что картофель болеет[557].
Соседи поняли это раньше Папы. Возможно, вся страна поняла. Но никто не хотел говорить ему. Как сказала Марти Кеог, мы можем злиться на прошлое за то, что ждет нас впереди. Никому не нравится приносить плохие вести. Возможно, люди думают, что если никто не подхватит и не разнесет плохие вести, то они будут гнить где-то далеко, там, где они живут, а это, как думает Марти, не так уж и плохо, и, возможно, могло бы спасти нас от Кризиса, если бы мы просто не платили парням на радио, и тогда они не говорили бы нам, что мы обречены. Так вот, картофельные стебли начали чахнуть. Вергилий вышел однажды утром — дело было уже в мае, — морось надоедала, птицы, полагаю, пели с уменьшенным красноречием, и наконец-то он увидел то, что было явным. Сначала он не понял, что это болезнь. Хотя лил дождь и лил дождь и продолжал лить дождь, Папа думал «Больше похоже на то, что картофель страдает от засухи». Зеленый цвет листьев стал тусклым, как от отсутствия воды. Папа взял лист в руку. Тот был вялым, будто на пороге смерти, сразу скрутился и стал похож на гофрированную бумагу. Отец остался в поле. Он тяжело шагал вдоль гряд. Он не распылил ничего против болезни, потому что такое просто не пришло ему в голову. Ведь в этих вопросах он был наивен или несведущ — это зависит от того, верите ли вы в доброту Господа или считаете, что одна лишь тяжелая работа принесет вознаграждение.
Стебли почернели за ночь. Оказывается, свыше дана мудрость — картофель возле реки обречен, и та мудрость теперь уже передана всем по радио и телевидению, только не дошла до моего отца. Он выкопал растение. Внизу были картофелины, маленькие, меньше камешков. Они были варварски угреватые. Одну он взял в руку, и большой палец прошел насквозь — середина была кашицей.
Он не позвал кузена Мерфи. Не сказал никому, кроме моей матери, и в тот же день вышел с тележкой и начал в одиночку выкапывать тот неудавшийся урожай с пяти акров. Потребовались дни. Коровы на соседнем поле наблюдали, как он нагромождает стебли. Нагромождения пахли болезнью. Их следовало сжечь. Но они не горели. Скрученные «Клэр Чемпион» вспыхнули и погасли. Папа пошел в деревню и у Шини Нолана купил керосин, который тот продал, важно насупив брови, потому что обо всем догадался и даже не спросил «А зачем вам?».
На следующий году Вергилий опять попробовал посадить картофель.
В этот раз он опрыскивал его средством от болезни.
В этот раз никакой болезни не было.
В этот раз картофель попортили речные черви.
Но с картофелем все было в порядке, рассказала нам Мама, когда нам с Энеем было лет по десять. Помню, как все мы сидели за столом. Большая чаша рассыпчатого картофеля вызвала у Мамы воспоминания.
— Насколько я помню, с тем картофелем все было в порядке, — сказала она, внимательно разглядывая картофелину, которую подняла вверх, насадив на свою вилку. — Только надо было выбрасывать те кусочки, где были черви.
Я взвизгнула, Эней хмыкнул, Мама засмеялась, а папа взглянул на нее, и его улыбка завершила рассказ.
— Мамочка!
— Что?
— Не говори этого слова, — попросила я.
— Какого слова?
— Черви-черви-черви, — дразнил меня Эней, царапая стол извивающимися пальцами обеих рук и цитируя, но не точно, Гамлета[558].
— В картофелине не остается ничего плохого…
— Не говори!
— …если срежешь то, что вокруг них, — сказала Мама.
Я завопила снова, а Эней приблизил ко мне пальцы-червяки и с ликованием скользнул ими вдоль моей шеи. Я придавила подбородок вниз, что, я знаю, является жалкой Защитой Девочки, но могла думать лишь о том, что мои мозги набиты червями. И Эней продолжал делать то, что, судя по моему опыту, является Типичным для Мальчиков. Ну, а дальше случилось вот что: Папа сложил ладони, изображая рыбью пасть, и — хлоп! — эта пасть схватила сразу всех червяков Энея. Папа держал их в ладонях. Эней вопил, Папа смеялся, я была спасена и, в свою очередь, смеялась над Энеем, схваченным папиными руками. До сих пор я не знаю, каким образом поеденный червями картофель смог стать счастьем, каким образом давняя боль преобразилась, но, думаю, именно тогда я впервые ощутила могущество рассказа и поняла, что Время сделало то, что иногда делает с невзгодами — превращает их в волшебную сказку.
Глава 10
А мы все еще не родились.
Ваш повествователь — как вы, возможно, уже осознали, — не одарен в вопросах хронологии. Хронос[559], Божество с тремя головами, который разделил яйцо мира на три равные части и начал дело отсчетов, никогда не притягивал меня.
И не создал ту серию комиксов DC Comics, какую Винсент Каннингем считает по-настоящему крутой.
Мы с Энеем еще не появились на горизонте этого мира. Иногда мне нравится думать, что мы были в мире ином, замечательно проводя там время. Мне нравится думать не о Мире, Который Прибудет, а о Мире, Который Уже Прибыл и описания которого я до сих пор не нашла в Литературе. Есть нечто в пахнущей мятой и нафталином книге Эдварда Джозефа Мартина[560] «Моргант Меньший» (Книга 2767, БиблиоБазаар, Южная Каролина), но на самом деле в той книге скорее описан Мир В Другом Месте. Когда мистер Мартин не помогал У. Б. Йейтсу основать Театр Аббатства[561], то втиснул в краткий отрезок времени немного занятий литературным творчеством и рассказал о прекрасном мире Агатополиса. В Агатополисе каждое утро приходят на Мессу, причем перед этим все тщательно моются целиком, а после Мессы сидят на трибунах и смотрят военные парады[562].
Нереально.
А вот это лучше. Подумайте о своих любых любимых персонажах, а затем вообразите, какими они были до того момента, когда вошли в повествование. Они существовали где-то в Прежнем Мире. Гамлет — маленький мальчик. («Гамлет Начинает» в версии Уорнер Бразерс.)
Макбет — подросток. (Из его прыщей Восходит Темный принц[563]. Извините, увлеклась.)
Анна Каренина в школе. Ее учительница, вероятно, была похожа на мисс Джин Броди в Расцвете Лет[564], а не на миссис Пратт, которая была у нас, никогда не улыбалась, как мисс Барбери в «Холодном Доме», и — поскольку я была Простой Рут Суейн — сказала мне, что я не должна исключить для себя монашество, а у самой-то было глупое лицо, которое, как Томми Фитц доказал посредством Гугла, оказалось идентичным морде рыбы «патагонский клыкач».
В Мире, который был Прежде Мира Сего, мы с Энеем находились в ожидании. Мы знали, что и нас очень ждут. Мы захотели прибыть туда. Но стоило только этого захотеть, как мы поняли, что время начнется, но это также означало, что время закончится, а потому мы еще немного позависали в дальних морях. Мы не замышляли ничего плохого. Да и все равно повесть еще не была готова для нас. Тому есть прецеденты. Это девять глав перед тем, как Сэм Уэллер появляется в «Посмертных записках Пиквикского клуба» (Книга 124, Пингвин Классикс, Лондон), и восемнадцать перед тем, как Сара Гэмп появляется в «Мартине Чезлвите» (Книга 800, Пингвин Классикс, Лондон). Но Мэри и Вергилий уже теряли надежду, что когда-нибудь у них будут дети. Мой отец был уверен, что это его вина. Благодаря Преподобному и благодаря Аврааму у Папы был гений Суейнов в том, чтобы винить себя. Он не достигал Стандарта ни в чем. Как он жил с этим внутри себя, подвергаясь постоянной угрозе неудачи в достижении Невозможного, дерзая и падая, дерзая и падая, мечась между катодами восторга и анодами отчаяния — все это я могу только вообразить. Лично я не дерзаю. Для меня надежда начинается со строчной буквы «н». Я надеюсь добраться до конца.
Мама восприняла новость о том, что не беременна, стоически — во-первых, потому, что Мэри была женщиной, и, во-вторых, потому, что она была МакКарролл. Она не стала сходить с ума. И не стала устраивать сцен. Возможно, она знала, что бывает Прибытие С Опозданием, или, возможно, у Мамы просто крепче вера.
По вечерам после работы Вергилий выходил из дома, надев длинное пальто желто-оранжевого цвета, которое привез откуда-то из Чили, то самое пальто с огромным разрезом на спине, чтобы можно было ехать по-пастушьи в стиле vaquero. У этого пальто были две взлетающие фалды, и при боковом ветре они махали, как крылья. Вергилий проходил мили и мили по берегу реки. Это была превратность судьбы. Случайность в биологии. Только и всего. Не будьте глупы. Не было никакого послания, никакого предзнаменования. И это не было Божьей Карой.
Но было похоже, он чувствовал, что именно так и есть.
Чтобы спасти моего отца от самого себя, моя мать повела его на танцы. Бабушкино пристрастие к set dance вошло в Мамину кровь и трансмогрифировалось[565] в Джайв[566], в чем Вергилий был безнадежен, но все равно пошел, потому что это вызывало улыбку Мамы, а он обожал это. Его долговязая, шаркающая ногами фигура не танцевала в точном смысле этого слова. Локти изогнуты в стороны, руки растопырены так, что казалось, он изображал Плечики Для Пальто. Живя в Эшкрофт Хаусе с Мамой Киттеринг, он пропустил весь тот этап взросления, когда плохая одежда, давление со стороны сверстников и прыщи объединяются, чтобы научить вас подражать уверенным в себе людям. У моего папы буквально не было никакой подсказки. Но Мама не беспокоилась о таких мелочах. Все, что было у Папы, казалось ей доказательством чего-то особенного, хотя «особенный» — это еще мягко сказано.
Мама и Папа ходили на спектакли в разных залах. Побывали в Певческом Клубе. Пошли в Оперное Общество Килраша на постановку «Цыганки»[567] в театре «Марс» с Приглашенными Артистами (все они пели в «Ковент-Гардене»[568], как сказано в программке. В сложенном виде она лежит в пожелтевшей и пахнущей грязью книге Джона Сеймура[569] с загнутыми уголками страниц «Полный Курс Самодостаточности», Книга 2601, Корги, Лондон). Однажды вечером пошли на выступление Кристи Мура[570], который пел с закрытыми глазами песню Кристи Хеннесси[571], ставшую любимой песней Вергилия, потому что в ней была строка «Нам бы хотелось отправиться на Небеса, но мы всегда копаем ямы»[572]. Эта песня, сказал мой отец, прекрасно характеризует нас, ирландцев, и в ней больше мудрости, чем у Платона.
В те времена, точно так же, как и теперь, в просоленной морем деревне Дунбег[573] была лучшая любительская драматическая группа. В том округе все увлекались театром, и Мама с Папой отправились туда, чтобы увидеть «Сайв» Джона Б. Кина, и после спектакля моя мать вышла глубоко растроганная и растревоженная. Мама с Папой направились через улицу на кладбище и некоторое время стояли в беззвездной темноте, ожидая, когда пройдет грусть. Она сложила руки на груди, и Папа обнял Маму поверх ее рук. Они не говорили о пьесе. Не выясняли, что вывело их из душевного равновесия, — о таком они могли бы говорить, если бы действие происходило в Америке. Как я полагаю, что-то в той пьесе заставило Маму думать о том, что ей хочется родить дочь, а это, в свою очередь, привело к мысли, что, возможно, и вправду у них не будет детей. Когда Мама бывает расстроенной, она становится очень тихой. Целое сражение происходит внутри нее, но если вы не знаете выражений ее глаз, то ничего не сможете понять.
Папа знал — это его вина. Такова позиция Суейнов по умолчанию. Неуничтожаемый водяной знак неудачи. Он хотел извиниться. Но не знал, с чего начать. Он держался за Маму. Они оставались в тишине кладбища, пока зал не опустел и зрители не пошли в бары Табриди и Иго. Вергилий и Мэри оставались там так долго, что чайки, которые спали вдали от моря на могиле двух мальчиков Данн, утонувших в Синей Бухте, привыкли к виду Мамы и Папы.
И тогда папа сказал:
— Пойдем.
И повел Маму обратно к автомобилю. Хоть он и не водил машину, но был Хранителем Ключей и в этот раз занял место за рулем.
Читатель, здесь вы подумаете, что она сказала:
— Но ты не можешь вести машину.
А он ответил:
— Я практиковался.
Или:
— Кажется, это не так уж и трудно.
Или можете сами придумать диалог получше этого — такой, какой вы хотели бы услышать в этом месте повествования.
Но я не думаю, что Мама вообще что-нибудь сказала.
И тогда они выехали из Дунбега. Папа использовал тот дерганый метод «педаль в пол, педаль вверх», как делал всегда, так что «Кортина» двигалась по Черч-Стрит в судорогах сомнений, и указатели поворотов вспыхивали сначала слева, потом справа, когда он пытался найти выключатель стеклоочистителя, чтобы видеть хотя бы то, во что они вот-вот врежутся.
Возможно, все бросились врассыпную, и на дороге никого не было. Я не знаю. Я не могу водить машину. Я не могу даже представить, как это делаете вы. Как вы проезжаете поворот — а вдруг за ним кто-то есть? А вдруг кто-то упал в обморок посреди дороги, как говорит миссис Фелан, или дурачок Бриганс стоит между едущих машин — он любит так делать. Я не могу понять, как вообще дожила до сегодняшнего дня, как у меня в принципе была самонадеянность просто верить, что все будет в порядке, что ничего неожиданного не произойдет, потому что именно это и происходит на самом деле.
У Вергилия не было такой проблемы. Он вел машину, склонившись вперед, вцепившись руками в руль в положении «на десять и два», сжав рот и не отрывая глаз от освещенного пути. Он ехал быстрее, чем ему казалось. Он не был таким, как братья Ноланы — те проезжали повороты на скорости сто километров в час, машину заносило вокруг передних колес так, что на дороге в Эннис оставались следы в виде Олимпийских Колец, а все потому, что их навыки вождения были главным образом данью детству, проведенному за игрой Pac-Man, но теперь, как говорит Кэтлин Райан, Благодаря Кризису они делятся своими талантами с австралийцами. Папа же был неистовым водителем. Казалось, он полон решимости умчать Маму подальше от того места, где была печаль, будто «Кортина» была одновременно и колесницей, и лошадьми, и что-то угрожающее гналось за ними. Он вел машину так, как мог бы вести слепой, опираясь на веру, игнорируя белые линии, мчась со свистом в сторону от Атлантики, направляясь на юг зигзагом, сметая туманные завесы одну за другой, пока они не подъехали к знакомым темным и спокойным водам эстуария. Вергилий подвел автомобиль к канаве. На мгновение он, должно быть, подумал, что она остановит его, и не нажал на тормоза, и автомобиль запрыгал, накренившись. Два колеса оказались на траве, и Мама закричала «Вергилий!», и потом еще громче «ВЕРГИЛИЙ!» (что, конечно, ошарашило Публия Вергилия Марона в Загробной жизни, где я представляю его себе в тоге из простыни, какая была на Шеймасе Нолане, когда в возрасте восьми лет он дал своего рода объяснение при помощи бокса тому, кто нарек его Punches Pilot[574] во время постановки в национальной школе Фахи «Рождества Христова». Впрочем, Публию, вероятно, удалось собрать вокруг себя несколько молодых парней, и он рассказывал им о Троянской Войне — в который уж раз, — и, немного гордый, сделал паузу в середине дактиля, потому что кто-то внизу, в Фахе, в Земном мире произносил его имя). Итак, Папа и Мама тряслись вдоль берега, ветки живых изгородей били по автомобилю, который проваливался в ямы и поднимался на гребни, и, наконец, папа пнул ногой то, что, как он сразу же обнаружил, было педалью тормоза — Мама пронзительно вскрикнула, ее бросило вперед, и — Бам! — она врезалась головой в лобовое стекло так, как делают манекены в рекламах Безопасности на Дорогах.
Только ее голова не оторвалась.
Вероятно, это был только слабенький Бам! Поскольку Мама всего лишь потерла лоб и пару раз моргнула, а папа сказал:
— Боже, мне так жаль.
Возможно, прошло секунд десять тишины.
Но ждать надо только пять.
— Мэри?
Мама взглянула на Папу искоса. Глаза у нее были огромными, округлившимися.
— Мы остановились? — спросила она.
Потом позволила ему еще десять секунд думать, что он причинил ей боль, и стукнула кулаком по его руке.
— Ты рехнулся, ты это понимаешь? Рехнулся.
— Начало движения и остановка особенно трудны, — сообщил ей Вергилий. И улыбнулся.
Когда мой отец улыбался, то будто раскрывал мир. Это было колоссально. И вызывало желание улыбнуться в ответ. А еще — желание смеяться и плакать. Это было в его глазах. Я не могу объяснить, как это происходит на самом деле. Было ощущение, будто что-то поднимается глубоко в нем, и еще было ощущение сияния.
Мама приложила ладони ко рту и засмеялась в них.
— Давай, — сказал Папа, вылезая из автомобиля. Если бы тогда снимали кино, то реплика Мамы звучала бы так:
— Куда ты собрался?
Но этот диалог вычеркнут. Здесь есть только то, что его фигура становится белой, когда он снимает пиджак и бросает его на водительское сиденье. Папа теперь снаружи под моросящим ночным дождем. Его рубашка слабо мерцает. Река за полем кажется черной и гладкой.
— Давай же.
Я знаю, на что похожа ночью река. Я знаю, как она слизывает темноту и глотает дождь и что она никогда в жизни не спит. Я знаю, как она поет в своих узах-берегах, как она движется в вечность, будто плывет на спине, и еще я знаю, что если вы будете стоять рядом с ней, то услышите, как у нее в горле, в самых глубинах его, звучат, звучат, звучат слова, но вы не сможете их разобрать и понять, о чем рассказывает река.
— Давай.
Папа берет Маму за руку.
И вот они бегут.
Я знаю то поле. Несколько лет назад я ходила туда. Оно грубое и дико косое, в рытвинах от копыт и с тростниковой бородой. Бежать — точнее, прыгать — по его буграм нелегко, и — бултых! — предательски выворачиваются лодыжки. Вы начинаете идти медленно, но остановиться уже не можете. Вы направляетесь к реке. И там не можете сдержаться, чтобы не завопить.
Мама вопит. Вергилий вопит. И они оба бросаются в темноту, к реке. Берег болотистый — его долго облизывала река. Навоз серебрится, и нет на нем отпечатков ног, и он засасывает обувь. Вергилий останавливается и снимает ботинки. Потом снимает рубашку.
— Вергилий!
Он снимает брюки.
— Ты же не…
Дождь — словно бисер на его волосах. Папа смотрит в небо. Затем улыбается Маме, поворачивается, делает три шага и ныряет в Шаннон.
Она вопит из всех сил.
Папа ушел. Исчез в реке. Мама смотрит туда, где он вошел в воду, но из-за течения быстро теряет то место, пытается найти его, но не может. Она прикидывает, где должен быть Папа, пытается вспомнить, в каком направлении он прыгнул в воду, мысленно проследить его путь, но он затерялся в кромешной тьме.
— Вергилий!
Тишина.
Вопросы, будто пловцы, со всплеском прыгнувшие в воду, одновременно вынырнули в ее уме. Как долго можно задерживать дыхание под водой? Как далеко уплыть? Ее мужа унесло течением? Насколько глубок Шаннон? Есть ли там водоросли? Или злобные речные существа? Умеет ли Вергилий плавать?
Мэри всматривается в пустоту. Потом неосознанно поворачивается и смотрит на Папины ботинки на берегу. Пустая обувь — самая странная вещь на свете. Посмотрите на чьи-либо поношенные ботинки. Посмотрите на их износ. Посмотрите на потертости и царапины. На потемневшую блестящую пятку внутри, где терлась тяжесть мира, на вмятину от большого пальца ноги, где поднимается стопа. Тони Линч, сын владельца Похоронного Бюро Линча, выросший с постоянной обязанностью быть одним из тех, кто несет гроб на похоронах, говорит, что самое сложное — надеть обувь на усопшего. Пустая обувь того, кто ушел — в ней есть некая метафизическая поэзия. Если вы мне не верите, посмотрите у Пабло Неруды[575] «Танго вдовца» в тонкой белой книге «Избранные Стихотворения» (Книга 1111, Джонатан Кэйп, Лондон) с экслибрисом «Alberto Casares, libros antigos & modernos, suipacha 521, Buenos Aires. Los mejores libros para los majors clientes»[576].
Пустая обувь. Странно, я знаю. Но истинно.
Мама смотрит на Папины ботинки, одиноко стоящие на берегу, и именно тогда ее внезапно поражает мысль: он ушел.
Ее сердце переворачивается. Он ушел.
Мой отец ушел из этого мира, и в следующее мгновение моя мать испытывает нечто вроде ужасного предчувствия, какое бывает у вдов в латиноамериканских романах, где на верхушках деревьев сидят черные птицы, а ветер шуршит, как черный креп, и пахнет дымом от выжигания древесного угля. Мой отец ушел. Его повесть окончена.
Вот и все.
Безмерное одиночество мира после любви обрушивается на мою мать. Она продолжает стоять там, на берегу, и не может говорить, не может кричать. Она просто принимает это холодное, как лед, знание внутрь себя.
В этот момент в сорока ярдах вниз по течению на поверхности реки возникает Вергилий. И пронзительно кричит.
Это вопль не паники и не страха, но радости, и моя мать обнаруживает, что мой отец — замечательный пловец. Он учился плавать в глубоких водах где-то в дальних краях, и у него не только нет никакого страха, но он заставляет страх казаться нелогичным, будто и вода, и течение, и прилив — все это благодать, а движение человека в них так же естественно, как и на земле. Его стиль плавания нетороплив. Есть своего рода естественный восторг в том, что пересекаешь течение реки, ощущаешь его, сопротивляешься ему. Вергилий плывет так, будто мог бы плыть вечно. Я думаю, что мог бы. И думаю, что на самом деле может.
Папа возвращается к Маме и удерживается в воде у ее ног.
— Иди сюда, — говорит он.
— Убила бы тебя.
Не на такой ответ он надеялся. Когда я начну писать об этом, то эти слова не появятся в перечне Фраз Для Соблазнения Девушек, Которые Не Так Уж Часто Ходят На Свидания.
Мама и серьезна, и не серьезна. Ее сердце еще не вернулось на место, и она находится в глубоких водах понимания, что, если бы он ушел, ее жизнь была бы закончена, что в моей книге в основном является истинным смыслом, сущностью и квинтэссенцией Любви.
— Прости.
Она смотрит на него. Он голый. На верхней части его тела появилась странная светлота, какая бывает, когда плоть беззащитна. Это тот бледный тон, каким живописцы пишут тела святых и какой заставляет вас задуматься о том, что же такое плоть на самом деле, — ведь это тонкая-тонкая оболочка, и ее так легко прорвать.
— Я не умею плавать, — говорит Мама.
— Я научу тебя.
— Не научишь.
— Это не трудно. Мэри, снимай одежду.
Он плавает подле нее как-то особенно, по-своему, рисуя руками в воде круги то туда, то обратно — я видела, как он такое делает, — он движется, в то же время оставаясь на месте.
— Ты спятил.
— Вовсе нет.
— Очень холодно. Я даже здесь мерзну.
— Ты привыкнешь. Здесь прекрасно. Иди же.
— Никуда я не пойду.
— Тогда мне придется самому забрать тебя.
— Не вздумай!
Он опускает ноги, находит илистое дно Шаннона, напоминающее темную пасту, липкую и холодную, и пробирается к берегу.
— Вергилий!
Мама смотрит на него, предупреждая взглядом, но не убегает.
Папа поднимает руки, наклоняется вперед и, будто странное белое речное существо, выползает из воды и опрокидывается на берег.
— Вергилий! Не смей!
Он встает, вода струится с него, оставляя речное сияние.
— Пойдем же. Я покажу тебе.
— Вергилий!
— Тебе понравится.
— Не прикасайся ко мне!
Он делает шаг. И потому, что она не хочет ни убегать от него, ни входить с ним в реку, и потому, что вся эта сцена не подготовлена заранее и к тому же безумна, Мама наклоняется, берет Папины ботинки и сквозь темноту швыряет их в воду. Удивление на его лице вызывает у Мамы смех. Затем она сгребает всю остальную его одежду.
— Мэри!
Она бросает рубашку и брюки, ставшие похожими на Человека-Невидимку на то мгновение, что они летят до поверхности реки.
Человек-одежда плывет в сторону моря. Мама и Папа смотрят вслед. Кажется, он доплывет до Атлантики. Но вот поворот течения забирает его. Одежда моего отца беззвучно скользит по воде и исчезает из виду.
Вергилий смотрит на Мэри.
Она смотрит на него.
Потом она смеется, и он тоже смеется, и приближается к ней, а она убегает, но не настолько быстро, чтобы он не мог поймать ее. И когда он ее ловит, ее руки ощущают его холодную скользкую кожу, и она ощущает запах реки на нем и в нем, и его поцелуй — это шок холода, разливающегося по ней теплом, и река становится мужчиной.
Девять месяцев спустя мы, то есть Эней и я, проплыли вниз по течению реки и родились.
Глава 11
Когда я просыпаюсь, некоторые части меня мертвы. Пока я спала, руки попали мне под спину. Как будто всю ночь я плыла на спине, медленно двигая одной, потом другой рукой к невидимому месту назначения, пока не наступила усталость, и тогда я сдалась. Я всегда просыпаюсь с чувством чего-то незавершенного. И вот, проснувшись, я чувствую под собой комки — это мои руки, — и приходится корчиться, чтобы вернуть их к жизни. Затем и комната, и дом, да и наш округ тоже постепенно вновь собираются вокруг меня, Мама входит, говорит «Доброе утро, Рут», раздвигает шторы на окне в крыше и открывает его чуть-чуть, так что мы видим и ощущаем сегодняшний дождь.
Здесь у нас — Шекспир называет это Местом Внизу[577], — дождь, льющийся с небес, не очень-то ласков. Если он и благословен, то лишь единожды, и уж никак не дважды. Можно с уверенностью сказать, что Дорогой Уильям и его чулки с подвязками никогда не были в пределах Графства Клэр.
— Как ты, доченька?
Мама садится на край кровати, похлопывает и разглаживает пуховое одеяло и подушки, пока говорит. Она ничего не может с собой поделать. Моя Мама никогда не останавливается. Она просто удивительная машина, которой каким-то образом удается управляться с Бабушкой, со мной и с домом, и Мама держит всех нас на плаву. Она на всех палубах одновременно, она член команды, котельный машинист, судовой казначей, Капитан. Моя Мама — чудо.
— Как ты себя чувствуешь?
Я не могу ответить. Вот в чем дело. Я не могу сказать ей, как я себя чувствую, потому что как только я начинаю думать «Как мне честно ответить на этот вопрос?», то теряю почву под ногами. Есть огромный, темный морской прилив, и я чувствую «O, Боже!», и я не могу. Просто не могу. Раньше я думала, что никто из тех, кто не был внутри моей жизни, не может понять этого. Но после того, как я прочитала всю Эмили Дикинсон, почти тысячу восемьсот стихотворений, я стала думать, что побывала внутри ее жизни таким образом, каким не смогла бы туда проникнуть, если бы жила по соседству и была знакома с Эмили. Я почти уверена, что вы, возможно, стали бы продавать билеты, чтобы люди увидели, какой взгляд бросит на вас Эмили, когда вы спросите ее:
— Как вы себя чувствуете сегодня, мисс Дикинсон?
Но я не хочу быть холодной, и причинить Маме боль я тоже не хочу, и еще не хочу углубляться в обсуждения, а потому говорю:
— Хорошо.
И Мама улыбается, но ее улыбка не похожа на улыбку, в ней то видны особенное терпение, и понимание, и печаль. Из кармана своего кардигана она достает желтые, синие и белые таблетки, дает их мне. Вода в стакане комнатной температуры, и за один глоток таблетки проскальзывают в меня, я даже не чувствую их вкус, что человека даже со слабым воображением приведет в замешательство. Ведь хочется, чтобы они были по вкусу хоть на что-нибудь похожи. Хочется, чтобы они были более существенными и значительными в каком-то смысле, хотя я не могу объяснить этого.
— А теперь, — говорит Мама, — очень скоро я принесу тебе кое-что.
— Ладно.
— Ладно.
Мгновение она не встает. В это мгновение безмолвие сидит между нами, и я знаю, что эта тишина и есть нерассказанная повесть нашей семьи. Кажется, будто морской туман поднялся над рекой Шаннон, проник в комнату и висит облаком — призрачным облаком со вкусом соли. Мама гладит мои ноги под пуховым одеялом. Всего два нежных прикосновения, а затем она поднимается и уходит.
С того момента, как в мир сей прибыли мы, то есть Эней и я, мы стали примечательными персонажами в драме нашего округа. Прежде всего, мы с трудом причалили к берегу живыми. Уж такова наша Мама, она проявила совершенно практический подход к беременности и не обращала внимания ни на напудренных дам у Майны Прендергаст, которые начинали свои рассказы словами «Мне не хотелось бы говорить, но», ни на тех, кто, как говорит Маргарет Кроу, устроили гадание на спарже[578] и решили, что Мама была старше, чем в Фахе считается нормальным для рождения первого ребенка, а уж Папа для роли мужа и вовсе был Древним. То, что Мама выглядела весьма счастливой — а такое у ирландских католиков означает Неминуемую Погибель, — было еще одним предвестником. Весь округ ждал, когда начнутся Роды. Не то чтобы кто-то желал нам вреда; просто людям нравится, когда они оказываются правы. Им нравится, когда в Эпизоде Следующей Недели все происходит точно так, как они ожидали, но все равно удивляет их. Медсестра Доулинг приехала, измерила Маму и наклонилась, чтобы послушать нас и поприветствовать. В ответ мы тоже сказали Привет. Мы были совершенно вежливы. Только говорили мы одновременно, потому она и не расслышала, что нас двое. Все Великолепно, просто Великолепно, и после этого мы перестали внимать Грядущему Миру и пребывали в теплом плавании, что напоминает о существовании в виде морской водоросли.
План состоял в том, что мы должны родиться в больнице. Эннис, впрочем, был Понижен в Статусе. Однажды утром зловредная колбасная изжога скрутила Министра за его столом из красного дерева, и у него было прозрение относительно беременностей. Он решил, что никто не должен рождаться в отдаленных краях страны. Более того, превосходные ирландцы будут рождаться в Центрах Передового Опыта. В Графстве Клэр не было ни одного такого. Был один в Лимерике, который, впрочем, в то время был Центром Довольно Хорошим, но если вы жили в Килбахе или на полуострове Луп Хед, вам бы предстояла стомильная поездка по дорогам, которые Совет оставил на милость Атлантики, владеющей ими по праву и находящейся в процессе прибирания их себе. Однако для нашего долгожданного прибытия в повествование выбрали больницу в Лимерике, и Вергилий практиковался в вождении голубой «Кортины», чтобы нормально доставить роженицу. Он не хотел провалить это дело. У него было ощущение необъятности, будто с каждым дюймом увеличения Маминого живота чувство громадности росло вокруг его сердца, будто его жизнь достигла грани, и собирался произойти великий прыжок, и Папа должен был быть готов. Автомобиль у него уже был чистеньким, без единого пятнышка, ну почти безупречным, учитывая, что некоторые пятна на самом деле были дырками. Папа встал в саду на колени и выдернул все сорняки. Раздобыл новый гравий для пешеходной дорожки и разровнял его, затем разровнял еще раз, чтобы дорожка стала совсем гладкой. Вымыл окна в кухне, в спальне и в Комнате, потом заново вымыл кухонные. Он ходил вокруг дома, по выражению Томми Девлина, как корова ходит кругами перед рождением теленка. Папа побелил дом, известковые брызги попали на чистые окна, на руки, лицо и волосы, но не было времени отчищать их, потому что в этот момент раздался Мамин крик, и когда Папа вбежал в дверь, Мама уже сползла на пол перед камином, Бабушка поставила свою все еще курящуюся сигарету на конец, сдвинула чайник, чтобы его вскипятить, расстелила на полу два одеяла и три полотенца, чтобы Маме было мягче лежать на каменных плитах пола и чтобы Только Что Прибывшим мир сей не показался бы предназначенным для наказания.
Через несколько минут все жители округа были в пути. Мойра Мак, у которой было несколько степеней доктора философии, как неудачно придумал ее муж Джимми, по Выдаче Младенцев, появилась прежде, чем Мама закричала во второй раз. К тому времени, когда приехала Медсестра Доулинг, в кухне уже было полное собрание женщин, а их мужчины расселись снаружи на подоконниках, перемазав штаны пятнами известки, курили, смотрели на бегущую реку и размышляли, не начинается ли новый дождь.
Роды продлились вечность. Поездку в Лимерик обсудили и отвергли. Но мы еще не вышли на сцену. Чайки полетели вверх по реке, облака пошли за ними следом. Слово Осложнения просочилось наружу шепотом. Мужчины по очереди ходили за угол, чтобы справить малую нужду на торцевую стену. Папа вышел, протопал через сад, вышел за ворота и стоял там один, глядя на реку и беседуя с Авраамом, или с Преподобным, или с Вообще Незримым, затем повернулся на каблуках и, не сказав ни слова, затопал назад.
Приехал Молодой Отец Типп, припарковал свою «Тойоту Старлет» так, как паркуются священники, на самом краю. Отец Типп нес молитвенник, держа его внизу и немного позади так, как Клинт Иствуд носил свой пистолет, будто вот-вот возьмет да и выхватит его, если будет нужно. Отец Типп принимал поклоны, называл имена, какие знал — Джимми, Джон, Мартин, Майкл, Мик, Шон, Пэдди — на фоне бормотания хором «Отец» — и затем остался снаружи среди мужчин.
— Уже кто-то появился?
— Нет, Отец.
— Пока ничего, Отец.
— Нет. Так и есть.
— Может, еще недолго, Отец.
— Я понимаю.
В конечном счете, чтобы освободить Отца Типпа от ощущения себя запасным игроком, как говорит Эйдан Ноулз, Джимми Мак спросил:
— Возможно, вы помолитесь, Отец?
И вот они начали, будто включили своего рода человеческий мотор.
Там, где были мы с Энеем, мы слышали звуки, похожие на рокотание волн. Волна за волной. Что обманом заставило нас думать, что это, наверное, шумит море.
Мама закричала. Бабушка высказывалась о Министре разными не очень-то литературными словами. Комната нагрелась от пристального внимания соседских женщин, каждая из которых рискнула бы только искоса взглянуть на Маму, все они казались сидящими последовательницами суфизма[579] в стиле графства Клэр. Их руки были сложены на коленях, глаза зафиксированы на дальней точке сюжета, медленно обретающего очертания. В дымоходе пел ветер, начался настоящий дождь, и наконец, между молитвами и проклятиями, выплыл Эней Суейн и с некоторым удивлением попал не в соленую Атлантику, а в гигантские руки Медсестры Доулинг, смазанные маслом Johnson’s baby.
Мы были известными персонами в Фахе, во-первых, из-за нашего рождения, ведь нас немедленно классифицировали как хрупких и преждевременных. И, во-вторых, как раз когда одеяла и полотенца были приведены в порядок, Маму положили на диван, а мужчин позвали пить чай, мы приобрели известность потому, что стали неожиданными близнецами. Короче говоря, мы наслаждались известностью, предназначенной для двухголовых.
— Двойня?
Мы не были одинаковыми, но сходство — это то, чего ожидают от близнецов, а ожидания должны сами себя осуществлять.
Она очень похожа на него, не так ли?
Как две капли воды.
Как половинки одного плевка.[580]
Что, Дорогой Читатель, просто отвратительно. Когда я об этом cпросила миссис Куинти, она дала более вежливую интерпретацию, сказав, что, по ее мнению, это не spitting, а splitting, и что это выражение появилось из-за того, что при расщеплении дерева получаются идеально соответствующие один другому куски, а еще так же хорошо соединяются передняя и задняя части скрипки. Но Винсент Каннингем говорит, что это именно плевок и картинка. Ну, человек буквально является и жидкостью и изображением другого человека, что для мозга Инженера, по-видимому, имеет прекрасный смысл и вовсе не отвратительно.
Так или иначе, мы вступили в жизнь необыкновенными. Люди заглядывали нам в лица и таращились на нас.
— А вы можете их различить?
Это нечто особенное — быть невиновным в собственной изумительности, просто обладать ею, как другие обладают красотой, и купаться в осознании того, что это благословение. Для меня, конечно, все это не продлилось долго, но было ведь и другое время, и в хорошие дни мне нравится думать, что некоторое сияние того времени вошло в меня, и не имеет значения, что именно произошло впоследствии, не имеет значения, что в зеркале я вижу бледное худое лицо, не имеет значения, какие у меня теперь глаза, не имеет значения, что у меня истощение и печаль. Где-то внутри осталось первоначальное ощущение, и иногда все же бывает время, когда то, что я чувствую, изумительно.
Когда папа взял нас на руки, то не мог говорить. Его глаза сияли. Я знаю, что сказала именно так. Читатель, будь снисходителен. У меня нет лучшего выражения. Было похоже, что в Папе избыток сияния. Папа наполнялся им. Наполнялся до краев. Поднимал нас на руки, и ему приходилось запрокидывать голову, чтобы удерживать капающие слезы.
Если вы родились в великой волне любви, то понимаете это. Хотя ваш возраст — всего лишь несколько минут, вы это уже понимаете. И когда вы достигли возраста нескольких дней или недель и можете только получать, вы понимаете — то, что вы получаете, и есть любовь. Мы с Энеем понимали. Мы понимали это, когда нас катали в детской коляске с большими колесами по улице Фахи; когда лица Мамы и Папы — солнце и луна, — появлялись и проходили над нами; когда мы лежали на одеяле в кухне и нашли гигантский палец, вложенный в наши крошечные ручки, и было так прекрасно просто крепко держаться за палец, что мы не могли не улыбаться. Мы понимали это, когда, одетые в джемперы ручной вязки, лежали на одеяле во мху, а Мама и Папа ходили по торфу рядом с нами, сощипывали узколистную пушицу и щекотали наши носы; когда куковала кукушка, и Мама куковала в ответ; когда Мама играла с нами, изображая бабочек под нашими подбородками. Так мы поняли и усвоили странную и прекрасную правду, состоящую в том, что если вас обожают, вы становитесь достойными обожания.
Винсент Каннингем поднимается по лестнице, громко топоча, как умеет только он. У него Неделя Подготовки К Экзаменам, но на этой неделе именно этим Винсент и не занимается.
— Что новенького? — спрашивает он.
— Ну, я все еще здесь. Все еще в постели. Все еще точно та же самая. Значит, ничего новенького.
Оказывается, инженеры не понимают иронии.
— У тебя красивые волосы, — говорит он, опуская руки между колен и потирая ладони одну о другую, как бы выражая этим движением радость и приятное удивление. — Твоя мама говорит, что ты не позавтракала.
— Я должна подождать час, иначе меня вырвет.
Он пытается сделать вид, что не слышит этого. Ему надо обсудить тот факт, что я на какое-то время уеду в Дублин, но он не должен упоминать мою болезнь. Я смотрю в окно в крыше. Облака — закрытые двери в больничном небе.
— Я не мог ждать целый час, — говорит он. — Никак не мог.
— Почему? Ты что, умер бы от этого?
Я действительно не хочу быть такой, застывшей во времени. Но тошнота приходит сама. И я должна бороться с ней.
— Дождь еще идет?
Я пытаюсь помочь Винсенту и притворяюсь, что не могу заметить дождинок на его плечах и на подстриженных ежиком волосах. Дождь всегда заставляет кожу его лица выглядеть удивительно свежей.
— Дождь еще идет, — повторяет он, поворачивает ко мне свою большую-пребольшую Улыбку Маленького Мальчика и добавляет: — Самый мокрый год после Всемирного потопа.
Глава 12
То самое наполнение до краев привело моего отца к поэзии. Винить в этом следует нас. К тому времени, как мы родились, Вергилий уже был завсегдатаем букинистических магазинов графства. Он знал, как стонут половицы под теми томами, коих было двадцать тысяч, в магазине Шона Спеллисси в Эннисе. Он изучил лопнувшие коробки для хранения книг в Мужском монастыре, на которых было написано «Донэл О’Киф, Поставщик продовольствия» и которые были переполнены лежащими в беспорядке пожертвованными книгами в мягких обложках, главным образом издательства «Корги и Пэн», и случайными книгами в твердом переплете. Книги были в пятнах, а на частично оборванных наклейках можно было прочитать слова «Из библиотеки». Вергилий знал и книжные полки в антикварном магазине Хонана у задней двери; книги на них пахли свечами и «Brasso»[581]. Он знал магазин, в котором не было никакого порядка и где торговали всем подряд, и другой с названием «Найди сам», принадлежащий Нестору, где пропитанные запахом бренди книги добавляли бесплатно, если вы хоть что-то покупали, и это объясняет тот факт, что иногда Вергилий покупал грузила весом четверть унции, пол-унции и одну унцию, которые лежали на второй полке шкафа. Знал и магазин Малвихилла, где распродавали библиотеки умерших священников, в которых все книги были в твердых переплетах. Еще он знал Бар Нейлона в Кранни[582], в котором для защиты от сквозняков, дующих из окон, были установлены стеллажи с книгами, а с них был спасен «Наш Общий друг»[583] с надписью «М. Кин», сделанной на форзаце синей шариковой ручкой. Вергилий знал также магазин Мэдигэна в Килраше, в котором растворилась библиотека Ванделера[584]. Сам Морис Мэдигэн сторожил ее. У него были усы, полученные в наследство от его отца, а тот, в свою очередь, получил их от своего отца в те времена, когда обувные щетки на лице были командным стилем.
Еще до того, как мы родились, Вергилий узнал все эти магазины. Возможно потому, что не учился в университете, а возможно и потому, что чувствовал недостаток, который оказалось невозможным проигнорировать, — но какова бы ни была причина, мой отец хотел прочитать все те книги. Однако из-за того, что не мог позволить себе новые, и из-за того, что ему не нравилось брать книги в библиотеке только на время, ведь ему хотелось владеть книгой, имеющей для него значение, Папа часто бывал в магазинах подержанных книг. Если же — но такое случалось редко, — он читал книгу и находил ее бесполезной, то приносил ее к Спеллисси или Хонану и возвращал ее, самым вежливым способом давая понять, что книга оказалась бесполезна, и предлагал, что выберет вместо нее другую. Я это знаю, потому что стояла возле него с тем горьким чувством стыда, крутя ногой по полу и дергая отца за руку, держащую мою руку, в то время как сам он весьма разумным голосом договаривался о неблагоразумном. Эти стычки были подслащены тем, что после этого мы с Папой, ощущавшим безмолвный триумф, заходили на Небеса Еды — в буквальном смысле, — то есть на Рынок, и съедали Шоколадный Бисквитный Торт, или завладевали одним из мягких глубоких диванов в Old Ground Hotel[585] и, — пока огонь грел двойные овалы в подошвах Вергилия, а мистер Флинн летал взад и вперед по залу, улаживая конфликты, — выпивали на двоих Чай для Одного и неспешно читали, игнорируя все вокруг, что, как говорит Джимми Мак, есть отличительная черта истинной аристократии.
Библиотека, которая росла в нашем доме, содержала все предпочтения моего отца, предпочтения того мужчины, каким он был в тридцать пять, и в сорок, и в сорок пять лет. Он не вносил исправлений в свою натуру. Он не оглядывался на книги десятилетней давности и беспощадно искоренял те, какие больше не удовлетворяли его вкус. Он бывал так поглощен книгой, которую читал, что библиотека росла сама по себе, а он ничего не замечал. Ему была нужна новая одежда, а эволюция его чувства моды привела к Слишком Коротким Брюкам, Непарным Носкам, Заплаткам на Одежде и частому Отсутствию Пуговиц, однако Мама стала его соучастницей и в дни его рождения и на Рождество дарила ему не что иное, как книги. Такова была ее манера любить его. В те времена Мама занималась продажей цельнозернового хлеба и пирогов и вместе с мукой и отрубями, яблоками, изюмом и ревенем привозила из города книгу в мягкой обложке и оставляла рядом с Папиной тарелкой, чтобы он увидел книгу, когда вернется с поля.
Думаю, мой отец обнаружил, что во всем, кроме погоды, существует близкое сходство между Глубоким Югом[586], Латинской Америкой и Графством Клэр, и потому на его полках есть разные издания почти всех тех произведений, какие профессор Мартин назвал опасно гипнотическими романами Уильяма Фолкнера и Габриэля Гарсия Маркеса. Правда, есть еще лишь один писатель, чьи книги присутствуют в таком количестве — это Диккенс. Подталкиваемый, возможно, своим собственным именем, Вергилий любил эпическое качество, путаницу поколений, множество действующих лиц, дрейфующих внутрь повествования и наружу, а еще и уверенность, что время не было прямолинейным. Со времен Эшкрофта Папе нравилось погружаться в книги. В основном это было связано с Другим Местом, было влечением к другим мирам, которое — хотя Папа и Выпячивал Подбородок в мою сторону, когда я так говорила, — могло быть прослежено до Преподобного. Старина Авессалом, Старик с Тенью Щетины был предтечей, потому что есть в Суейнах нечто такое, что тянет их из этого мира, такое, что заставляет их что-то Искать Вверху, или Снаружи, или По Ту Сторону, такое, что в лучшем случае было где-то между ощущением лосося, прыгающего с шестом, и Синдромом Роберта Льюиса Стивенсона, а в худшем — привело к тому, что Преподобный, пренебрегая женой и ребенком, ходил по кладбищу под звездным светом и пристрастился к свечам из пчелиного воска.
Но такое чтение было Вергилию еще и поддержкой, что мне удалось понять позже.
Так что да, Папе нравилось погружаться в книги, и он читал, едва покачивая верхней частью тела, будто на морских волнах, которые, если прислушаешься — а ведь ты лежишь у него на коленях и, как предполагается, спишь, — сопровождаются тихим-тихим бормотанием. К тому времени я уже стала Близнецом, Который не Спит (что, Дорогой Читатель, есть наглая, ничем не прикрытая ложь. Я спала. На самом деле сладко и крепко спала, по-настоящему прекрасно, но только когда меня качали на руках, что вовсе не странно, но совершенно разумно, и если ты, Дорогой Читатель, не веришь мне, то, значит, не прочитал своего Гамлета, и тебе надо сесть в уголке и как следует поразмышлять о Неисследованной Стране, тогда ты тоже захочешь, чтобы тебя качали на руках, пока ты спишь. Ну, пожалуйста). Итак, я была у Папы на коленях и могла слышать ровный звук его чтения. Не то чтобы он проговаривал слова. Просто они вроде как рокотали в нем. Это был как бы поток или биение жизни на странице, и когда Папины глаза соединялись с ней, он просто издавал то низкое-низкое урчание. Джон Бэнвилл[587] смог бы подобрать слово для этого, а я не могу. Я только помню то ощущение, и мне было уютно. Я лежала у него на коленях, и он читал, и мы отплывали в Другое Место. Поднимались по Миссисипи в графство Йокнапатофа[588], или двигались сквозь нависший над Темзой густой желтый туман, или пробирались через насыщенные густыми испарениями банановые плантации, раскинувшиеся на всем пути до Макондо[589]. Мы побывали там, не вставая с большого складного стула со сплетенным из соломы бугристым сиденьем, на котором лежало одеяло. Этот стул стоял возле печи фирмы «Waterford Stanley», и рядом с ним помещали наши люльки, чтобы сохранять нас в тепле. Там Эней спал, как Папа Римский, как говорила Бабушка, но я плакала, меня брали на руки, пеленали в Тропиках Западного Клэра, я сосала крошечный большой палец и была готова к отъезду.
Я засыпала в странных местах. Дорогая Эмили сказала, что нет лучше фрегата, чем книга, чтобы увезти нас, и, как я сказала Винсенту Каннингему, даже хотя Эмили не могла сделать прямой пробор в собственных волосах и у нее было лицо, которое Никогда Не Видело Солнца, она была Исследователем Номер Один Великого Мира Помещений Внутри Дома, и в этом она также была права. Мы с Папой отправлялись в разные места, а поскольку некоторые вещи — даже большинство их, судя по моему опыту, — более яркие, пока вы не увидели их воочию, я знаю Миссисипи лучше, чем Мойасту.
Но чего никто, даже сам Вергилий, в то время не понимал, так это того, что библиотека, которую он собирал, на самом деле станет рабочим инструментом, консультационной фирмой, и что она уже ведет его куда-то.
У Папы не было намерения заниматься литературным творчеством.
Он любил читать, вот и все. И читал книги, которые, как думал, были столь далеко за пределами всего, чего сам он мог достичь только в мечтах, что любая мысль о писательстве немедленно испарялась в уверенности неизбежной неудачи.
С чего вообще начать? Читать Диккенса, читать Достоевского. Читать Томаса Харди. Любому разумному человеку достаточно прочитать любую страницу любого рассказа Чехова, чтобы сказать «Ну, знаете!», положить свою авторучку и уйти.
Но Суейны и Благоразумие, как вы уже знаете, знакомы друг с другом не лучшим образом. Да и вообще неизбежность неудачи никогда не была сдерживающим фактором Суейнов. (См. Прыжки с шестом.) Кроме того, я думаю, что уже было у моего отца нечто такое, что хотело дерзать. Оно было предварительно задано в сюжете и только ждало момента, когда наполнение достигнет точки переливания через край.
Мы с Энеем оказались тем самым моментом.
Прежде всего Вергилий вышел из дому. Он прошел сквозь кивки и бормотания, мимо мокрых от дождя голов, услышал «Отлично Сработано» и «Молодец!», спустился к реке, которая была вроде как его собственной версией церкви, и затопал вперед в темпе Преподобного, молча и серьезно, и был до невозможности наполненным. Завесы дождя вздымались так, как между небом и землей в насыщенных испарениями потоках воздуха в Ирландии появляются ангелы — в чем меня однажды пытался убедить старый Ричард Кирвин.
Вергилий не мог поверить в то, что произошло. Не мог поверить, что мы родились, что стал отцом. Не то чтобы он был несведущ в биологии или что в течение многих месяцев моя мать не носила нас с невозмутимостью МакКарроллов. Она нас носила именно так. Весь округ знал, что по крайней мере один из нас прибудет, и хотя суждения по поводу нашего пола были разные — Мама-носит-вперед, вбок, на другую сторону, — в зависимости от личной предвзятости, политической принадлежности и рецепта на очки, но ни разу никто не усомнился, что Вергилий скоро станет отцом. Тем не менее наше прибытие стало для него шоком. В тот момент, когда мы появились в кухне, Эней розовый, сияющий и чудесный, и волосатая я, жизнь Вергилия изменилась. И это он знал. Она возвысилась. Эту часть вам следует понять. Полагаю, такое может быть у всех отцов, хоть я не уверена. Пришло своего рода просветление, даже Экстаз, что, насколько я могу судить, более или менее исчезло из жизни с тех пор, как церковь стала ненадежной, а спорт занял территорию Славы. Но если вы соедините свои знания Суейнов и Лосося, добавите немного одиноких глубин Вергилия, когда он еще был мальчиком, то вы поймете, о чем я.
У болотистого изгиба сразу за влажным лугом Райанов есть шаткий самодельный помост, нечто вроде причала, где только по им одним известным причинам Райаны хранят мотки шпагата для обвязки тюков, веревки и ведра. Там Вергилий остановился и поднял лицо к небу. Ему надо было вздохнуть. Радость огромным воздушным шаром раздувалась в его груди. Или белым опаляющим пламенем. Или взлетала голубем. Жаль, я не поэт.
Смысл в том, что он не мог вместить все случившееся.
Он стал отцом. И в тот же самый момент по удивительному исчислению сердца заскучал по собственному отцу — не по реальному Аврааму, но по лучшему, более доброжелательному варианту его, по такому Аврааму, какой не существовал иначе, кроме как возможность, но теперь взял на себя роль отца, будто мой Папа был доказательством истинности того, что Новый Завет более гуманен, чем Ветхий, и мир выглядит радостным.
Папе хотелось кричать. Хотелось махать руками, петь аллилуйю, сделать несколько шагов, решиться на Великий Поступок, как Берт Ланкастер[590] в видео «Продавец дождя»[591], кассету с которым миссис Куинти дала мне и которую я не могу вернуть, потому что плеер зажевал ленту как раз в тот момент, когда Берт начал брызгать слюной и просто чуть-чуть Перешел Границы.
Благодарение Господу, Братья и Сестры, ничего подобного Вергилий не делал. А сделал он то, что так и остался стоять возле реки.
Именно там Папа обрел ритм.
Сначала не было слов. Сначала было некое отбивание такта и рокот, который был то ли в крови, то ли в реке, и Папа обнаружил его теперь где-то в своем внутреннем ухе. Это биение было чем-то вроде праязыка, и сначала Папа даже не осознавал, что рокочет. Произошло высвобождение. Наполнение излилось в звуке. Сказать, что Папа рокотал, — не совсем точно. Ведь можно было бы предположить, что звучит мелодия или напев, но ни того, ни другого не было, только монотонное бубнение. Папа ходил туда-сюда вдоль берега реки — так Лозоискатель Майкл Моран ходит и бродит вокруг источника, склонив голову, что твой святой, плечи неподвижны, шея опасно согнута, как у Симона Киринеянина, который нес Крест, тонкие волосы на шее торчком, а все внимание обращено к невидимому Другому Месту.
Вергилий ходил в том ритме, какой задала река. Вперед и назад. Назад и вперед. Теперь его губы были плотно сжаты; лоб, как белая плита; глаза, полные слез и вроде как невидящие. Но теперь он постукивал. Тремя пальцами правой руки по бедру, да-думда думда дум дум-да. Земля размягчалась и раскисала под весом еще-не-стихотворения, следы подошв на ней были отпечатаны и перепечатаны поверх прежних, ботинки выдавливали землю валиками, похожими на маленькие темные речные волны, а Папа тяжело ступал, рокотал и наконец услышал, как рокот превратился в первую строку.
У него что-то получилось.
Разве не замечательно? Было ли похоже на момент, когда леска натягивается в речном потоке, и тогда та часть, какая была провисшей, общается с поверхностью воды под совершенным и прекрасным углом? Была ли электрическая вспышка чувства, бах! — вздрагивание глаз от неожиданности, напряжение мышц, поворот туловища к реке? Сгустились ли срочность, неудовлетворенность и восторг воедино, воскликнул ли его дух? Подумал ли Папа: «Да, вот, у меня есть строка!»
И разве это все не поразительно?
Ну, в то время я пробыла на нашей планете один час и двадцать минут и, главным образом, была занята выяснением того, как это так вышло, что меня было две. Но в книге без обложки «Опытный рыболов»[592] (Книга 900, Чатто и Виндус, Лондон), которая пахнет не столько рыбой, сколько конечно же страстным желанием, Исаак Уолтон говорит, что ловля рыбы похожа на поэзию, и потому я так представляю это. У Папы была поэзия.
Я прочитала десятки интервью и рассказов, которые в основном сводятся к тому, Как Поэты Делают Это, и правда в том, что все они чокнутые, и все они разные. Есть Джерард Мэнли Хопкинс в своей черной одежде Иезуитов, ложащийся лицом вниз на землю, чтобы посмотреть на отдельный колокольчик; Роберт Фрост, который никогда не использовал письменный стол, а однажды, когда ему приспичило записать только что пришедшее на ум стихотворение, он написал его на подошве своего ботинка; Т. С. Элиот в своем костюме Я-не-Поэт со своими незыбленными разумными доступными-для-поэзии тремя часами в день; Тед Хьюз, скорчившийся в своей крошечной каморке наверху лестницы, где нет ни окна, ни вида и запаха земли или животного и где лишь грохот дождя по крыше пригибает Теда к странице; Пабло Неруда, который торжественно провозгласил, что поэзия должна всегда быть написана собственноручно, и затем добавил собственную капельку безумия, уточнив: зелеными чернилами. Поэты — особенный народ. Большинство из них это понимает. Филип Ларкин[593], писавший из Белфаста[594] «Самой Дорогой Обитательнице Норы, Моему Дорогому Кролику»[595], рассказал, как он купил на шиллинг омелы и шел с ней домой, ощущая радость и чувствуя преобразованным Скруджем, — так вот, Филип Ларкин заметил, что жители Белфаста в застегнутых до подбородка темных пальто все как один уставились на него, Несущего Цветущее Растение, будто ожидали, что в любой миг он может эротически взорваться.
Поэты образуют сообщество особых людей. Но все они обычно согласны, что стихотворение — вещь, зависящая от непредвиденных обстоятельств. Оно почти никогда не получается чистым и целым за один раз. У Вергилия был всего лишь кусочек, одна строка, и больше ничего. Но он не дал бы ей уйти, и поскольку поэзия, в основном, там, где зрение встречает звук, он громко произнес эту строку. Он произнес ее вслух и повел тяжелой поступью вдоль берега реки, и как только закончил проговаривать, произнес ее еще раз и нашел, что в повторении есть некое успокоение. В монотонной последовательности ритма был тот универсальный комфорт, который младенцы знают, а взрослые забыли. Папа дразнил строку, ждущую продолжения. Но оно не пришло, и он опять повторил первую строку. Он не сдавался. Ощущение было столь новым — к тому же появилась уверенность, что это нечто особенное, — что Папа постарался удержать его и по-прежнему ходил взад и вперед по топкой полосе вдоль реки, где его и отыскал Отец Типп, приехавший договориться о дате крещений.
Отец Типп был рад видеть, что мой отец молится. Он слышал его бормотание на ветру, видел, как Папа ходит, низко склонив голову, и утешался, что хотя Вергилий Суейн не был завсегдатаем своего церковного братства, но теперь возвратился к Богу. Это могло помочь решить задачу, которая беспокоила Отца Типпа в нашей кухне, а именно, как ему успеть спасти души Энея и мою до своего ежегодного отпуска — Отец Типп проводил его у себя дома, в Типперери.
Не зная полей, Отец Типп пропустил тропинку, пересек поле Райана, а не Мака, и потому с трудом прокладывал себе путь через унавоженную грязь и бульканье, размахивая руками, чтобы мой отец мог заметить Отца Типпа и сократить его путешествие. Но Вергилий не видел ничего, так поглощен он был своими молитвами, и Отцу Типпу пришлось продолжить путь в опрятных черных «Clarks»[596] седьмого размера, получивших немного собственного коричневого крещения. Тепло его тела, разгоряченного от приложенных усилий, привлекало мошек.
— Эй, привет!
Отец Типп еще раз взмахнул руками, как утопающий, и звонко шлепнул себя по лбу, но было слишком поздно. Мошкара сделала свой первый тройной укус на его жарком лбу.
— Вергилий! Здравствуй!
Но мой Папа все еще не видел и не слышал его. К тому времени, когда Отец Типп пересек обвисшую ржавую проволоку на кое-как установленных столбах — эту конструкцию Райаны считали ограждением, — зацепившись внутренней стороной штанины, он уже мог услышать молитву Вергилия и подумать, что он видел нечто пятидесятническое[597].
В то время Отец Типп еще был молод, Шок и Священный Трепет еще были в словаре духовенства, и церковь еще не была в жалком состоянии, как сказал Шон Мэтьюс. Отец Типп еще был уверен в чудесном и шел вдоль берега, полагая, что видел то, во что на самом деле верил. Или верил, что верил. Это порочный круг.
— Вергилий!
Мой отец не остановился. Он продолжал свой путь, шагая и повторяя, шагая и повторяя свою строку, пока Отец Типп с фиолетовым румянцем власти не встал наконец, на пути Папиного стихотворения.
— Можно тебя на пару слов? — спросил Отец Типп, держа руки за спиной, подняв брови и наморщив скорбное лицо, более или менее точно так, как сделал Тимоти Мойнихан в Зале Фахи, — он играл Викария в том английском фарсе, а Сьюзен Брейди открыла ему дверь, держа свои трусики в руке.
Увидев, что глаза моего отца вспыхнули, Отец Типп мгновенно понял неуместность своего вторжения. Вергилий резко остановился и замолчал. Был момент острой стыдливости, будто встретились высокопоставленные епископы разных епархий, ведь к тому времени Отец Типп уже понял, что услышал вовсе не молитву.
— Отец.
Священник мельком глянул на свои ботинки, и в тот момент, когда он это сделал, пальцы ног немного поднялись из всасывающей жижи, и его сердце рухнуло. Западный Клэр — это вам не Типперери.
— Я хотел узнать, мог бы я переброситься с тобой парой слов?
— Да, Отец.
Мой Папа выглядел ошеломленным.
Отец Типп скомпенсировал чувство неловкости, пробормотав:
— Ну разве это не чудесно? Да. Так чудесно. У тебя близнецы. Ты и понятия не имел, мне сказали? Нет? Но теперь просто чудесно.
Наказание в виде мошек прибыло на его лоб. Он погнался за ними с белым льняным носовым платком.
— Тепло, не так ли? Душно. Ужасно душно.
Эти двое мужчин стояли и обсуждали духоту!
— Нехорошее время года, так говорят фермеры, — сказал Отец Типп и провел пальцем по внутренней части своего воротника.
Вергилий тихо повторял строки только что возникшего стихотворения.
— Не то чтобы я точно понимаю, почему. — Священник держал носовой платок в руке. Он был, да и сейчас есть, человеком, весьма умелым в искусстве избегания, имеющим черный пояс в скрытности, но жар от того, что он должен был предложить, создавал на его лбу сверкающую посадочную полосу с указателем «Мошки, Сюда».
— Они не такие в Типперери, — сказал Отец Типп и промокнул лоб, позволив скорби своего изгнания раствориться в воздухе, прежде чем впервые рискнул по-настоящему взглянуть на моего отца. — Исключительной важности день для тебя. Конечно. Конечно. — Он следил за течением реки. — Да. — Мошкам потребовался всего миг, чтобы перегруппироваться. На этот раз они прибыли в его влажные усы. Он щелкнул носовым платком в воздухе, будто давая им общее разрешение.
— Ну, — произнес он наконец, — я пойду. Просто хотел выразить тебе поздравления. — Он не рискнул пожать Папе руку, но повернулся, сделал три шага и выбросил одну руку вверх, так что его прощальное благословение было послано назад. — Да благословит тебя Господь.
Отец Типп прошел пять ярдов по берегу, остановился, покачал головой, глядя на этот спектакль упрямства, и повернулся.
— Чуть не забыл, — сказал он. — Как насчет крещения?
— Что?
— Неделю меня не будет, начиная с завтрашнего дня. Что же нам делать? Интересно. Нет. Может, мы, возможно… Нет. Нет-нет. Наверное, нет. Только… — Черный дневник появился в его руке. — Мы не могли бы…
— Мы сделаем это сейчас, — решил мой Папа.
— Что? Нет. Это не…
Но прежде чем Отец Типп смог закончить предложение, Вергилий взял одно из ведер Райана и — бултых! — опустил его в реку, чтобы ополоснуть его, — бултых! — опустил его снова и теперь нес его, оно раскачивалось, и вода выплескивалась через край, когда они шли через поле к дому.
Во всяком случае, такова мифология.
— Вергилий, нет. Я не это имел в виду. Нет никакой нужды…
— Мы сделаем это сейчас, — повторил мой Папа. Он уже прошел мимо священника, возвращаясь домой по более легкому пути, и Отец Типп уже спешил за ним, задаваясь вопросом, что же, черт возьми, произошло. Шагая в спутанном облаке мошек, он пытался выяснить, где в его стратегии спряталась ошибка. — Остановись! Да подожди же минутку, — окликнул он Вергилия, зная, что тот не будет ни останавливаться, ни ждать минутку.
— Я не буду этого делать, — предупредил священник.
— Ну так я сам сделаю.
И он бы сделал. Уж в этом-то Отец Типп был уверен, он сам сказал. К тому времени все в округе достаточно хорошо знали Вергилия Суейна, чтобы понять — если Вергилий принял решение, неважно, насколько дурацкое, как говорит Шони Янки, то будет придерживаться его. Поэтому, когда Отец Типп прибыл за ним бегом, то должен был изменить тактику, поспешить через широкие заголовки закона и его Последствий: с одной стороны, это означало бы, что прошли обряды крещения, с другой стороны — это было не в церкви. С одной стороны, он обратил бы еще двоих в Веру, с другой стороны — у этого мужчины ведро речной воды. С одной стороны, это более или менее похоже на то, что делал Иоанн[598]. С другой стороны — а если известие когда-нибудь дойдет до епископа…
— Кажется, у меня есть святая вода в моей машине.
Боялся ли мой отец, что мы не доживем до возвращения священника из отпуска, спасал ли он нас от загробной жизни в блужданиях среди лишенных благословения душ, пере-Данте-ил ли толстую книгу в зеленой обложке «Божественная Комедия» (Книга 999, Современная Библиотека, Нью-Йорк), в которой лежит неотправленный конверт с надписью М. П. Галлахер, Рим, действовал ли в соответствии со взглядами Авраама или действовал вопреки Преподобному, возникло ли желание отца из-за резкой смены ситуации и потери стихотворения, должно ли было в стихотворении говориться о рождении реки и ее обновлении, и был ли неожиданный вопрос священника спусковым крючком для всего этого, я никогда не смогу решить.
Когда Отец Типп подошел к своему автомобилю, то обнаружил, что пластиковая бутылка для Святой Воды пуста. Накануне у Прендергастов он был чрезмерно расточителен. Он вернулся к парадной двери и уже хотел было сказать, что пошлет в Приходской Дом за святой водой, как столкнулся с отрезвляющей правдой, что есть прилив в вещах[599], — ведро Райанов расположилось в центре пола из каменных плит, мой отец стоял на коленях, держа Энея на руках, и волны молитв только и ждали благословения отца Типпа, чтобы окунуть нас в воду, доходящую до краев ведра[600].
Почти двадцать лет спустя Отец Типп, все еще сосланный к нам, сидит здесь, в комнате на чердаке, около моей кровати, и рассказывает о нашем с Энеем крещении. А чтобы я не боялась, что наше крещение было нестандартным с религиозной точки зрения, Отец Типп добавил, что начал обряд не раньше, чем в нашей кухне собралась куча свидетелей, тесно прижатых друг к другу и довольно сильно вспотевших. Все сгрудились около нас, все хотели видеть. Казалось, наше повествование уже рассказывают, и оно трогает сердца жителей Фахи, заставляя думать «Эти двое будут нуждаться в помощи», потому что уже тогда нужно было расстегивать пуговицы рубашечек, рыться в сумочках, кошельках и карманах пальто в общем шквале суматохи, а когда речную воду зачерпнули из ведра, то на кухонном полу, на том месте, где нас будут пеленать, начали появляться разные Чудесные медальоны[601], Розарии[602], Памятные карточки, коричневые, синие и зеленые Скапулярии[603] различной степени древности (и запаха тела), две карточки с Падре Пио[604], две карточки с Иоанном Павлом II[605], одна карточка с Маленьким Цветком, Святая Тереза из Лизье — Покровительница Миссий[606], несколько (потому что мы были Бюро находок) Святых Антониев[607], одна Святая Тереза Авильская — Покровительница Страдающих Головной болью[608], и из сумочки Маргарет Кроу появляется некая сложенная карточка похожего на Лионеля Месси[609] Святого Франциска Ассизского[610]. Все они — сильно потрепанные и бывшие в употреблении — в наши первые моменты в этом мире падали вокруг Энея и меня, будто священный человеческий дождь.
Глава 13
Мой отец использовал тетрадки Эшлинг. И писал карандашом. Папа часто наклонял голову набок, как Роберт Лоуэлл[611] (и Маргарет Хеннесси, у которой был такой вид, будто она только что была возвращена в Фаху инопланетянами после похищения), будто одним ухом тянулся к звуку, который еще не появился в мире сем. Папа рокотал. А еще отбивал ритм. Я боялась заснуть. Я лежала у него на коленях, крохотная, как сонет, и столь же сложная.
Он сидел и рокотал. Потом внезапно наклонялся, и я терялась в его глубоком грубом джемпере, пропахшем полями и рекой, и слышала где-то вверху тихий звук карандаша, трущегося по бумаге.
Папа откидывался назад, бормоча то, что написал. Мы покачивались.
У Энея не было ревности. Думаю, сначала он не знал, что был близнецом. У мальчиков все по-другому. Мальчики рождаются как хозяева вселенной, пока более крупный хозяин не сбивает их с ног. Я плакала; Эней спал. Меня брали на руки и уносили оттуда, где в комнате Мамы и Папы стояли наши детские кроватки, затем меня поднимали по лестнице с крутыми ступеньками, которую, как РЛС был бы рад узнать, называли Капитанским Трапом, и выносили на маленькую площадку, а потом в холодное пространство, которое До Переделки Дома было чердаком, а позже стало комнатами Энея и моей. Здесь, наверху, где разливалось море света и лежали стопки книг, стояли сосновый стол и стул моего отца. Здесь, возле стержневого нагревателя, Папа написал первые стихи, держа меня на коленях. А утром я просыпалась опять в своей кроватке и чувствовала себя, ну, в общем, спокойной. Моему брату было все равно. Через некоторое время он обнаружил, что я не могла спать, если не была у кого-нибудь на руках, но когда просыпался ночью — а такое случалось весьма редко, — и видел мою пустую кроватку, то оставался невозмутимым. Возможно, он не был так уж сильно привязан ко мне. Возможно, у него было прекрасно развитое и бесстрашное ощущение будущего мира или непоколебимая уверенность первенца, ведь он первым приземлился в пухлые руки Медсестры Доулинг и, видимо, получил послание, что все будет в порядке. Единственная трещинка, единственный намек на нарушение того порядка были известны только мне одной, а именно то, что во сне рука Энея всегда перемещалась к его рукаву или этикетке на его подушке, чтобы мой братик мог держаться за что-то и никогда не дрейфовать по ветру или течению.
Каждая семья живет и действует своим собственным способом, по правилам, переосмысляемым ежедневно. Странность каждого из нас так или иначе получает пристанище, чтобы могла существовать такая вещь, как семья, и все мы могли некоторое время жить как минимум в том же самом доме. Нормальность — это то, что вы знаете. В нашей семье обычным было то, что у моего отца не было дохода; что он рокотал над потолком; ходил в церковь только тогда, когда не было Мессы; усердно, чтобы не сказать набожно, ловил рыбу; носил книгу, постоянно торчащую у него из кармана, из-за чего все его карманы всегда были разорваны на краях; или пел для себя очень тихо и фальшиво то, что, как я не знала тогда, было Псалмами. Не казалось странным, что ему нравился джем с сосисками. Это было не более странным, чем Бабушкино сидение на «Клэр Чэмпион» и ее способ курить, ставя сигарету вертикально, как дымовую трубу, или же стремление Энея солить все подряд — кукурузные хлопья, горячий шоколад или пирог. Ничто в вашей собственной семье не бывает неестественным.
Об этом я ничего не думала в то утро, когда Зубная фея пришла, но была отправлена моей Мамой наружу под не-совсем-дождь за моим отцом — и нашла его, ждущего, когда отелится корова, и читающего вслух. Он читал грязную белую книгу в мягкой обложке «Песни Невинности и Опыта» Уильяма Блэйка (Книга 1112, Эйвон Букс, Нью-Йорк), но в то время я думала, что это рассказ для коров.
— Вот он!
Книга исчезает в кармане. Папа становится на колени возле меня. Когда мой отец был счастлив, казалось — всегда казалось, — что он находится на грани слез.
Я считала это нормальным. Думала, что у каждого взрослого должны быть такие огромные приливы растущих эмоций. Все взрослые должны чувствовать эту волну незаслуженной радости, когда они становятся на колени и видят своих чудесных детей.
— Она пришла?
У меня кривая, как крючок, улыбка, и я протягиваю Папе сверкающую монету.
— Дай-ка посмотреть. Так-так-так. Только подумай! Дашь взаймы?
Дам. Я протягиваю ему монету, но он сжимает мою руку, закрыв ее в свою.
— Оставь пока у себя, Рути, — решает он. — Но буду знать, к кому обратиться, если понадобится.
Цвет его глаз становится более насыщенным от переполняющих чувств, и у него появляются те двойные расселинки по обе стороны его губ, где сдерживается чувство.
— Ты, должно быть, была очень-очень хорошей, раз получила так много. Ты видела ее?
Не видела.
— А знаешь, мне кажется, я на самом деле слышал что-то, — говорит мой отец. — Было очень поздно. Я не спал, работал и услышал нежное ф-ф-ф. — Он дует три раза, пытаясь изобразить звучание крыльев Зубной Феи, когда она, кружась, спускается на наш дом. — Ф-ф-ф. Потом она, должно быть, сложила крылья, потому что я не слышал ее в кухне, а там крылья стучали бы по вещам.
Стучали бы.
— Но ведь у нас на двери защелка. Так вот почему я услышал защелку! А я-то никак не мог понять. Был тихий-тихий щелчок, наверное, тогда-то она и направилась в твою комнату. Ты ее вообще не видела? Но, может, почувствовала?
Почувствовала. Я и сейчас чувствую.
Я киваю. Получается торжественный поклон пятилетней девочки, и я взлетаю в воздух, подброшенная моим отцом. Он крутит меня в небе над собой. Я хочу остаться там навсегда, но не могу, и утешает меня лишь осознание того, что, хотя люди не могут летать, я скоро обязательно потеряю еще не один зуб.
Мама ведет меня назад через усеянный дождем, липкий и дурманящий луг, а Папа опять читает коровам Блэйка.
Однажды мы заводим собаку, золотистого ретривера, которого мой отец окрестил Гекльберри. На самом деле он не золотистый, а белый, наилучшая разновидность, как я отвечаю сучке, прости меня, Господи, Броудер, когда она говорит мне, что наша собака ненастоящая. Мы с Энеем ведем Гекльберри, чтобы показать ему реку и велеть ему не тонуть. Он по-щенячьи безумен и счастлив, то и дело поднимая заднюю лапку. Он весело носится на конце нашего синего шпагата для обвязки тюков так, будто его ноги длиннее, чем на самом деле. Эней бежит рядом с ним, а я бегу следом, уже понимая, что Гек должен быть собакой Энея, что необъяснимо, разве что вы сами это понимаете, — они уже признали друг друга с полувзгляда.
Гек не плавает. Может быть, умеет, но мы не знаем. Мы бросаем палки в воду, рассчитывая обманом вовлечь его в реку, и ждем, когда его охотничий инстинкт пересилит желание не намокнуть, но пес просто сидит, и в глубине его карих глаз палки уплывают по течению реки.
Мой отец говорит, что мы должны отложить наши домашние задания и взять Гека на пляж. И вот все мы быстренько грузимся в «Кортину» и едем в Килки. Гек любит автомобиль. Любит движение. Пес сидит и смотрит наружу, а Эней крутит ручку, чтобы опустить стекло, которое позже не поднимется ручкой, и придется его вытягивать пальцами и затем заталкивать последний дюйм. Думаю, Гекльберри знает, что мы едем к морю. Думаю, он чувствует запах и уже разрабатывает стратегию, Как Избежать Моря.
Такие вот у меня мысли.
Это было еще в те времена, когда собакам разрешали свободно бегать по пляжам, ведь еще не был избран министр, занимающийся собачьим дерьмом. Поэтому, когда мы съезжаем на большой пляж, очертаниями похожий на подкову, Эней отпускает Гека, и тот бежит так, как никогда не бегал прежде, будто песок, берег и морской бриз — чудеса, специально созданные для собак. Он бежит, и вы чувствуете радость. Вы не можете объяснить этого. Он бежит, вытянув голову вперед, оттянув уши назад, будто не может достаточно быстро добраться туда, куда хочет, будто его кровь вспоминает пляжи прежнего мира и то, что пляж означает свободу. Эней во весь опор несется за ним. Он вопит Гек! Гек! и не огорчается, когда Гек не замедляет бег. Эней продолжает бежать, ни на что не обращая внимания. Его руки летят, и у него такая беззаботность, какую все мы хотим получить, но полагаем, что она существует только в сказках. Отпечатки их ног быстро смывает море в ослепительном блеске отхлынувшего прибоя.
— Поплаваем, Рути? — спрашивает Папа, хотя знает, что я не буду.
В своих коричневых спортивных трусах он идет к океану. Мы с Мамой стоим, как это всегда делают девочки, наблюдая за Папой, держа его одежду и всматриваясь в даль. Там сначала мы находим Энея, и затем, далеко в море, видим Папу.
Однажды на наш день рождения — помню, то был солнечный день, — мы получаем в подарок лошадь — серую кобылу, и папа, бившийся в то время над Гомером, назвал ее Гиппокампом, который в мифологии был частично конем, частично дельфином и частично птицей. Он мог быстро передвигаться как по морю, так и по суше или воздуху[612]. На самом деле ничего такого нашей дорогой Гиппи не удалось сделать в своей жизни. Мужчина по имени Дигэн привез ее из Килраша в трейлере для лошадей, тащившемся позади старого пыльного «Мерседеса». Гиппокамп откликается на имя Нэнси и держит свои мифические силы в большом секрете.
Мистер Дигэн выходит из своего автомобиля, говорит «Прекрасный день, прекрасный, благодарение Богу!» и хлопает в ладоши. На голове у мистера Дигэна маленькая фетровая шляпа. Он желает нам с Энеем счастливого дня рождения.
— Ну разве вам не повезло? Эта прекрасная тихая лошадь специально для вас. О Боже, да!
Он открывает защелки по обе стороны трейлера и вскрикивает «Хап!», когда опускает заднюю стенку. Мама стоит возле кабины, сложив руки на груди, и у нее сдержанная улыбка, которую она бережет только для Папы и только для тех случаев, когда он делает то, что она считала невозможным. Бабушка, глядя в кухонное окно, сердитым взглядом выражает свое мнение о лошадниках. Мистер Дигэн входит в трейлер и отвязывает Гиппи. То ли из-за того, что она дремала во время поездки, то ли из-за причиненных злыми мухами мучений, которые она должна была терпеть, она не двигается.
— Хап! Давай же! Хап! Давай же, давай, дамочка!
Гиппи на прямых ногах нехотя пятится на пандус, спускается в наш двор и поворачивается. В глазах ее испуг, пока Эней не велит Геку вести себя тихо.
— Ну вот, взгляните на вашу лошадь, — предлагает мистер Дигэн. — Она шикарная леди, вот эта самая.
Он похлопывает ее по шее сильнее, чем похлопала бы я, но Гиппи, кажется, не возражает.
— Что скажешь о ней, Рути? — спрашивает Папа.
— Она прекрасна.
— Погладишь ее?
— Ей нравится, когда ее ласкают, — говорит мистер Дигэн. — О Боже, очень нравится!
— А она спокойная? — спрашивает его Мама.
— Очень спокойная, мэм. — У мистера Дигэна широкая белозубая улыбка. Инстинкт лошадника говорит ему, что на Маму сложнее произвести впечатление, чем на Папу, поэтому он щелкает пальцами, словно его осенила идея. — Я покажу вам, какая она спокойная, — он приседает и забирается под лошадь так, что помещается целиком между ее четырьмя ногами, и сидит на корточках с таким видом, будто он в гостиной. — Если пойдет дождь, вы всегда сможете укрыться здесь, — поясняет он. — Она не будет возражать. — Он протягивает мне руку. — Хочешь выпить здесь чашку чая? Я позвоню в обслуживание номеров.
Он дважды дергает лошадь за хвост. Гиппи ничуточки не возражает. Даже не двигается.
К восьми годам я уже боялась коров, быков и вообще зверей, уже решила, что мир природы — ошибочный термин, но в тот момент поняла, что передо мной лучшая лошадь, какая только может быть на свете. Гиппи, Чудо-Лошадь. Я беру мистера Дигэна за руку и вхожу под Гиппи. То же самое делает Эней.
— У нее будут малыши? — спрашивает Эней.
— Жеребята, так их называют, — поправляю я его.
— У нее будут жеребята?
— Бог даст, — говорит мистер Дигэн. — Бог даст.
И я понимаю, что сегодняшний день останется у меня в памяти. Понимаю еще до того, как мы с Энеем начинаем смеяться там, под лошадью, и не можем остановиться, и Гиппи не возражает. Она не двигается, и наш смех становится сильнее, захватывает и Маму, а она передает его Папе в форме улыбки, которую высвобождает теперь, потому что Вергилий замечательный, потому что она вообще не знает, как он раздобыл лошадь к нашему дню рождения.
Не имело значения, что на Гиппи на самом деле никогда не садились верхом, что она просто стояла в поле, паслась и хотела быть обласканной и избалованной, — когда мы приходили домой из школы, я ласкала ее, потому что прочитала книгу «Черный красавец»[613] и хотела бы быть упомянута добрым словом, если бы Гиппи написала автобиографию[614]. Никакого значения не имело и то, что вскоре Эней потерял интерес к лошади, когда она не пошла с ним, и он отправился с Геком охотиться у реки, — не знаю, на кого там охотятся мальчики. И то, что через несколько месяцев приехал ветеринар Томми, осмотрел Гиппи и объявил, что ей лет сто от роду, что она глуха как пень, и сил ей хватает только на то, чтобы просто стоять. Еще Томми сказал, что лошадники воспользовались мягкосердечностью моего отца, что цена этой кобылы в двадцать раз меньше того, что Папа заплатил, да еще деньгами, которых у него не было.
Однако сейчас все это не имеет никакого значения, ведь у нас на этих страницах сияет солнце нашего с Энеем дня рождения, мы заливаемся смехом под мифологическим конем, и в моем сердце остается отметка, говорящая, что там я была счастлива.
Глава 14
Существует сцена, которую я люблю, — брат и сестра встречаются через много лет. Встречаются в кафе, как и договорились, во второй половине дня. Свет умирает, снаружи город мягко шумит во время затишья перед часом пик. Кафе заурядное и малолюдное. Она приходит первой, садится в дальнем конце лицом к двери, нервничает. На ней доверху застегнутый плащ. Официант — пожилой мужчина. Он оставляет ее в покое. Брат приходит с опозданием, и вид у него — но не слова, — виноватый. Он целует ее в щеку. Они сидят, и официант приносит чай, которого они не хотят. Два чайника: крепкий чай для него и слабый для нее. Так много времени прошло с той поры, когда они произносили имена друг друга, и в том, как они произносят их теперь, чувствуется, что им не по себе от встречи, как, по моим представлениям, может быть в Судный день. Сначала виден полный спектр человеческой неловкости. Но дело вот в чем: почти сразу же возвращаются их прежние личности. Ни годы, ни перемены — ничто не имеет значения. Нужно всего лишь несколько слов. Сестра и брат узнают себя друг в друге, и даже в молчании дружеские отношения приносят огромное утешение, потому что, вопреки времени и различиям, остается тот поток глубокой реки, та особая возможность общения, какое существует только между людьми, соединенными словом «семья». И поэтому то, что теперь плещет между ними пришедшей с моря волной, та пенная белизна, то, что придает им сил, и совсем нежданное, — вот это все и есть любовь.
Не могу вспомнить, из какой это книги. Но теперь оно в этой.
Глава 15
Конечно, сочинительство — своего рода болезнь. Ну, люди им и не занимаются. Искусство по существу невозможно. Эдна О’Брайен[615] рассказала, как была удивлена тем, что Ван Гог отрезал одно ухо. Роберт Лоуэлл рассказал, что чувствовал внезапный огонь, озарение, прилив нервной энергии в те минуты, когда появлялось стихотворение. У меня-то не было никакого внезапного огня, и я не думаю, что подобное так уж хорошо для здоровья. Чтобы не дать себе взлететь в воздух, Тед Хьюз должен был многократно повторять «Под моими ногами земля, часть поверхности земли». Дело в том, что сочинительство — такая болезнь, какая лечится только сочинительством. Это и есть невозможное.
Однажды начав по-настоящему, мой отец так и не остановился. Он всегда сочинял. Теперь я понимаю. У него не было ни отдыха, ни пауз. Не было такого, чтобы он сочинял только тогда, когда тарелки были вечером вымыты и убраны, и сам он садился к столу в яркий круг света от лампы. Не было такого, чтобы он сочинял только тогда, когда в руке у него был карандаш. А было так: как только в какой-нибудь части его мозга появлялись ритмы и звуки, как только какая-нибудь часть его ума начинала видеть вещи в их повседневной не-очень-то-красоте, витающей над нашими землями и рекой, так сразу та часть нажимала кнопку «Включено» и застревала на ней. Есть две вещи, как говорит Томми Девлин, являющиеся приметой гения: одна — безостановочное гудение в мозгу, другая — способность видеть следующее действие там, где нет вообще никакого следующего действия. Так он говорил о Джеймси О’Конноре, который в те дни играл в hurling за Клэр, но понятие безостановочности относится и к сочинительству. В безостановочности скрыта способность видеть, а еще есть преобразование. Вещи видны не такими, какие они на самом деле. Не то чтобы всегда лучше или ярче. Это не как у Брайди Клохесси, чье зрение стало туманным из-за Weight Watchers, и он принимал Деклана Донахью за Архангела Михаила, и не как у Шейлы Шэнли, которой взбрело в голову после того, как ее муж умер, проснуться однажды утром и выкрасить все Прокисшим Молоком: стены, окна, лестницу. Выбросить все, что у нее было, если оно не было белого цвета или белого с желтоватым, сероватым либо кремовым оттенком, и это действие было шоу сияния с участием лишь одной женщины. Иногда все становится темнее и хуже, и вам причиняют необъяснимые мучения сложные и нескончаемые жалобы чаек, когда они пролетают над Каппой с безумными криками, словно отправленные в изгнание.
Я не понимала ни того, что мозг моего отца не мог пребывать в покое, ни того, что когда он уходил в поля, когда вез нас в город или сидел за чаем, все это время в его уме были слова и ритмы, бегущие, как одна из тех программ где-то в глубинах компьютера, которые не выключаются никогда. В Папиной голове постоянно присутствовало ощущение призвания.
Как только каким-то мистическим образом стало известно про моего Папу — а жители Фахи могут услышать даже то, как кто-то снимает с себя трусы, и к тому же жители Фахи — ne plus ultra[616] в лиге Разведки и Наблюдения, — так вот, как только прошел слух, что Вергилий Суейн пишет стихи, так сразу же возникли две первые реакции: одна у мужчин — сам виноват, что женился на Мэри МакКарролл; другая у женщин — сама виновата, что вышла замуж за Незнакомца. Но после того, как те волны утихли, наступила третья реакция, и уж она-то выдержала испытание временем. Это было тихое восхищение и уважение, прибереженное для того, кто выбрал столь безмятежную и совершенно непрактичную карьеру, как карьера Поэта. Мы такие, поскольку все мы люди. Мы не можем не восхищаться толикой безумия. Тихо восхищались даже Томми МакГинли, ходившим с открытым ртом и таким выражением, будто получил удар по голове или был огрет пыльным мешком из-за угла, — таким он стал после того, как съел пробку, услышав по РТИ, что это основной ингредиент Виагры, хотя на самом деле было сказано, что основной ингредиент изготовлен в Корке[617]. Нет, в Фахе считается, что немного безумия — в порядке вещей. Так вот, люди начали давать нам книги. Книги, которые они прочитали и — они это знали — никогда не будут перечитывать; книги, оставленные им кем-то другим; книги, купленные потому, что были самыми дешевыми вещами на церковных распродажах; книги, приходившие бесплатно с газетами; книги, найденные в сундуках и на чердаках, названия которых, переплеты и шрифт говорили, что это серьезная книга, и у тех в нашем округе, кто находил такую книгу, возникали в уме лишь два слова: Вергилий Суейн.
— Это книга для башковитого человека, — сказал Джей-Джей, передал Папе «Эссе и Введения» Йейтса (Книга 2222, Макмиллан, Лондон) и остался посидеть недолго в нашей кухне, сложив большие руки на коленях и добродушно улыбаясь одними только глазами с такой милой старомодной и нежной любезностью, какую вы можете найти у пожилых обитателей Фахи. Через некоторое время он кивнул на огонь и добавил:
— Не думаю, что у нас в Фахе когда-либо был поэт.
Конечно, мой отец не выбрал поэзию. Это не совсем точное выражение. Она всегда поднималась в нем; так случилось бы и с вами, если бы вы прочитали этого вашего Авраама Суейна и узнали бы вашего «Лосося в Ирландии».
Сначала я даже не понимала, что это поэзия. Папа работал, и все. Я знала, что это было сочинительство, и знала, что это был рокот. Когда вы молоды, то защищены облаком неясности. Как на самом деле работало все наше домашнее хозяйство, как шли фермерские дела, сколько буханок хлеба испекли и продали, как выкладывали на лотки и доставляли яйца, как на самом деле мы вообще выжили — я понятия не имела. Никогда не задумывалась об этом, никогда никого не спрашивала. Я могла услышать, что умерла корова, что лесная куница совершила набег на наших кур, что автомобиль на этой неделе не работал, но поскольку Мама была по существу Гением Десятого Уровня по защите своих детей, то я никогда не сопоставляла факты, никогда не связывала их с тем, что Бабушка штопает нашу залатанную одежду, удлиняет штаны Энея, удлиняет и удлиняет, пока их уже больше нельзя удлинять, что на обед опять рыба или что у нас есть большой глиняный горшок с монетами, который моя мать держит на окне.
И однажды облако поднялось. В классе мисс Брейди я ответила, что мой отец писатель.
— Правда? Это замечательно, Рут.
Я впервые произнесла вслух слово «писатель» и почувствовала, что немного вознеслась надо всеми.
— И где ж его книги? — спросила сучка, прости меня Господи, Броудер, ведь ее отец Саддам был у нас самым знаменитым, и она не собиралась терять звание Дочери Лучшего Отца.
У меня не было ответа, и в баннере Экстренных Сообщений через весь мой лоб побежала строка «Вознесение Кончается Катастрофой При Посадке». Но мисс Брейди сказала:
— Можно еще только работать над книгой, но уже быть писателем.
А позже, когда я стояла одна и очень старалась Выглядеть Как Ни В Чем Не Бывало, двор пересекали Джейн Броудер с той противной Энн Джейн Монэган, — с той самой, которая, только чтобы казаться Клевой Классной Девчонкой, добавила себе среднее имя Джейн, к тому же считала себя моделью для мисс Совершенство в серии «Mr. Men»[618], хотя за Энн я проголосовала бы как за Девочку, Которая, Скорее Всего, Станет Леди Макбет, с той самой Энн Джейн Монэган, у которой после того, как ее мать заплатила дюжине репетиторов, чтобы те кое-как вскрыли ломом верхушку ее головы и впихнули туда все, что сами знали, было шесть оценок «A» на Выпускном экзамене, — так вот, в тот день двор пересекали Джейн Броудер с той противной Энн Джейн Монэган, которая теперь получает педагогическое образование, оттачивая свои диктаторские навыки.
— Это стихи, чего он пишет? — Энн Джейн не блистала грамотностью, но говорила таким тоном, будто поэзия была чем-то вроде лишая, опустошившего школу, когда из Дублина прибыли Переселенцы, и в течение трех недель сделавшего из нашего класса неплохой кастинг для лепрозория. — Это поэзия?
И Джейн, и Энн смотрели на меня с одинаковым выражением.
— Это роман, — сказала я.
Тот же взгляд.
— Это роман, как «Черный красавец».
Просто я хотела, чтобы у Папы был именно роман. Я хотела, чтобы получилась книга, которую однажды я принесу в школу. Я хотела, чтобы была потрясающая книга, Любимая Всеми Книга, и так или иначе с ее помощью я отвоюю свою собственную особенность, и меня даже, может быть, попросят добавить себе среднее имя Джейн, что, как я мгновенно решила, я бы непременно обдумала, если бы не неудачная рифма Рут Джейн Суейн, которая предполагает наличие кринолина, глицинию на веранде и надменность, с которой лично я никогда не смогла бы примириться.
Обе Джейн стояли и критически смотрели на меня.
— Ты врешь, — торжествующе сказала Энн Джейн.
— Нет, не вру.
— Да. Я могу сказать точно. Ты врешь.
— Я спрошу твоего брата, — сказала та Прости меня, Господи.
— Он не знает.
— Почему?
— Просто не знает.
— Давай, Энн Джейн. Давай спросим его.
— Да, давай спросим.
— Погодите.
— Что?
— Что?
— Она еще не закончена. Книга еще не закончена.
— Ведь на самом-то деле твой отец никакой не писатель?
— Не писатель.
— Не писатель.
В тот день я шла домой, срывая перезрелую ежевику и бросая ягоды на землю, находя в фиолетовых пятнах крохотное утешение. Эней убежал вперед. Эней всегда убегал вперед. Он всегда был в восторге от скорости и в любом случае не помог бы мне никак. Во мне — слишком усталой, защищающейся от того, что у меня особенный отец, отец-писатель, — сгустилось первое темное облако предательства, возник слабенький, но постоянный шепоток: как бы мне хотелось, чтобы мой отец не был писателем. Почему это не могло обойти меня? Почему бы писателем не быть какому-нибудь другому отцу, а моему — стать учителем, или доктором, или членом совета?
Я принесла свой хмурый взгляд в кухню.
— Мам?
— Да, Рут?
— Нет, ничего.
— Ты уверена?
— Да.
— Ну ладно.
— Только… Только вот…
— Да?
— Что пишет папа? Стихи?
— Да.
— Ты читала его стихи?
— Нет.
— Почему?
— Потому что они пока не готовы.
— Но ты ведь все равно писатель, хоть и просто работаешь над книгой? — спросила я.
— Конечно, писатель, — Мама занималась мукой для обсыпки. Ее руки до локтей фактически были мукой и тестом. Если она не будет выпекать хлеб на Небесах, когда туда попадет, то так будет только потому, что для Хлеба Жизни[619] не нужна мука, а фартуки существуют только для мира сего.
— Когда он закончит книгу?
— Не знаю, Рут. Когда-нибудь.
— Но скоро?
Мама сделала паузу, будто она об этом даже не думала, или не думала до того момента, когда я могла бы захотеть, чтобы Папина книга появилась. А на самом деле весь мой статус, и будущее счастье, и счастье всего мира, Привет[620], на самом деле зависели от этого.
— Да, я уверена, что скоро, — сказала Мама. — Все хорошо, милая?
— Хорошо.
Не вызвало сомнений, что в конечном счете стихи срастутся, или сгустятся, или как там еще называется то, что делают стихи. Натиск мозга, бумаги, карандаша и времени делал это неизбежным. Поскольку секрет литературного творчества, план, список литературы, процесс обучения, магистерская программа Рут Суейн в Творческом сочинительстве — в трех словах: Сидеть в Кресле.
Или, в случаях моем и РЛС: Лежать в Постели.
Есть книга внутри вас. Есть библиотека во мне.
Надо сесть.
Слова придут, страницы соберутся. Вот и все. Курс закончен.
Таким образом, надо просто вонзить ручку с пером в сердце сочинительства и предоставить ему время. И все больше и больше это и становилось тем, что делал Папа. Утром его глаза были японскими. Экстравагантно надутые из-за бессонницы мешки делали их узкими. Его серебристые волосы скосились на правую сторону, куда он нагибал голову.
— Удачным было сочинительство, папа? — по правде говоря, такова была моя версия слов «Ты уже закончил?».
— Ты знаешь, что ты самая замечательная девочка в мире? Я когда-нибудь говорил это тебе?
Я кивнула, ведь во рту у меня плавал полный шарик Flahavan’s с медом.
— Нет. Не думаю, что когда-нибудь говорил.
— Ты говорил!
— Как же я мог забыть?
— Ты уже забыл!
— Нет, нет. Никогда не говорил. Но теперь буду. Так знаешь, кто ты? Самая…
И я должна была закончить предложение. Иначе он так бы и продолжал. И хотя даже тогда я боялась тех критиков, ползущих за панелями на стенах или под линолеумом, тех, кто будет считать меня Сентиментальной и Утрированной Личностью, я признаю, что действительно сказала: «…замечательная девочка в мире».
Ну, что ж, пристрелите меня.
Однажды, когда я подхватила ветрянку и должна была быть изолирована от Энея, который вообще никогда ничего не подхватывал, мне соорудили постель возле Папиного стола, и я на три ночи вернулась в его ночное сочинительство. Сначала — прежде чем начать сочинять, — он читал. Это было разминкой. Все равно что бежать с шестом по гаревой дорожке, чувствуя ветер, бежать к прыжку, глядя вперед и вверх на перекладину. Он читал вслух отрывки из книг тех писателей, которые, как он думал, были писателями в превосходной степени. Когда я поступила в Тринити Колледж, то смогла понять, что они были его каноном: Шекспир, Марло[621], Блэйк, Вордсворт[622], Китс, Кольридж[623], Хопкинс и, конечно, Йейтс. Они устанавливали планку. Именно они были над вами поперек неба, если вы — человек неба, и лососем, если вы — человек моря. Короче говоря, олицетворяли Невозможное — а возможно, и были им.
В мои ветряночные ночи Вергилий читал Хопкинса. (Несколько лет спустя — в затхлом запахе дрожжей-и-носков библиотеки Искусств, куда я направилась в погоне за Хопкинсом, — я наткнулась на письмо ДжМХ[624] Ричарду Уотсону Диксону[625], где говорится: «Мое призвание ставит передо мной стандарт столь высокий, что более высокое не может быть найдено больше нигде».) Ветряночная же Рут в то время не была уверена, что ее отец говорит по-английски. Пятнистые вещи, двухцветные. Розовые родинки точечным пунктиром по плывущей кумже[626]. Отец громко декламировал, подключенный к тому, что Шеймас Хини назвал электростанцией Хопкинса, и вскоре Папина голова начала шипеть, подгорать и шкварчать.
Выход за пределы познания — это дело поэтов. В этом их предназначение. Они не такие, как вы или я. У них есть некая дополнительная малость, всегда готовая к взлету. Поэты понимают, почему Бог не дал нам крыльев — хотел устроить увеселительное мероприятие. Хотел, чтобы мы сами стремились возвыситься. Хотел поэзии.
Мой отец мог прочитать стихотворение пять или шесть раз, даже больше. Снова и снова читал он сдержанно, но сосредоточенно, строки, поднимающиеся, будто лествица[627] или молитва, и в какой-то момент откладывал книгу и погружался в полное безмолвие. Он сидел, наклонившись вперед, не отводя глаз от страницы. Я не двигалась. Комната сжималась. Ветер грохотал дождем по шиферу, провисший провод телевизионной антенны хлестал по крыше шп-шп. Это шп-шп-шп не останавливалось и со временем стало воином на боевой колеснице, который мчался по небу, шп-шп, приблизился, проехал по темной реке, проглотившей звезды, и опустился точно над нашим домом.
Чуть-чуть наклоняясь назад и затем вперед, надавливая на задние ножки деревянного стула и заставляя их тихонько поскрипывать, Папа начинал медленно качаться и рокотать. Брал карандаш и еще ниже склонялся над страницей. Я лежала в бессоннице, пока едва слышный рокот превращался в строку. Я понимала, хоть и не разбирала слов, что мы на Взлете, понимала — я слышу, как возникает стихотворение, и внизу, прямо под нами, воздух, и мы уже далеко, где-то в другом месте, где чудеса и великолепие в порядке вещей. Я понимала, что в обычном мире нет ничего подобного, и лежала, надеясь, что пятна на моей коже не исчезнут еще какое-то время, счастливое какое-то время я проведу в слиянии болезни и поэзии.
Глава 16
Книга все не появлялась да не появлялась, и тем временем я совершенствовала свое умение Стоять Одной во дворе. Я молча подбирала описательные выражения. Мои дорогие Джейн-свиньи. Вы отвратительные навозные кучи. Вы крапива, на которую мочатся все кому не лень. Изрыгнутая блевотина. Вы менструальные боли. Чванливые мстительные невежественные уродины с конскими хвостами. Желаю вам злосчастий и прыщей, и чтобы волосы ваши всегда были самыми ужасными, и чтобы у мужей были волосья на спинах, а изо рта вечно воняло цветной капустой.
(Позже, в Редакционной статье, боясь, что миссис Куинти могла бы подумать, что как повествователь я немного Чрезмерная Суейн, а применение Черной Магии может выйти мне боком в следующей жизни, я заменила свои заготовки на то благословение, какое, как сказал Томми Девлин, использовала Мона МакКарти после выматывающего трехдневного визита — два гуся, четыре утки, пять пирогов — ее американских четвероюродных родственников. На прощание она безмятежно помахала им от парадной двери и сказала «Да хранит вас Господь в отдалении».)
Отдаление — именно то, в чем Суейны достигают высоких результатов.
Поскольку я никогда не заводила друзей, поскольку, если подумать об этом, само слово «завести» звучит довольно фальшиво и нарочито, да и вроде как несколько эгоистично звучит «завести себе друзей», и поскольку мир до сих пор не научил меня иному, то признаю — я всегда полагала, что друзья как-нибудь найдут меня сами, обнаружат Рут Суейн-ность в стратосфере и отправятся в путь на своих верблюдах[628]. Я привыкла быть сама по себе. Но теперь, когда я неумолимо уклоняюсь от посетителей, один за другим прибывающих в наш дом, чтобы Взглянуть в Последний раз или Опередить События по части Похорон, моя сноровка оказывается как нельзя кстати.
Первым прибыл Младенец Иисус.
Без приглашения прибыл к парадной двери. Не позвонил в звонок, но просто был обнаружен под козырьком, укрывающим от дождя, уже превратившегося в ливень. Мама нашла Младенца Иисуса, когда выпускала Гека. Иисус был в точности таким, как в тот день, когда его похитили. На нем не было никаких следов. Он не стал старше ни на один день. Мама вскрикнула.
Ну, вы бы тоже вскрикнули.
Мама оглядела двор в поисках того, кто принес Его. Никого не было. Гек посмотрел на Иисуса, затем с собачьим недоумением посмотрел на Маму, и Мама сказала «Делай свои дела, Гек», и он вспомнил, для чего вышел, и понесся по диагонали к тому кустарнику, который Маргарет Кроу называет Безымянным, чтобы сделать те единственные Дела, которые теперь там делают. Мама подняла Младенца Иисуса. Потом увидела, как поднялась река. Нижний край луга Райана исчез. Следующие пять ярдов светились тусклым серебром, рябым от дождя и пронзенным тростником. Вдоль всего края нашего поля река поднялась. Мама стояла, держа Иисуса и глядя на дождь.
Здесь, в Фахе, дожди мы знали Всех Видов: дождь, притворяющийся, что он вовсе даже и не дождь; дождь, пересекающий Атлантику, чтобы провести у нас свои выходные; дождь, смеющийся при слове «лето»; дождь, посмеивающийся над сухим днем в Эннисе в двадцати километрах отсюда; дождь, хохочущий над тем, что изливается, струится, течет ручьем, хлещет, стучит, льет как из ведра. Но этот был другим.
У этого дождя было особое предназначение. Так подумала Мама. И то предназначение было Стать Всемирным Потопом.
Гек возвратился, посмотрел на Маму, она сказала ему «Хороший Мальчик» и впустила обратно, на его место перед огнем, где он плюхнул свои мощи и начал греть Бабушкины шлепанцы. Мама внесла Младенца Иисуса.
— Кто-то оставил это, — сказала она Бабушке.
— Дай его сюда.
Бабушка взяла Иисуса и вытерла ему лицо с библейской тщательностью, использовав только одну страницу «Клэр Чемпион».
— Будет потоп, — объявила Мама. Но Бабушка уже читала молитвы. Я могла слышать, как ее бормотание становилось громче, пока Мама поднималась по лестнице, чтобы рассказать мне.
Когда Иисус приходит в ваш дом, это означает только одно: вы обречены.
До того момента я не понимала, что со мной покончено, а тот, кто похитил Младенца Иисуса и держал Его столько времени в тайном заточении для каких-то Особых Целей, сейчас, как видно, решил, что я нуждаюсь в Его Присутствии больше, чем кто-либо еще. И этого было достаточно, чтобы у меня начался мандраж.
— Хелло-о-о-о-о? — раздалось внизу лестницы.
— Иисусе!
— Рут!
— Простите.
— Это всего лишь я, — сказала миссис Прендергаст, которая за всю мою жизнь ни разу не посетила наш дом, но теперь вошла в мою спальню, зарумянившись, как та миссис Пенистон в «Обители Радости» (Книга 1905, Эдит Уортон, Эвримэн Лайбрари, Лондон), которая лелеяла неопределенный страх встретить быка.
Миссис Прендергаст вошла в дверь и остановилась. Успокоившись, она сложила руки так, чтобы мы могли лучше видеть ее, правильно воспринять ее облик.
— Какой ужасный дождь, Мэри, — сказала она и протянула моей матери руку. Потом повернулась ко мне, изобразив слегка страдальческую улыбку. — А ты как поживаешь, дорогая?
Я не уверена, что она хотела услышать ответ. Похлопав по моей кровати, она сложила руки, имитируя более или менее точно то, я описала позу миссис Сиссли, — насколько я помню, — когда умер ее Оливер и она приехала навестить Авраама.
— Присаживайтесь, Майна, — предложила ей Мама.
— Я не останусь, — сказала она. — Я просто хотела увидеть бедняжку Рут и выразить ей мои наилучшие пожелания.
— Садитесь. Пожалуйста.
Мама развернула стул.
— Не буду.
— Пожалуйста.
— Ну, разве только на минутку.
Миссис Прендергаст потянула полы своего длинного твидового пальто вперед и, — как и миссис Пенистон, — села на постель, а не на стул. (Спасибо, Эдит.) Пуговицы пальто миссис Прендергаст были огромными и зелеными. Шляпа — круглая, без полей, — была изготовлена из переплетенных рядов крошечных бусинок, что делало ее похожей на шестигранную гармонику, и, казалось, на ту шляпу кто-то когда-то уселся, чтобы, думаю, придать ей Стиль Лимерика, если не Парижа. Желая дать себя получше рассмотреть, миссис Прендергаст распрямилась и посмотрела вниз, словно бы разглядывала свои крошечные ноги.
— Я сделаю чай.
— О нет, совсем не стоит. Совсем не стоит, Мэри. Нет-нет-нет.
— Меня нисколько не затруднит.
— Я даже и слышать об этом не хочу. Я просто зашла повидать бедную Рут.
— Хелло-о-о-о-о? — раздалось снизу лестницы.
— Поднимайся, — крикнула Мама.
— Мэри. Рут. Миссис Прендергаст, — поприветствовал нас Мейджор Райан, входя и стряхивая с себя довольно много дождя. Крупный квадратный мужчина с бочкообразной грудной клеткой, он немного напоминал колесника мистера Хабла в «Больших надеждах», того самого, от кого пахло опилками и кто всегда стоял, очень широко расставив ноги, чем — все из-за своих штанов — приводил других в замешательство. У Мейджора Райана был гулкий голос, который он должен был сдерживать всегда, кроме тех редких случаев во время Великого поста, когда звучит орган. Теперь же он перешел на шепот:
— Как поживает маленькая леди? Хорошо?
Я была прямо там и молча смотрела на него.
Я никогда раньше не была Маленькой Леди.
— Простите. Я просто проходил мимо. Простите, — сказал, в свою очередь, мистер Юстас, проходя в дверь, сутулясь и согнув шею, осторожно протискиваясь мимо Мейджора. — Простите меня.
— Мистер Юстас.
Его фамилия была оскорбительной для него.
— Джон Пол, пожалуйста.
Я видела его в нашем доме только однажды. Но вы видели его в тот раз, когда впервые проезжали на машине через наш округ, а Джон Пол Юстас стоял в дверном проеме, продавая Страхование Жизни, но заметил, что на вашем автомобиле номер был не графства Клэр. В тот раз вы, вероятно, не осознали, насколько белым было лицо мистера Юстаса или что он отлично подходил на роль мистера Сауербери.
— Как печально, — произнес он, — печально. Ну, что ж. — Он смотрел на меня так, будто я уже умерла. Это был взгляд Светлой Вечной Памяти, будто я была Усопшей, а он одним из тех, кто Глубоко Скорбел о Моей Кончине, переведя свои длинные черные ресницы в режимы «Вниз» и «Трепетание» и отдавая дань уважения, сложив рот в виде дверной щели для писем и потирая ладони одну о другую. — Я так сожалею.
— Я могу подойти? — спросила Моника Мак. У Моники спокойное выражение лица, зато помада кричащего цвета.
В мой Судный День дождь посетителей не прекращался. Это входит в секретную тактику «Как не давать пациенту задумываться о том, что его ждет впереди», однако сейчас доказывало сельскую правду: взрастить повествователя — такое под силу лишь целому округу.
И да благословит их Бог, они пришли. Не В Определенном Порядке, как говорят в шоу «The X Factor»[629]. Томми и Бреда, Святые Мерфи, от которых пахло свечами — они уехали сразу же после того, как Бреда поцеловала меня в лоб и тайком сунула нить перламутровых бусинок Розария мне под подушку. Финбэр Гриффин, с кем я ни разу не поговорила, — у него всегда был страдальческий вид человека, который провел целый день, кастрируя молодых бычков, хотя, возможно, такой вид у него был не поэтому, а просто потому, что именно так и должен выглядеть мужчина, женатый на миссис Гриффин. Кэтлин Куинн, развившая у себя дар во всем видеть личное оскорбление и тайно думавшая, что ей должны предложить сесть. Маргарет Кроу, которая сказала Кэтлин, что ей идет большой вес. Большой Джек Мэннион, который просто поднялся на верхнюю площадку лестницы, показал мне два поднятых вверх больших пальца и тут же спустился, потому что есть вещи, которые невозможно выразить словами. Шеймас О’Ши, который Обслуживал Клиентов В Банке, а когда экономика сжалась, открыл парикмахерскую в своей гостиной. Луи Марр, носивший ярко-красные брюки с штанинами в обтяжку и единственную в Фахе рубашку с цветочным рисунком, хотя никаким геем он не был, просто был чуть-чуть сказочным. Шарлотта, одна из сестер Трой, — она принесла невозможно красивые цветы. Ноэлин Фрай, Да Возлюбит Ее Господь, женщина постоянно хмурая, которая не могла определить источник неприятного запаха в ее кухне. Имон Данн, у кого был свой собственный Bluetooth, то есть Синий Зуб[630], который, когда Имон Данн улыбался, передавал людям только одно потрясающее сообщение — Имону Данну было в высшей степени плевать на мнение других людей. Два тощих Даффи, у которых теперь не было ни гроша за душой, а жили они в основном тем, что смотрели послеобеденные кулинарные шоу. Морис Керинс с глазами-бусинками, который был невиновен во всем, за исключением убийства аккордеоном. Нора Куни, чей муж Джим, как и мистер Скимпол в «Холодном Доме», считал, что мысли и есть дела, и что если подумать об оплате счета, то уже не нужно предпринимать никаких дальнейших действий; Джим на самом деле считал себя владельцем огромной деловой собственности в Болгарии, Румынии и Венгрии, никак не влияющей на простое зеленое пальто Норы и ее изношенные грязные полусапожки.
Они все приходили и приходили.
Должно быть, к нашей парадной двери был приколочен некий график посещений.
Черно-белый Фрэнк Морган[631], который играл Профессора Марвела, Привратника, Кучера, Стража и, наконец, Волшебника страны Оз[632], заглянул в открытое окно и сказал:
— Я просто заскочил, поскольку услышал, что тут маленькая девочка попала в большую…
Извините, увлеклась.
После первого общего вопроса о моем здоровье разговоры пошли над моей головой туда-сюда, безо всяких ограничений. Универсальная правда заключается в том, что в компании больного человека люди говорят о болезнях. Рядом с больным мастера играют в теннис болезней. Кто-нибудь подает мяч разрыва желчного пузыря — его отбивает Тони Лайонс из Верхнего Фиарда, кузен Эйлин, которая была одной из МакДермоттов и как-то раз подхватила Внутрибольничную Инфекцию — сразу же следует удар слева по мячу рака поджелудочной железы, удар с верхней подкруткой — теперь Шон О’Грэйди из тех О’Грэйди, что живут за городом Беалаха, но не тот, который был женат на одной из Спиллэйнов из графства Керри, у кого рыжие волосы и кто сбежал с латышкой, а другой, у кого рука пострадала в аварии — так вот он подает заявку на вступление в игру, потому как прожил десять лет с той замечательной Мари из семейства О’Лири, пережил всю семью, столь многочисленную, что двоих звали Майкл, и отца, который пошел в паб Кротти в Килраше, а проснулся в Паддингтоне[633].
— Верно?
— Верно.
Настоящими мастерицами были женщины. Из того, что я могла понять, слова Благослови-нас-и-спаси-нас, бедных обычно означали конец сета[634].
Мужчины из-за своей высшей природы, как говорит Винсент Каннингем, были в общем более привередливы и говорили о делах Национальных, Метеорологических и Сельскохозяйственных, и я узнала, как на радио «Clare FM» Саддам сказал, что были замечены Признаки Оживления Экономики После Спада, к этому Джимми Мак, вернувшись с заднего двора, добавил, что дождь на дворе библейский и мгновение назад официально Стал Уже Не Шуточным. А еще я услышала, что Отец Типп собирается служить Мессу ради Сухой Погоды и что у быка Нолана болят задние ноги, а следовательно, как бы Нолан ни хотел, он не может принудить себя заниматься другими делами.
Но прежде чем они ушли, все они так или иначе сказали мне, что у меня все будет прекрасно, просто прекрасно, погоди и сама увидишь. Но некоторые подрывали веру в правдивость собственных слов — по крайней мере, давали мне все основания для этого, — добавляя, что зажгут свечи и будут молиться обо мне.
Они приходили и уходили так, как это делают ирландцы, как те, кто совершает обход больных в Ирландии, которая, как они надеются, есть Остров Святых[635] под непостижимыми наказаниями, принесенными дождем.
Когда они спустились вниз, то, думаю, увидели, что Бабушка держит Младенца Иисуса, и подумали «Вот те раз!». Лишь миссис Прендергаст не сдержала удивления, и оно вырвалось словами «O силы небесные!».
К тому времени Мама была слишком обеспокоена, чтобы вести беседу. Река двигалась через поле.
Джимми Мак остановился в кухне.
— О Боже, — сказал он, глядя в окно. А когда повернулся, то сообщил Маме: — Мы раздобудем мешки с песком.
Он вышел через заднюю дверь и зашлепал резиновыми сапогами через язык воды, прибывающей на подъездную дорожку, а Мама даже не успела сказать спасибо.
Через пятнадцать минут он возвратился на своем тракторе, который тащил прицеп для песка. Кабина была битком набита пустыми мешками из-под минеральных удобрений и оравой МакИнерни, большинство из которых не были сторонниками плащей. По дождевому телеграфу Микки Каллигэн и Финбэр Гриффин, мои Посетители-Джентльмены узнали, что происходит. Они тоже приехали, на своих фыркающих и ревущих тракторах устремились на затопленное рекой поле и использовали все, чем обычно открывают сток, по которому никогда вода не стекала, и сделали коричневые шрамы-борозды через поле, чтобы отсрочить наводнение. Каждый раз, когда трактор шел через болото, маленький Микки Мак одобрительно восклицал с ликованием десятилетнего, его глаза сияли, а из носа свободно капало, но Микки оставил это без внимания, когда пришел сказать, что теперь надо заложить мешками с песком нашу парадную дверь. Минуту спустя с глухим стуком упал первый мешок, потом следующий, а мужчины и мальчики проходили мимо окна, раскачивая и укладывая мешки, работая упорно и решительно, со своего рода безропотным терпеливым вызовом и душевной щедростью, какие есть в графстве Клэр, и поставили реку на паузу, спасая либо меня, либо Иисуса, теперь бесплотного.
Глава 17
Я не могу спать.
Сегодня вечером кажется невозможным, чтобы хоть кто-то заснул. Как они могут спать?
Моя кровь болит.
Дождь не перестанет идти. Просто не перестанет, будто небо непоправимо продырявлено. Я думаю: «Как же он может не прекращаться?», потом думаю: «Нигде дождь не идет так, как здесь и сейчас, но скоро-скоро он успокоится», но он не успокаивается, просто продолжает лупить, и я думаю о том, как Поль Домби[636] слышит шум прилива, думает — вода прибывает, чтобы забрать его, то есть мистера Домби, — и говорит «Я хочу знать, о чем говорит море. О чем оно беспрестанно говорит?» Я сажусь в постели, обнимаю колени, закрываю глаза и медленно качаюсь взад и вперед, и опять взад и вперед, и снова взад и вперед, пока мне не становится совершенно ясно, что где-то в моем раскачивании и моей темноте я понимаю слова дождя, и слова эти: «Мне ужасно жаль».
В тот день дождя не было. Мы проучились всего полдня, так как начались каникулы, и выбежали в лето, хотя лето было еще лишь словом, пышным и щедрым, и был настоящий солнечный свет, и время впереди было до невозможности восхитительно и роскошно долгим. Мы знали, что пред нами раскинулось лето, так что теперь, когда мы попали в него, то не могли даже вообразить, что оно когда-нибудь кончится. Все ученики выбежали из школьных ворот, рюкзачки подпрыгивали на спинах, последние акварельные рисунки выгибались в руках. Все пихались и вопили, протискиваясь через ворота. Родители стояли у машин. Ноэль МакКарти сидел в микроавтобусе с опущенным стеклом, радио работало, и танцующие звуки скрипки Мартина Хэйеса[637] плыли над нами.
Эней побежал, я — нет. Он всегда бегал. Хотела бы я сказать, что он помчался, поскольку осознал, что окончились уроки у мистера Кроссана — ведь я люблю выяснять причины, — но на самом-то деле Эней бегал просто ради того, чтобы побегать, а еще, думаю, ради свободы. Его светлые волосы исчезли за углом.
Я выкинула школу из головы.
Винсент Каннингем ждал меня за воротами, и я сказала ему:
— Отправляйся домой. Я не пойду гулять с тобой.
Он сказал «Ладно» так, словно я его ничуть не обидела, и убежал.
Я пошла вокруг двора, притворяясь, будто что-то ищу, и когда остались одни лишь учителя, которые пили праздничный кофе и были заняты тем, чем учителя занимаются в пустых школах, я вышла из ворот. Я надеялась, что выгляжу сдержанной и зрелой, как приличествует Нашему Последнему Учебному Дню, окончанию Начальной школы. И ноги нашей там больше не будет. Этот этап нашей с Энеем жизни закончен.
Машины уже разъехались, на дорогу возвратилась та тишина, какая держится весь день, за исключением девяти и трех часов. Я дошла до поворота к дому. Воздух теплый, фуксии так наполнены гудением, что если бы вы остановились и посмотрели на них, как сделала я, то подумали бы, что не увидите ничего, кроме пчел. Но не увидели бы их. Гул и басовое гудение просто были там, как мотор лета, незримо и неустанно работающий. Я не торопилась, потому что время внезапно стало полностью моим. Я ждала этого дня весь год. Я ждала этого дня с того момента, как поняла, что школа не была подходящим местом для нас с Энеем, впрочем, для Энея, возможно, ни одна школа не была бы подходящим местом, да и я, поскольку всегда слишком много читала, отдалилась от девочек моего возраста, сама не желая того, и стала Отверженной в истинном значении этого слова, чужой. Не было никаких сомнений, что в Средней Школе будет лучше, что там я встречу близких по духу девочек, Серьезных Девочек — миссис Куинти сказала, что надеялась на это, — как не было никаких сомнений в том, что в последнем классе Средней Школы я буду уверена — на Третьем Уровне[638] все наконец станет иначе, а интеллект и странность будут считаться нормальными.
Я лениво брела по дороге. Сорвала лютик и потерла его желтоватым сердцем по клетчатому фартуку, который я всегда-всегда ненавидела, и немного покраснела от острого ощущения безнаказанности, ведь на фартуке появилось пятно, и от предвкушения того момента, когда зашвырну школьную форму в угол. В тот день была моя самая медленная прогулка домой. Когда я приблизилась к черному ходу, Мама вышла мне навстречу и обняла меня:
— Ну, молодец. Вот и все.
Она обнимала меня дольше, чем мой новый статус будет позволять в будущем, но в тот момент я не сопротивлялась. Моя голова была рядом с ее головой, и вокруг меня разливался теплый, глубокий запах, запах хлеба и многих других вещей, которые содержатся в слове Мама. Наверное, я понимала — это объятие я запомню навсегда.
— Я так горжусь тобой. — Мама знала про мои сражения и знала также, что не может сражаться вместе со мной. Ее глаза были такими зелеными. — У тебя каникулы!
— Знаю. Даже не верится.
— Целое лето.
— Да! Да! Да!
— Хочешь переодеться или сначала поешь?
— Переодеться. Определенно.
Бабушка спала в своем кресле. Я отправилась наверх и сняла форму. Потом открыла окно в крыше, и поскольку мы с Энеем обещали, что именно это и сделаем в наш последний день, вышвырнула джемпер, блузку и фартук из окна. И они вот так запросто исчезли. С внезапной легкостью я вскочила на кровать и начала прыгать, взлетая с ощущением немыслимого счастья в груди и поднимая руки к лицу, чтобы сдерживать хихиканье.
Затем надела серые джинсы и желтую футболку с надписью «Always»[639]. Меня ждало такое длинное лето, что я не знала, с чего начать. Все, о чем я думала в мае, в апреле, в марте, в июне, теперь толкалось у стартовых ворот[640]. Как я могла начать? Как одна минута могла быть Адом, а следующая Праздником? Я легла на кровать и открыла книгу. Для чтения у меня теперь было все время на свете. И потому, что я знала — времени предостаточно, не стала читать. А спустилась вниз.
— Хочешь что-нибудь сейчас или подождешь ужина?
— Подожду ужина.
Через черный ход вошла Пегги Муни.
— Мэри, Рут. Сегодня начались Каникулы. — Она и в лучшие времена была нервной и потому обнимала себя обеими руками, словно боялась, что некоторые ее части могут улететь. — А вот завтра у Шейлы праздник, и мне было бы интересно узнать, Мэри, смогу ли я получить от тебя несколько цветков для алтаря.
— Это же свадьба, — сказала Мама. — Конечно, сможешь, Пегги.
Мама вытерла руки, проведя ими вниз по переднику.
— O, спасибо. Большое спасибо, Мэри.
— Не говори глупостей. Тут и спрашивать нечего. Пойдем.
Время одного дня совсем не такое, как время другого. Время изобрели, чтобы так казалось, но мы-то знаем, что это не так. События убыстряются и замедляются всегда. В тот день кухонное окно было открыто. На потолке сидели три мухи. Новая «Клэр Чемпион», еще свежая и свернутая, лежала на столе рядом с белым пластиковым пакетом с нарезанной ветчиной, которую папа принес из деревни. Чашка Энея, пустая упаковка «Petit Filou» и ложка валялись в раковине. Духовка издавала то пощелкивание, какое бывает, когда ее отключают и горячий металл начинает сжиматься. Стучал маятник часов с пятидневным заводом. Кран холодной воды уронил каплю — кап! — и затем — кап! — другую, точно так, как делал всегда, потому что Папа постоянно собирался починить его, а потому обычно мы не обращали внимания, но прямо в тот момент я заметила. Я стояла как раз у окна рядом с раковиной, прикрутила кран особенно сильно и смотрела на него, пока не убедилась, что из него не будет капать. Но — кап! — он это сделал. Мама вышла в сад с Пегги Муни и срезала цветов больше, чем было необходимо. С щедростью отданные цветы, уложенные в руки Пегги Муни, затем создали такую рекламу, что с тех пор люди приезжали к Маме за цветами, но прямо в тот момент я подумала, почему она отдает все наши цветы?
Стоя у окна, я жевала кусок цельнозернового хлеба, слышала, как от Райанов приближается трактор, как он проходит мимо, пока не поворачивает, должно быть, возле дома МакИнерни. Потом старый автомобиль Пегги Муни уехал с набитым цветами пассажирским сиденьем, и Мама вошла в дом.
— Не знаешь, чем себя занять? — улыбнулась она.
— Почему ты отдала все наши цветы?
— Бедняжка Пегги, — сказала Мама. — У них ничего нет, а у нас есть цветы. — Она повернула кран, и вода полилась ей на руки. — Папа скоро будет дома. Ему надо было раздобыть сопло для распылителя. — Мама выключила воду и вытерла руки чайным полотенцем. Из крана начало капать снова. — Пойди найди брата.
— Хорошо.
Стало еще больше птиц. Вот именно то, что я подумала, когда вышла из дома. Стало определенно больше птиц, или же они стали петь громче. Я обошла вокруг сенного амбара и прошла на гумно, и там все было будто оккупировано птицами. Я подошла к воротам и перелазу через каменную стену, позвала «Эней!», пение птиц остановилось или переместилось в другое место, и я направилась в поле, где пахло очень пряно и сладко из-за солнечного света. Свет создавал такое белое ослепление, к какому вы еще не привыкли, поскольку провели весь июнь в классе. Из-за ослепления у меня перед глазами начали двигаться какие-то случайные фигуры, полосочки или нити, которые одни люди называют мушками, а другие — рыболовными крючками. На такие фигуры было бы похоже невидимое, если бы стало видимым, и взор опускается вслед за ними, а если проследует за одной из них вниз до конца пути, то тут же появляется другая и начинает двигаться. Свет ли вызывает их, или усталость, или просто своеволие кровоснабжения мозга и солнечного света? Они начинают двигаться, когда захотят, и прекращают точно так же.
Я спустилась по полю к реке, зная, где мог быть Эней. Я знала, где он мог бегать по протоптанной тропинке с Геком, бросая псу палки, и где мог сидеть с удочкой — на дальнем конце Порога Рыболова, веря, что как только рыба пройдет мимо нашего берега, то сразу начнет клевать. С целью убедиться, что и в самом деле наступили каникулы, я не торопилась, сказав себе: «У тебя есть все время на свете». Я сощипывала случайные травки и небрежно роняла их. Луг Райанов был готов к покосу. Если сойти с тропинки, трава будет по пояс, и в том солнечном свете даже я думала, что там прекрасно. Мухи, пчелы и мошки пестрели в воздухе, будто брызги, и стоял гул, но его перекрывала песня реки по мере того, как я приближалась к ней.
Теперь я видела на пятьдесят ярдов, если смотреть вдоль берега. А дальше кустарник МакИнерни спускался к воде, мешая обзору. С другой стороны мне был виден Порог Рыболова, но ни тут, ни там я не заметила Энея.
Это было так в его духе — сбежать куда-нибудь на новое место.
Таким он был. Место могло ему просто надоесть, и тогда он уходил на другое.
Пойди найди брата.
Почему я должна его искать? Сам придет домой, когда захочет есть, ведь Эней всегда-всегда приходил жутко голодным.
Я хотела бросить поиски.
Но пошла вдоль берега, глядя через реку на графство Керри.
— Теперь у меня есть все время на свете, — крикнула я через реку и посмотрела на то, как спускаются мои глазные мушки и рыболовные крючки.
Где-то вдалеке слышался шум трактора, но терялся в других звуках, и было понятно, что машины приезжали и уезжали и что все обычное и повседневное продолжалось так, как мир продолжается вокруг вас, и в эти-то моменты вы — неподвижная точка в центре.
И тогда я увидела Гека.
Сияя белым отблеском, он сидел на самом краю берега на дальнем конце Порога Рыболова.
— Гек! Ко мне, мальчик! Гек!
Но он не двинулся. Ничего удивительного. Гек был собакой Энея и просто ждал его там, выпрямившись и глядя в реку, но что-то в том, как он сидел, обеспокоило меня. Несколько секунд я не двигалась. Не побежала. Просто стояла на месте и чувствовала этот уход, это разобщение. Воздух покоробился. Момент не исправить. Мое сердце билось в моем горле. Что-то дотянулось до сердца, схватило его и теперь вынимало из моего рта. Кажется, я закричала. Но крик поглотила река. И я побежала, и время начало двигаться слишком быстро, заметалось так, что скоро потерпело крушение, и его части разбились и не собрались, как надо, и вот я сижу на корточках возле Гека и говорю «Где он? Где Эней? Найди Энея, хороший мальчик!», и Гек лает на реку и смотрит на воронку в реке, и вода в ней крутится быстрее секундной стрелки, и в середине воронки дыра, и я бегу назад через луг, не в силах объяснить, почему я не на тропинке, разве что потому, что уже ничто не имеет смысла, и я бегу, поднимая облака золотистой пыли, и я задыхаюсь, и я кричу «На помощь! На помощь!», хотя знаю, что никто здесь не поможет, и вот я уже задыхаюсь в кухне, и Папа только что вернулся домой, и из крана капает — Кап! — и я только и могу повторять «Он вошел в реку, я знаю, он вошел в реку», и вот уже папа ныряет в реку, и вот уже здесь весь округ, и вот уже здесь Полиция, и машина «Скорой помощи», и Отец Типп, и летний вечер, безнадежно и ужасно прекрасный, и сотня мужчин, несущих шесты и палки, чтобы шарить ими в тростниках, двигаясь вдоль берега в наступающей темноте, и все вернутся сюда на следующий день на восходе солнца, именно сюда, на то самое место, где несколько лет назад мой Папа впервые стоял, и где ощутил знак, и где теперь провел ночь, призывая «Эней! Эней!» с ужасным хриплым несчастьем в голосе, моля Бога «Пожалуйста, Пожалуйста, O, Пожалуйста», и пришли ныряльщики, и солнце ушло, и Гека было невозможно сдвинуть с места, и начался дождь, неистовый и беспощадный.
Вот место, где земля оказалась мягкой и ноги Энея скользнули вниз.
Вот всасывающая воронка с коричневой дырой в середине, где река закручивается и глотает саму себя.
Вот удилище Энея, найденное в тростниках.
Вот правая кроссовка Энея, найденная на том берегу три дня спустя.
На том берегу, откуда мой сияющий, радостный и великолепный брат ушел навсегда.
Часть третья
История Дождя
Глава 1
— Нет никакого Царствия Небесного. Как может оно быть? Подумай об этом. Начать с того, что если бы все хорошие люди, когда-либо жившие на земле, уже оказались там, насколько большим оно должно было бы быть? Во-вторых, какой там был бы социальный кошмар. Было бы похоже на то, как если бы все хорошие персонажи из всех книг в величайшей библиотеке мира покинули свои книги, вышли из своих повествований, и им было велено просто перемешаться. Энн Арчер[641] и Джим Хокинс, Ишмаэль[642] и Эмма Вудхаус[643]. Насколько безумно это было бы? Доротея, познакомься с мистером Дедалом. Ну что они могли бы сказать друг другу? Все это было бы мучительно.
Винсент Каннингем молча сидел, глядя вниз. Его мать умерла, когда ему было восемь лет, месяцев за шесть до того, как он в первый раз сделал мне предложение. Как и «The Monkees»[644], он Верующий[645]. Его Царствие Небесное в Стандартной Версии, которую мы изучали в школе, практически вытатуировано на его душе. Для Винсента оно — крылья и ангелы, несметное множество арф, которые лично я не могу выносить, и белые ватные облака — из них никогда не льется дождь, но они дают вам возможность откинуться назад, как в шезлонге, так что вы можете задрать ноги и смотреть, как святые торжественным маршем проходят мимо вас.
— Извини, но нет никакого Царствия Небесного, — прошептала я.
Мне не хотелось, чтобы Мама внизу услышала меня. Я смутно думаю, что Царствие Небесное поддерживает ее, и хотя она не желает вдаваться в детали и вообще слишком занята тем, что старается просто держать нас на плаву в мире сем, Мама уверена, что впереди у нее Царствие Небесное, — точно так же мы уверены, что впереди нас ждет Лабашида, когда в речном тумане едем по дороге и почти ничего не видим.
Винсент Каннингем ничего не ответил.
— Хорошо, допустим, есть. Скажи мне тогда, кто в Царствии Небесном готовит еду?
Он поднял на меня глаза цвета лесного ореха.
— Нету там никакой еды. Нет чувства голода.
— А пить хочется?
— Нет.
— Это никак не утешает. А что-нибудь вроде телевизора?
— Рути.
— Получается, Царствие Небесное есть Самый Скучный Божий Замысел? Так вот поэтому Он держит его за пределами видимости?
— Там не скучно.
— Тогда чем там занимаются?
— Там ничего не надо делать. Там все просто счастливы.
— Ну, я тебя там не встречу. Я туда не пойду. Спасибо.
— Ты не можешь сказать «нет» Царствию Небесному.
— Только что сказала.
Винсенту потребовалось немного помолчать.
— РЛС верил в Царствие Небесное, — сказал он. — Ты сама говорила.
— Он так сказал о Вайлиме[646] на Самоа.
Эти слова РЛС Папа написал на обратной стороне конверта, который я нашла в его американском издании книги «Лабиринты» Хорхе Луиса Борхеса[647] (Книга 2999, Нью Дирекшнз, Нью-Йорк): «Нескончаемый голос птиц. Я никогда не жил в таком раю. РЛС». Из-за странности слов, из-за того, что было написано рукой моего отца, из-за того, что найденная надпись обладает удивительным действием, я показала тот конверт Винсенту.
— Думаешь, когда мы умрем, то отправимся на Самоа? Какие вещи я должна упаковать?
— Ты ужасна.
— Неужто?
— Да. Нет. Да.
— Послушай, у меня есть преимущество перед тобой. Я продумала все. Нет никакого Царствия Небесного. Так что я просто говорю тебе, если ожидаешь увидеть меня там, если думаешь, что сразу после того, как прибудешь и закончишь с подготовительными мероприятиями — ну там «Привет, Петр»[648], крылья, арфа и что там еще, — то пойдешь, найдешь меня и еще раз сделаешь мне предложение, так вот, позволь мне просто сказать, ты будешь разочарован.
На это Винсент ничего не ответил. Лишь опустил ресницы. Жестокостью было бы продолжать, но вы уже догадались, что именно это я и сделала.
— Люди говорят, что видят свет в конце туннеля? Да просто отключается периферийное зрение. Мозг умирает с потоками света. Это не место, а всего лишь химия. Ты инженер, я Суейн. Я из тех, кто, как считается, предрасположен к странностям. Никто не верит в Рай Мильтона[649], никто не верит в загробный мир, описанный Данте. Когда он прибыл туда, то сказал, что его зрение было лучше, чем речь, так что он, слава Богу, прекратил описывать то, что видел, и, значит, так он говорит нам, что не верит в это. Ну, не так, чтобы очень. Поскольку даже Данте знал, что нет никакого Царствия Небесного.
Я думала, что на этом мы закончили. Я повернула свою боль, чтобы причинить боль ему, а он посмотрел вниз на свои руки с длинными пальцами и ничего не сказал. Он был в одних носках, потому что резиновые сапоги оставил внизу после того, как пересек громадную лужу во дворе. Носки делали его беззащитным, как это всегда происходит с мальчиками. Лил дождь, по окну в крыше струился поток. Жаль, что ночь была такой долгой. Жаль, что не удалось уснуть.
— Хорошо, — вдруг согласился Винсент, — согласимся, что это просто повествование. — Он подловил меня и знал это. Все было ясно по выражению его лица. — Всего лишь повествование, — повторил он, — но ты, Рут, ты же веришь в них. — Он улыбнулся той своей улыбкой, которую планировал использовать при встрече со Святым Петром. — Всего-то и нужно совершить прыжок веры[650]. — Винсент на самом деле сказал это, зная, что если и существует нечто, в чем хороши Суейны, так это умение прыгать. — Сделай прыжок.
В этот момент мы оба услышали, что в дом вошли Тимми и Пэки. Они сказали что-то о наводнении и о том, где им пришлось оставить машину «Скорой помощи», потом стали рассказывать, как планируют нести меня на носилках над водой. Мама поднялась ко мне по лестнице. Винсент Каннингем стоял в своих носках и, казалось, хотел сказать «Рут, ты не умрешь, не умрешь», но промолчал, поскольку Мама стояла рядом.
— Ну, — сказал он и резко поднял правую руку ладонью вверх, будто хотел сделать взмах, — или это же его жест означал «Стойте», или «Клянусь». Я увидела, как сияют его глаза, и поняла, что он хотел схватить меня в свои объятия и — кто знает? — на самом деле поцеловать меня. Однако он просто сказал: «Еще увидимся», развернулся и ушел, и вышло так, что с Винсентом Каннингемом я не успела как следует попрощаться.
После того как река взяла его, Эней стал огромным. Большим, как небо. Он был в каждом углу нашего дома. Он был за кухонным столом во время каждой трапезы. Он поднимался и спускался по лестнице, дул из трубы дымом, гремел окнами и лился бесконечным дождем. Он держал свою одежду в комоде, кружку в шкафчике, резиновые сапоги у задней двери. Он был везде. Он был в карих глазах Гека, смотрящих на всех с серьезным, терпеливым и мучительным вопросом. Эней был в своей школьной сумке, брошенной в углу. Пыль садилась на сумку, собиралась сначала в морщинках и складках, потом тонкой пленкой начала накрывать всю сумку, и она, торжественная и безмятежная, лежала на полу, становясь привидением, призраком. Эней был везде. Он бежал по дороге. В ежевичный сезон сощипывал ежевику. Он был в куковании кукушки, которую никогда не могли увидеть, но она сидела где-то на вершине самого высокого дерева, глядя вниз и напевая свою песню из двух нот, и песня та могла быть или радостной, или жалобной. Эней был на Острове Сокровищ. Он был на нашем дне рождения, больше и печальнее из-за того, что присутствовал как какой-то особый для нас дар, но сам не получал подарков. Эней первым просыпался на Рождество, последним приходил домой в тот год, когда шел снег. Он был в заключительном посещении Тетушек. Он был в полях, и он был в деревне, и он был в море. И он был в реке.
Единственное место, где его не было, это кладбище Фахи.
Вам кажется, что вы не переживете этого. Вам кажется, что прямо у вас на лице образовалась трещина и затем спустилась, разветвилась по всему телу, и трещины те настолько глубоки, что когда на улице кто-нибудь произнесет его имя, вы развалитесь на части. Вам кажется, что все это не могло произойти на самом деле, что это лишь дурной сон, и вы вот-вот проснетесь, и вообще не может такое ни с того ни с сего случиться. Так почему же однажды — в тот самый день, — это случилось?
И почему мир продолжает существовать? Как такое возможно? Как может радио работать, а чайник — закипать? Как могут куры нуждаться в том, чтобы их кормили?
Вы идете спать, и вы лежите и прислушиваетесь к тому, что происходит в его комнате. Прислушиваетесь к тому, как он дышит, когда спит, — и ничего не слышите, ни единого звука, а они хоть и бывали раздражающими, но просто были там, были всегда, были еще до этого мира, и теперь пустота утягивает вас и хочет засосать, и вы думаете: «Ладно, дай мне умереть сегодня ночью, мне все равно».
Но вы не умираете. Вы выучиваетесь спать, укачивая себя совсем немного и издавая тихое низкое гудение, которое никто, кроме вас, не слышит, так что ночь никогда не бывает пустой. Эней же, как Питер Пэн, нестареющий и эфемерный, может войти через окно в крыше, и вы можете пересказывать ему книги, которые прочитали.
Ваша рука болит от рукопожатий. Ваши глаза и губы высохли, потому что вода была выжата из вас, и вместо нее внутри вас набухает кислый желтый гнев, потому что вы не понимаете, зачем все эти люди приходят теперь, и почему все те, кто прежде никогда не звал его по имени, произносят его имя теперь. Никто из них не был знаком с Энеем. Никто из них не понимал сути его немного кривой улыбки так, как понимали вы. Никто из них не знал, как он вопил, спрыгивая с качелей, поднявшихся до самой высокой точки, как ударялся и переворачивался при падении, как усмехался, поднявшись. Никто из них не знает, что утонуть должны были вы.
Но каким-то образом вы продолжаете существовать, хотя и понятия не имеете, как вам это удается.
Видно, вам еще рано умирать, ведь кто-то же должен досказать повесть, вот вы и продолжаете как-то существовать.
Мы живем дальше.
Возможно, нам может стать еще больнее. Возможно, победитель страдает сильнее. Возможно, именно это и было нам предназначено. Возможно, если бы мы прошли к реке и сами бросились в нее, это создало бы беспорядок в нашей главе Книги о Суейнах. В Библии моего отца, книге в черном переплете с пятнами от капель дождя, корешок надломлен на Книге Иова. «Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня»[651] — это именно там.
То лето выдалось долгим и влажным. Я сидела дома и не видела никого, кроме Мамы, Папы и Бабушки. Чтобы хоть как-то вытаскивать меня из дома, Папа брал меня с собой в город, и мы ходили по книжным магазинам. Папа не говорил: «Прочитай вот эту, она поможет тебе забыть горе по брату», нет, просто давал мне книги, и я утыкалась в них, чтобы ни с кем не встречаться взглядом.
Детский эгоизм абсолютен и совершенен, и для прогресса мира, возможно, необходим. Откровенно говоря, я не интересовалась, как мои родители продолжают жить, не пыталась разобраться в причинах их спокойствия. Если моя Мама присматривала за мной с дополнительной бдительностью, боясь, что я могу проскользнуть через какую-то щель между этим миром и следующим, я ощущала ее внимание только как любовь.
В то лето мой Папа перестал сочинять. Как и прежде, подходил к столу, освещенному лампой. Как и прежде, сидел, наклонившись вперед. Его рука вздымала пряди серебристых волос справа. Но Папа не брал карандаш. Из комнаты, где сидел Папа, не раздавалось ни звука. Может быть, не приходило вдохновение; может быть, в прошлом иногда то, что справедливо было бы назвать вдохновением, нисходило, как язык огня; может быть, оно возникало, но то ли из-за досады, то ли из-за боли, то ли из-за гнева Папа не давал вдохновению ни завладеть собой, ни выплеснуться; может быть, Папа намеревался когда-нибудь что-нибудь написать и подходил ночью к столу по той же причине, по какой моя Мама отправлялась на берег Лох-Дерг[652], желая пройти босиком по камням и дать боли истечь кровью, — я не могу сказать, почему, но Папа сидел в тишине. Он перестал сочинять, вот и все.
Мама же оставалась просто Мамой. Да, она плакала, и да, была подавлена, когда приходили визитеры и еще когда у нас была Месса, а Папа сказал, что не пойдет, и Мама раскричалась на него, — это был единственный раз, когда я слышала, как она кричит, и в качестве компромисса Отец Типп сказал, что отслужит Мессу здесь, в нашей кухне, и Папа сказал «Ладно». И да, Мама чаще позволяла своим волосам оставаться запутанными, но, как только худшее оказалось позади, она как-то оправилась, если оправиться — это то, что делают люди при таких обстоятельствах. Наверное, я имею в виду, что она продолжала жить дальше. Женщины продолжают жить дальше. Они, словно старые корабли, безропотно выдерживают невзгоды, стоят грудью против волн в неистовых водах, терпят боль и скрипят с пробоинами в корпусе и доверху залитыми водой палубами, и все же находят якорь спасения в обыденном: в столах, которые надо вытирать, в кастрюлях, которые надо выскабливать, и в бесконечной золе, которую надо выбрасывать. Но кое-что изменилось. Теперь, оказавшись возле церкви, Мама обязательно входила, чтобы поставить свечку, а после того раза, когда приходила Пегги Муни, у Мамы все время просили цветы для алтаря. Она срезала и отдавала их, и — так обычно образуется традиция в небольших округах — скоро стало ясно, что Мама будет срезать наши цветы и приносить их в церковь до скончания времен.
В Тех я отправилась одна. Но горе не знает, что мы изобрели время. У горя собственный поток, оно приходит и уходит волнами. Так что я не пережила это, не отстранилась ни от горя, ни ото всех абсурдных вещей, шепчущих мне вслед, когда я шагала по коридорам. В первые недели я была по статусу выше Джули Бернс, которая должна была удалить себе все зубы, и Эмброуза Трэйнера, приехавшего из Дублина с воспалением пирсинга носа. Моим статусом была Половина. Я была Оставшейся. Я была той, у которой Половина Нее Ушла. В туалете намазанная тушью для ресниц садистка, упивающаяся чужим горем, она же Стажерка-Вампирша Сайобхэн Кроули, спросила меня:
— Ты можешь чувствовать его? Там, по другую сторону? Можешь?
Преподаватели обращались со мной осмотрительно. Моя повесть обогнала меня и оказалась в комнате преподавателей, создав особое пространство вокруг меня, какое делают повести. Из Девушки В Очках я превратилась в Девушку, у Которой Был Брат, затем в Самостоятельную Девушку и, наконец, в Читающую Девушку. По этим ступеням я шла с готовностью и облегчением, наслаждаясь одиночеством, и скоро подтвердила два изречения: первое — наша натура непреложна, и второе — мы становимся теми, какими нас ожидают видеть другие.
Через некоторое время повествования подходят к концу. В мире сем сострадание — ограниченный ресурс, и то, что сначала считают нормальным, скоро начинает раздражать. Почему она все еще такая?
Она делает это ради эффекта.
Ей нравится получать внимание.
Да просто она такая, странная.
И будто умышленно, будто чтобы подтвердить непреходящую странность моей личности, я полюбила поэзию. Миссис Куинти, которая была совсем не такой, как мисс Джин Броди В Расцвете Лет во всем, за исключением того, что видела в некоторых девочках проблески интеллекта, узнала об этом, когда мы читали «Перерыв в Середине Семестра»[653] Шеймаса Хини, — в том стихотворении говорится о смерти его брата, и в предпоследней строке мы узнаем, что малыша сбила машина и он был убит мгновенно. Мне понравилось, что последнее слово той строки гармонирует со словами второй строки и несет в себе одновременно печаль и надежду. Миссис Куинти не знала тогда, что мой отец подготовил почву, что я уже была знакома с Папиным рокотом и меня влекло к поэзии по таинственным причинам. Она давала мне антологии — их ей приносили торговые представители, чтобы она решила, будут ли эти книги полезными. Маленькая, подтянутая и решительная, она входила в аудиторию, клала одну из них на мой стол и говорила:
— Вот, почитай, тебе должно понравиться.
Вот так просто. Мои слова она не редактировала, не направляла и не подвергала цензуре. Она не входила в Режим Учителя, не просила меня рассказать, что я подумала или записала в отчет, и она не превращала подарок в упражнение. Она сделала самое щедрое и невероятное — дала мне поэзию.
На заметку будущим Суейнам: чтение антологии поэзии в институтском дворе — хотя теперь есть прецедент и такое занятие может казаться естественным и ничем не примечательным для Суейновых Умов, — не является лучшим средством от жуткого кошмара, каким является юношеский возраст. Чтение стихов стало клеймом на моей судьбе. В Техе это классифицировали как из ряда вон выходящую странность и оставили меня в одной компании с Киерой Мерфи, Поедательницей Крайолы, и Кэнис Клохесси, Страдающей Запором, в чьем уникальном случае дерьма не случилось.
Я потеряла навыки разговора. Я не получила ни одного приглашения на вечеринку по случаю дня рождения, — нет, был один-единственный раз, когда мистер Малвихилл, который женился на восточном ветре[654] по имени Ирен, позвонил ей с целью досадить и сказал, что пригласил весь курс на четырнадцатилетие своей дочери Шинейд.
Я не пошла, и мне было все равно. Потеряв брата, я потеряла больше, чем полмира. Я осталась внутри чего-то узкого, словно на поле книжной страницы, и на том поле параллельно основному тексту я напишу маргиналии[655].
Глава 2
Нас четверо в чистилище[656], в существование которого я не верила, пока не оказалась в нем. Я тут самая молодая. Элинор Клэнси самая старая. У нее необычайного размера коричневый парик, как у мисс Топит в «Мартине Чезлвите». Она говорит «О, милая» мне и медсестрам, и когда они поднимают ее с кровати, я отвожу взгляд, чтобы не видеть ее тонкие голени, — кажется, они вот-вот с треском переломятся. Миссис Мерримен вообще не разговаривает. Она говорила, когда ее привезли, но потом замолчала — слишком расстроена тем, что находится здесь. Она хочет оставаться в настоящем мире, где ее Филип нуждается в ней и не справится без нее. Она не хочет быть в этом промежуточном месте, ни здесь, ни там. Миссис Мерримен лежит у стены и тонким голосом жалуется ей и причитает, пытаясь задушить подвывающие рыдания, а мы притворяемся, что не слышим их. Джеки Феннелл — лидер группы поддержки, заводила и вдохновительница. Она похожа на одну из тех актрис, которых приглашают для участия в телевизионных больничных сериалах. Ничего плохого не может случиться с вами, когда вы так великолепны. «Lucozade»[657] Джеки — белое вино, Бенни проносит его тайком, так что она не может угощать нас, но могла бы раздобыть для меня шоколад «Green & Black’s»[658] и лак для ногтей «Glamour» или «Magenta», если бы я захотела. Однако все мы здесь для чего-то другого. Вы даже не можете представить себе, сколько всего может пойти не так, как говорит Тимми.
Для меня мука мученическая говорить вам, где у меня болит, сказала миссис Мерримен.
Мое тело — моя темница, сказал РЛС[659].
У нас на окнах занавески из синего пластика, и когда они колышутся ш-ш-ш-ш с тихим шорохом, вы сразу вспоминаете, что попали в чисто деловую атмосферу.
Мистер МакКи приходит с доктором Нараджаном посмотреть результаты моих анализов. Мистер МакКи — Важная Птица в самом прекрасном на свете костюме и белой рубашке — либо мистер МакКи родился в ней, либо умеет надевать ее так, что не образуется никаких складок, какие бывают у других людей. Его единственный недостаток — галстуки с маленькими картинками, какие кто-то поместил там ради веселья. Сегодня это серебряные рыбки.
— Твои анализы, Рут, вызывают у меня тревогу, — говорит он.
Когда дело доходит до того множества тех вещей, какие Майна Прендергаст со своими манерами гостиной девятнадцатого века называет «Дела Сердечные», некоторые женщины оказываются весьма практичными. Такие женщины переживают боль, оценивают потери и сразу же приступают к исправлению ситуации. Такие женщины не испытывают внутренней безнадежности. Они откажутся от своей красоты, пожертвуют своим счастливым музыкальным смехом, вынесут душевные муки столь сильные, что в сердце образуется пустота, но все равно не будут побеждены. Моя Мама — одна из таких женщин.
Мама знала, что Вергилий перестал творить, и все то, что было включено, теперь оказалось выключено, и через некоторое время наступила ее естественная реакция — пойти поискать плоскогубцы, гаечные ключи и что там еще надо, чтобы все снова заработало.
Или прокладки. Может, это именно то, что надо? У меня маловато времени, чтобы находить метафоры. Как бы то ни было, ведь это Борхес сказал, что написанное лучше, когда оставлены ошибки. Если бы у Шекспира был редактор, то у нас не было бы Шекспира.
Исправить ситуацию можно при помощи поэзии, решила Мама. Она читала Папины стихи, но все они были незавершенными. Она читала их через его плечо, когда приносила чашку чая или приходила сказать, что собирается ложиться спать. Каждый раз удавалось лишь бросить взгляд, но Мама понимала, что Папа собирается улучшить стихи, а пока они просто черновики, эскизы того, чего он пытается достичь. В том-то и штука, когда речь идет о поэзии Вергилия Суейна. Вы уже должны знать это по его Суейн-ности. Вы должны уже знать, что стихотворение — самая невозможная вещь. Оно жестоко и своенравно, оно содержит в себе свою собственную гарантию неудачи. То, что, как вам сегодня кажется, вы уловили в стихотворении, уже не будет в нем, когда вы прочтете его завтра. Я была зачарована антологиями поэзии, которые мне давала миссис Куинти, и могу сознаться, что и сама написала несколько стихотворений, казавшихся мне великолепными, — но очень скоро они превратились в никудышные.
Мама прочитала всего лишь отрывки. Она была на сто процентов уверена в том, что абсолютно ничего не понимает в поэзии, а просто признает и факт ее существования, и тот труд, мастерство и искусство, которые создают поэзию, удивительную саму по себе, но, несмотря на все это, считала, что стихи Вергилия изумительны.
То не была любовная лирика в общепринятом смысле. Стихи не были обращены к Маме, но на более глубоким уровне были для нее. Они были для нее, потому что проросли из ее жизни, в которую она впустила Вергилия. Стихами были заполнены тетрадки Эшлинг. Иногда всю тетрадь занимали разные варианты одного и того же стихотворения. На первых страницах могла быть одна-единственная фраза, строка, написанная карандашом мышиного цвета наискосок через страницу. Та же самая строка могла быть записана под ранее написанной строкой, но на этот раз немного изменена, — добавлена запятая, или слово заменено другим, или иное время глагола, или половина второй строки добавлена к первой и в конце загибается вниз. Как будто Папа в спешке потянул за первую строку, и она появилась, ведя за собой следующую, но разорвалась, и он потерял ее. Начав с новой страницы, он записал первую фразу снова, и на той странице не было больше ничего. Ясно, Папа всю ночь просто сидел и глядел на ту строку. Были страницы с рисунками, которые приходили ему в голову, их варианты он пробовал и если отклонял, то серая мышь процарапывала черту через них. В других тетрадках могло быть десять или двенадцать стихотворений, ясных и совершенных. Он любил записывать стихотворение аккуратно, когда оно было завершено. Единственная ошибка в правописании, смазанное карандашное пятно или я помешала, — Папа переворачивал страницу и писал заново. Думаю, таков был его способ проверки, и ни одной стихи не выдерживали. Они не были готовы.
И тогда Вергилий бросил попытки.
Поэт, потерявший способность творить, — что может быть печальнее? Вы буквально видите, как прыгун упал в яму для приземления, грязь и песок перемазали его майку и шорты. Но таков уж его характер, что он все еще смотрит вверх, все еще видит планку там, на фоне синевы, но не в его силах набрать высоту.
Теперь Мама решила, что для исправления ситуации нужно использовать потребность Папы в том, чтобы мир ответил ему, чтобы ныне живущий мирской эквивалент Авраама или Преподобного прочитал стихи и сказал «Неплохо, совсем неплохо», — так в переводе на Суейнский язык должны звучать слова какого-нибудь лондонского редактора «Черт меня побери, да это же чудесно!». Я рассказывала Маме о миссис Куинти и подаренных ею антологиях, и вот она подумала, что миссис Куинти была единственной в округе, кому можно доверить открыть тетради моего отца.
По средам моего отца днем отправляли в Килраш за покупками, а в Техе занятия были до обеда, чтобы дать возможность учителям, как воинам в «Илиаде», перевязать свои раны перед завтрашним сражением. Поэтому миссис Куинти приходила к нам домой. Она приносила свою пишущую машинку. В то время пишущая машинка уже была антиквариатом. (У нас в Техе даже было шесть компьютеров в компьютерной комнате; однако парни не могут устоять при виде щели или дырки, а потому во все дисководы были засунуты резинки от карандашей, скрепки для бумаг, жвачки, козявки из носа и всякое другое, о чем лучше не упоминать. Судорожно мигали индикаторы, и бывало, что все занятие мы только и делали, что перезагружали компьютеры. Были еще и стареющие девы, никогда не Выходившие В Интернет, вот и миссис Куинти решила, что компьютеры были чудесами, предназначенными для Следующего Поколения.)
Миссис Куинти вошла через черный ход и принесла пишущую машинку в футляре.
— Вергилий ничего не должен знать, — сказала Мама.
А миссис Куинти уже Испытала Разочарование в том, что касалось ее мужа Томми, оставшегося в Суонси, и не была новичком в хранении секретов.
— Никто не должен знать, кроме нас, — сказала Мама, когда возвратилась вниз после того, как показала миссис Куинти, где начать, и тук-тук-тук-динь уже раздавалось возбужденно и яростно, если слова «возбужденно и яростно» описывают поведение стихов, когда у них наконец наступает экстаз освобождения.
Этого я не знаю. Но уверена, что это была любовь, любовь с болью в ней, и я уже поняла, что это было нечто настоящее. Я понимала, что так Мама пыталась спасти Папу, и еще понимала, что в стуке клавиш, — хрустящем, холодном и ровном (спасибо, Венцеслас[660]), — Вергилий Суейн, поэт, начинал реально существовать. В свое время течение реки принесет его в антологию.
За исключением осложнений, как говорит Барри Лиллис, план был прост. Миссис Куинти должна была приходить по средам. Вергилия будут отправлять за покупками в Килраш, в торговый центр «Брюз», где есть все что угодно, и затем он сможет пойти в библиотеку. Миссис Куинти должна была разобрать многолетние горы тетрадей Эшлинг и печатать только те стихи, какие казались ей завершенными. И возвращать их точно туда, откуда брала. Перед уходом она должна была отдавать Маме стихи каждой среды, причем не должна была делать копии. Миссис Куинти должна была получать плату каждую неделю по почасовой ставке из тех денег, какие Мама хранила внутри Фарфоровой Собаки по имени Лестер, — когда хвост был потерян при падении, внутри оказалась пустота.
Миссис Куинти заявила, что денег не возьмет.
— Это же поэзия, — объяснила она.
Ее губы сжались и стали крошечными, а запыленные очки не могли скрыть, какими огромными стали глаза.
— Если вы не будете брать плату, то не сможете печатать стихи.
Только теперь миссис Куинти согласилась брать деньги. (Она хранила каждый пенни в коричневом конверте в верхнем ящике своего стола красного дерева, никогда их не тратила и позже отдала их мне, а я отдала их Отцу Типпу в ирландской христианско-языческой манере, частично ради молитв и частично ради суеверия.)
Мама брала стихи каждой среды и вкладывала их во второй экземпляр телефонной книги, — его Пэт Почтальон засунул в нашу живую изгородь, когда телефонная компания пыталась подтвердить расширение своей клиентской базы. Мама и сама не читала эти стихи, и мне не давала. Думаю, это было на тот случай, если бы она передумала или с нею случилось бы то же самое, что и с папой, она прочитала бы их и обнаружила, что они не были ужасными, но, что еще хуже, средненькими. Итак, Мама брала стихи и, не перегибая, клала их по отдельности в телефонную книгу между Бринсами и Доунсами, Хехирсами и О’Шиасами, а книгу прятала под своей одеждой в нижнем ящике. Каждую неделю расположенное в алфавитном порядке население Графства Клэр знакомилось с новыми и новыми стихами, а во всей этой затее все больше проявлялась вечная неправдоподобность предания.
Стихи накапливались.
Ложась вечером спать, Мама знала, что они прямо там, в спальне. Она могла ощущать их. Я тоже, а если бы очень постаралась, крепко зажмурилась и прислушалась, то могла бы за шумом дождя услышать их.
Я знаю, это странно. Хотите верьте, хотите нет. (См.: Религии.)
Не вызывало никакого сомнения, что книга скоро увидит свет, и тонкий серый томик с именем Вергилий Суейн прибудет почтой. Не то чтобы его встретили бы удивлением. Я, конечно, не имела представления, и все еще не имею, и, думаю, никогда не буду иметь представления о том, как работают бизнес и деньги и как они могли бы сработать в отношении чего-то столь невозможного, как поэзия. Но, как нам казалось, мы вполне могли ожидать, что как только книга будет издана, дела у нас пойдут лучше, а кое-что будет излечено.
В шестую среду миссис Куинти спустилась по лестнице и объявила:
— Сегодня напечатала последнее.
Она остановилась и напряженно охватила себя руками. Поэзия не давала разыграться ее простуде в течение почти шести недель.
— Получится большая книга, — заметила Мама.
— Да. — Миссис Куинти сморщила нос, чтобы сдвинуть очки вверх. — Как вы ее назовете?
Мама еще не заглядывала так далеко.
— Может быть, «Стихотворения»?
Миссис Куинти отступила на шаг, прижала руки друг к другу, позволила этому предложению растаять в свете дня и спросила:
— Возможно, что-то… получше?
Они стояли в кухне по обе стороны от затруднения. Я сидела за столом с антологией Исследований, той, которой пользовались до того, как Департамент испугался, что эта книга станет непопулярной у четырнадцатилетних, поскольку слишком высоко поднимает планку, той, в которой было «L’Allegro» Мильтона, «Hence, loathed Melancholy, Of Cerberus and blackest Midnight born». Я подняла взгляд.
— А есть там стихотворение длиннее других?
— Есть. — Миссис Куинти средним пальцем подтолкнула очки, и глаза за их стеклами стали еще больше. — Есть одно. Про… — Ей не надо было договаривать «Энея». — Называется «История Дождя».
Пять минут спустя полная «История Дождя» была уложена на белую папиросную бумагу, которая прибыла в коробке с кардиганом из Магазина Моники Мак и пахла лилиями — или духами Моники Мак, обладавшими ароматом лилии. Мама завернула стихи в папиросную бумагу, и сквозь нее просвечивало название. Я придерживала бумагу, а Мама подсунула узкую зеленую ленту, подняла концы, связала бант и прижала его, чтобы он не выглядел слишком красивым.
— Ну, вот.
Глядя на меня, Мама улыбалась печальной улыбкой нашего соучастия, и в глазах ее было «Ну, Бог даст». Возможно, потому, что это была поэзия, или, возможно, по той же причине, по какой мы думаем о возвышенном во время Великого поста, но теперь, когда напечатанные стихи лежали перед нами, у нас появилось ощущение, ну, не знаю, благоговейного трепета. Мы завернули их еще раз в оберточную коричневую бумагу и обвязали пакет шпагатом.
— У тебя хороший почерк, Рути. — Мама дала мне листок с адресом издателя, который миссис Куинти нашла для нее. — Вот, напиши.
Я написала чрезвычайно осторожно, так, как написал бы мой отец. Потом мы с Мамой оделись и отправились на почту. Я несла стихи под пальто, пряча их от дождя.
В почтовом отделении Майны Прендергаст была Морин Боуэ, чей диапазон мнений и глубину высказываний не стесняла неграмотность, как могла бы сказать Эдит Уортон. Но Морин мне нравилась. В ее доме было две комнаты и три кладбища мух, свисавших с потолка, она бросила школу в четырнадцать, но достигла уровня Йоды[661] в понимании мира, и особенно хорошо она знала свои права и то, как должна работать система социального обеспечения. Слушать Морин было забавно, но мы были полны надеждой и не порадовались задержке.
— Мэри. И Рут, — поприветствовала нас Морин, повернув к нам свою гигантскую личность, но придерживая локтем место у прилавка.
— Морин.
Она уже была готова прокомментировать то, что мы скажем, и, не дождавшись, спросила:
— Он когда-нибудь прекратится? — О дожде больше нечего было сказать. — У меня протечка. В задней кухне. Том Кеог построил ее. Плоская крыша, почти столь же полезная, как обои. — Она помолчала, представляя, как течет крыша, и добавила: — Думаю, есть субсидия для тех, у кого плоская крыша.
Мы с Мамой поддержали разговор — но только про себя: «Да? Как же хорошо для вас!»
Морин повернулась вокруг локтя.
— Ведь субсидия существует, да, Майна?
Миссис Прендергаст предпочитала не молоть языком, а обслуживать клиентов, и потому объявила, что последняя почта скоро будет отправлена.
Как только дверь за Морин закрылась и мы остались одни в сдержанной и тихой величественности почтового отделения Фахи, Мама сообщила Майне Прендергаст, что мы хотим отправить пакет в Лондон.
Миссис Прендергаст не спросила, что в нем, и, действуя профессионально, взяла пакет и взвесила его. Поскольку в нем была поэзия, он почти ничего не весил. Это было именно то, о чем я думала — легкость, отсутствие тяжести, — и весы реального мира едва зафиксировали вес. Мы с Мамой смотрели, как миссис Прендергаст снимает пакет с весов, мельком смотрит на него и кладет опять на прилавок.
Теперь Миссис Прендергаст открывает папку с марками и проводит пальцами вниз по листам, прежде чем выбрать Ту Самую. Вытаскивает ее на свободу, слегка дотрагивается ею до розовой вогнутой подушечки, похожей на пуховку для пудры Тети Дафни, и торжественно наклеивает на пакет.
— В Лондон, — говорит Миссис Прендергаст.
Вот и все. Она не добавила вопросительный знак. Она не спрашивала, а просто утверждала, и сразу стало ясно, что это не касается Почтового Отделения. Но поскольку слово «Лондон» было произнесено и поскольку в таком месте, как Фаха, во влажной послеполуденной тишине один лишь факт отправки чего-то в Лондон был бесспорно весьма торжественным, и в этой торжественности — что, впрочем, вполне естественно, — сама Фаха хотела бы принять участие, потому что каждому поселку приятно знать, что и у него есть нечто важное, и это важное можно отправить в Лондон, и поскольку слово «Лондон» без вопросительного знака вроде как повисло приглашением продолжить разговор и в то же время было грамматически неполным, Мама пояснила:
— Это поэзия.
Она не собиралась говорить это и пожалела о своих словах в тот же момент, когда слово «поэзия» вылетело и полетело стрекозой вокруг почтового отделения. Я посмотрела на дверь, желая убедиться, что она закрыта.
— Понятно.
— Вообще-то, миссис Прендергаст, могу ли я попросить вас об одолжении?
— Да?
— Когда письмо придет. Из Лондона.
— Да?
— Можно вас попросить, чтобы Пэта придержал его здесь для нас?
Мы Суейны. Мы уже занесены в журнал посещаемости нашего округа. В этом журнале с рельефным пейслийским узором[662] мы числимся как Странные чудики. Миссис Прендергаст поджала губы, ставшие похожими на щель в почтовом ящике, но мне кажется, что Эней и Наше Горе прошли через нее.
— Мне хочется, чтобы это стало сюрпризом, — сказала Мама.
Я была на заднем плане и показала миссис Прендергаст Несчастную Рут, Обреченное Дитя, мои щеки были притворно впалыми, а глаза безумно увеличенными.
— Понятно.
Дверь открылась, и вернулась Морин Боуэ.
— Субсидия существует, — сказала она почти так, как вы сказали бы «Бог существует».
Сохраняя образцовое спокойствие, миссис Прендергаст сдвинула наш пакет вдоль прилавка под табличку «Исходящая почта» и кивнула моей Маме, но не двинув головой, а лишь показав глазами.
Стихи были отправлены.
Мы с Мамой вышли под дождь. Мир казался таким, каким мы его оставили, — на Черч-Стрит трактор Мартина Шиэна остановился, загородив дорогу задними колесами, и Мартин как ни в чем не бывало сидел в кабине, разговаривая через окно с одним из Лихисов, Старым Томом, стоящим со своим велосипедом на перекрестке, ожидая, что подъедет еще кто-нибудь и можно будет ему сообщить, что движение прекращено; магазин «Centra» по-прежнему был открыт; Нуэла Кейси, прищурившись, вглядывалась куда-то в пустоту; Джон Пол Юстас делал свой обход от двери к двери, — но мы-то с Мамой знали, что мир уже не такой, как прежде. Мы шли домой, и воздух казался разреженным, как бывает, когда сердце переместилось вверх, в горло, и хочется верить, что Эмили, возможно, да, была права, и Надежда — Существо с Перьями, вылетающее из вас прямо сейчас. Перья появляются из вашего рта, ваши глаза круглые, как буквы «О», и вы смотрите, как Надежда поднимается над живыми изгородями и свисающими фуксиями, над верхушками деревьев, над линиями электропередачи и над дождем, пересекает поле Райанов, и Мейджора, и наше, и вот она уже направляется прямо в Лондон.
— Ты ведь не проговоришься? — спрашивает Мама и сама себе отвечает: — Знаю, что не проговоришься.
Мама отводит взгляд, и мы обе, маленькие и тихие, сближаемся так, как, возможно, никогда больше не сможем сблизиться в этой жизни.
Миссис Прендергаст намеревалась не говорить никому. Она сделала исключение для одного лишь Отца Типпа, потому что подумала, что поэзия находится в царстве молитв, а поскольку его сердце уже было набито до отказа тайнами и секретами, Отец Типп сказал своей экономке Орле Игэн — только ей одной, разумеется, — а Орла Игэн сказала одной только миссис Дэли, у которой мыла окна, полы и прочее по вторникам после обеда, и то только потому, что не смогла удержаться и не показать всем, что занимает особое место в доме священника, ну и потому, что хотелось поговорить о чем-нибудь еще, кроме грязи, «Dettol Flash» и «Windowlene»[663]. И вот, поскольку изумительное всегда в дефиците, а когда поделишься им, то возникает сияние, отражающееся на повседневности, то очень скоро в Фахе не осталось никого, кто не знал бы, что стихи Вергилия Суейна отправились в Лондон.
За исключением Вергилия Суейна.
Как я это вижу, все было проникновенно и душевно. Как говорит большой Том Демпси, ирландцы потрясающе хороши, когда нужно поделиться чем-то. А потому была не только первая реакция «Книга?» и универсальное продолжение «А я в ней есть?», но еще и застенчивая гордость, надежда, подобная молитве, и — среди взрослых — тихая, но широко распространенная радость, будто в нашем округе поэзия стала общинной.
Глава 3
Сколько времени понадобится кому-то, чтобы разглядеть вашу душу?
Допустим, существуют люди, видящие душу ближнего своего. Допустим, такова их профессия. Допустим, они помазаны-предназначены для одной этой задачи. Для душ у них есть Наивысший Стандарт. У них есть Инструкции по Безукоризненности, есть Эталоны Совершенства. У них есть Необычайные Очки, дающие абсолютное зрение, и янтарного цвета обтягивающие костюмы из «Звездного пути» 1970-х. Смысл жизни тех людей — искать души. Существуют особые правила. Эти люди всегда готовы отправиться на поиски, всегда готовы к немедленным действиям, и машины для телепортации тоже всегда в состоянии Готовности.
Великолепие — вот что ищут эти люди.
Как блеск фольги, когда ее встряхивают[664].
Они ищут тех, кто отдал себя наиболее острым восприятиям и ощущениям, кто из-за своей природы не может видеть и чувствовать, не желая стать ближе, в чьем характере есть своего рода страстное стремление, кто стал странным чудаком и живет на краю, у кого уже есть стандарт настолько высокий, что более высокое не может быть найдено больше нигде, так что разочарование глубоко и постоянно, и у кого волосы серебряные, а глаза синие — цвета моря и неба.
Допустим, люди, видящие душу ближнего своего, каждый день делают свою работу.
Допустим, они сфокусируют свои лучи.
Сколько времени им понадобится, чтобы найти того человека?
У миссис Куинти было достаточно актерских способностей для роли второстепенного персонажа. Она умела бесследно уйти со сцены, а потому мой отец даже не заметил, что она сидела за его столом и печатала его стихи. В вопросах личного пространства он не был исключительным. Как и Тед Хьюз, ради стихотворения Папа был готов забиться в угол. Он не заметил, что рукописи кто-то трогал, потому что не думал о читателях. Это просто никогда не приходило ему в голову, ведь он считал свои стихи недостойными Читателей. Так я понимаю теперь. Понимаю, что он породил их главным образом от ощущения порицания, что мало чем отличалось от побуждений Томаса Доуеса, неудачи которого оставались в секрете, пока он не породил целую ораву косоглазых сыновей, причем каждому следующему из них удавалось разбивать автомобили лучше, чем предыдущему, и только один из сыновей бывал иногда трезвым.
По вечерам Вергилий все еще подходил к своему столу. Все еще читал запоем толстую, 1902 страницы, букинистическую книгу «The Riverside Shakespeare»[665] (Книга 1604, Хофтон Миффлин, Бостон), становящуюся чем-то вроде библии, но не брал в руки карандаш. Он не взлетел в прыжке.
Хотя дети никогда не знают, каковы чувства их родителей, хотя не могут полностью войти в их мир и видеть его так, как видят они, я знала, что мой отец потерян, и вместе с Мамой хотела спасти Папу. Возможно, некоторую роль здесь играло мое желание пережить когда-нибудь в будущем тот момент, когда Просперо говорит Миранде[666]: «Ведь это ты сберегла меня»[667], но главным образом это была просто любовь.
Вот я и подумала, что если попрошу его написать мне стихотворение, то нечто остановленное в нем могло бы перезапуститься.
— Напишешь?
Его длинное тело скрючено на стуле, лицо угловатое, серебристая борода взобралась по щекам. Лицо бесстрастное. Брови были безумными клочковатыми волоконцами, похожими и на свободные концы струн, свисающих с колков и закручивающихся возле завитка скрипки Шона Касти, и на лишние концы проводов, которые Поди О оставляет свисать, когда что-нибудь подключает, — это напоминало, что музыка и электричество были живыми, и их невозможно обуздать.
— Не обязательно, чтобы оно было длинным, — добавила я.
Две глубоких складки появились по обе стороны Папиного рта.
— Я уверен, что могу найти стихотворение, написанное для какой-нибудь другой Рут.
— Я такого не хочу. Я хочу, чтобы его написал ты.
Он повернулся к столу, заваленному книгами, двинул руку вверх по сторонам своей бороды. Раздалось тишайшее шуршание. Он сбросил ее поперек рта. Рядом с «The Riverside Shakespeare» лежали «Воскресение» и «Детство, отрочество, юность» Толстого (Книги 2888 и 2889, Пингвин Классикс, Лондон), а еще зеленая американская книга в твердом переплете «Стихотворения 1965–1975» Шеймаса Хини (Книга 2891, Фаррар, Страус и Жиру, Нью-Йорк), белая книга в мягкой обложке, на которой было алое название «Избранные Стихотворения», а под ним черно-белая фотография Роберта Лоуэлла, держащего очки и наклонившегося влево (Книга 2892, Фаррар, Страус и Жиру, Лондон), толстый том «Джон Донн, Полное собрание английских Стихотворений» (Книга 2893, Пингвин Букс, Лондон), на обложке которого был Джон Донн в безумной черной шляпе и со сложенными руками. Но не на них задержался мой взгляд, а на маленькой белой книге в мягкой обложке — «Избранные Стихотворения» У. Б. Йейтса (Книга 3000, Пэн Макмиллан, Лондон). Она была открыта на «Песне Скитающегося Энгуса», и поперек страницы мой отец мелко написал что-то черными чернилами, будто вел диалог со стихотворением — а может быть, и с самим поэтом.
Наконец Папа оглянулся на меня.
— И о чем написать?
— Да все равно о чем.
Я думала, такой ответ мог бы помочь. Я не понимала ни проблемы, ни муки и тайны ее. В то время я не понимала так, как понимаю теперь. Не понимала, — Папа хотел, чтобы в его стихах была Жизнь, но не мог призвать ее. Внезапно воздух в комнате стал спертым, дождь застучал громче, и я поняла, что привела Папу на пустое место, привела туда, где Суейны всегда оказываются, в ослепительно-белое сияние собственной неудачи. Но я не хотела останавливаться.
— Так напишешь?
Он полностью повернулся ко мне, и он взял мои руки в свои.
— А ты напишешь стихотворение для меня?
Его взгляд удерживал меня так, как я никогда не забуду, и не из-за синевы, или речной глубины, или сияния, не из-за печали или поражения, нет, просто в те секунды казалось, будто в его глазах была целая история устремлений, которую он передал мне, когда попросил написать ему стихотворение.
— Мое будет плохим.
— Но ты напишешь мне его?
— Напишу, если ты напишешь. Ну что, напишешь? — Я встряхнула обе его руки, желая получить ответ. — Пожалуйста. Обещаешь?
— А ты обещаешь?
— Я обещаю. Теперь скажи «Я обещаю написать что-нибудь для Рут».
— Я обещаю написать что-нибудь для Рут.
Время шло, мы ждали. Ждали, чтобы из Лондона нам ответили. Мама заглядывала в почтовое отделение; миссис Прендергаст показывала глазами «Нет», не раскрывая того секрета, что все в очереди знают, чего ждет Мама, и совершенно уверены, что новости будут хорошими. Потому что Фаха такая. Люди любят домашнюю победу. В отличие от Томми Туохи, который любит проклинать Ман Ю[668], команду, за которую болеет, люди здесь великодушны, как только что-то выходит за пределы округа. Они хотят, чтобы это было успешным. И потому предположили, что Лондон — это Лондон, там изрядные горы стихов, с которыми надо разделаться, и на это может потребоваться некоторое время, но все у нас в округе уверены, что все закончится хорошо. А уверены они были потому, что моим отцом был Вергилий Суейн, и потому, что теперь, когда они все обдумали, он оказался для них почти точно таким, каким и должен выглядеть человек, чья книга стихов отправлена в Лондон.
Хотя никто, за исключением миссис Куинти, не читал его стихов, мой отец стал для всех Нашим Поэтом.
Я обнаружила это только потому, что у Винсента Каннингема сердце мягкое, как вареная капуста, и потому, что в качестве серийного претендента на мою руку и сердце часто приходил к нам домой. Он без приглашения появлялся в кухне, но не так, как младшие МакИнерни — те вваливались, чтобы съесть второй обед в нашем доме после того, как пообедали у себя дома по команде «А теперь все собрались и нацепили на вилку картошку из миски, Начали!» — нет, тихий и вежливый Винсент приходил как друг Энея, сочувствующий нашей потере. Маме, конечно, нравился Винсент. Он всем матерям нравился. Они плыли прямо туда, где умерла его мать, и думали Какой хороший мальчик, он всегда был опрятен, воротник рубашки всегда оставался в круглом вороте джемпера, руки всегда чистые. Как все лучшие люди, он всегда соглашался выпить чаю только после третьего приглашения.
После одного такого посещения он спросил меня:
— Хотела бы ты прогуляться по дороге, Рут?
— Нет.
— Рут, пройди с Винсентом хоть часть пути к его дому.
— Он и сам знает дорогу.
— Воздух пойдет тебе на пользу.
— У меня есть воздух. Посмотри. Хороший. Воздух.
— Все в порядке, миссис Суейн. Она права. Я знаю дорогу.
Хорошие люди просто ужасны. Иногда хочется их пристрелить.
— Ну ладно, да! Я бы хотела прогуляться по дороге.
Прогулка По Дороге — в Фахе это эквивалентно тому, чем в реальном мире является поход в кино, или в торговый комплекс, или в боулинг. Винсент считал дорогу совершенно изумительной.
— Я не могу идти быстрее, — предупредила я, — так что если хочешь, иди вперед, все в порядке.
— Нет, Нет. Все хорошо.
Я пошла медленнее. Но вы не можете отстать от такого человека, как Винсент Каннингем, он замедлил шаг сразу же. Дождь не был таким, на какой он обратил бы хоть какое-то внимание.
— Рут, — вдруг сказал он, — я надеюсь, это скоро случится.
Я превратно истолковала смысл того, что он имел в виду. Я была в Мидлмарче[669] тогда, и мне, возможно, пригрезилось, что Винсент был мистером Кейсобоном, на чье предложение Доротея ответила согласием. Но прежде чем я успела сказать хоть слово, он пояснил:
— Стихи твоего папы. Надеюсь, он скоро получит о них известие.
Я не ударила Винсента. Поймите меня правильно.
Я не схватила его за ухо, не притянула к себе и не спросила:
— Откуда ты знаешь?
Возможно, он все понял по моему выражению. Я не в ответе за свое лицо.
— Я просто хотел сказать, что надеюсь, это случится скоро, — сказал он.
Глава 4
Но это не случилось скоро. Люди, видящие душу ближнего своего, снизили темп работы. Мы с Мамой затаили дыхание, и хотя с обеих сторон нашей семьи я получила преимущества в задерживании дыхания под водой, почти все время я помнила, что мы тонем немного чаще. Однажды пришла миссис Хэнли. Она была маленьким терьером с коричневыми карими глазами и обладала откровенной прямотой жителей Корка. Миссис Хэнли похоронила мужа, но это ничего не отняло у нее. Она продолжила жить с этим, сказала она. Миссис Хэнли была полной противоположностью Эйлин Уотерс — та до сих пор в этой жизни успешно избегала делать недвусмысленные заявления, — и любила бить не в бровь, а в глаз. Теперь она заправляла системой финансовой помощи безработным, и поскольку знала, что Лондон все еще не ответил, и поскольку, как и все остальные, задавалась вопросом, на какие средства мы живем, то наводящими вопросами она дала понять моему отцу, что он должен присоединиться к этой системе. Она была направлена на улучшение положения в округе, и потому с формальной точки зрения все, что он мог предложить, было бы приемлемым.
Он предложил Йейтса.
Это не было шуткой.
Полагаю, он не смог удержаться. Полагаю, великие мечты отправили свои галеоны[670] под всеми парусами в его мозг, а мозг у него был такой, где странное — это просто нормальное во время бури. Но, возможно, самым замечательным было то, что миссис Хэнли согласилась.
Не могу вспомнить, кто сказал — но это правда, — что каждый раз, когда кто-то читает Шекспира, то и сам становится Шекспиром. Ну, то же самое верно для Йейтса. Выберите время во второй половине дня. Сядьте и прочитайте его стихи. Любые, не имеет никакого значения, какие. Потратьте полдня, громко читайте вслух. И пока вы это делаете, пока звучат строки Йейтса, и не имеет значения, каков ритм, иногда даже можно ему не следовать, все равно, сначала вы даже не заметите этого, просто потихоньку, постепенно вы поднимаетесь.
Вы поднимаетесь. Честно. Читайте вот так стихи, и люди будут становиться лучше, сложнее, будут любящими, страстными, сердитыми, нежными, поэтичными, более выразительными и глубокими, в целом более прекрасными.
Вот чему я научилась у своего отца.
Ему дали комнату позади зала. Шесть лекций. Он нуждался в деньгах, но не ожидал, что кто-нибудь придет.
Когда он вошел в парадную дверь зала, там были люди, надеющиеся найти дополнительные стулья. Они не сказали «Мы здесь, потому что ты поэт, у которого есть книга, отправленная в Лондон», они не сказали «Мы соболезнуем, что ваш сын умер», или «Ты должен не давать угаснуть надежде». В Ирландии более высокая форма английского языка, и к прямолинейным заявлениям относятся с неодобрением. Собравшиеся встретили Вергилия кивками. Никто не отвел от него взгляд, когда он положил на стол «Избранные Стихотворения», сразу же поднял подбородок, как это делал Преподобный — эта особенность, неоткрытая до сих пор, была неизбежной, как кровоток, — и начал.
Стиль преподавания у моего отца был столь же невероятным, как и характер. Он встал за стол и посмотрел на лица людей, разглядывающих его. Сделал паузу, которая ощущалась подобно молитве, и на миг показалось, что он вот-вот начнет, хотя понятия не имеет, что говорить. И он начал. Он шагал взад и вперед, снова и снова, в узком пространстве, оставленном ему между стульями и столом, взад и вперед, снова и снова (шесть шагов), говорил громко и ясно, и его голова возвышалась над нашими, и было нетрудно поверить, что нас ожидает вспышка. Иногда он взмахивал рукой, продолжая читать, своего рода нисходящий разрезающий жест, быстрый, будто рубил что-то, вот так, а иногда декламировал строку и сам был очарован ее достоинствами. Он повторял ее более тихим голосом, и прямо тогда, прямо в тот момент вы понимали, что он нашел в ней новизну, и даже если вы не понимали, что именно, вы понимали, что попали в другую страну из той внешней страны, которая как раз в те дни открывала, что стала банкротом.
Лекции были театром. Они не были театром одного актера в смысле как структуры, так и исполнения, не давали ясного ощущения последовательности событий, не содержали пауз, не следовали заранее составленному плану. Папа не подчеркивал важные моменты, не играл на публику, но собравшиеся были наэлектризованы и еще до того, как лекции закончились, уже стали частью легенды округа: Вы не поверите, но однажды в Фахе…
Хоть я смогла прийти только четыре раза, а после лекций складывала стулья, помогая смотрителю Колму — «По восемь, один на другой, не больше и не меньше», — я понимала, что в будущем кто-нибудь застенчиво посмотрит на меня, вспоминая случившееся чудо и почти незаметно откидывая голову назад, и скажет:
— А знаешь, я ведь был на Йейтсе.
Чем больше вы надеетесь, тем больше страдаете. Лучшие из нас надеются сильнее всего. Такое уж у Бога чувство юмора. В то время я надеялась, что люди, видящие душу ближнего своего, собираются приехать в Клэр. Они надевают свои Необычайные Очки, фиксируют координаты и отправляются с Рассел-Сквер в Лондоне. Поскольку, как сказал Отец Типп, в моем воображении есть религиозный выверт — который может на самом деле быть неразрешимой проблемой, — я их наделила немой мистической силой Волхвов и мечтала об их прибытии, если и не на верблюдах, то, конечно, с изумлением в глазах.
Ночью я молилась одной молитвой: Завтра.
Завтра да приидет слово.
Я молилась Богу, нашла Бога неудовлетворительным, потому что у Него не было лица, и начала молиться Энею. В этом была логика Суейнов. Лежа ночью под окном в крыше, я представляла, как возносятся молитвы целого мира. (СБ[671], что существуют часовые пояса, иначе все молитвы направлялись бы примерно в одно и то же время, и Молитвенной Диспетчерской Службе Воздушного Движения пришлось бы… Извините, увлеклась.) Я представляла, как они поднимаются над крышами, как возносятся, преодолевая сопротивление дождя, их миллионы, неясных и подробных, ночное одностороннее движение человеческих желаний, и я думала, что, конечно, все они не могли быть услышаны. Но неужели они стали просто шумом? Как может Он слушать все это? Да в одной только Фахе были МакКарти, у которых Бабушку отвезли в Районную больницу; миссис Рейд, чей Томми перенес операцию на открытом сердце; Морин Ноулз, у которой проблемы с кишечником; мистер Керрэн, Шон Сагру, Пэт Кроу, — они все были в Голуэе, и их Состояние Было Неопределенным; Патрисия, мать Долана, — она только что начала проходить курс химиотерапии в Бонсе. И это только те, о ком я слышала. Итак, поскольку Эней был той частью меня, которая уже оказалась в следующей жизни, поскольку он был светловолосым, голубоглазым и вообще восхитительным, я решила, что он мог быть нашим Посланником. Он мог нести наше слово, и потому ему я молилась.
Давай же, Эней.
Но Эней был где-то в другом месте, и через четыре месяца ожидания Мама велела мне написать письмо с запросом.
— Мы хотим, чтобы было вежливо, но твердо, — сказала она. — Возможно, им нужен небольшой толчок. Мы хотим знать, заинтересованы они или нам лучше предложить книгу другим.
Я аккуратно написала письмо на голубой почтовой бумаге. «…или нам лучше предложить книгу другим». Мама подписала его, но когда поместила в конверт, клапан не приклеился. Мы никогда не посылали писем. Конверту было, вероятно, лет десять. Она положила его под роман Томаса Харди «Возвращение на родину». Но клапан все равно не приклеился.
Иногда надо игнорировать знаки.
— Пойди к Макам и спроси, есть ли у них конверт.
Мойра Мак делала то, что всегда делала в этой жизни, — стирала одежду. Пустых конвертов у нее не было, и она дала мне карточку Святого причастия в белом конверте. Я принесла его домой, прикрывая полой кардигана, села за кухонный стол и написала адрес.
— Произнеси молитву, — сказала Мама.
Чем больше вы надеетесь, тем больше страдаете.
Вы опускаете письмо в конверте от карточки Святого причастия в почтовый ящик и уже ждете ответа. Люди созданы для отклика. Но человеческая природа не может мириться со слишком долгим ожиданием. Между эмоцией и откликом падает тень, сказал Т. С. Элиот, и это было тем принципом, какой вдохновил людей отправлять эсэмэски, что может быть исполнено за кратчайшее время, так же быстро, как Шейла Гири может отстучать двумя большими пальцами ILY[672] на крошечной клавиатуре и получить от Джонни Джонстона в ответ ILY2[673], так что между эмоцией и откликом теперь нету такой уж большой тени.
Все писатели ждут отклика. Вот что я узнала. Возможно, все люди тоже.
После лекций, посвященных Йейтсу, мой отец возвратился к творчеству. Он был обновлен. Безотлагательность вспыхнула в нем белым электрическим светом. Впервые он нарушил собственное правило, что творить можно только после того, как сделана работа на ферме, и теперь он был за своим столом, когда я просыпалась, и опять был там, когда я возвращалась домой, и снова был там, когда вечером я отправилась не-спать. Это был потоп новой работы. Она вливалась в Папу и изливалась из него быстро, как стремительная бурная река. Карандаш теперь мчался по бумаге, стачивался до на удивление короткого огрызка. Когда линии становились нечеткими, волнистыми, будто были под водой, Папа быстро чинил карандаш, с тихим звуком фуу-фуу сдувал стружки, и сочинительство мчалось дальше.
— Папа!
За рокотом он не мог слышать меня.
— Папа, Мама говорит, ужин готов.
Я никогда ни у кого не видела, чтобы карандаш летал по бумаге быстрее.
— Папа!
Я прервала рокот. Папа затих и наконец-то отстранился от стихотворения, все еще держа в руке карандаш. У меня появилось ощущение, что его выключили из розетки, и для Папы это оказалось и трудно, и немного печально.
— Да? — произнес он. И опять: — Да, — будто вспоминая о существовании меня, Мамы и ужина.
Папа ел мало, и чтобы исправить это, Мама прибегала к разным хитростям, например, готовила его любимую еду, — лосося, конечно, с маслом, сладкой морковью, горохом и картофелем, объясняя мне, что чистая тарелка была лучшей благодарностью. Или Мама говорила, что испортила ужин и ей очень жаль, что получилось несъедобно, — и это только чтобы заставить Папу чувствовать: «Я должен попробовать это ради Мэри».
К концу недели Мама решила, что тарелку лучше держать в духовке. Папа спустится, когда будет готов. Мы не должны его беспокоить. У Мамы есть природный такт, в основе которого лежит мудрость.
Много тарелок с обугленной едой было вынуто из духовки, и я не услышала ни единой Маминой жалобы.
Мы все еще ждали ответа из Лондона, но теперь это не казалось жизненно важным. Я решила, что Эней кое-что сделал — смог пустить стихи в ход, и теперь они приходили так, как казалось невозможным с человеческой точки зрения. Мой отец не боролся с ними. Я это знала, хотя у меня ни разу не получилось прочитать их. Я это знала, когда говорила «Доброй ночи», стоя сзади него; когда ждала, что он поцелует меня в лоб; когда смотрела на него, а он рокотал и раскачивался на стуле, и карандаш мелькал по странице. Я знала, что теперь все изменилось, что они были делом всей его жизни. Он по-прежнему вычеркивал, писал строку и переписывал ее, декламируя по-своему, так, что звук и ритм присутствовали, но слова разобрать было нельзя. И по-прежнему быстро он переворачивал страницу и начинал писать на чистой.
Но теперь в этом была радость.
Как я уже говорила, я прочитала все книги о поэзии, какие смогла найти — как это делается, и почему так делается, и почему мужчины и женщины пишут стихи. Я прочитала «О Поэзии и Поэтах» Т. С. Элиота (Книга 3012, Фабер и Фабер, Лондон), «Стихи о безумии Джона Клэра»[674] (Книга 3013, ред. Джеффри Григсон[675], Раутледж и Кеган Пол, Лондон), «Роберт Лоуэлл: Биография» (Книга 3014, Ян Гамильтон, Фабер и Фабер, Лондон), «Безумие — Цена Поэзии» Джереми Рида[676] (Книга 3015, Питер Оуэн, Лондон), и основной посыл — поэты отличаются от вас и меня. Поэты не убегают в другие миры, они углубляются в мир сей. Но этому есть цена, потому что глубины ужасают.
Ценой сначала была худоба. Мой отец забыл про еду. В другой биографии именно здесь он мог бы пристраститься к спиртному. Здесь мог бы рассмотреть возможность прибегнуть к методу Джонни Мастерса, который начинал пить в начале дня, чтобы к вечеру мир стал приемлемым. Но на свадьбе Пэдди Брогэна мой отец выпил стакан виски и вскоре начал думать, что люди были деревьями. Тогда-то он и понял, что выпивка унесет его куда-то далеко в сторону, а вовсе не приблизит к тем вещам, какие хотел уловить.
Он исхудал. Его руки стали длиннее. В открытом воротнике его белой рубашки были веревки и шнуры сухожилий на его шее. Его плечи стали острыми и делали из рубашки парус.
Я не хочу сказать, что он игнорировал нас. Конечно, он такого не хотел, и были такие моменты, когда он останавливался в кухне, будто обнаружив бабочку на тыльной стороне руки, и смотрел на меня так, как никто никогда не смотрел. Таким взглядом он будто передавал мне немного того, что видел, и под тем взглядом я начинала себя чувствовать, ну, я не знаю, преображенной.
— Эй, Рути.
Он заключил меня в объятия. Я прижалась к его рубашке, на миг замерла и в те мгновения простила то, что, как я еще не знала, будет нуждаться в прощении.
Бывали и другие случаи. Например, когда его непредсказуемость заставила его взять за руки меня и Маму, отвести нас в сад, где дождь — его и дождем-то не назовешь — падал едва слышно, и сказать:
— Я сделаю так, что наша жизнь станет лучше.
И Мама ответила:
— У нас все хорошо, Вергилий, все хорошо.
Или когда он наверху испустил рев, спустился и оглушительно хлопнул в ладоши. Один хлопок — хлоп! Потом другой, громче, — ХЛОП! — так что даже Бабушка взглянула, а я спросила:
— Ты закончил?
И Папа улыбнулся, и глаза его засияли так, как глаза сияют только в любовных романах, и он покачал головой, и он рассмеялся. Ему пришлось поймать смех рукой, и затем он коснулся моей макушки.
— Я сделаю так, что наша жизнь станет лучше, Рути, — сказал он мне, поднялся по лестнице и скоро опять рокотал.
Так у нас в доме появился источник энергии, динамо-машина — но вырабатывала она не электричество, а страницы и страницы стихов. Неделя прошла, и еще одна, и еще. Папа сочинял, и сочинительство, казалось, не было мучительно тяжелым трудом, каким оно показалось мне, когда я пыталась сочинить обещанное стихотворение. Папа переживал невероятный подъем, головокружительный успех, стремительный и удивительный. Папе будто что-то придавало сил, давало ощущение всемогущества, слепого безумного порыва, который не был ни прямолинейным, ни логичным, ни даже разумным, но был наполнен неуемной жизнью. Это было то творчество, какое имел в виду Габриэль Гарсия Маркес, когда сказал, что чистое удовольствие от творчества может быть состоянием, больше всего напоминающим левитацию.
И наш дом тоже поднялся.
Как же он мог не подняться? На некоторое время он отбросил обычный мир. У меня даже появилось неопределенное ощущение, что, как говорили в новостях, страна на самом деле тонет. Греция уже утонула. Испания еще тонула, Португалия тоже. Целые куски Европы возвращались к морской водоросли. Наша страна была на нежном крючке, как говорит Маргарет Кроу, и мы надеялись, что у нас будет Мягкая Посадка. Мы это сделаем, заявили Министры непосредственно перед тем, как у нас не получилось. На самом же деле я ничего не заметила. Экономика, как и прекрасная погода, была чем-то таким, что было в Дублине. Честно, пока поляки не уехали, я не знала, что они у нас были. Постепенно начали появляться пакеты «Лидл» и «Альди»[677] (миссис Прендергаст называет их Ли-делл и Алл-Ди), а круассаны исчезали. Магазины закрывались. В баре Райана Томми МакКарролл сказал, что положил свои деньги в Абсолютно Идиотский Банк и теперь чувствовал себя абсолютным идиотом. У Фрэнси Артура Банкноты достоинством пятьдесят евро начали пахнуть, как матрац, затем Магуайры уехали класть плитки в Австралии, Пэт, Шеймас и Шон Уолш — копать ямы в Канаде, Мона Мерфи продавала свою мебель в своем садике перед домом, и Джонни Дойл в «Аукционистах Дойла» был похож на Юного Блейта[678] в «Нашем Общем друге», который, чтобы создать впечатление своим прилежанием, проводил дни, заполняя журнал записи деловых встреч вымышленными именами — мистеры Аггз, Баггз, Каггз и да, дайте-ка вспомнить, точно в два часа, мистер Даггз[679].
Но я не знала об этом, не знала, что страна двигалась к такому времени, когда только повествование будет поддерживать ее. Наш дом был домом в сказке, но не знал, что это сказка про королевство разочарования. Возможно, если у любого дома убрать передние стены, поднять крышу и увидеть реальную жизнь в нем, те его части, которые не находятся, никогда не были и никогда не будут В Рецессии, те его части, которые являются людьми, пытающимися жить, и добиться большего успеха, и быть лучше, — возможно, тогда каждый дом покажется волшебным. В нашем же доме волшебство было раскалено добела. Мой отец был в огне. Мы знали, что это не было нормально, но «нормальное» Суейны никогда не рассматривали. Каждый человек приноравливается к своему собственному повествованию. Таков мир. В нашем шел дождь, и под самой крышей мой отец не ложился спать, творя стихи. Дождь был большой частью этого. В оставшейся без обложки подержанной книге «Сила и слава»[680] (Книга 1113, Пингвин Классикс, Лондон), которая принадлежала когда-то Айсобел О’Ди, Монастырь Урсулинок, Терлс[681], Грэм Грин говорит, что дождь был похож на занавес, позади которого может произойти почти все, что угодно. И это так. Но если вы не жили в том доме, если день за днем не всматривались в те бледные завесы, не слышали постоянного шепота дождя, который, как вы знаете, не может быть голосами, не может быть душами, пропитанными влагой и призывающими, то вы не сможете понять почти ничего из того, что может произойти.
Мой отец был преисполнен рвения. Это слово — рвение — я никогда не использовала, потому что оно звучит как-то неуместно в обычной жизни. Но так оно и было. Это то, к чему сводится качество мультипликации и фокусировки. И рвение было тем белым огнем, появляющимся и исчезающим на нашей лестнице, рвение было в самых синих на свете глазах и белой рубашке навыпуск, и рвение проводило руками взад и вперед по макушке, и было белым огнем.
Так что некоторым образом не было ничего удивительного в том, что меня разбудил запах дыма.
Огонь горел у меня в глазах, и, включив свет, я различила густое серое облако, поднимавшееся из того огня и распространявшееся под потолком. Я не могла двинуться. Я смотрела на него со своей подушки, пребывая в совершенной неподвижности, — так, возможно, я смотрела бы на Санту, или на Зубную фею, или на Бога, если бы застала кого-нибудь из них врасплох в то время, когда должна была спать. Мне было любопытно, как будет двигаться дым, и под этим я подразумеваю, что и сам он был любопытным — повисел под потолком, рассматривая холодное темное стекло окна в крыше, и скрутился, чтобы отправиться вниз, в комнату. Я вжалась в кровать, дыша в подушку. Я не знала, останется ли дым со мной или пройдет дальше и выйдет под дверь. Я не знала, умерла ли я и, как обещано, уже в Чистилище, только в собственной пижаме.
Больше никто не двигался. Из дома не доносилось ни звука. Значит, огонь был сном, — но только пока я не начала задыхаться.
Дым спустился, вошел в мое горло, застрял в нем и начал жечь, скрыл стены, потолок и окно в крыше. Очертания стали бледными, бесформенными, и вот уже нет никакой комнаты. Есть только дым. В глазах я ощутила острую боль, крепко зажмурилась и натянула на голову пуховое одеяло, удивляясь тому, что должна умереть под ним, а не в реке, как мой брат.
— Эней, — прошептала я, — Эней.
Но Эней не ответил. Дым не спешил. Он дал мне время подумать «Здесь мне будет хорошо», а сам медленно, как и положено дыму, начал пожирать комнату. Он нашел открытые ящики моего комода, нашел мою одежду, нашел мои музыкальные записи, мою коробочку с заколками и щетку для волос. На мгновение я представила, что пол и стены исчезли, и крыша тоже, и моя кровать стоит одна в пламенеющем небе, окруженная огнем. На мгновение я подумала о левитации, о том, что посредством дыма меня вызвали на небо, и вот я уже там, и скоро я услышу голос Преподобного.
И наступил тот прекрасный момент, когда страх исчез. Я была мертва.
И сдвинула пуховое одеяло ниже на дюйм, чтобы лучше слышать Его.
Но дым, который был везде, вошел в меня, и я услышала только собственный вздох, хрип и кашель. Я потянула пуховое одеяло, но оно не сдвинулось с места, и встала с кровати, но только в своем воображении. Я чувствовала, как прошла сквозь дым, выбежала из двери, звала «Папа! Папа!» и разбудила весь дом прежде, чем огонь взял нас всех, — но я отключилась и слишком поздно обнаружила различие между сном, бредом и смертью.
А теперь резкая смена кадра: меня несут вниз по лестнице; руки моего отца; наш дом неузнаваем из-за дыма; в зеркале скачут языки пламени; Бабушка и Мама в ночных рубашках стоят в садике перед домом; «О, Рути!»; Гек лежит на траве и скулит; автомобили и тракторы с включенными фарами; Джимми Мак и Мойра Мак с одеялами; шланг, ведра, беготня; голоса.
Поскольку мы рядом с рекой, поскольку было так сыро, что все пропиталось водой, и дождь полностью владел нашими душами и телами, наш дом не сгорел дотла. А всего лишь тлел.
Причиной огня не была ни Пятидесятница[682], ни рвение. Причина была мирской — пламя занялось из-за дымовой трубы. Огонь проник через старую каменную кладку и в конце концов нашел себе пищу в древних деревянных балках под крышей, но встретил сопротивление со стороны мокрого шифера крыши. Прежде чем пожарная команда из Килраша добралась к нам, огонь успел погаснуть, но раз уж пожарные прибыли, то тщательно залили внутренности дома. Вода даже поднялась по дымовой трубе, капала со стропил. Упрямые черные лужи обосновались на каменных плитах пола, на полках, в чайных чашках, блюдцах и стаканах, на сиденьях наших кожаных кресел и под линолеумом в ванной. Последняя лужа оставалась неделю и высохла только после того, как стало совершенно ясно — с этого времени наш дом будет безнадежно испорчен и покрыт пятнами, а запах огня и воды сохранится на веки веков.
Мама, Бабушка и я пошли к Макам. Мальчики — их было трое — отдали мне свою комнату. Наверное, я все еще была в шоке, все еще не была уверена, что спасена. Я лежала в постели, теплой и продавленной семейством МакИнерни, и в надцатый раз пыталась постичь, почему именно Суейны были избраны для бедствия.
Глава 5
Было бы легче, если бы нас поразила молния. Это имело бы своего рода смысл, позволило бы людям, обладающим особым умом, обрести в древесном угле положительный момент, поскольку таким способом мы были избраны. Было бы легче, если бы я написала «Мой отец возгорелся». Или «Стихотворения взорвались». Или «То, что было у отца в сердце, дошло до точки воспламенения».
Но я знаю, что на самом деле произошло. Я знаю, что это не могло быть простой случайностью.
Мы хотим, чтобы у мира был сюжет.
Огонь в дымовой трубе — это не сюжет.
То, что мой брат случайно утонул, это горестное событие, но разговоры о нем не прольют на него свет и не придадут ему смысл.
Случилось то, что случилось. События последовательны только в том смысле, что они следуют одно за другим. И когда они так следуют — я твердо знаю это, — мы становимся повествованием. Я знаю, что наша семья ждет своего повествователя. Но в чем же смысл?
В течение десяти дней Мама, Бабушка и я оставались у МакИнерни, а мой отец работал, восстанавливая дом. Фаха хороша в кризисе. Ему помогали все, но главным образом Джимми Мак и Мейджор, которые отложили свои обычные дела, вынесли наружу то, что было внутри нашего дома, сложили все в сенной амбар и к вечеру накрыли серым полотном.
Через неделю я вернулась к учебе и на некоторое время добавила к своей ауре великолепие разрушительного пожара. Я не спекулировала на этом. На занятиях такой нимб несуразен. Но все равно у меня были тошнота, головокружение и плавающие крючки в глазах, и я боялась запаха гари.
И однажды, когда день был влажным, равнодушным и ничего не обещавшим, как и любой другой, когда не было даже намека на то, что настал «Тот самый день», я вошла в дом Маков и спросила Маму, как идут дела с нашим домом.
— Хорошо идут, — ответила она, — скоро мы будем дома, Рути.
Не поверив, я решила увидеть все своими глазами.
В доме моего отца не было. Парадные и задние двери открыты. Мне хочется рассказать, что играла музыка. Мне хочется рассказать, что работал кассетный магнитофон и звучал Моцарт. Я люблю слушать, как он взрывается, великий, радостный и торжествующий. Я люблю, когда весь дом заполнен музыкой… Но никакой музыки нет, я еще не готова так далеко углубиться в повествование. Дом пуст, полы и все влажные поверхности покрыты газетами «Клэр Чемпион», и потому казалось, что здесь все место отведено для слов. Я вышла через заднюю дверь и вокруг гумна направилась к стенке на лугу у реки.
Мой отец совершенно неподвижно стоял возле того места, где утонул Эней. Гек сидел рядом.
— Папа!
Пришлось окликнуть его еще раз. Лишь тогда он повернулся, и на его лице появилась мягкая улыбка со складочками по сторонам рта, но глаза были самыми печальными, какие я когда-либо видела.
— Эй, папа. Здравствуй.
Возможно, у всех нас есть мгновенное предвидение, которое, хоть и редко случается, запечатывает наши сердца как раз настолько, чтобы они могли вынести то, что вот-вот произойдет. Я повернулась к реке и увидела страницы, которые я сначала приняла за белые барашки волн, ведь стекла моих очков были покрыты мелкими каплями мороси. Страницы были уже далеко, казались маленькими, и стремительный поток уносил их на запад. Я не сразу поняла, что те страницы были стихами, но заранее знала, каков будет ответ, когда спросила Папу, почему он так поступил.
— Они ни на что не годны, Рут.
Я промолчала. Лучшая Рут кинулась бы за ними, та Рут, которая не боится реки. Я же молча стояла и смотрела, как стихи исчезают. Кроме моих собственных мучений, я ощущала и Папины, ведь я знала, чего ему стоило бросить стихи в реку. И еще знала, что Авраам и Преподобный были тут, рядом с нами. Папа думал, что провалил экзамен на Невозможный Стандарт и все, что делал, завершалось неудачей. Он потерял сына в реке, а позже едва не потерял всех нас в огне, потому что даже не заметил распространения пожара, — настолько был занят сочинением стихотворения, которое теперь счел ни на что не годным.
Мне кажется, я уже знала, что из Лондона придет письмо, что Мама вскроет конверт в углу Почтового Отделения Фахи, что я буду смотреть, как она читает, что услышу быстрый вдох вздох, возьму у нее из рук письмо и прочитаю: «Дорогая миссис Суейн, мы благодарим Вас за ваше письмо. К сожалению, вынуждены сообщить Вам, что у нас нет сведений о том, что мы когда-либо получали „Историю Дождя“».
Мы вернулись в наш дом. Мой отец был тихим, каким бывает человек, когда в душе у него пепел.
По-своему колоритный Отец Типп принес комплект Йейтса, оставленный кузеном из Типперери, не знавшим вкусов нашего священника. Там были книги в твердом переплете — «Мифология», «Автобиографии», «Эссе и Исследования» и «Избранные Стихотворения» (Книги 3330, 3331, 3332 и 3333, Макмиллан, Лондон). Как я позже обнаружила, они были крайне необходимы моему отцу, и каждая из них, казалось, подсказывала Папе что-то особенное, потому что, хотя они попутешествовали едва ли не по всему миру, на их внутренних форзацах зеленели печати «Библиотека Солсбери, Уилтшир».
— Для них нужен более тонкий ум, чем мой, — сказал священник.
Стоило моему отцу взять книги в руки, как его подбородок задрожал, и чтобы помешать слезам потечь потоком, пришлось поднять лицо к потолку. Никакие слова не могли бы выразить величие момента.
— Спасибо, Отец, — только и смог сказать Папа.
Если бы у него могли вырасти крылья, то сейчас для них было бы самое время. Теперь он целыми днями сидел в комнате Энея под самым небом, читал Йейтса и возносился.
На третий день я пришла домой после занятий, вошла в кухню и крикнула «Привет, я дома!». Папа не ответил. Я поднялась по Капитанскому Трапу сквозь запахи дождя и пожара.
— Папа, я…
И больше я ничего не сказала, потому что прямо передо мной, за столом, под окном в крыше, в бледном свете дождя мой отец был мертв.
Глава 6
Переведем тебя вниз.
Так сказали медсестры. Завтра, Рут, мы переведем тебя вниз.
Миссис Мерримен перевели вниз, и к нам наверх она не вернулась. У меня есть мистер МакКи, так что я В Хороших Руках. Мне не нужны ни подробности, ни медицинские термины. Мне не нужны ни венозный доступ, ни Интерфероновая терапия, ни ацетаминофен, ни мышьяка триоксид, ни полностью транс-ретиноевая кислота. Я не хочу видеть их на моих страницах. Я хочу, чтобы они, как первая книга Шекспира, изданная в формате ин-фолио, послужили Великому Разнообразию Читателей от Самого Способного до Такого, Который Может Читать Только По Слогам. (Вы саме знаити, кокой вы четатиль.) Я не хочу, чтобы мою книгу задушила наука. Я хочу, чтобы моя книга дышала, потому что книги — живые существа, у них есть корешки-позвоночники, и запахи, и продолжительность жизни, и по мере того, как идет их жизнь, у них появляются шрамы, морщины и пятна.
Миссис Куинти приехала в Дублин. Когда я уезжала, то попросила ее не делать этого и объяснила, что в этом нет никакой необходимости, и если она верит, что болезнь встречается на каждом шагу, то в последнюю очередь надо посетить больницу. Но эту женщину, хоть она и мала ростом, удержать нельзя. Она вошла в палату, как маленькая толстая птица, в застегнутом пальто, с синей сумочкой в руках и туже обычного уложенными волосами. Мама обняла ее, и миссис Куинти запротестовала: «Не надо, я насквозь промокла», посмотрела на меня, прижала руку к середине груди, туда, где кость, и похлопала так, будто закрывала крышкой то, что было открыто.
— Дорогая Рут, — сказала она и, придя в себя, добавила: — Боже мой. Разве здесь не знают, как надо взбивать подушки?
Миссис Куинти принесла округ с собой. Она принесла карточки и пожелания всего наилучшего, новости о свечах и молитвах и затем, не желая обременять свой визит беспокойством, подробно изложила новости: Дэнни Девлин вытащил свой туалет и выбросил его в садик перед своим домом, чтобы не платить налог на туалет, и сказал, что собьет свою дымовую трубу, если введут налог на дымоходы, и заложит кирпичом окна, прежде чем придут взимать налог на дневной свет. (В стране, понимающей силу художественных образов, память о наших банкирах, как сказала миссис Куинти, должна быть вечно сохраняема в септиках.) Кевин Кеог, хотя у него было почти столько же любви к Мартине Морган, как у маленького ослика, наконец сдался и женился на ней. Правительство, считая себя настроенным на пульс страны, предложило упразднить Сенат, поскольку Сенат, как сказал Мики Люси, собрался упразднить правительство. Шон Коннорс написал из Мельбурна своему отцу, что скучает по времени, проведенном с ним за заготовлением силоса, а Мэтт Коннорс в немом отчаянии завладел этим письмом, поместил его в конверт с прокладкой из пузырьковой пленки и принес Майне Прендергаст, чтобы она отправила это письмо, потому что силос для Коннорсов был тем же, чем запах угольного дыма был для Чарльза Диккенса и гуавы — для Габриэля Гарсиа Маркеса, то есть незабываемым образом дома.
Каждый рай потерянный. Совет, сказала миссис Куинти, испустил дух. Дороги исчезают. Ветряные мельницы появляются. В призрачном поместье, с отвращением от невыполненных обещаний, два латыша построили искусственный рай из наркотиков и алкоголя, да еще и подняли флаг Германии.
Река продолжает подниматься. В Шанноне уже забрала кладбище, оставив вертикально стоящие надгробные плиты, потом подошла по Черч-Стрит к церкви, и Мэри Дэли — она стояла на коленях, молясь, как у Т. С. Элиота, смуглому Богу, — пришлось вывозить на лодке, когда она начала возноситься — или тонуть, разные люди рассказывали по-разному. Наш дом, обитель слишком многих метафор, сам стал метафорическим и нуждался в спасении. Этим занимались МакИнерни.
— Ты все равно услышишь это от других, так что я могу сказать тебе сейчас, — добавила миссис Куинти, поджала губы и села чуть более вертикально, чтобы торжественно объявить: — Мистер Куинти вернулся. — По тону, каким она это сказала, было понятно, что она все еще решает, что с ним сделать. Мы с Мамой не смотрели на нее. — Язва желудка, — с плохо скрываемым удовлетворением пояснила миссис Куинти и больше ничего не сказала.
Миссис Куинти единственная из ныне живущих прочитала «Историю Дождя». Когда стихи были отправлены в Лондон, я попросила ее вспомнить это стихотворение, но она не смогла, ведь из-за спешки и необходимости оставаться необнаруженной ее внимание было поглощено процессом печатания, а не стихами. Она потрогала свои губы, затем положила руку перед собой, будто слова уже были в пути, будто пузырь речи уже формировался, но… Нет, сказала она, она не поступит с моим отцом несправедливо и ничего не скажет мне, потому что не хочет произносить строку, которую не может точно вспомнить.
В белой книге в мягкой обложке «Избранные Стихотворения» Йейтса рядом с «Песней Скитающегося Энгуса» я прочитала две строчки, которые написал мой отец. «Почему Ты взял его?» И «Почему все, что я делаю, кончается неудачей?». Из этих вопросов я поняла, что Вергилий Суейн применил Невозможный Стандарт к Богу.
Не могу сказать, что у моего отца была вера в Бога. Правда в том, что у него было что-то более личное, было ощущение Его, Отца Дождя. Стихи, восторг и отчаяние, о которых я начала думать как о части диалога, были выражением удивления и замешательства, стремления к вознесению и попыткой внести дух надежды в мир сей. Так в моем уме день за днем стихи становились все более величественными, потому что в реальности уже не существовали.
Это было той правдой, за которую я цеплялась, когда пришел отчет о его смерти и нам сказали, что у моего отца была изогнутая, как крюк, опухоль в теменной доле головного мозга. Опухоль была вросшей и развивалась в течение некоторого времени, сказал Доктор. По тону, каким он сказал это, я поняла, — он думал, что она была причиной восторгов и экстазов, в которых рождались стихи. Опухоль объяснила все. Опухоль сама была целым повествованием. И прямо тогда я поняла — это повествование было неправильным, и я должна написать правильное.
Винсент Каннингем необыкновенно замечательный.
Кто еще может сесть в автобус, идущий из Фахи в Эннис — тот грязный, вонючий, грохочущий драндулет Денниса Дармоди, обладающего внешностью и характером штопора, ведущего автобус, как камикадзе, проходя повороты со Слепой Верой? Кто еще может сесть в тот автобус, а затем стоять в ожидании автобуса из Энниса в Дублин, все пассажиры которого — пенсионеры с правом бесплатного проезда, которые ездят туда и обратно не потому, что у них есть дела в Дублине, а потому, что у них есть право бесплатного проезда и маленькие пенсии? Кто еще покупает билет суточного действия, хотя поездка занимает четыре часа в одну сторону, когда у него нет и десяти евро за душой, когда он должен готовиться к экзаменам, а полстраны уже под водой? Кто еще приносит «Quality Street»?
Винсент Каннингем появляется, хлюпая по коридору больницы промокшими кроссовками, и останавливается у двери в палату как в воду опущенный. Если бы я сказала «Уходи», он бы ушел. Опять сел бы в автобус и — это уму непостижимо, но на самом деле так и есть, — даже не обиделся бы на меня.
— Миссис Куинти говорит, что я не умру.
Не лучшее приветствие, но времени мало. Это моя последняя тетрадь Эшлинг. Перед обследованием я не должна есть и к тому же волнуюсь, говорю бессвязно, и мой стиль уже начал распадаться.
Винсент Каннингем сидит возле моей кровати. Мама и миссис Куинти ушли вниз. Через проход от меня лежит Джеки Феннелл. Она смотрит на Винсента, подняв идеально изогнутые и идеально же выщипанные брови, и в далекой от изысканности манере кивает мне.
— Конечно, ты не умрешь, — подтверждает Винсент.
— Я не могу умереть потому, что, как говорит миссис Куинти, в моем литературном творчестве так много жизни.
Я не могу умереть еще и потому, что, как говорит Элис Манро[683], вся скорбь жизни не должна доводить до изнеможения художественную литературу. В вашем повествовании не может быть так много горя — иначе читатель швырнет книгу в стену.
— Ты не умрешь, — повторяет Винсент, но между бровями у него появляется глубокая борозда, и я понимаю, что это просто слова.
— Но вдруг я умру.
— Ты не умрешь.
— Винсент Каннингем.
Он проглатывает возражение. Он всегда и радуется, и смущается, когда я называю его по имени и фамилии.
— Да?
— Если я умру, две вещи.
— Две вещи.
— Во-первых, ты помнишь, что надо сделать со всеми моими страницами? — Я уже говорила, что у него самые добрые на свете глаза? Он побрился перед поездкой пластиковой синей бритвой «Джиллет», и его щеки гладкие, будто отполированные. Действительно, все, что есть у него, наполнено сиянием. — Помнишь?
— Да.
— Хорошо.
— А что во-вторых?
— Во-вторых на самом деле и есть во-первых. Во-вторых, поцелуй меня.
Должно быть, я воспарила. Ну, у меня было ощущение, что воспарила.
— Если уж мне и суждено умереть… — сказала я, — знаешь, не думаю, что мне суждено умереть до того, как ты меня поцелуешь.
Только посредством повествования мы можем смириться со смертью.
Как еще мы можем простить Бога?
Я попросила отца написать мне стихотворение. Он так этого и не сделал. Но оставил засвидетельствованное Джоном Полом Юстасом рукописное завещание и в нем привел подробности страхования своей жизни, за которое платил, и еще в завещании было: «Оставляю Рут мои книги».
Только это. «Оставляю Рут мои книги».
В тот день, когда я смогла заставить себя пойти и посмотреть на них — на Папину библиотеку, на обгоревшие и залитые водой, но неуничтоженные тома, — я увидела на его столе книгу «Лосось в Ирландии» и сложенный листок, исписанный Папиным почерком, между ее страниц. И на самом верху листка — «Рут Луизе Суейн». И ниже слова и фразы, строки под разными углами, некоторые подчеркнуты, некоторые написаны поверх прежних, и еще были строки перечеркнутые, — как видно, Папа пытался собрать разбросанное.
Вот: Мой отец поднялся в небо.
Вот: вознесся с гаревой дорожки.
Вознесение по-лососьи вымарано, написано снова и опять перечеркнуто.
Взмывать/Возвышаться.
Прыгнуть прыгнуть через
Справа в нарисованном карандашом круге: Томми окей. Ниже него: Морроу, Икретт, Читли и Пол.
Прыгнуть
В маленьком прямоугольнике: «Мы идем ловить рыбу».
Вот: Рыбы/Мушка
И через пробел: Вода/Небо
Когда-либо свет, который соблазняет и уклоняется/когда-либо
Слева плавно изогнутый вопросительный знак, который мог быть леской, но на самом деле изгиб реки.
Прыгнуть
Только в любви свет возносящийся /
И, наконец, едва видимым свинцово-серым цветом Папина рука твердо вдавила слова в страницу: «Я сделаю так, что наша жизнь станет лучше».
И это все. Во фрагментах, оставленных мне, его невозможное стихотворение.
Итак, своим особым способом Папа сдержал обещание.
И вот моим особым способом я сдержу мое.
Если я умру, то пусть мои страницы вместе с Папиной будут вложены в книгу «Лосось в Ирландии», и пусть Винсент Каннингем принесет их к реке Шаннон и бросит в ее воду.
Если я буду жить, то эти строки — моя книга, и мой отец живет теперь в загробном мире, который и есть книга, вещь не неопределенная и не виртуальная, но нечто такое, что вы можете взять в руки, осязать и ощутить запах, потому что, на мой взгляд, Небеса, как и жизнь, должны быть воспринимаемы чувствами, должны быть реальными. И моя книга будет рекой, и Лосось, буквальный и метафорический, будет в ней выпрыгивать из воды, и та книга будет названа «История Дождя», и да будет так, что Папина книга не погибла и не погибнет, и вы будете знать, что моя книга существует благодаря Папе, благодаря его книгам и его стремлению прыгнуть вверх, подняться. Вы будете знать, что я нашла Папу в его книгах, в обложках, — их касались его руки, в страницах, — их они переворачивали, в бумаге и шрифте, но еще и в мирах, которые были в тех книгах, — я побывала там, и вы тоже там побывали. Вы будете знать, что повествование идет от прошлого к настоящему, устремляется в будущее и течет, подобно реке.
Поскольку вот что я знаю: дождь становится рекой, которая идет к морю и становится дождем, который становится рекой. Каждая книга есть сумма всех других, какие прочитал писатель. Чарльз Диккенс был писателем, потому что у его отца была небольшая библиотека и потому что одиночество не было безлюдным, ведь в нем были Робинзон Крузо и Дон Кихот. Любая книга, которую пишет писатель, заключает в себе все остальные, потому и существует и всегда будет существовать библиотека, подобная реке. Моя книга содержит в себе все книги, прочитанные моим отцом, и потому его душа всегда будет жива, и моя тоже. Существует тесное духовное общение между читателями и писателями, пусть оно и кажется невозможным, и хотя писатели пишут и терпят неудачу, опять пишут и опять терпят неудачу, одни лишь неудачи принимаются во внимание — они означают, что была попытка плыть против течения и совершить прыжок. Прыжок моего отца и мой невозможным способом переносят Папу на землю нашего луга, и Папа идет к сверкающей реке, и ему навстречу идет человек с развевающимися волосами и яркими, живыми глазами. РЛС приветствует Папу поднятой рукой и с радушным выражением и самым мягким акцентом произносит имя Вергилий. РЛС обладает согревающей улыбкой и остроумием, а наготове у него уже сто рассказов. Земля покрыта новой травой, воздух почти нежен, потому что в загробной жизни воздух существует и он так сладок, что когда мой отец вдыхает его, то не может поверить ни в это место, ни в это общество, — ведь и то, и другое стали лучше благодаря тому, что невозможны. Невозможны также яркость солнца, ртутный блеск и сияние Реки Шаннон. Невозможны птицы, столь многочисленные и столь радостные. Невозможно небо, становящееся теперь все более и более синим, и невозможны бабочки, появившиеся, пока эти мужчины идут вдоль берега реки. Невозможно, что теперь и РЛС рокочет, бормоча еще-не-строку еще-не-стихотворения. Невозможно, что мой отец делает то же самое, и что РЛС глядит на него сияющими темными глазами, и что в них есть такое одобрение и радость, что они оба теперь идут и рокочут, издают звук между птичьим и человечьим, потусторонний в чем-то одном, но естественный в другом. Невозможно еще и то, что мой отец смотрит вниз на берег и видит, что местность вокруг и изгиб реки стали знакомыми, и его дыхание учащается, а сердце начинает биться быстрее, потому что вот идет Дядя Ноели в своем хорошем костюме и выглядит лучше, чем когда-либо выглядел в жизни сей, и у него все-Ирландский вид победителя, и он машет рукой, потому что узнал Папу, и показывает назад вдоль берега, где мой отец видит светловолосого мальчика, и Папа должен сделать прыжок и поверить в невозможное прямо сейчас, потому что, хотя он моргает и трет ладонью лоб, мальчик не исчезает, и очертания Энея становятся все более ясными, но он не смотрит на Папу, но умиротворенно и терпеливо ловит рыбу в реке, текущей в загробной жизни. РЛС останавливается и обращается к Папе:
— Я же говорил! — РЛС произносит эти слова с самым мягким шотландским акцентом, одной рукой откидывает волосы с одной стороны и улыбается, и вся его манера вести себя исходит лучами света из крестика, отмечающего на карте место найденного сокровища. — Вот, смотри, твой сын.
И, хоть это и невозможно, мой отец видит, что так и есть. Эней поворачивается и тоже видит Папу, кладет удилище и бежит так, как бегал всегда, своим особым способом, который кажется естественным выражением человеческого изящества. Эней приближается к Папе, который бежит навстречу, обнимает сына и опускает голову в его золотистые волосы, и они держат друг друга в объятиях невозможно долго, долго, еще дольше, и в их объятии заключено все наше повествование, прошлое, настоящее и будущее, и мы знаем, что у Мамы все будет хорошо и, хотя ей будет одиноко и грустно, она утешится у свечей в церкви Фахи, где однажды будет сидеть с ясной и абсолютной уверенностью, что ее муж встретился с их сыном, и в том объятии есть еще и уверенность, что я наконец войду в Ремиссию, начну поправляться и вернусь домой; что, невозможно, я, Рут, напишу эту книгу; что миссис Куинти напечатает на машинке мои страницы; что вы прочитаете их; что Винсент Каннингем нанесет визит для разговора и немногих соленых поцелуев; и что однажды, невозможно, он поведет меня на прогулку в мой первый раз из парадной двери, и я пойду с ним на реку и не буду бояться ни воды, ни неба, не буду бояться неудачи или гибели, потому что каким-то образом я буду точно знать, что мы выпутаемся, и наше повествование о том, как выдерживать испытания и дерзать, и что достаточно не терять надежду и рассказывать повести друг другу и друг о друге, сотрудничая в тщательно разработанной нашей истории так, чтобы мы существовали в повествованиях, зная, что в наше время в мире сем вся наша победа заключена в том, что надо выносить испытания, но все равно это победа, и я, Рут Суейн, буду знать, что любовь настоящая, а прощение полное, потому что — это невообразимо, неправдоподобно, невозможно — дождь, наконец, прекратился.
Благодарности
Мой отец верил в образование в те времена, когда под образованием понимали книги. Два раза в месяц он водил нас в библиотеку, и у меня в памяти те посещения остаются среди самых заветных воспоминаний о том, как я взрослел. Кроме того, что я просматривал книги и брал их домой, одно лишь часовое пребывание в реальном обществе такого количества книг вдохновляло и волновало, что, возможно, сегодня трудно объяснить, но за что я всегда буду благодарен. Когда мой отец умер, в его завещании обнаружили просьбу оставить его книги мне. Среди них была книга «Лососевые реки Ирландии» Августа Гримбла[684].
Одна книга стимулирует другую. Всем читателям этого романа уже очевидно, в каком я большом долгу перед огромным числом писателей. Я в долгу и перед читателями, возможно, их количество меньше.
За те пять лет, что я работал над этой книгой, Кэролайн Мишель достигла невозможного стандарта и продолжала верить в него, когда он еще был невидим. Ее дружба и поддержка означали все. Моя благодарность также Анне Джин Хьюз, Рэйчел Миллз и всему литературному агентству «Питерс, Фрейзер и Данлоп».
Два года тому назад Майкл Фишвик, работающий в издательстве «Блумсбери», попросил меня прийти и рассказать о романе, над которым я в то время работал. Я писал его уже три года и потерял веру в него. Но я опять нашел ее, когда после беседы вышел на Бедфорд-Сквер. От всего сердца благодарю Майкла, Анну Симпсон, Оливера Холдена-Ри и редактора Сару-Джейн Фордер, Кэти Белден в Нью-Йорке и всех в «Блумсбери» за их самоотверженность, энтузиазм и за то, что они вообще оказались именно таким издателем, о каком Рут мечтала в Фахе.
Я благодарен моему брату Полу за его постоянную поддержку и веру в мое творчество, Деирдре Брин, Карло Джеблеру, Доналу Тинни, Аллену Флинну, Люси и Ларри Блэйкам, Полин и Мартину Хехирам и всем другим, кто предложил мне помощь и поддержку, членам Книжного Клуба в Килтампере, Мэри О’Лири, Мартину Кину, Марджори Линч, Дермоту Махони, Грейн Хеннеган, Шивон Фелан, Айсобель О’Ди, Мэри Кафф, Джеку Маннайону, Кармел Махони и Колетт Кин, которые многому научили меня, показав удовольствие от повествования, и возродили мою веру в рассказы.
Наконец, Дейрдра, и Джозеф, и Крис, «Вы — смысл и значение», как говорит Вергилий Суейн. Спасибо за все.