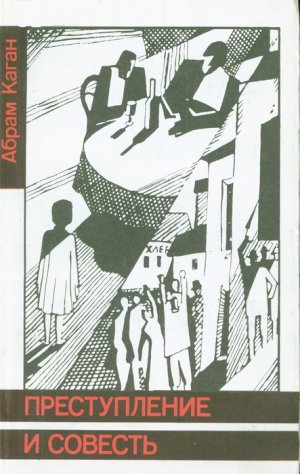
Пролог
Петербург. День 9 февраля 1911 года выдался морозным.
Яркое солнце сулило приближение весны. Но к вечеру усилился ветер и часам к семи, когда наступила темнота, достиг уже силы небывалой. Закрутила сильнейшая метель. Вмиг намело непроходимые сугробы. Улицы столицы Российской империи обезлюдели. Редкий прохожий оказывался во власти стихии. Наутро на окраинах города было найдено немало закоченевших трупов.
С 9 февраля в здании дворянского собрания, неподалеку от Невского проспекта, заседал седьмой съезд объединенного дворянства.
…Не любовь, а ненависть воспламеняла сердца этих дворян. Первые три дня заседания были посвящены вопросам просвещения, но вот уже с 12 февраля обстановка на съезде круто изменилась.
Четыре дня подряд дворяне обсуждали возможность искоренения всяческого революционного духа, всего передового в жизни Российской империи, того, что было достигнуто манифестом 17 октября 1905 года. Прогрессивная общественность того времени назвала это собрание «третьей палатой» — сродни Государственной думе и Государственному совету. Бытовало мнение, что так называемая «третья палата» оказалась самой влиятельной, потому что первый и главный дворянин в России был царь Николай Второй.
Участники этого съезда выступали от имени царя, в его пользу и в пользу империи. Они расправлялись со своими противниками под знаменем православия и так называемой народности.
Титулованное и нетитулованное дворянство в одинаковой мере не имело ни малейшего представления о том, в каких условиях существовали рабочие массы, создававшие материальные ценности для народов России. Не имело оно никакого понятия и о том, до каких пределов доходила безысходная и беспросветная нищета бесправного еврейского населения заштатных местечек. Вряд ли кто знал, например, в каких печальных условиях протекало детство гениального скульптора Мордехая Антокольского. Пресыщенное барство призывало со своей сословной трибуны искоренять любую крамолу, требовало лишить евреев даже самой малой возможности для образования, отнять у них все — даже призрачные — гражданские права.
Но ораторы, выступающие с чудовищными своими требованиями в этом роскошном зале, не всегда были солидарны друг с другом. Часто возникали горячие споры и стычки. Объединяло собравшихся только одно: преданность монархическому образу правления, верность общесословным интересам дворянства, национализм…
К умеренности и обдуманности действий призывали делегатов съезда князь Ухтомский и граф Рейтерн-Нолькен, предложившие вниманию съезда особую резолюцию.
И в то же время выступления депутата Государственной думы Маркова-второго казались просто зловещими.
— Мы, господа, — сказал он, — вместе со всеми государствами мира боремся с социализмом, а социализм — это не что иное, как порождение зловредного иудея Маркса, который награбил миллионы, разбогател. Это именно он напустил на христиан социалистическую заразу.
Не ограничиваясь требованиями лишить евреев прав на образование, государственную службу, умственный труд, торговлю, обработку земли, свободу жительства, он открыто призывал к полному изгнанию евреев, включая тех, кто принял православие, за пределы Российской империи…
На собрание съехались представители разных союзов: «Союза русского народа», «Союза Михаила-архангела», «Союза белого двуглавого орла»…
Члены этих союзов, во главе с вдохновителем еврейских погромов Владимиром Пуришкевичем, участвовали в работе съезда на равных правах с депутатами Государственной думы и членами Государственного совета, что свидетельствовало о полной моральной деградации русской монархии…
Часть первая
Сильный ветер бился о стены университетского здания. Тысячи мелких снежинок вились в неистовом танце вокруг мощных колонн портика. Ветер завывал, словно стая одичавших собак.
Возле университетского подъезда остановились сани, и из-под меховой полости, засыпанной снегом, выбрался пожилой человек. Расплатившись с возницей, он направился к подъезду.
Навстречу ему выбежали два студента, торжественно взяли под руки и провели в вестибюль.
Это был известный специалист по римскому праву — профессор Шабанов. Несколько дней тому назад молодые члены союза «Двуглавый орел» во главе со студентом Голубевым устроили профессору обструкцию — он осмелился высказать нелестное мнение о членах Государственной думы Пуришкевиче и Маркове-втором.
Вскоре подоспела многочисленная группа студентов. Дорогую ношу осторожно подхватили на руки и с возгласами «ура» понесли на второй этаж в аудиторию. Все присутствовавшие там студенты встали, сопровождая аплодисментами появление на кафедре любимого профессора.
Щеки профессора пылали, умные глаза его блестели радостно. Он был приятно возбужден восторженной встречей учеников.
Профессор поправил яркий галстук, провел рукой по мягким длинным волосам и, слегка кашлянув, поднял правую руку — так он делал перед каждой лекцией.
Сразу же наступила тишина.
— Дорогие друзья, слушатели моего университетского курса, — начал он. — То, что произошло здесь несколько дней тому назад, не ново для нашей российской действительности последних лет. Знайте, господа, что в годы моего служения науке в стенах Петербургского университета также находились буйноголовые юноши, которые легко поддавались подстрекательствам грязных людишек с черными мыслями. Все это привело к тому, что одна из самых светлых личностей русской науки — профессор Богоявленский — заболел и вынужден был оставить кафедру. Мне хорошо известно, что этот факт возмутил все научные круги Петербурга. К сожалению, виновники не понесли наказания. Теперь, однако, совсем иные времена. Права, данные нам самим монархом 17 октября 1905 года…
Тут дверь аудитории с грохотом распахнулась и звон разбитого стекла прервал слова профессора. На пороге стоял Владимир Голубев, за ним довольно многочисленная группа его союзников. Их раскрасневшиеся мрачные лица не сулили ничего хорошего.
Студенты, находившиеся в аудитории, сразу же бросились к кафедре, заслоняя собой профессора. Но тут раздался голос Голубева:
— Не волнуйтесь, господа студенты, лучше послушайте, что я вам скажу…
— Не хотим, не желаем ничего слушать! — последовал дружный ответ.
— Не хотите?.. — Голубев мигнул своим дружкам, и один из них, здоровенный светловолосый парень в распахнутой тужурке, шагнул вперед. Он походил на поводыря медведей, такими рисуют их на лубочных картинках. — Анатолий, поговори с ними, — обратился Голубев к молодчику.
Анатолий Шишов, студент юридического факультета, сын члена киевской судебной палаты Леонтия Ивановича Шишова, давно приобрел репутацию одного из главных заводил.
От группы студентов, находившихся в аудитории, отделились два крепких парня и вышли навстречу Шишову. Они схватили его, но тот и не думал сопротивляться.
— Ты что, испугался их? — со смешком бросил Голубев.
Анатолий рванулся, и, возможно, возникла бы потасовка, но тут Голубев, забравшись на кафедру и ловко отстранив профессора Шабанова, провозгласил:
— Братья, братья во Христе! Русские люди, слушайте меня! Не надо кровопролития, сейчас я сообщу вам нечто весьма важное…
Все затихли.
— Уважаемый профессор… гм-гм-гм… — запнулся Голубев.
— Аркадий Степанович, — подсказали ему.
— …Аркадий Степанович Шабанов в своей речи упомянул нашего любимого монарха. Очень радостно, когда упоминают государя императора, являющегося олицетворением всего истинно русского. А знаете ли вы, русские студенты, о том, что подготавливается проект закона о введении земства в нашей стране? И в этом законе снова ставится вопрос об охране прав основного русского населения…
— Закон против малороссов и евреев! — воскликнул студент Ратнер, небольшого роста, близорукий щупленький юноша в пенсне.
— Проект этот защитит русских людей от жидов и хохлов, — перебил его Голубев.
И, несмотря на то, что Голубеву не давали говорить, его мощный голос пробивался сквозь нарастающий шум.
— А вы, господин профессор, в своих лекциях по римскому праву доказываете, что права русских людей вам чужды…
Многоголосый гул прервал Голубева. Больше всех волновался Ратнер. По натуре горячий и вспыльчивый, он всегда в таких случаях готов был ринуться на защиту справедливости. Так и теперь, он, казалось, не замечал налитых кровью глаз Анатолия Шишова. «Правда всегда страдает, но побеждает», — думал в такие минуты Ратнер. И он крикнул твердо и непоколебимо:
— Это вы являетесь врагами русского народа, а не мы!..
Вот этого Шишов уже не мог снести… Да и кто посмел бросить ему такое обвинение? Какой-то жалкий Ратнер, которого он может раздавить как муху! Однажды Шишов заявил на собрании «Двуглавого орла», что, если б он не боялся скомпрометировать своего отца, Ратнера давно б уже на свете не было… И впрямь, что для него этакий цыпленок? Теперь Шишову представлялся подходящий момент расправиться с ним. Но тут раздался голос Шабанова:
— Попробуйте только поднять руку!
Студент быстро застегнул тужурку, косо глянул на профессора.
— Еврейский адвокат… — процедил он сквозь зубы.
Эти слова прозвучали сигналом. Руки поднялись и сплелись. Посыпались удары по головам, по лицам. В таких случаях Голубев отступал в сторону и оттуда подбадривал свое воинство. Так было и на этот раз.
Кто-то побежал сообщить о происходящем ректору. Тот явился немедля и строго закричал еще у дверей:
— Как не стыдно вам, Аркадий Степанович! Известный профессор, а допускаете такое бесчинство! Стыдно перед русской наукой, позор для русского студенчества!
В ответ донеслись возгласы:
— Здесь нет русских студентов — здесь только одни хохлы, ляхи и жиды!
У ректора задергались плечи. Понизив голос, он сказал, что судить об этом может только министр просвещения. Приверженцы Голубева утверждали свое: Киевский университет засорен инородцами.
— Русские деньги для русских студентов! — послышался крик.
Чья-то сильная рука рванула заклеенное окно: морозный воздух рванулся в аудиторию, неся с собой стаю мечущихся снежинок.
— Мне придется вызвать полицию, господа студенты, если не перестанете бунтовать, — заявил ректор и вышел из аудитории.
Очевидно, в стенах университета такое случалось не впервые. Но сегодняшний инцидент непривычно затягивался. По дороге домой кто-то из студентов забежал к зубному врачу Ратнеру и сообщил о волнениях в университете.
Зимний день клонился к вечеру, гася свои яркие краски, синие тени ложились на сверкающий снег. В домах зажигались огни, и только красное величественное здание университета все больше и больше погружалось во мрак.
Неожиданно в вестибюле университета появилась низкорослая полная женщина с перепуганным лицом. Это была мать Якова Ратнера. Проскользнув мимо дежурного, женщина торопливым шагом направилась на розыски своего сына. Сама того не замечая, она беспрерывно повторяла: «Яшенька, Яшенька, сыночек!..»
В коридоре женщина столкнулась с ректором.
— Господин! — обратилась она к ректору.
— Что вам угодно?
— Мой Яков… сын мой Яков Ратнер… Мне сказали…
— Все в порядке, мадам, — студент, сопровождавший ректора, взял женщину за руку. — Ступайте с богом! Здесь храм науки. Как вы сюда попали?
— Боже мой, мне сказали… мой Яков… Опять этот Голубев со своими головорезами!
— Идите спокойно домой, Клара Осиповна. Ничего с Яковом не случилось.
— Как я могу быть спокойна?! Я знаю его характер…
Ректор попросил студента проводить женщину к выходу, но она противилась: материнское сердце чует недоброе… Ей необходимо повидать сына…
— Но сейчас идут лекции, мадам!
— Крик слышен был на улице…
Она так и не ушла, остановилась у входа в надежде увидеть сына. Вскоре на лестнице появился сам Яков.
— Иди домой, мама, тебе здесь нечего делать.
— Отец послал меня сюда…
Она оставалась на улице до тех пор, пока не увидела живым и невредимым своего Якова. Студенты провожали профессора. Воодушевленные и взбудораженные, они усадили его в сани и долго еще бежали по снежным сугробам вслед за отъезжающими санями.
Покинув университет, Анатолий Шишов в весьма приподнятом настроении направился домой. Провожал его сам Голубев. Было видно, что он страшно доволен тем, что произошло в университете. Глава союза, он благодарил своего соратника за поддержку.
— Истинно русским людям, — говорил он, — все теснее становится в родной стране из-за чуждых элементов
— А Шабанов? — спросил Шишов. — Он ведь тоже русский человек?
— Он продажный… — пояснил Голубев товарищу, не зря слывшему в стане «союзников» тупоголовым. Товарищ этот мог проявить себя только тогда, когда требовалась физическая сила.
Прощаясь, богатырски сложенный Шишов в шутку слегка приподнял своего духовного вожака, дружески прижал его к себе, да так, что у того только кости хрустнули.
— Отпусти, медвежьи твои лапы!..
— Не беспокойся, — смеясь проговорил Шишов, — я ведь осторожно! Но, честно говоря, руки мои чешутся, так и хочется ломать, крушить… Ох, я бы этих Ратнеров!.. Вот только полиция!
— Насчет полиции можешь не беспокоиться…
— Это я знаю, да отец-то мой судья, отцу негоже…
Друзья расстались. Анатолий быстро взбежал на второй этаж.
Отворив дверь столовой, он увидел за столом сестру Настю. Два года не приезжала она домой и вообще редко давала о себе знать. Отец с матерью часто между собой шушукались, но о чем именно, Анатолий толком не знал. Вроде бы на курсах что-то неладно…
Увидев сестру, он бросился к ней и крепко поцеловал.
Настя, как и брат, была высокого роста, дородная, с крупными чертами лица, унаследованными от отца. Анатолий был в мать — курносый, а у Насти нос был отцовский, точеный. Но внутреннего сходства между братом и сестрой не было. Настиного добродушия и чистосердечности Анатолий не мог оценить по достоинству.
И на этот раз, уже с первых минут встречи, сказалась разница в характерах. Началось с того, что брат непременно хотел знать, почему Настя ни с того ни с сего посреди учебного года приехала в Киев. Сестра на это ничего не хотела или не могла ответить. Вошедшая в комнату мать вмешалась в разговор:
— Настя будет теперь заниматься на Киевских женских курсах, — сказала она.
Серафима Гавриловна очень любила сына, закрывала глаза на его отношения с Голубевым, слепо верила в справедливость всех акций «союзников». И наоборот, либеральные настроения мужа шокировали ее. Она чувствовала, верила, что все это в конце концов окончится плохо. Когда Леонтий Иванович выражал недовольство бурным поведением сына в университете, в компании студенческой молодежи, Серафима Гавриловна неизменно принимала сторону Анатолия. Только просила сына быть осторожным, советовала не лезть в огонь…
В первые же часы пребывания Насти дома она поняла истинную причину поспешного бегства дочери с высших женских курсов. Теперь Серафима Гавриловна вздумала искать поддержку у сына, пусть он отругает сестру как следует за такое сумасбродство. Она стремилась закончить неприятный разговор до прихода мужа.
— Что означает сей неожиданный отъезд из Петербурга? В чем дело? — допытывался Анатолий. — Может, она хочет здесь выйти замуж?
Девушка еле сдерживалась. Она отвернулась от обоих и, нервно стягивая на плечах платок, отмалчивалась.
Анатолий повторил свой вопрос, обращаясь непосредственно к сестре:
— Так что же, Настюша, я прав? Хочешь здесь замуж выйти?
— Ерунду ты говоришь. И вообще, оставь меня в покое! — отрезала Настя.
— Что ты огрызаешься! Воображаешь о себе много! — в свою очередь кипятился брат.
Было бы вполне естественно, если б Серафима Гавриловна одернула распалившихся детей, но ей и самой хотелось все узнать, проверить свои подозрения.
— О замужестве я не помышляю, да и нет у меня на примете видного жениха, ну, такого, скажем, как ты, — насмешливо ответила Настя и презрительно посмотрела на брата.
— Разве Анатолий тебе не нравится? — спросила мать.
— Нет.
— Почему же, Настенька? — хихикнул Анатолий.
— Потому что водишься с подлецами…
— Не смей так говорить!.. Мама, ты слышишь?
— Откуда ты это взяла? — мать даже покраснела.
— Я это точно знаю.
— «Я»! Так вот что тебе не нравится, крамольница! — негодовал брат.
— Конечно, не нравится. Это позор для всякой порядочной семьи.
— Ты хорошо слышишь, мама? Так скажи ей, пусть не думает, будто мы не знаем, с кем она водилась в Петербурге и почему вернулась домой…
— Я приехала к родителям, а не к тебе.
— Скажи же ей, мама, наконец! Почему ты молчишь?
Серафима Гавриловна поняла, что дело может зайти слишком далеко, и поэтому решила оборвать перепалку. Она позвонила и, когда из кухни пришла служанка, попросила ее готовить стол к обеду.
— Барин должен скоро прийти, — сказала она, взглянув на стенные часы. — Пойди, Толя, переоденься, ты ведь не в аудитории.
Анатолий скинул тужурку, затем рубашку, сорвал шнур с кистями. Не найдя на обычном месте своих домашних туфель, он раскричался, требуя от служанки немедленно их найти. Но, как на грех, туфли словно сквозь землю провалились.
Мать сняла с ног свои теплые шлепанцы и протянула их сыну, но Анатолий отшвырнул их.
— Порядка в этом доме нет!.. — кричал он. — И никогда не будет!..
— Тише! — строго сказала мать. — Не распускай себя!
— Ты дочь свою учи, а не меня.
Кутаясь в платок, Настя презрительно глядела на брата. О его настроениях она была осведомлена из писем отца. Отец часто выказывал свое недовольство сыном, втайне надеясь хоть таким образом добиться доверия дочери. Леонтий Иванович уже давно подозревал о взглядах Насти, в письмах между строк улавливал ход ее мыслей, но не считал нужным отягощать переписку откровенными вопросами. Он и без того чувствовал, чем дышит его дочь, что переживает.
Как только послышались шаги Леонтия Ивановича, Серафима Гавриловна бросилась ему навстречу.
— С гостьей тебя!.. — сказала она с улыбкой.
Леонтий Иванович, не раздеваясь, поспешно вошел в комнату. Он обнял Настю и поцеловал.
По выражению Толиного лица Леонтий Иванович понял, что произошла очередная стычка.
— Ну а что у тебя, Анатолий? Я слышал, сегодня весело было в университете. Снова Голубев?
Сын молча пожал плечами.
— По какому поводу домашние туфли посреди комнаты?
Сын сидел опустив голову и по-прежнему ничего не отвечал.
— Сними пальто, — сказала Серафима Гавриловна, помогая мужу.
Все молча сели за стол, на котором уже дымился в супнице борщ.
— Рассказывай, Настенька, почему ты так неожиданно домой приехала? — спросил отец, принимаясь за борщ.
Дочь отложила ложку, вытерла салфеткой губы.
— Ты разве не рад видеть меня? — Настя прищурилась.
— Конечно, рад, но всему свое время.
— Ее выгнали с курсов за революционно-жидовскую пропаганду, — выпалил Анатолий и торжествующе посмотрел в сторону отца.
— Как ты разговариваешь? Что за слова? И откуда тебе это может быть известно?
— Нам здесь все известно, можете не сомневаться! — злорадствовал Анатолий.
— Кому это «нам»? — язвительно поинтересовалась Настя.
Обед был прерван, стулья отодвинуты. Все поднялись.
— От чьего же имени ты все это говоришь? — допытывалась Настя. — И какое тебе вообще до меня дело?
— Как это «какое дело»? Ты позоришь благородное имя русских людей. Ты забываешь, что наш отец занимает высокую и важную должность… — Анатолий примирительно глянул на отца.
Мать находилась в растерянности. Она обращалась то к сыну, то к мужу, хватала за руки дочь, которая порывалась уйти. Наконец Настя тяжело опустилась на кушетку и закуталась в платок.
Отец не по возрасту быстро подошел к буфету, где обычно лежали его очки, которыми он пользовался дома, нашел их, дрожащими руками насадил на нос и в упор поглядел на сына.
— Послушай, Анатоль, — спокойно сказал он, — с каких пор ты стал заботиться о моей чести? Что-то прежде никогда от тебя такого не слыхал.
— Ты многого от меня еще не слыхал…
— Например?
Сын не знал, как получше изложить свои мысли, и замялся в нерешительности. На помощь ему, как всегда, пришла мать:
— Полно, Леонтий Иванович. Дочь приехала в гости, пусть в доме будет мир и покой. Это все так неприятно… — И Серафима Гавриловна неожиданно расплакалась.
Жестом отец показал Насте, чтобы та подошла к матери.
Анатолий рванулся к двери.
Серафима Гавриловна попыталась остановить сына:
— Толя, Анатолий!.. Куда же ты?..
Но того уже и след простыл.
Ночью на углу Крещатика и Бессарабки был ограблен мануфактурный магазин. Вскоре после ограбления к Вере Чеберяк ввалились ее друзья-приятели. Все шло как по маслу. Но в самый последний момент операция оказалась под угрозой провала: когда добыча была уже в руках, Борису Рудзинскому внезапно почудились шаги. Со свойственной ему горячностью он метнулся в сторону. Вернулся он быстро. В руках у него блеснул окровавленный нож.
— В холодную? — тихо спросил Иван Латышев.
— Насмерть.
— Где же покойник?
— Айда сюда! — Вместо ответа Рудзинский поманил их за собой.
Спрятав награбленное добро, они перетащили убитого в надежное место. И вот теперь они сидят с Верой за столом и делят добычу. Подумать только, что он наделал, этот Рудзинский! Теперь поднимется целая история. Легавые будут искать пропавшего, обнаружат труп, и начнется вакханалия… А к чему? Можно было все сделать шито-крыто, вчистую… Если б не глупое ухарство Бориса…
— Хватит! — Борис судорожно мигнул, и небольшая точечка под левым глазом потемнела и увеличилась. — Хватит! — рявкнул он.
Петька Сингаевский, по кличке Плис, схватил Бориса за плечо, силком усадил его и сказал властно:
— Успокойся. Испортился ты, Кирюха!
Иван Латышев, плотный здоровила с низким лбом и тяжелым подбородком, с лицом, усыпанным веснушками, по прозвищу Рыжий Ванька, взял Веру за руку, привлек ее к себе и зашептал:
— Гляди, краля, как бы скандала не вышло. Надо по-братски, дружно… Ну-ка, возьмись…
Разгоряченное лицо Веры расплылось в улыбке. Она хитро подмигнула друзьям, те мирно переглянулись и снова занялись дележом.
— Вот так, вот… — Вера всем пожала руки, приветливо улыбаясь каждому в отдельности.
Вся братия осталась довольна. Рыжий Ванька достал из кармана пальто бутылку с серебристым колпачком поверх пробки, поднял ее над головой.
— Настоящее шампанское. Из Парижа.
Все удивленно смотрели на заморскую бутылку.
— Это вино пьют только князья, ей-богу! Ну, еще министры и… ребята из «малины» Веры Чеберяк!.. — молодцевато заключил он.
Ловко откупорив бутылку, Латышев наполнил первую рюмку Вере. Чокнувшись со всеми, она залпом выпила, причмокнула, смакуя, и поглядела в сторону мужа, крепко спавшего на кровати, и на спящих детей.
Когда шампанское было выпито, бутылка из рук Латышева отправилась в мусорное ведро, стоявшее у дверей. Вера подошла к ведру, достала бутылку и знаком велела Рыжему спрятать её подальше.
— Осторожно!.. — только и сказала она.
— Чепуха! — махнули рукой друзья.
— Нет, не чепуха. Осторожность необходима, за мной следят. Сейчас убедитесь сами.
Она подошла к постели спавшего сына, погладила его по щеке, затем нагнулась и коснулась губами его лба. Мальчик повернулся во сне. Губами мать касалась его лба, щек, а сын все не просыпался. Только еще глубже уткнулся в подушку и, инстинктивно обняв мать за шею, продолжал спать.
Дружки глядели, как Вера ласкает своего мальчика, и ничего не понимали. Вера слегка потормошила его, потом начала трясти сильнее. Наконец мальчик проснулся и начал зевать, лениво потягиваясь.
— Что такое? — спросил он сонно.
Увидев знакомую компанию, мальчик обрадованно притянул мать к себе.
— Мама! — воскликнул он.
Вера помогла ему встать, взяла его на руки, приговаривая:
— Какой же ты длинный вырос! Стой, не вались!
Она надела ему штанишки, ботинки, а потом, взяв за руку, подвела к столу.
Полуодетый мальчик вздрагивал, все еще борясь со сном, все еще жмурясь.
— Женя, — сказала мать, — расскажи, что сказал тебе байстрюк.
Мальчик недоуменно переводил взгляд с одного лица на другое. Он ничего не знает. Он хочет спать.
— Ничего, мамочка, ничего не сказал.
— Неправда. Расскажи то, что ты мне рассказывал.
— Про Андрюшку?
— Да, про байстрюка.
— Про домового… — уточнил Рыжий Ванька. — Что же говорил он, домовой-то?
Снова мальчик умоляющими глазами посмотрел на мать: ему мучительно хотелось спать. Он потягивался и молчал.
— Рассказывай! Не выматывай душу! — раздался громкий окрик Петьки.
Мальчик съежился. От нервной дрожи у него зуб на зуб не попадал.
— Мы срезали прутики — я и Андрюшка. Мой прутик был длинный, а его — короче и тоньше. И он мне сказал: «Дай мне твой прутик». Я не захотел, рассердился на него. «Иди домой, — сказал я, — а то расскажу матери, что ты в школу не ходишь». Тогда он закричал: «Ты лучше помалкивай, а то я расскажу полиции, что твоя мама продает краденые вещи».
Женя замолчал.
— А дальше? — спросил Рыжий.
— Дальше ничего.
— Этого тебе мало? — сердито спросила Вера.
— Мда… — закусил губу Сингаевский.
Низколобый втянул голову в плечи, ударил кулаком по столу.
— Скотина! — крикнул он, вставая.
Мать взяла мальчика за руку, подвела к постели и, раздев, уложила, укрыла одеялом. Прошептав «спи», она вернулась к друзьям.
Уснуть мальчик уже не мог. Сердце у него сжималось от предчувствия чего-то нехорошего. Он свернулся калачиком, чтобы злые и страшные друзья матери поскорее забыли о нем, натянул одеяло на голову. Все же до него доходили отдельные угрозы в адрес его товарища Андрюши, который не раз сопровождал друзей матери в их рискованных походах…
Однажды Женя спросил: «Андрюша, куда ты ходил с дядей Петей?» — а тот ему в ответ: «Не твое дело, молчи». Он и теперь умолчал бы, но нельзя обманывать мать, бог накажет… Ведь мать велела ему рассказать. Будь это папа — его он не боится…
Женя слышит скрип кроватей — значит, укладываются спать. Рыжий Ванька называет мать Верочкой, а та ругается, долетает звук пощечины. «Убирайся вон, пьяница!» — говорит она. А тот все упрашивает ее: «Верочка…»
Стало тихо. Но Женя не может уснуть. Он слышит лай собаки, ему мерещится, будто кто-то стоит за окном и барабанит палкой по стеклу. Что-то упало со стола и разбилось. «Кто там?» — раздается чей-то сердитый голос, и что-то летит в кошку, которая сбросила со стола тарелку.
До рассвета Женя ворочался в постели без сна, а рано утром мать подняла его.
— Одевайся и приведи сюда байстрюка… — прошептала она.
— Мама, я не хочу-у.
— Слушайся меня. Пойди и приведи его.
У матери волосы растрепаны, глаза воспалены. Отец косо поглядывает на нее, но вскоре уходит в почтовую контору на службу.
Женя думает о том, что он скажет своему товарищу… Ага, он скажет, что приготовил для него пистоны. Тогда Андрюшка сразу пойдет — он всегда клянчит у Жени пистоны.
В длинном кожухе и в громадных, с чужой ноги, ботинках Женя шагает через большие кучи снега. Местами, на пригорках, снег подтаял и сбегает вниз мутными ручейками. Мальчик прыгает через эти ручейки, торопясь к товарищу. Ветер приподымает длиннополый кожух. Горбясь под тяжелой одеждой, он идет к цели с тяжелым чувством.
Еще издали Женя увидел Андрюшу.
— Женя, почему так рано? — удивился Андрюша.
— Я за тобой.
— За мной?
— Тебе нужны пистоны для пистолета? — нерешительно спросил Женя.
— Пистоны мне нужны.
Андрюша остановился и попросил Женю подержать книжки и тетради, пока он поправит ремень.
— В школу идешь? — спросил Женя. — Успеешь, прежде забеги ко мне.
Увлеченные разговором, дети не заметили, как приблизились к Верхне-Юрковской улице.
Андрюша — высокий, худенький, с бледным лицом и быстрыми движениями — шагал впереди, а Женя Чеберяк — вслед за ним. Его ждет мать, мать он здорово боится…
Андрюша рад, что товарищ сам пришел за ним.
— Женька, почему же ты не захватил с собой пистоны? Мы бы сразу постреляли.
Женя улыбнулся:
— Правда… Но мама спрятала и не давала… — После паузы он потянул Андрюшу за рукав: — Идем, я знаю, где они лежат…
— А зачем тетя Вера спрятала пистоны? — удивился Андрюша.
Не глядя в лицо товарища, Женя рукой указал в пространство:
— Гляди, сколько уж растаяло снега…
И вот уже мальчики у дверей дома, где живут Чеберяки. Женя взялся за ручку, чтобы открыть дверь, но Андрюша неожиданно отвел товарища в сторону:
— А прутики, Женя? Пойдем раньше за прутиками.
— Прутики?.. — Женя задумался. — Потом.
Отскочила щеколда, и дверь отворилась. Сени у Чеберяков небольшие и полутемные. Миновав их, мальчики вошли в комнату.
Вера была недовольна.
— Где тебя носит так долго? — она дернула сына за плечо и сунула ему в руку несколько монет. — Беги в пекарню за рогаликами к чаю.
Вытолкнув мальчика в сени, она закрыла за ним дверь на два тяжелых болта.
— А ты, байстрюк, подойди сюда, — Вера стремительно подошла к Андрюше и потянула его к себе. — Тебя ожидают.
Три пары глаз тяжело воззрились на мальчика. Тот застыл у стула. Что-то вдруг навалилось на него, приглушило, и свет померк в его глазах. Только короткий вскрик вырвался из груди…
Вера Чеберяк не спеша заворачивала бездыханное тело в старый ковер.
— Какие длинные ноги! — сказала она, с трудом закрывая их ковром.
— А дальше куда его? — и все трое вопросительно посмотрели на Веру.
— Не беспокойтесь… — последовал твердый ответ.
— Порядок.
Когда в доме никого не осталось, постучали в дверь. Вера впустила Женю, в руках у которого было несколько завернутых в грубую бумагу рогаликов; он тревожно посмотрел на мать:
— А где Андрюшка?
— Не твое дело, ешь…
Разломив рогалик, мать протянула половину мальчику.
Время клонилось за полдень. Сквозь полузакрытые ставни солнце пробивалось в комнату. Нависшая тишина рассеивала и глушила яркий дневной свет.
Мертвое тело Андрюши Ющинского, завернутое в ковер, лежало под кроватью, и каждый раз, когда взгляд Веры Чеберяк невольно падал туда, сердце у нее сжималось от страха. Она злилась на дружков, которые сразу же после убийства покинули ее и укатили курьерским поездом в Москву.
Куда девать труп? Неужели она так нелепо попадется на этом деле? Сколько раз Верка-чиновница выходила сухой из воды… Как поскорее избавиться от растерзанного байстрюка, лежавшего под кроватью?
Вера вспоминает слова священника Синкевича, у которого она частенько бывала. «Дочь моя, — не раз говорил он, — такой благоверной душе, как твоя, место только у нас, в нашем союзе». Однажды она поинтересовалась, какой именно союз имеет в виду священник.
И Синкевич, один из руководителей и вдохновителей черносотенного «Союза русского народа» в Киеве, нашел нужные слова, чтобы заинтересовать Веру.
— Туда входят все истинно православные люди, — вкрадчиво заключил священник.
Он же познакомил Веру с другим, не менее деятельным, главарем черносотенцев — студентом Владимиром Голубевым.
И вот теперь Чеберяк подумала, что прежде всего следует обратиться к этому студенту. Голубев при знакомстве с нею намекнул, что если она когда-нибудь окажется в трудном положении, ей смогут оказать помощь. Что имел в виду этот студент? Может, и впрямь он как-то поможет ей? Прежде всего необходимо избавиться от трупа, который вот уже сутки под кроватью. Вскоре в дом нельзя будет войти…
Вера ходит из комнаты в комнату, нервно поправляя красивой рукой непослушные черные волосы, те падают — узел не держится, как она ни пытается скрепить его шпильками. Вера волнуется сильнее, чем когда-либо. Она не раз участвовала в «мокрых» делах, но теперь, поглядывая на свернутый под кроватью ковер, она чувствовала, как ее пробирает дрожь.
…Как ловко действовал Борис Рудзинский! А Борька-Боруха! У него министерская голова. Он так расписал тело байстрюка шилом, особенно его лицо, что Вера невольно вздрагивает. Дружки-то сейчас веселятся, гуляют в одном из московских трактиров, а ее удел — вечный страх перед расплатой. Муж на службе, детей она отослала к матери в другой конец города, а сама стережет дом…
После долгих раздумий выход наконец найден. Чеберяк быстро надела пальто, подаренное Петей после одного из удачных дел, и отправилась на поиски Кольки-матросика, бравого, веселого парня. Не одну ночку скоротала она с ним. Широкоплечий и стройный, Николай Мандзелевский умел лихо носить студенческую форму с наброшенной поверх шинелью, зимой подбитой мехом. Поди догадайся, что это один из опаснейших деятелей лукьяновского дна в Киеве…
Да, только так! Колька-матросик избавит Веру Чеберяк от поглощающего ее страха: он поможет освободиться от рокового свертка, потом уже студент Голубев что-нибудь придумает… Впрочем, она припоминает недавние слова батюшки: «Вам, христианам, необходимо беречь своих детей — близится еврейская Пасха!..» Воистину блестящая мысль. Вовремя они убрали с дороги байстрюка Андрюшку! Ведь он мог засыпать ее «малину»…
Вечером, когда Верхне-Юрковскую запеленала мутная темень, а в окна ломился мартовский ветер, пришел Колька-матросик в новой студенческой шинели, как всегда веселый и озорной.
— Где же таинственное наследие нашей святой троицы?
— Здесь… — указала Вера в сторону кровати.
— Здесь, значит, находится труп…
Колька-матросик ловко сбросил шинель с блестящими пуговицами и одной рукой вытащил из-под кровати тяжелый ковер.
— Ого, попахивает… А ну давай скорее…
— Не торопись! — властно прошептала Вера.
Мандзелевский вопросительно уставился на Веру: чего еще она от него хочет?
— Разверни! Разверни, говорю!.. — И она протянула ему окровавленную рубашку, чулки и ботинки. — Нужно одеть его.
— Фу… — скривился Мандзелевский. — Сделай это сама, Верка. Я не хочу.
Чеберяк отказываться не стала. Она обрядила мертвое тело мальчика, на разбитую голову с трудом натянула измятую форменную фуражку с гербом Киевского софийского духовного училища, затем велела Мандзелевскому снова завернуть труп в ковер и отнести в пещеру, что находится на другой стороне завода Зайцева.
— Аж туда?.. — удивился Мандзелевский.
— Делай, как я сказала. — И, помолчав, добавила: — Так надо.
— Ну, веди, коль надо, — согласился Колька-матросик и, изловчившись, взвалил ношу на плечи.
В непроглядной темноте они двинулись вдоль Половецкой улицы, вскоре вышли на Нагорную, повернули направо и пошли по направлению к ярам. Колька споткнулся и выругался. Вера и сама едва ноги передвигала, часто хваталась за его шинель, чтоб не свалиться в яр. Наконец они выбрались на глинистую площадку. Тьма сгущалась. Ветер остервенело свистел в ушах.
— Сюда, — Вера потянула Мандзелевского, теперь уже следовавшего за нею. — Стой, — прошептала она. — Положи его пока здесь. Вот тебе спички, пройди-ка в пещеру.
— Один?
Мандзелевский коснулся руки Веры, и та ухмыльнулась:
— Такой смелый налетчик, а темноты боишься… Трусишь, матросик? — насмешливо спросила она.
Он молча шагнул вперед, и вскоре Вера заметила внутри пещеры мерцающий бледный язычок пламени. Затем огонек подплыл ближе — и вот Мандзелевский уже рядом.
— Пошли, — сказал он и потащил тюк за собой.
Еще минута — и обоих окутал холодный и сырой мрак пещеры. У небольшого выступа в стене они остановились: здесь мальчик обретет свое пристанище…
Чеберяк вывалила из ковра труп и прислонила его к стене, напялив измятую фуражку на изуродованную голову. Еще одной спичкой они осветили тело. Руки мальчика были распростерты по стене.
Свернув ковер, Вера сунула его Мандзелевскому и тихо шепнула:
— Теперь пойдем ко мне, чайку попьем. Муж на ночь ушел, дежурит сегодня.
Мандзелевский страшно обрадовался. Достойная награда за труды!
На следующий день Вера должна была встретиться с Голубевым. О, она знает, о чем говорить с ним! С первой встречи Чеберяк безошибочно уловила в нем ненависть к евреям. «Приходите к нам в редакцию „Двуглавого орла“, — сказал он, — Большая Житомирская, тридцать».
— Ну, Коленька, Коля! — будила Вера Мандзелевского.
Матрос спал, натянув на голову одеяло, из-под которого торчали одни только кудри. Но вот он потянулся, раскрыл глаза. Вера тормошила его все настойчивее:
— Скорее, убирайся, муж вот-вот вернется, — Вера глянула на часы, подаренные братом.
Как бы в подтверждение ее слов часы пробили восемь раз.
— Торопись, матросик, — улыбнулась Вера. Она нагнулась над ним, касаясь округлыми голыми руками его лица.
Спросонья он обнял Веру и что-то промямлил.
— Ты что, вставать не хочешь? А ну-ка… — она быстро стянула с него одеяло.
Мандзелевский лежал в кремовом шелковом белье. Глаза его были открыты.
— С ума спятила, Верка?
— Я прошу тебя, вставай, муж скоро придет, — сказала Вера. — Не нужны мне скандалы…
Мандзелевский подскочил точно ужаленный, через несколько минут он уже стоял в своей безупречной студенческой форме и приглаживал волосы щеткой. Стоя проглотил бутерброд, запил холодным чаем и недовольно поморщился:
— Холодный. Трудно было согреть?
— Времени в обрез.
Мандзелевский набросил студенческую шинель и, не простившись, пошел к выходу.
— Постой, матросик! Где думаешь быть вечером?
— Собираюсь поехать в Херсон к своему дружку.
— Сегодня?
— Да. А что?
— Не уезжай. Лучше ко мне приходи.
Каким-то внутренним чувством Чеберяк угадывала, что Колька еще понадобится… Может, до вечера найдут мальчишку в пещере. Пусть уж будет рядом, кто знает, что и как…
После ухода матросика Верка приступила к своему туалету. Достала из ящика крем для лица, привезенный из Вены знакомой дамой, принялась втирать его легкими движениями пальцев. По комнате разлился приторный запах.
Придирчиво разглядывая свое лицо в зеркале, Вера припудрила раскрасневшиеся щеки. В глазах зажглись озорные огоньки — она знала, как заинтересовать мужчину…
Закончив туалет, Чеберяк затянулась в шелковое, черное с бордо, платье. «Теперь, — подумала она, — можно рассчитывать на успех даже у самого красивого артиста…»
Эта простая, но хитрая женщина играла в жизни самые разнообразные роли, часто выдавала себя то за пианистку, то за акушерку. Но как бы она ни маскировала свою внешность гримом и туалетами, скрыть внутреннюю пустоту и цинизм ей не удавалось. Стоило ей только открыть рот, как становилась очевидна ее сущность.
Владимир Голубев не сразу обратил внимание на разодетую женщину, вошедшую в редакцию «Двуглавого орла». Дамский пол мало интересовал его. Он был фанатиком, идеи поглощали его всецело.
И вот разодетая дама уже сидит рядом с Голубевым и что-то нашептывает ему, отчего студент приходит в чрезвычайное возбуждение, глаза его болезненно воспаляются.
— Вы сами это видели?
— Видела, а как же… То есть не я лично… дети мои видели…
— Что видели?! — уже не владея собой, крикнул Голубев.
— Еврея с черной бородой… — выпалила Чеберяк и замолкла, сама, видно, испугавшись того, что сказала.
— Видели или не видели, госпожа Чеберяк? Точно скажите… — У Голубева от нетерпения дрожали руки. — Неужели вы не знаете, что теперь канун Пасхи? Слышите, о чем я говорю?
— Да, конечно… Пасха… — прошептала она.
— Послушайте, глубокоуважаемая! Пусть мальчик пока останется в пещере до… до… — Он задумался. Красные пятна выступили на его лице. — Вы, госпожа Чеберяк, истинно русская женщина, вы не представляете, какую услугу оказали престолу, нашему государю и всей России… Надо только повременить…
Он схватил лист бумаги и начал что-то быстро писать.
Как хорошо, что батюшка познакомил ее с этим студентом, думала Чеберяк, следя за скользящим по бумаге пером. Тень убитого, почти два дня затемнявшая ее жилище ужасом и страхом, теперь отступила. Такой отвратный «домовой»… А еще пришлось пачкать руки о его грязное тело… О, Голубев отведет от ее дома тень, и она обретет утраченный покой.
— Владимир Степанович, сам бог, как доброго ангела, послал мне вас…
Ей, собственно говоря, следовало бы помолчать, но чувство облегчения развязало ей язык.
— Вам, Вера Владимировна, вся Россия будет благодарна, — услышала она. — Извечные враги наши понесут должную кару за эту невинную жертву. Мальчик перейдет в лоно святых… Вот вы сказали, будто вам известно, что кто-то едет сегодня в Херсон. Так передайте, пожалуйста, с этим человеком письмо… Пусть опустит его в почтовый ящик на любой станции. Да, повторите мне адрес матери Андрюши Ющинского… Из этого письма она узнает, что злодеи убили невинного агнца — христианское дитя — с ритуальной целью… Прекрасно!..
Голубев вскочил со стула, засуетился. Он механически нажал кнопку звонка. Дверь открылась, в нее просунулась голова старика:
— Вы меня звали, Владимир Степанович?
— Никто не звал вас… вам почудилось, — с раздражением ответил Голубев, снова садясь за стол. — Они запомнят нас, враги нашей России, — говорил он, надписывая адрес. — Сейчас, Вера Владимировна, я вручу вам письмо. Вы запомнили все, что я вам сказал?
Вера Чеберяк, конечно, все запомнила. Ведь это письмо снимет подозрение с нее и с ее дома. Она снова выйдет сухой из воды и снова, как часто бывало после крупных дел, успокоится, не будет страшиться легавых. Ах, если б она могла сообщить об этом в Москву своим дружкам! Каков молодец Баруха Рудзинский! Как он разрисовал байстрюка! Золотая голова у него. Недаром он сказал: «Давайте мне, я знаю, что делаю…» — и оттолкнул Сингаевского, этого мясника, у которого все получается грубо и нескладно. Теперь снова очистится небо над ее домом. А лежать будет Андрюша в пещере до тех пор, пока Голубев не прикажет найти мертвое тело… Письмо, которое дописывает студент, Колька-матросик увезет еще сегодня. Недаром она велела ему зайти вечером, словно предчувствовала, как он будет ей необходим.
— С богом, Вера Владимировна! Надеюсь, вы поняли все… — и он взглянул на нее неестественно расширенными глазами.
И вот в ее руках письмо, подписанное словом «Христианин». Голубев может быть спокоен. Она передаст его в надежные руки…
Двадцатипятилетний журналист Исай Ходошев отличался среди сотрудников популярной на юге России газеты «Киевская мысль» исключительной старательностью и работоспособностью. Не только в тесном кругу редакции «Киевская мысль», но и в других киевских периодических изданиях — в редакционной газете «Киевлянин», в «Последних известиях», да и вообще в газетном мире, знали, что любое сенсационное событие, любую интригующую историю принесет не кто иной, как Исай Ходошев.
Высокий молодой человек с черными глазами и чисто выбритым лицом с первого взгляда напоминал персонаж одного джек-лондонского приключенческого рассказа. Костюм на нем выглядел несколько крикливо. Но, невзирая на внешнюю эксцентричность, Ходошев был серьезный и вдумчивый публицист, выполнявший для газеты любые задания, начиная от небольшой заметки репортерского характера об уголовных и городских происшествиях и кончая серьезными, деловыми статьями о литературе и искусстве. Формально Ходошев вел судебную хронику, но сотрудничал и в других отделах большой и влиятельной газеты. Недаром редакционный карикатурист, широкоплечий, толстый как бочка Аргус, в редакционной стенной газете изобразил как-то коллегу Ходошева пишущим одновременно обеими руками, обеими ногами и пером, зажатым в зубах.
Поговаривали, будто Ходошев написал рассказ, весьма одобренный Александром Куприным, с которым, по слухам, Ходошев часами просиживал в какой-то пивнушке. Передавали и причудливые обстоятельства, при которых Ходошев познакомился со знаменитым писателем. Одна версия гласила, будто Ходошев играл как-то в бильярдной «Жак и Жан». Нацелился кием на шар, в это мгновение вошел Куприн, остановился в стороне и долго присматривался к бильярдисту, восхищаясь его артистической игрой. Узнав, что это газетчик, Куприн с еще большим интересом следил за игрой Ходошева. И когда тот закончил игру, Куприн крикнул «браво!». Ходошев сделал шутливый реверанс, склонил голову набок и произнес: «Мерси». Куприн, будучи в хорошем настроении, положил руку на плечо Ходошева и улыбаясь спросил:
— Скажите, господин, вы всегда такой высокий?
Не задумываясь Ходошев отпарировал:
— А вы, господин писатель, всегда такой остроумный?
Лицо Куприна просияло, он от души рассмеялся и удовлетворенно сказал:
— Хорош! Давайте знакомиться.
Ходошев отступил на пару шагов и поклонился:
— Честь имею представиться…
Ходошев по-дружески — может быть, даже слишком развязно — взял Куприна под руку, подвел его к столику, заказал полдюжины пива, и с тех пор, как поговаривают, молодой журналист накрепко подружился с писателем.
И много времени спустя, стоило только в определенных кругах назвать имя Ходошева, как обязательно спрашивали: «Не тот ли это Ходошев, что так понравился Куприну?» Это обстоятельство, несомненно, укрепило репутацию начинающего журналиста, возвысило его в глазах старших работников редакции.
В хмурый мартовский день в редакции появилась супружеская пара — судя по одежде, из мещан. В редакцию супругов привело несчастье — у них пропал сын. Швейцар посоветовал обратиться к Исаю Давидовичу.
— Этот господин непременно найдет вашего сына, — сказал швейцар, указывая на Ходошева.
Несчастные родители смотрели на журналиста и молчали, не решаясь заговорить.
Ходошев попросил пришедших подняться к нему в комнату. И вот тут-то они, перебивая друг друга, страшно волнуясь, поведали «господину редактору» о том, что в субботу их сын ушел в школу, в школе, как выяснилось, не был и домой не возвращался… С тех пор прошло уже трое суток.
— А в полицию заявили?
— Да, — тихо ответила женщина, — заявили.
— Как ваша фамилия?
— Моя — Приходько, — ответил мужчина осипшим голосом, — а она мать мальчика, Александра…
— Мой муж — отчим ребенку, а мать — я. Мальчика зовут Андрей. Ющинский его фамилия. — Она помедлила и, опустив голову, прошептала: — Он незаконнорожденный… но все равно, это наш сын. И вот… пропал…
— Вы сказали, полиции уже известно. Что же вам угодно от нас? — спросил Ходошев, а в голове уже механически складывалась заметка для завтрашнего номера.
— Мы бы хотели дать объявление о пропаже мальчика, — тихо сказала мать. — Может, найдут его. Мы заплатим сколько нужно.
— Не надо платить, — подумав, сказал Ходошев. — Мы сами напишем.
Исай расспросил родителей о некоторых подробностях, предшествовавших исчезновению мальчика, о школе, где мальчик учился, записал адрес. Потом вежливо проводил их до выхода.
Выпустив посетителей, швейцар поинтересовался:
— Исай Давидович, дело будет?
— Будет! — улыбнулся Ходошев. — Только не знаю, с какой стороны начинать.
На следующий день в «Киевской мысли» появилась маленькая заметка:
«ПРОПАЛ МАЛЬЧИК.
Несколько дней назад ушел из дому и не вернулся ученик Киевского софийского духовного училища Андрей Ющинский. Последний раз мальчик был в школе 12 марта».
Эта заметка стала первой ласточкой. В последующие два года почти все газеты на всех языках мира посвящали сотни и тысячи столбцов этому загадочному, трагическому происшествию. Киевский журналист Исай Ходошев и не подозревал, что своей заметкой он первый оповестит о немыслимом по своей жестокости злодеянии, напоминавшем лишь о средневековье. В историю преступление вошло как «дело Бейлиса». Цивилизованный мир был потрясен. Дело разгорелось как костер, у огня которого многие нагрели свои нечистые руки. И они, эти руки, разметали неисчислимые искры, пока благородный, разумный голос и чистая совесть русского народа не разоблачили проходимцев. Тлеющий огонь был потушен, а пепел развеян.
Опубликовав заметку, Ходошев не остался равнодушным к событию, которое за ней стояло. Оно не давало ему покоя. Первым делом он посетил лукьяновский полицейский участок, куда обращались родители пропавшего мальчика. Участковый подозрительно посмотрел на журналиста и сердито спросил: почему, собственно, он так интересуется этим происшествием? Нахмурившись, Ходошев ответил, что ему как представителю прессы надлежит знать обо всем, чтобы подробно информировать читателя.
Участковый закурил махорочную закрутку и, пуская дым на Ходошева, пожал плечами и проворчал:
— И далось вам это дело! Мы ведь сами ничего еще не знаем!
В тот вечер Исай долго не мог уснуть и беспокойно ворочался с боку на бок.
В мучительно явившемся ему сновидении он снова был местечковым мальчишкой, снова бегал босиком по грязным дворам и разыскивал разноцветные камешки. А вот он уже у меламеда, глаза которого окаймлены красными веками. Мальчик допытывается, где конец света. Старый меламед таращит на него удивленные воспаленные глаза и недовольно бормочет: «Только безумная голова может придумать такой странный вопрос».
А затем Ходошеву в дремоте мерещится единственный в этом местечке гимназист, приехавший из большого города на каникулы. Толстопузый паренек с розовыми щеками по субботам приходил с отцом в синагогу и молился, держа перед собой крохотный молитвенник. Исай, тогда еще Шайкеле, завидовал гимназисту: ему очень хотелось иметь такой молитвенник с золотыми буквами на корешке. Исай просит гимназиста рассказать: каким образом Солнце вертится вокруг Земли и где находится Занзибар — в Азии или в Африке? Гимназист послушно ищет Занзибар на карте и, не найдя, начинает рассказывать Шайкеле о какой-то сказочной стране, которую будто бы недавно открыли ученые. А он, Исай, не дает заговаривать себе зубы, требует найти Занзибар, о котором вычитал то ли у Майн Рида, то ли у Луи Буссенара. Гимназист сердится и кричит, что Занзибара вовсе нет на карте, как нет и реки Самбатион[1]. Исая же очень интересует Занзибар, и он сам находит его на карте и показывает гимназисту. Тот смеется — он думал раньше, что Занзибар — растение… После этого гимназист в синей фуражке с белыми кантами и с гербом на околыше потерял для Исая всякий интерес.
В том же полусне-полудремоте возникали картины и более позднего времени, когда он сам, Исай Ходошев, сдавал экзамены на аттестат зрелости в небольшом городишке Полтавской губернии. Получив аттестат, он хотел поступить в университет Святого Владимира, потом мечтал о Юрьевском (Дерптском) университете, но всюду встречал препятствие — не православный…
Тут Исай сбросил с себя дремоту — и сразу же нахлынуло много воспоминаний, одно другого неприятнее… Он просил у родных денег для продолжения образования за границей, как делали его приятели. Но в помощи ему отказали… Постепенно он втянулся в работу репортера и остался в Киеве.
Исай опять повернулся на другой бок — в который уже раз! Его терзали переживания последних дней.
Вскоре он оставил надежду выспаться, поднялся и с тяжелой головой отправился в пустую редакцию — было воскресенье.
Днем позвонили по телефону и сообщили, что на Лукьяновке найден труп мальчика. Ходошев сразу спустился вниз, нанял извозчика и поехал на Лукьяновку.
Какая-то странная напряженность ощущалась на улицах Киева. Большие группы и даже толпы людей стекались к Лукьяновке. Некоторые с озлобленными, раскрасневшимися лицами возмущенно потрясали кулаками, сопровождая эти жесты унизительной бранью.
Извозчик обгонял пешеходов, подводы, даже автомобиль обогнал. А Ходошев все уговаривал его ехать побыстрее, на что возница спокойно отвечал:
— И чего вы там не видали, паныч? — Хлестнув для видимости свою лошаденку, он сказал: — Мертвого мальчика нашли. Полиция и сыщики шныряют как собаки…
Пойди и расскажи ему, что именно это и интересует Ходошева.
— Поскорее езжайте, — поторапливал он возницу.
— Лошадка слаба, да и я тоже… — тихо возражал извозчик. — Все теперь спешат, ненормальные какие-то! Лучше уж ходить за волами на пашне, чем здесь, в городе, по камням трястись. — Обернувшись лицом к пассажиру, он сделал просительную гримасу: — Набавьте, паныч, лошадке сил прибудет…
Нетерпеливый пассажир вынул из кармана полтинник и сунул его в жесткую ладонь кучера.
— Гони живее, еще получишь, — пояснил он.
Послышался свист кнута и веселый окрик:
— Поберегись!
Лукьяновку Исай знал как свои пять пальцев. Не раз приходилось ему тревожной ночью рыскать здесь по следам поступивших в газету сигналов. Лучше любого сыщика устанавливал он местонахождение некоторых воровских «малин», обиталища известных воров и грабителей. Вот здесь, где он сейчас проезжает, удалось обнаружить шайку воров, совершивших налет на ювелирный магазин Маршака на Крещатике. А вон там — в землянке — краденый товар из мануфактурного магазина Шварцмана. Много историй мог бы рассказать газетчик — и одну весьма поучительную: о встрече с одним из главарей киевского уголовного мира, с которым Ходошев впоследствии даже сдружился.
Новый знакомец неожиданно оказался вполне образованным человеком и незаурядной личностью. Как бы протестуя против социальной несправедливости, он оставил свою вполне обеспеченную жизнь, постепенно втянулся в уголовный мир с его особыми нравами и стал в своей среде знаменитой личностью.
Проезжая по знакомым местам, Ходошев особенно внимательно присматривался к хибаркам и полуразвалившимся землянкам.
А вот и территория зайцевского кирпичного завода. Толпа людей. Ходошев соскочил с пролетки, быстро расплатился с извозчиком.
День выдался прохладный, с сырым ветерком. Почти все были в зимнем, лишь мальчишки сновали в распахнутых пальтишках без шапок.
Толпа росла. Люди жались друг к другу, кое-кто из толпы пытался пробраться поближе к пещере, чтобы хоть одним глазком взглянуть на труп несчастного мальчика.
Появился всем известный городовой лукьяновского полицейского участка Афанасий Швец— низкорослый, с длинными усами, свисавшими на ворот полицейского мундира. «Разойдись! — кричал он и угрожающе добавлял: — Плохо будет!» В руке он сжимал ученическую тетрадь, свернутую трубочкой.
— У-у, фараон!.. — раздалось в толпе.
Афанасий Швец, пропустив мимо ушей злобный окрик, продолжал рыскать глазами. Видимо, он кого-то ожидал. Вскоре показался пристав в сопровождении еще одного городового. Швец что-то буркнул начальству на ухо, и пристав осторожно, с опаской, принял из его рук тетрадку. Втроем они направились к месту происшествия, скрылись в темном зеве пещеры.
Исай Ходошев, конечно, не возражал бы против того, чтобы вместе с представителями власти проникнуть в пещеру… Но как это сделать? Пробравшись к пещере, он сунул одному из охранявших вход удостоверение личности, выданное редакцией газеты «Киевская мысль».
— Я из Петербургского телеграфного агентства, — сказал он.
Тот поглядел в документ, вытаращил глаза, явно не зная, как поступить. Наконец взял бумажку и скрылся в пещере.
Ходошев был удивлен, когда охранник неожиданно быстро вернулся и, отдав документ, пропустил его.
Первые несколько мгновений в темноте ничего нельзя было разобрать. Постепенно Ходошев освоился с мраком. Чей-то карманный фонарик вырвал из темноты и осветил часть головы мальчика, прислоненного к выступу в стене. Затем луч света упал на чью-то руку, протянутую к разорванной одежде на трупе. Кто-то захотел поднять ремень, лежавший на земле, однако властный окрик остановил его:
— Не трогать!
При слабом свете карманного фонарика Ходошев увидел изуродованное лицо убитого, затянувшиеся порезы на висках. На голове неуклюже торчала измятая форменная фуражка с гербом духовного училища, правый глаз остекленел, в левом застыла капля крови.
Исай Ходошев внимательно осматривал набойки на ботинках мертвеца. Он знал, что труп будет скрупулезно изучаться; но ему самому захотелось добыть что-нибудь важное, что могло бы прояснить это страшное, изуверское преступление. Он уже нагнулся, чтобы незаметно взять отстававший от набойки рубчик, но сразу же послышался резкий голос:
— Что вам нужно, молодой человек? Как вы здесь оказались?
Когда же молодой человек объяснил, что он из газеты, говоривший несколько изменил тон, хотя в нем все так же звучала властность и назидательность:
— Вы из «Киевлянина»? Нужна предельная осторожность, здесь каждая мелочь является уликой. Очень важны улики в таком деле…
Журналист растерялся, нагнул голову, словно желая оправдаться. При бледном свете Ходошев заметил околыш студенческой фуражки. Газетчик внимательно присмотрелся к лицу студента и узнал в нем небезызвестного киевлянам Владимира Голубева.
Сердце Ходошева упало: если здесь Голубев — значит, дело плохо.
События принимали нежелательный оборот. Журналист повернул к выходу и вышел из пещеры.
Что творилось вокруг! Полицейские с трудом удерживали натиск толпы, подстрекаемой молодчиками группы Голубева. Трудно было понять смысл выкриков, настолько они были нелепы в своей враждебности. Становилось очевидным, что необходимо каким-то образом унять толпу, успокоить людей, предотвратить возможные эксцессы.
Ходошев знал: достаточно небольшого толчка, малейшей искорки — и возникнет пожар, на невинные головы падет гнев жаждущих мщения людей… И тут Исай услышал возле себя тревожный голос:
— Давайте-ка отсюда, в суматохе ножом пырнуть могут…
В небо взметнулись разноцветные листовки. Послышались возгласы:
— Православные люди! Жиды-кровопийцы зарезали христианского мальчика!..
Дикие, угрожающие крики повисли в воздухе.
Вдруг Ходошев почувствовал, что по его лбу что-то течет. Стоявшая рядом девушка бросилась к нему:
— Вы ранены. Вот негодяи! Изверги!
И мягкая рука приложила к ране носовой платок. Исай надвинул фуражку глубже на лоб и шагнул в сторону.
В отверстии пещеры появился огромный детина в черной фуражке с блестящим козырьком, он нес на руках труп мальчика. За ним следовали пристав, несколько городовых и другие неизвестные Исаю лица. Словно из-под земли выросла подвода с кучером, тело осторожно уложили на подводу и укрыли дырявым мешком. Невзрачная лошаденка тронулась с места. Огромная масса людей поглотила подводу — казалось, она плывет по волнам, подгоняемая толпой.
Тщетны были попытки полицейских, жандармов и тайных агентов отогнать зевак подальше от подводы. Багровый от усердия пристав надрывался:
— Погоняй к полицейскому участку!..
Медленно двигалась мрачная процессия. Взмахами кнута кучер взрезал воздух, но лошадь не хотела ускорить шаг.
Пробираясь сквозь толпу, Ходошев увидел Голубева. Теперь тот стоял на потрепанном фаэтончике и в чрезвычайном возбуждении выкрикивал что-то про замученного мальчика, о его истерзанной душе.
На мгновение Ходошеву показалось, будто студент указал в его сторону. И тут случилось невероятное: журналист упал, а разъяренная толпа продолжала свое шествие, топча его ногами; если бы не сильные руки молодого парня — подмастерья, редакция газеты «Киевская мысль» потеряла бы одного из активнейших своих сотрудников. Петру Костенко удалось оттащить Исая на безлюдное место…
Привела его в чувство Настя. Он открыл глаза, и ему стало стыдно своей беспомощности.
— Второй раз мы встречаемся с вами, — улыбаясь сказала девушка.
Ходошев, кряхтя от боли, поднялся с земли.
— Ничего, черт меня не возьмет, — сказал он, очищая пальто от снега. Фуражки не оказалось — очевидно, затоптали в грязь.
— Могло быть и хуже… — заметила Настя. Она не решалась спросить его, кто он такой, только лишь смотрела на него во все глаза.
Стряхнув с себя остатки грязного снега, Ходошев поклонился и сказал:
— Благодарю вас, господа! Спасибо вам и до свиданья! — И зашагал прихрамывая вслед за толпой.
Домой Вениамин Ратнер вернулся в крайне возбужденном состоянии. Швырнул на стол расстегнутый портфель, фуражку…
— Что с тобой, Нюма? — удивилась мать.
Она приняла со стола фуражку и ходила за ним, держа ее в руках:
— Что с тобой случилось, Нюма? Да скажи наконец!..
— Не со мной — со всеми нами…
Ничего не понимая, мать отворила дверь в кабинет мужа:
— Поди-ка сюда, Иосиф! Может, ты от него что-нибудь добьешься?
В столовую вошел мужчина небольшого роста. Пенсне еще больше увеличивало его огромные глаза. На нем был белоснежный халат, на голове шапочка.
— Что произошло? — спросил он.
…В одном классе с Вениамином учился сын жандармского полковника Степан Иванов. Так вот, сегодня он заявил во всеуслышанье, что Нюму и ему подобных в ближайшее время выгонят из гимназии.
— Мы не должны терпеть подобные оскорбительные разговоры, — закончил свой рассказ Вениамин. Сев за стол, он попросил поесть, он торопился — через час он встречается с товарищами…
Отец не дал ему договорить. Он не любит сборищ гимназистов… Достаточно того, что старший сын участвует в сходках…
— Поменьше шума, легче жить, — увещевал отец горячившегося сына.
— На Лукьяновке нашли в пещере труп убитого мальчика, — продолжал Нюма, — а Иванов, показывая на меня, кричал: «Это они убили его, нужно их всех из Киева в Сибирь сослать…»
Мать все еще ничего не понимала.
— Кого «их»? — переспросила она.
Нюма досадливо повернулся к отцу:
— Поясни ты ей, пожалуйста! Тебя, мама, отца, Якова, меня, всех нас — евреев, одним словом. Сама не можешь догадаться?
— Догадаться не трудно, — спокойно сказал отец. — Если мы не будем высовываться, нас никто не тронет. А вот сборища до добра не доведут. И не болтай глупости.
Махнув рукой, Нюма ушел к себе в комнату.
Клара Осиповна с фуражкой в руке ходила по столовой и ворчала:
— Старые споры между отцом и сыном… С меня достаточно неприятностей от Якова… Теперь и этот туда же!
Иосиф Самойлович пожалел, что не разузнал у сына поподробнее об убийстве мальчика. Он волновался, несколько раз снимал пенсне, протирал его платком, снова надевал. Потом, вспомнив, что завтра к нему на лечение придет член судебной палаты, успокоился. У него можно будет узнать все подробности.
На следующий день в седьмом классе гимназии шел урок истории. Учитель рассказывал об Отечественной войне 1812 года. Как только Наполеон вступил на русскую землю, говорил он, то связался с внутренними врагами России, в частности с небезызвестным еврейским раввином Шнеерсоном, и тот передал французскому императору крупную сумму денег.
Сделав паузу, учитель многозначительно посмотрел в ту сторону, где среди других мальчиков сидел Степа Иванов.
— Так вот, господа гимназисты, чем можно объяснить связь евреев с врагами России? — И, не дождавшись ответа, отчеканивая каждое слово, продолжал: — Не чем иным, как желанием выступить против русского народа… против нас!
Вениамин Ратнер, сидевший на второй парте, заметно побледнел. Он поднялся с места и проговорил, чуть запинаясь, но уверенно и твердо:
— Как не стыдно вам, Сергей Павлович, так говорить!.. Мне хорошо известно, что раввин Шнеерсон был истый патриот Росии и действовал совсем не так, как рассказываете вы…
— Я говорю правду. Это исторический факт…
Позади Ратнера сидели два отъявленных задиры — Соловьев и Воробьев, «близнецы», как их прозвали ребята.
— Проси прощения у Сергея Павловича, — зашипели они.
Резко обернувшись, Ратнер бросил:
— А с вами и вовсе не желаю разговаривать.
— Подумаешь, Ротшильд! Немедленно прощения!
Учитель замолчал, ожидая, что гимназист извинится. В классе стояла гнетущая тишина.
Неожиданно поднялся Степа Иванов, худощавый, черноволосый паренек с едва пробивающимися усиками. Он подбежал к Ратнеру и, ухватившись за пуговицу тужурки, стал трясти его:
— Лучше расскажи, как вы Ющинского убили!
Стены качнулись в глазах Ратнера. Одной рукой он дал Иванову звонкую пощечину, а другой толкнул его в грудь с такой силой, что тот упал навзничь.
Группа одноклассников окружила Ратнера, к нему тянулись руки и кулаки, а «близнецы» сбили его с ног.
От Ратнера никто не услышал ни стона, ни жалоб. Когда возле него остался один только сторож, прибежавший на шум, Вениамин медленно поднялся, вытер кровь, бежавшую из носа, собрал рассыпавшиеся учебники и с трудом поплелся в гардероб. Его догнал инспектор гимназии Адольф Карлович.
— Ратнер! — окликнул он гимназиста. — Зайдите в учительскую.
Вениамин даже не обернулся. Сняв с вешалки шинель и накинув ее на плечи, он хотел уйти, но инспектор преградил ему дорогу.
— Ратнер, вас просят зайти в учительскую, — повторил он. — Слышали, что я сказал?
Но тот снова ничего не ответил и, отстранив инспектора, вышел.
Погруженный в свои мысли, Ратнер медленно шагал домой, заглушая в своей душе нарастающую боль. Гимназический сторож опередил его и передал отцу срочный вызов в гимназию.
— По какому поводу меня вызывают в гимназию? — спросил отец появившегося в дверях сына, но тут же осекся, перепуганный его видом. — Нюма, что с тобой? Почему ты молчишь? Что с твоим лицом?
— Почему молчишь, Нюмонька? — спросила мать. — Ты меня пугаешь… Ну говори, что с тобой? Господи, какая же я несчастная!..
— Я давеча говорил вам… — тихо и сдержанно сказал Нюма.
— А я утверждаю — и впредь запомни: собраний избегать как огня, — настаивал на своем отец. — Вот и Яша тоже… с его собраниями в университете. А ты идешь по его стопам… У меня уже сил нет, за что вы меня мучаете? — Отец отвернулся и опустился в кресло.
Мать молча постелила постель. Она стянула с сына тужурку, пыталась снять обувь. Вдруг подняла голову:
— Ты ведь, наверное, голоден?
Нет, есть он не хочет. Рук и ног не чувствует, они тяжелы, словно тысячепудовые камни. Он лег и повернулся лицом к стене.
— Я же говорил, что собрания не доведут до добра, — снова и снова повторял отец.
В дверь постучали. То опять был сторож гимназии. Он пришел, чтобы передать Иосифу Ратнеру, что его вызывает инспектор.
— Передайте, пожалуйста, господину инспектору, что я скоро приду… Дай мне, Клара, свежий воротничок и новый галстук… тот, в мелкий горошек.
Инспектор встретил зубного врача с необычной суровостью.
— Ваш сын нарушает правила поведения, — сказал он. — Он должен извиниться перед преподавателем истории, иначе мы примем меры… Он оскорбил учителя.
Опустив голову, Ратнер произнес несколько сбивчивых фраз, затем неожиданно добавил:
— Адольф Карлович, приходите ко мне. Получен заграничный цемент и отличные фарфоровые зубы…
— Благодарю, господин Ратнер, — голос инспектора зазвучал мягче. — И все-таки пусть ваш сын извинится. Я думаю, все уладится…
На улице Ратнер встретил Клару Осиповну.
— Почему ты здесь?
— Не исключили Нюму? — спросила она дрожащим голосом.
— Нет, успокойся сама. Господин инспектор придет ко мне завтра. А Нюму ты оставила одного?
— Он уснул.
Немного успокоенные, они направились домой.
В обеденный перерыв Петр Костенко вышел из цеха. Было совсем тепло. Весенний ветер теребил его прямые русые волосы.
Позавтракав краюхой ржаного хлеба и густо посоленным куском сала, он вытер руки бумагой, в которую был завернут завтрак, выбросил ее за колоды и отправился на поиски своего приятеля. Тимка Вайс работал вместе с ним в инструментальном цехе завода «Гретер и Криванек», одного из самых крупных промышленных предприятий Киева. Не найдя его, он расположился среди отдыхавших рабочих и прислушался к их разговору.
— Слыхал, что случилось на Лукьяновке?
— Нет. А что?
— Об Андрюше Ющинском слышал?
— О зарезанном мальчике?
— Ну да.
— Знаю. Это евреи…
— Моя пришла с базара и приказала детям не выходить на улицу. Поймают и зарежут, говорит она.
— Ай-ай-ай, до чего дожили!
— И не стыдно вам такое болтать? — вмешался третий, пожилой, с сединой человек.
Не обратив внимания на эти слова, перебивая один другого, рабочие принялись взахлеб пересказывать базарные версии преступления.
Костенко решил поговорить с этими рабочими, которых он знал как честных людей. Они, правда, из другого цеха, один из них, пожилой, работал на складе готовой продукции. Костенко слышал стороной, будто в молодости он был близок к революционным кругам.
— Федор Николаевич, — обратился к нему Костенко, — приходите послезавтра в клуб служащих контор и торгово-промышленных предприятий. Вы, вероятно, помните, где находится клуб? Вот газета, там есть объявление.
— Да, хорошо помню… — ответил рабочий. Развернув газету «Киевская мысль», он понимающе улыбнулся.
— Так придете? — переспросил Костенко.
Федор пожал плечами, он, мол, не знает, сможет ли. Уж больно он стар, тяжело для него ходить на такие собрания…
— Отвык, дорогой Петро, от сходок, не те уже годы…
— Нет, Федор Николаевич, приходите обязательно, там расскажут об этом таинственном убийстве. — И, обернувшись к двум другим рабочим, предложил: — И вы, товарищи, приходите в клуб, там узнаете правду.
— Сто раз уже рассказывали и пересказывали, — отозвался рабочий в грязном потрепанном фартуке.
— Многое зависит от того, кто рассказывает, — возразил Костенко. — А правду знать никогда не мешает.
К ним подсел Вайс. Достав из кармана завтрак, он принялся за еду.
— Ты вот спроси у Тимки, он тоже рассказывает всякие небылицы, — продолжал рабочий в фартуке.
— Ты что, Сережа? Какие небылицы? Что ты мелешь?
Тот, которого Тимка назвал Сережей, повернулся к прежнему собеседнику.
— Расскажи, Коля, что твоя жена слышала на Житнем базаре. — И, указав на черную кучерявую голову Тимки, продолжал: — Притворяется, что ничего не знает.
— Ты что, — сказал Коля, — неужель не знаешь, что «твои», с черными бородами, гоняются за нашими детьми…
— Так об этом твоя жена слышала на Житнем? — рассмеялся Тимка. — Еще о чем она слышала? А о том, что черти летают над крышами и через дымоходы сыплют соль бабам в юшки, слышала? Петро, а твоя жена тоже видела чертей над крышами?
И, показав белые крепкие зубы, Тимка так заразительно засмеялся, что и Костенко, и пожилой рабочий засмеялись тоже. Даже Сережа и Коля усмехнулись.
— Товарищи, приходите-ка все в клуб. Знаете, где он находится? — спросил Костенко.
— Я не хожу ни по каким клубам… — отрезал Сережа.
— Там проповедуют студенты, а я студентов не уважаю, особливо курчавых… — сказал Коля. — К чему они мне? Одного только студента знаю — Голубева. Вот это человек! Он тоже не уважает курчавых. Мне довелось один раз слышать его в церкви, до чего же красиво говорит!
— И его я тоже не люблю, — заметил Сережа. — Лгун!
— Неверно. Он говорит сущую правду.
— Вот так правда! — одновременно улыбнулись Костенко и Вайс. — Он ведь известный погромщик…
— А тебе-то что, Костенко? Ты ведь не еврей, тебя он не тронет, — сказал Сережа.
— Сядь поближе, — Костенко потянул Сережу за фартук.
— Отпусти, — вспылил молодой рабочий, — ты, агитатор!
— Ты еще молод, вот и вторишь глупым базарным бабам! Я тебе дам книжку почитать — и тогда поймешь, что правда не у Голубева. — Костенко дружески похлопал Сережу по плечу: — Эх ты!.. Как твоя фамилия?
— К чему тебе моя фамилия?
— Не для охранки, не бойся.
— Боялся б я тебя мертвого, — весело сказал Сережа.
— Бояться нечего, а постыдиться — следовало бы.
— «Стыдиться»… Чего?
— Своих слов… Мыслишь не как человек.
— Эк заладил! А кто ж я, по-твоему, коль не человек?
— Говорил я тебе: Голубев позорит тебя.
— Не имеешь ты права так говорить: Голубев за всех истинно русских людей стоит, — не унимался Сережа.
— Ты-то ведь не русский! — сцепился с ним Костенко.
— А кто я? Слышь, Коля, что говорит хохол?
— Да, я — хохол. А как твоя фамилия, Сережа?
— Лайко.
— Значит, ты тоже хохол. Только не говори так. Ты человек — это главное. Вот твой Голубев все твердит: «истинно русские люди», «истинно русский человек». Да он вообще людей не любит, и русских людей тоже не любит. А как ваша фамилия, Федор Николаевич?
— Гусев.
— Так вот, твой русский Голубев его, Гусева, русского человека, ненавидит только потому, что тот не идет за ним, не желает прислушиваться к его болтовне…
— Правильно, правильно! — поддакивает Федор. Разгладив длинные усы и кашлянув, он добавил: — Мне еще помнится пятый год, когда после 17 октября засвистели казацкие нагайки… А что вы думаете, то, что происходит теперь по поводу убийства Ющинского, равно тому, что происходило в пятом году? Тогда тоже хотели утопить революцию в погромах. Хитрый наш царь Николка со сворой своих министров! Видят, что наш брат рабочий — будь то русский, украинец, поляк, еврей или кавказец — подымает голову, так сразу натравливают хулиганье да воду мутят, утверждая, будто одни евреи повинны в том, что нам живется плохо. Так бейте их, евреев, душите! — кричат они. Хотят задурить наши головы. Вот и теперь с убийством Ющинского… Верно говорю, Петро?
— Верно! Святые слова, Федор Гусев, святые! Как только ироды жандармы чуют, что становимся чуток сильнее, тут-то они и начинают народ баламутить, устраивают погромы, сукины сыны, чтоб о них позабыли.
— Не рассказывайте нелепиц, не с детьми сидите, — озлобился Сережа.
— Сущую правду говорю.
— Ты, дружок, — обратился Гусев к Сереже, — прислушайся к словам Костенко, он человек честный.
— Какой он честный, если вон с тем приятельствует, — Сережка указал на Тимку Вайса.
— Дурак! — вспылил Тимка. — Зачем с ним разговариваешь, Петро? Он вскоре вместе с этим Голубевым живых людей будет жрать, честное слово!
— Не надо ругаться, Тимка. Придет время, он поймет, кто прав. Несколько раз объясним ему, в конце концов он поймет.
Заводской гудок напомнил, что кончился обеденный перерыв.
Прошло несколько дней после того, как в пещере был обнаружен труп Андрея Ющинского.
В Киевской судебной палате, как обычно, стояла тишина, отличающая такого рода учреждения от других. К окнам, выходящим на широкую улицу, льнул ясный день, суля весеннее тепло. Казалось, вот-вот нагрянет весна и захлестнет не только этот светлый город, но и весь мир небывалой свежестью, невиданными еще красками. По краям тротуаров бурно неслась вода, растворяя в своих мутных потоках остатки раскромсанного снега, все еще сопротивляющегося могучему животворному светилу.
У окна одной из комнат стоял член судебной палаты Леонтий Иванович Шишов. Наблюдая за весенней стихией, он думал о своей дочери, которая совершенно неожиданно вернулась из Петербурга. Картина раскованной весны напоминала ему о характере и темпераменте любимой дочери.
Теплое чувство, овладевшее им, тут же сменилось болью: почему дочь не пошла по тому пути, на который он направлял ее с детства? Почему сын Анатолий якшается со студентом Владимиром Голубевым, снискавшим славу скандалиста и хулигана? Нет мира, нет лада в семье. Невелика честь быть отцом такого сына, с горечью думал Леонтий Иванович, и сердце у него сжималось.
Вот медленно, по колеса в воде, подходит трамвай. Десяток пассажиров, стараясь не замочить ноги, выбирались на тротуар. Шишов увидел своего коллегу — члена Киевской судебной палаты Василия Павловича Буковского. Он спрыгнул с трамвайной ступеньки прямо в воду, неуклюже зашагал в своих глубоких калошах.
Левой рукой Буковский придерживает тяжелые полы шубы, а в правой у него палка, которой он пытается нащупать брод.
Леонтий Иванович подумал, не несет ли Буковский какие-нибудь приятные новости, иначе зачем ему так спешить?.. Шишов даже вышел навстречу коллеге, который замешкался в гардеробе.
Предчувствие не обмануло Шишова. Очутившись в вестибюле второго этажа, Буковский взял сослуживца под руку и повел его в присутственную комнату. Только там он тихо сказал:
— Чаплинский уже приступил к исполнению обязанностей прокурора судебной палаты.
— Уже? — Шишов достал из жилетного кармана старомодную табакерку, кончиками двух пальцев взял щепотку табака и затолкал ее в нос. — Вот как! А я думал, может, вообще не приступит… Откуда сие вам известно?
— Знаю. Точно знаю.
После небольшой паузы Буковский подошел к своему письменному столу, собрал лежавшие кучей бумаги и стал наспех рассовывать их по ящикам.
— На всякий случай, пусть будет порядок!
— А когда он удостоит нас чести?..
— Возможно, еще сегодня, — ответил Буковский, заглядывая в ящики.
— Даже сегодня?.. — Шишов задумался.
— А не привести ли нам себя в порядок у кауфера? — спросил Буковский.
Шишов промолчал.
Инстинктивно одернув полу мундира, он позвонил. Вошедшего курьера попросил принести стакан чая и бутерброд.
— Завидую вашему олимпийскому спокойствию, Леонтий Иванович!
— В самом деле завидуете? — слегка прищурясь, спросил Шишов.
Губы Буковского скривились, опухшие глаза сузились.
— Честное слово, завидую, — сказал он. — У меня дом полон людей, приживалки всю жизнь сидят на моей шее, а я должен страдать. Но не думайте, по натуре я смелый, Леонтий Иванович, очень смелый! Вы так не считаете?
Шишов иронически смотрел на своего смелого сослуживца:
— Да, да, все так… — Шишов отвернулся, чтобы взять стакан с чаем.
За дверью послышались торопливые шаги, где-то далеко в коридоре хлопали двери.
Оба чиновника напряженно прислушались. Заметно побледнев, Буковский смотрел на дверь.
— Не он ли?
— Весьма возможно, — спокойно ответил Шишов.
— Вы понимаете… не знаю, чем это объяснить… — язык Буковского заплетался, — каждый раз, когда мне приходится иметь дело с влиятельными чинами, я теряюсь, а тут сам Чаплинский… с его репутацией…
Шишов неожиданно вышел. Вскоре он вернулся и торжественно заявил:
— Его превосходительство министр юстиции — господин Щегловитов собственной персоной.
Ошеломленный Буковский схватил Леонтия Ивановича за руку и подавленным голосом произнес:
— Не может быть… Сам министр?..
— Ну чего вы испугались, Василий Иванович, как вам не стыдно? — пожурил он коллегу.
Лишь теперь Буковский понял, что Шишов пошутил.
— Вы должны понять меня, Леонтий Иванович, — опустив голову, прошептал Буковский, — я ведь объяснял вам, полон дом, приживалки, домочадцы…
Яркий день рвался в комнату. Битых два часа оба члена судебной палаты сидели за своими столами в ожидании нового прокурора. Четыре часа. Присутственный день близился к концу.
Председатель судебной палаты тайный советник Александр Александрович Мейснер, сухопарый, с огромной головой и маленькими строгими глазами, вышел из своего кабинета. Он и не подозревал, что действительный статский советник, новоиспеченный прокурор Киевской судебной палаты посетит его первого.
Быстрыми шагами Чаплинский подошел к двери кабинета председателя, постучал. Никто не отозвался. Недовольный, Георгий Гаврилович постучал еще раз и оглянулся по сторонам — первый визит, и такой конфуз.
Прокурор двинулся дальше по коридору, остановился у комнаты членов палаты.
— Господа! — послышалось за дверью.
Буковский вскочил, вытянулся. Шишов не успел подняться — на пороге стоял человек среднего роста в знакомом судейском сюртуке с блестящими пуговицами, Широкое лицо, немного грубоватое, с коварными карими глазами, было обращено к Буковскому. Поглаживая пышные усы, он в то же время думал: знали о его приходе или нет?
— Здравствуйте, господа! — громко произнес он, подошел сперва к Шишову, а затем к Буковскому и пожал обоим руки.
Чиновники представились, но прокурор движением руки остановил их:
— Остальное мне известно. А что, Александр Александрович болен? — невозмутимо поинтересовался он, заглушая в себе возникшее недовольство.
— Его превосходительство, вероятно, удалились на обед, — осторожно предположил Буковский.
— На обед? Так рано? — Чаплинский покачал головой.
— Возможно, действительно рано… — подхватил Буковский.
— Рано, — тоном, не допускающим возражения, заключил прокурор.
Степенно прохаживаясь по комнате, Чаплинский заметил, что портрет Александра Второго Освободителя висит не на надлежащем месте. Затем остановился у окна, всматриваясь в царившее на улице оживление, сказал:
— Как люди торопятся. Какой в этом смысл? Как вы считаете, Леонтий Иванович? — прокурор повернулся к Шишову.
— Что именно, Георгий Гаврилович? — не понял тот.
— Да вот, торопятся люди…
— Не знаю, что вы хотите этим сказать.
— Что я хочу сказать?.. — Чаплинский испытующе поглядывал на обоих членов судебной палаты. — Для нас, судейских работников, существует незыблемое правило: искать медленно, углубленно, чтобы найти одну только правду. Несмотря на известную поговорку, будто правда всплывает подобно жиру на воде, мы все же по опыту знаем, что иногда приходится горы переворачивать, пока найдешь ее, эту пресловутую правду. Кое-кому приходится расплачиваться карьерой… Я хочу сказать, что мы торопиться не станем. Нам следует найти в себе силы, терпение, чтобы докопаться до этой самой правды. Мы, судебные работники, не должны ошибаться, иначе грош нам цена.
Чаплинский говорил, и при этом усы его подергивались и обнажались острые, как у грызуна, зубы.
— Вы поняли меня, господа? Это мой принцип, на нем зиждется вся моя деятельность.
Шишов невольно присматривался к движениям рук Чаплинского: прокурор погладил свою блестящую розовую лысину, затем провел тыльной стороной ладони по мягким волосам, окаймляющим нижнюю часть головы, и продолжал:
— В одном лишь случае нам дано право несколько поторопиться в поисках правды: тогда, когда дело идет об интересах русского духа, о всех явных и скрытых врагах России… церкви… Только в этих исключительных случаях и может быть оправдана поспешность.
Чаплинский помолчал, после чего, улыбаясь, обратился к членам палаты:
— А вы как думаете, господа?
Опустив головы, оба молчали, внимая доверительным высказываниям нового прокурора. Почтительно, с покорным трепетом в голосе, первым заговорил Буковский:
— Вполне разделяю ваши глубокомысленные соображения, Георгий Гаврилович, вполне…
Шишовым овладело такое чувство, будто у него насильно хотят вырвать то, что он не совсем еще продумал. В то же время ему не хотелось противоречить новому и влиятельному прокурору с первой же встречи. Но как он был поражен, когда Чаплинский вновь обратился к нему, желая знать, не расходятся ли их мнения.
Не спеша Леонтий Иванович достал из кармана табакерку, повертел ее в руках и, разгладив бакенбарды, ответил:
— Мне кажется, Георгий Гаврилович, что истина является нашим высшим и первейшим принципом, она возвышается над всеми другими человеческими чувствами…
— А чувство верности русскому народу, престолу? — спросил Чаплинский, слегка повышая голос.
— Обретенная истина неизменно возвышает и народ, и престол…
— Прекрасные слова, Леонтий Иванович, прекрасные! — Лицо прокурора просветлело, глаза заблестели. — В таком случае, мне легко будет подвизаться с вами на ниве правосудия, очень легко!
Приблизившись к окну, Чаплинский повторил:
— Вы все-таки поглядите, как люди торопятся. Весна как-никак, господа!
Крепко пожав руки своим будущим сослуживцам, он вышел из комнаты.
Члены палаты молча заняли свои места. Шишов вынул из жилетного кармана кусочек замши, вытер очки и снова надел их. И тогда он увидел, что Буковский с удовлетворением потирает руки.
— Ну что? — спросил Шишов.
— А знаете, Леонтий Иванович, он мне нравится. Это настоящий столп нашего ведомства. Давно слышал о нем, о Чаплинском, давно…
Шишов ничего не ответил, поглядел на часы и с тревожным чувством направился к выходу. Вспомнил на лестнице, что в ящике стола остался рецепт нового средства от головной боли, но решил, что не стоит за ним возвращаться.
Леонтий Иванович вернулся из судебной палаты в тяжелом, подавленном настроении. Все, что ему довелось слышать в последние дни по поводу зверского убийства мальчика на Лукьяновке, он связывал с назначением Чаплинского на должность прокурора Киевской судебной палаты, впрочем, мыслей своих он высказывать не решался. Вообще в последнее время в судебном ведомстве империи творятся невероятные вещи… Вот, например, не так давно один из членов Саратовской судебной палаты позволил себе выступить против одного обвинительного акта, явно лишенного законных оснований, однако результат этого протеста оказался довольно плачевным: смельчака отстранили от должности, предложив уйти на пенсию, и даже выслали в отдаленную губернию.
Леонтий Иванович прилег отдохнуть. Вскоре из передней донесся шум — это Анатолий вернулся домой навеселе.
Как ни удерживала его мать, сын все же ворвался к дремавшему отцу.
— Проснись, папа! Послушай меня, господин член судебной палаты! Ты ведь человек совести, как же ты можешь допустить, чтобы твоя дочь — Анастасия Леонтьевна — отбивала мужа у законной жены? Это ведь безнравственно… Недостойная она, твоя дочь, выходит?
— Что случилось? — поднявшись с кушетки, еще не совсем очнувшись от сна, спросил Леонтий Иванович.
— Толя, сын мой… Да что это с ним творится в последнее время! Вот несчастье! Ты, Леонтий, уж прости его, не сердись! Он, видимо, нездоров, — причитала мать.
Леонтий Иванович недоумевающе смотрел на них.
— Толя не в себе, Леонтий… Надо бы посоветоваться с врачом. Настюша, сделай одолжение, вызови врача. — Заметив, что дочь и не собирается выполнить ее просьбу, Серафима Гавриловна вдруг прикрикнула на горничную: — Чего стоишь как мертвая! Позови скорей доктора Бронштейна.
— Не нужны мне евреи-врачи! Они зарезали Андрюшу Ющинского… — зарыдал вдруг Анатолий, обдавая всех запахом спиритуозного дыхания.
— Глядите-ка, расплакался, до чего милосердная душа!.. Зарезали Ющинского… — глядя в упор на брата, проговорила Настя. — Понимаешь, папа, чуть только студенты или рабочие слегка подымут головы, так голубевы и компания начинают обвинять евреев во всех смертных грехах — знайте, мол, где все зло зарыто…
— Слышите, о чем говорит крамольница? — Анатолий ударил кулаком по столу и заорал во весь голос: — Замолчи! Твои слова — прямая защита евреев и всех агитаторов!
— Пойди же, — вновь обратилась мать к горничной, — позови доктора.
— Не желаю доктора! Не нужен он мне! — вопил Анатолий.
— Тут нужен психиатр, а не терапевт… — заметил Леонтий Иванович.
— Я вовсе не сумасшедший, отец. Да будет тебе известно, что твоя дочь открыто флиртует с хохлом, у которого есть законная жена и ребенок. Ты не имеешь права прощать ей это…
Леонтий Иванович сидел неподвижно. Взгляд его без очков казался каким-то особенно растерянным. Он только пожал плечами и пробормотал в полном смятении:
— Что творится у меня в доме — ничего нельзя понять!
Сложив руки на груди, Настя с омерзением смотрела на Анатолия.
— С тех пор как вернулась эта крамольница, в нашем доме все пошло вверх дном, — не унимался Анатолий. — Скажи ей, отец, ведь ты за справедливость и законность, почему же прощаешь ей откровенный разврат?
— Это правда?.. — нерешительно спросила мать, глядя дочери прямо в лицо.
— Хулиган! — сквозь зубы прошептала Настя.
Отец беспомощно посмотрел на детей, перевел взгляд на жену. Характер сына ему хорошо известен, но то, что он услышал о Насте, для него, нравственно чистого человека, казалось громом среди ясного неба. Неужели Настя действительно опозорила его семью?
— Это верно, что он говорит?
— Ложь! — спокойно и твердо ответила Настя, глядя в глаза отцу.
Леонтий Иванович повернулся к сыну. Отцовские глаза, всегда такие добрые и нежные, теперь выражали страдание и смятение. Казалось, вот-вот — и Леонтий Иванович вспыхнет и обрушит свой гнев на стоявшего перед ним долговязого телепня.
Анатолий продолжал неистовствовать. Стремглав бросился он в комнату сестры, и, раскидав ее постель, извлек из-под изголовья небольшую книгу.
— Гляди, папа! — крикнул он торжествующе. — Она читает запрещенное издание «Кобзаря». Вот что приносит она в наш дом!..
— Тарас Шевченко, — вздохнула с облегчением мать, увидев обложку.
Настя подбежала к брату, ловко выхватила у него книгу из рук и наотмашь ударила его по лицу.
— Вот тебе, черносотенец! — крикнула она, вне себя от возмущения.
Опешивший Анатолий схватился за пылающую щеку.
— Боже мой! — вырвалось у Серафимы Гавриловны.
Леонтий Иванович промолчал, втайне он гордился своей дочерью.
В одну из апрельских ночей жена прокурора Киевской судебной палаты почувствовала себя плохо. После своего назначения на эту ответственную должность Георгий Гаврилович до того увлекся срочными делами, что совсем забыл о жене. Сидя за столом в своем кабинете, он внимательно изучал величайшей важности документы. Неожиданно в дверь постучали, вошла горничная.
— Что случилось? — спросил Чаплинский.
— Барыне плохо, — сказала горничная и убежала.
Не хотелось прокурору отрываться от занятий, но что поделаешь! И он порывисто поднялся и поспешил в спальню.
Возле жены стояла горничная с ложкой в руке. Он услышал взволнованные слова:
— Выпейте, барыня, вам сразу полегчает. Доктор велел.
Больная покорно проглотила лекарство, положила голову на высоко взбитую подушку и сквозь полузакрытые веки посмотрела в сторону вошедшего мужа.
Георгию Гавриловичу казалось, что взгляд жены проникнут укором, и он невольно почувствовал себя виноватым. Прокурор действительно в последнее время почти не общался со своей красавицей женой. Посмотрев теперь на нее, слабую и томную, он заметил коричневатые пятна на лице и одутловатость, характерную для беременных.
— Может быть, вызвать акушера? — спросил он.
Жена слегка пошевелила головой: пока не надо…
— Ты совсем забыл меня… — после небольшой паузы сказала она.
Нет, он о ней не забыл. Хотя в последние дни действительно с головой ушел в одно чрезвычайной важности дело; обстоятельства вынуждают его к крайней сосредоточенности и самоуглублению. Прокурору очень хотелось поведать спутнице своей жизни, перед какими испытаниями поставила его судьба, но поймет ли она его? Жизнь только однажды предоставляет человеку возможность взлета… И эта возможность связана с событиями большого значения. Всякий взлет всегда таит в себе опасность, которую необходимо вовремя заметить и преодолеть. Взлет и падение всегда рядом, поэтому нужно быть начеку, смотреть в оба, тем более когда речь идет…
Но ничего этого он не сказал жене, только поцеловал ее влажный лоб и, пожелав спокойной ночи, удалился к себе.
Вчитываясь в лежащие перед ним книги и брошюры, прокурор хотел постичь истину. В голове все мешалось, словно в тумане. Всплывали картины далекого детства: нелегкие годы учения у католика-иезуита — мрачного, двуличного человека с отталкивающей внешностью. Картины эти и поныне давят его сознание. Недавние встречи со студентом Голубевым возродили в памяти дни, проведенные у иезуита. Чаплинскому порою казалось, что свое будущее он должен строить на том, что посеял в его душе этот темный человек, и лишь только тогда он с помощью таких, как Голубев, сможет совершить свой взлет…
Пододвинув ближе массивную настольную лампу, Чаплинский читал: «…Укажем на сочинения некоторых крещеных евреев. В 1614 году крещеный еврей Бренн написал книгу, в которой доказывает, что при тяжелых родах еврейки употребляют христианскую кровь. Подобное мнение поддерживает иезуит Радегис и добавляет при этом, что еврейкам необходима христианская кровь при всяких родах. Венгр Бонифатий утверждает, что у евреев не только женщины, но и мужчины подвержены периодическим менструациям и они лечат себя христианской кровью. В Торнау в 1494 году…»
Чаплинскому стало не по себе. Он поднялся, прошелся по кабинету, достал коробку папирос — курил он очень редко — и, закурив, вдохнул всей грудью горьковатый дым. Потом прокурор отворил окно и выбросил окурок. Однообразный монотонный звук долетал до его слуха, где-то капля долбила камень.
Наслаждаясь апрельской прохладой, врывавшейся в распахнутое окно, Чаплинский подумал, что неплохо было бы проведать жену, но тут же раздумал. У него столько дел, а главное — он еще не решил, что будет говорить архимандриту Киево-Печерской лавры отцу Евстафию, с которым собирался встретиться завтра. К тому же в конце дня предстоит беседа с профессором Киевского университета Оболонским и с прозектором Туфановым… Завтра тяжелый день, а он еще не отдыхал, и сон бежит от него…
Вынув из ящика небольшое зеркальце, он посмотрелся в него. Под глазами темные набухшие мешки… Обычно строгое лицо показалось ему каким-то одутловатым и помятым. «Оттого что мало сплю», — решил Чаплинский. Быстро раздевшись и потушив лампу, он лег на диван. В дремоте ему привиделось, что жена рожает, зовет его, простирая к нему руки, а он грубо отстраняет ее, продолжая копаться в материалах о кровавом средневековье…
Чаплинский тяжело перевернулся на другой бок. Несмотря на калейдоскоп сновидений, он проснулся свежим и обновленным. Еще не умывшись, заглянул к супруге. Она улыбнулась и мягко спросила:
— Как тебе спалось?
— Это я у тебя должен осведомиться, моя дорогая…
Она не дала ему договорить:
— Я вижу, ты так озабочен… — И после маленькой паузы: — И так занят срочной работой.
— Ты даже не представляешь себе!
— А что, собственно, случилось? — жена удивленно раскрыла глаза и добавила: — Если это, конечно, не секрет, господин прокурор…
— Загадочное убийство, дело запутанное… Тебе о таких вещах думать теперь ни к чему.
Женщина протянула обнаженную до плеча руку, ухватила мужа за пальцы, мягко сжала их и сказала непринужденно и легко:
— Распутаешь, господин прокурор, уверена, что распутаешь!
— Бог знает… — вздохнул он.
Приподнявшись на постели, она ободряюще улыбнулась.
— Я в этом не сомневаюсь…
Чаплинский благодарно наклонил голову, поцеловал жену в лоб и решительно вышел из комнаты.
На столе в своем служебном кабинете прокурор увидел записку, в которой сообщалось, что отец Евстафий прибудет к десяти часам утра. Чаплинский предполагал до его прихода поговорить с Голубевым, да, видимо, уже не хватит времени.
К предстоящей встрече со святым отцом он внутренне готовился, подыскивал слова, убедительные, добрые, которые помогут найти общий язык.
Он знал, что православные пастыри не отличаются такой фанатичностью и непримиримостью, как католические. Это ему известно и из литературы, и из личного опыта. Прокурору словно бы хотелось убедить самого себя в том, что православные богослужители не столь ревностно пекутся о защите догм своего вероисповедания.
Тут Чаплинский подумал об Антонии — архиепископе Волынском. Ему, Чаплинскому, пришлось однажды встретиться с этим известным публицистом и деятелем православной церкви, который в дни своей молодости именовался в миру Алексеем Павловичем Храповицким. Вот он-то, пожалуй, не поступится непримиримостью к неверным и вообще к людям, подрывающим основы христианской религии, он настойчив не меньше, чем ярые католики.
В деле, которое ему, Чаплинскому, предстоит вести, необходимы люди сильной веры и большой ненависти ко всем врагам Отечества, престола и всего исконно русского. Люди, которые поведут борьбу с революционерами, готовыми посягнуть на престол. Люди, отвергающие инородцев! Ведь именно революционеры да инородцы грозят гибелью всему национальному…
Прокурору вспомнилось пережитое им мучительное чувство, вызванное словами одного богатого помещика, будто бы фамилия Чаплинский не русского происхождения… Он намекал на то, что прокурор происходит от рода поляка Чаплинского, в свое время действовавшего против Богдана Хмельницкого…. Это чепуха, прокурор докажет русскому народу и русскому царю всю силу своей преданности Российской империи.
Стук в дверь прервал нить размышлений прокурора.
— Милости прошу, отец Евстафий, — низко кланяясь, сказал Чаплинский.
Порог кабинета переступил благообразный старик, весь облик которого говорил о глубоком чувстве собственного достоинства, характерного для людей его сана. Поставив палку в угол, он огладил длинную седеющую бороду и усы, мягко промолвил «здравствуйте» и благословил хозяина кабинета, который так низко склонил свою голову, будто желал поцеловать благословляющую его руку.
— Прошу садиться, — сказал Чаплинский.
Отец Евстафий подобрал полы рясы и грузно опустился в кресло.
— Как поживаете, отец Евстафий?
— Благодарю вас. Моя жизнь растворяется в жизни вверенной мне святой обители. Бог нас терпит…
Несмотря на то что Чаплинский как будто заранее продумал, как повести беседу с таким видным и опытным богослужителем, он все же не смог сразу найти ключ для решения своей задачи. Воспользовавшись тем, что на столе лежал свежий номер газеты «Киевская мысль», Чаплинский слегка кивнул в ее сторону, затем перевел взгляд на гостя и спросил его якобы без всякой задней мысли:
— Вы читаете эту… еврейскую газету?
— Почему «еврейскую»? — удивился архимандрит.
Чаплинский, видимо, не ожидал такой реакции. Он замялся, пальцами нервно забарабанил по столу и, стремясь быть предельно внимательным, удивленно покачал головой.
Не найдя других слов, Чаплинский пробормотал:
— Всем известно… как же… — И решил сразу перейти к сути дела: — Вы, конечно, читали заметку об убитом мальчике?.. А знаете, отец Евстафий, кто повинен в убийстве?
— Мы в Лавре далеки от мирской жизни…
— Не говорите, батюшка, это дело и вас касается.
Губы старика дрогнули.
Когда Чаплинский отвернулся к окошку, отец Евстафий осторожно встал со стула.
— Я пойду, Георгий Гаврилович… — В его голосе звучала растерянность.
— Куда же вы? Вы меня не так поняли, отец Евстафий…
Как ни хотелось Чаплинскому произвести на духовное лицо должное впечатление, он не знал, как этого добиться. «Надо говорить со стариком осторожнее, если мои слова вызывают у него такую реакцию», — подумал Чаплинский.
— Так каково же ваше мнение, отец Евстафий? Как вы считаете — кто мог убить невинного христианского мальчика? — как можно доверчивее спросил прокурор.
— Как обычно бывает, — злодеи… Так я мыслю.
— Злодеи-то злодеи, но какие? Видите ли, меня поставили на такую должность, которая призвана охранять православный русский народ и его царя от всяких злодеев. Бывают злодеи, что пытаются пошатнуть устои трона, — этих мы изловим и покараем. Но есть преступники, коих изловить трудно. Их много, и они мстят русскому народу, пьют его кровь… Да, да, пьют кровь. Вы ведь знаете, что у евреев теперь канун Пасхи?
Лицо старика потемнело.
— Ах вот вы о чем, Георгий Гаврилович… В бытность мою настоятелем Почаево-Успенской лавры два инока еврейского происхождения сказывали мне, будто у их сектантов — у хасидов или хусидов — имеется страшный обычай: добывать кровь убиенных христианских отроков. Она требуется им для приготовления еврейских пасхальных опресноков, или, как у них называется, мацы…
Чаплинский удовлетворенно вздохнул. Он встал и радостно перебил старца:
— Отец Евстафий! Нам необходима ваша помощь, помощь мудрого и многоопытного пастыря.
Чаплинский надеялся, что, возбужденный своим же повествованием, священнослужитель сам придет к логическому выводу и поможет открыться затаенной мысли и далеко идущим желаниям прокурора. Однако отец Евстафий молчал, губы его под густой бородой сомкнулись, а руки на коленях дрожали мелкой неуемной дрожью.
«Наступил момент, когда следует направить сердце и разум старца так, чтобы он мог послужить делу России», — решил Чаплинский.
— Что с вами, отец Евстафий? — обратился он к старцу.
— Ничего. Вы сказали — нужна помощь, — тихо сказал отец Евстафий, — а я немощен, стар…
— Нам не нужна ни ваша мощь, ни ваша сила. Вы только напишите министру то, что вы мне изволили сказать, и пусть продажная «Киевская мысль» знает, что вы вместе с русским народом…
— Да с каким же другим мне быть народом? Чай, с русским всю жизнь… А министру мне что писать? Ведь мне сказывали это крещеные, принявшие православие, не моя ведь это мысль… Какие-то затуманенные люди… — Отец Евстафий резко, не по своим летам, поднялся. — Вы, Георгий Гаврилович, запамятовать изволили, что и у нас есть совесть… — И, помолчав, добавил: — Поразмыслю еще, подумаю…
Приступ удушливого кашля прервал его слова. Кое-как уняв кашель, благочестивый отец распрощался и направился к выходу.
Чаплинский был не удовлетворен беседой. Легкое раздражение овладело им. Видно, утратил он былое красноречие, способность убеждать… Когда-то, на заре прокурорской деятельности, многие говорили ему о волшебных чарах его ораторского дара и, главное, об умении околдовать присяжных заседателей, убедить их в справедливости своих суждений и в правильности обоснования обвинения. А сегодня он проиграл.
Чаплинский взял в руки акт судебно-медицинской экспертизы, подписанный профессором Киевского университета Оболонским и прозектором того же университета Туфановым. Еще раз пробежал его глазами, мелькнула мысль: «Вот придут ученые мужи, может, и они, как отец Евстафий, будут вилять хвостами… Кого ж они боятся? Неужели продажной печати и революционеров?..»
И как раз в этот момент прокурору доложили, что пришли Оболонский и Туфанов.
— Господа, — встретил их Чаплинский, — вы проделали большую работу, но… я не чувствую здесь, — он показал на акт, — что именно вы на стороне России…
Пришедшие переглянулись.
— Скажу откровенно: мне хочется знать, читали ли вы когда-нибудь записки иеромонаха Лютостанского?
— Кого? — переспросил профессор Оболонский и недоумевающе посмотрел на Туфанова.
— Это вам не делает чести, господа. При сочинении этого акта, — Чаплинский поднял вверх бумагу, дрожавшую в его руках, — нужно было учитывать мысли и замечания известного специалиста по этому вопросу Лютостанского.
Профессор Оболонский передернул плечами:
— Как понимать ваши слова «при сочинении»?.. Мы не сочинители, господин прокурор. Это официальный документ, свидетельствующий о несчастной жертве…
— Верно, о жертве, принесенной определенной группой во имя изуверства. Страшное злодеяние, господа ученые. А у вас получается, будто христианский мальчик убит из мести, а на самом же деле вы можете заметить, что кровь из ран несчастного мученика выцедили еще при его жизни…
Оба врача почти одновременно поднялись со своих мест.
— Что вы говорите, Георгий Гаврилович?.. — ошеломленно пролепетал Оболонский.
— Глядите, господа, как бы вы не просчитались, будет поздно… Вам можно и замену подыскать.
И после небольшой паузы:
— Сегодня как раз шел разговор о вас у губернатора. Вы что, хотите проститься с университетом? — Чаплинский повернулся к Туфанову: — Думаете переехать в Казань?..
Ученые молчали, каждый думал, насколько тесно сосуществуют честь и бесчестие в деле, которому они посвятили жизнь. Увидев надменное лицо прокурора, они поняли, зачем их сюда вызвали.
Они слушали высокопарно звучавшие слова о преданности идеалам науки, призванной служить престолу, и им казалось, будто с портрета над столом прокурора на них смотрит выжидающе самодержец.
Профессор Оболонский и прозектор Туфанов раскланялись. Вышли на шумную, солнечно-радостную улицу.
Остановились у памятника Богдану Хмельницкому. Нарушил молчание Туфанов, обратившись к своему старшему коллеге:
— Николай Алексеевич, если меня не обманывает чутье, нас собирались лишить чести…
Оболонский зашагал дальше, ничего не ответив.
А прокурор Чаплинский тем временем составлял в судебной палате доклад министру юстиции в Санкт-Петербург о результатах сегодняшних встреч. Обстоятельно сообщив об отрицательном ответе экспертов на вопрос о ритуальном характере убийства Ющинского, Чаплинский дописал решительно: «Тем не менее эксперты заявили, что в дальнейшем развитии следствия они, быть может, и в состоянии будут дать заключение о ритуальных мотивах этого убийства».
Солнечным апрельским днем Исай Ходошев с чемоданом в руке поспешно направился в редакцию газеты «Киевская мысль», откуда и позвонил по телефону на вокзал, справляясь о ближайшем поезде в Петербург. Узнав, что до отправления поезда остался всего один час, он попросил оставить ему билет. Распрощавшись с сотрудниками, Ходошев вышел на улицу, вскочил в трамвай — и вот он уже в купе второго класса, поезд мчит его в Петербург.
Ходошеву довелось однажды побывать в столице Российской империи, двое суток провел он в этом прекрасном городе. Тогда его вызвали из Петербургского телеграфного агентства для переговоров о сотрудничестве. Теперь же он едет с удостоверением газеты «Киевская мысль», которое дает ему право на посещение заседаний Государственной думы. В редакцию киевской газеты поступили вполне достоверные сведения о том, что на одном из ближайших заседаний Государственной думы будет обсуждаться вопрос об убийстве Андрея Ющинского, а так как в киевских журналистских кругах распространились разные слухи о мерах, предпринимаемых правыми элементами Думы, редакция газеты «Киевская мысль» решила послать своего сотрудника в Петербург, чтобы получить информацию непосредственно с места событий.
Ходошев прибыл в столицу солнечным утром двадцать восьмого апреля и остановился в гостинице. Попытка связаться с телеграфным агентством по телефону ни к чему не привела, и он без промедления выехал в Думу.
Дежурный у входа отказался выдать сотруднику провинциальной газеты пропуск. Это, мол, не в его компетенции, объяснил он и посоветовал господину корреспонденту заехать после обеда. В этом случае он застанет старшего офицера, который и поможет разрешить данный вопрос.
Исаю Ходошеву пришлось довольно долго слоняться по улицам огромного города. Вокруг стояла невообразимая суета, люди торопились куда-то, скрежетал трамвай, осыпая искрами рельсы. Сравнивать тихий, спокойный Киев, с его сдержанностью и умиротворенностью, и оживленный, шумный Петербург не приходилось. Ходошеву казалось, что и пешеходы здесь не совсем обычны, будто бы даже носят какую-то особую кованую обувь — такими звонкими, гулкими были их шаги. А в его задумчивом и мечтательном Киеве люди никуда не спешат, ступают тихо, как по мягкому ковру, даже трамваи скользят по рельсам неслышно.
Какая-то невидимая сила толкала Исая в спину, подгоняя его и заставляя перебегать от одной витрины к другой.
В огромной витрине универсального магазина за большим толстым стеклом стоял мужской манекен, одетый в изысканный дорогой костюм. Художник, очевидно, употребил много знания и терпения, чтобы заставить манекен подмигивать прохожим и вещать монотонным глухим голосом: «Не забыл ли ты, прохожий, приобрести то, что тебе необходимо?»
Даже такой видавший виды газетчик, как Ходошев, был ошарашен. Он никак не мог оторваться от замысловатого зрелища. Задумавшись на мгновение, не надо ли и ему что-нибудь купить в этом сверкающем магазине, через порог которого он даже робел переступить, собравшись было войти, Ходошев спохватился, что необходимо спешить в Думу, иначе он может пропустить самое важное, ради чего прибыл в этот город чудес.
Повернув обратно, Исай вскочил в первый же подошедший трамвай и вскоре очутился возле Таврического дворца, где заседала Государственная дума.
Дежурный просмотрел письмо, поданное Ходошевым, вызвал по телефону офицера, который, взяв письмо, тут же вышел; вскоре офицер вернулся, впустил корреспондента и разъяснил ему, где находится ложа для представителей прессы.
Довольный таким приемом, Ходошев быстро поднялся по лестнице и очутился в ложе, где находились представители различных петербургских и московских газет.
Поклонившись ближайшему соседу, возле которого было свободное место, Ходошев представился. Тот привстал и тихо ответил:
— Кузнецов, корреспондент Петербургского телеграфного агентства.
У киевлянина разбежались глаза. Из своей ложи он всматривался в величественный зал, заполненный множеством кресел. Кресла располагались полукругом, многие из них были уже заняты. Перед каждым креслом — пюпитр с бумагами. Люди в визитках, фраках и смокингах сидели в креслах, опершись на подлокотники. Сверху видны были лысины и гладко зачесанные головы депутатов. И все это выглядело так, словно не лишенный каприза художник захотел оттенить именно пестроту и многоцветность.
На трибуне — один только грузный мужчина, председатель думы — Родзянко, а у кафедры — оратор в визитке, обмякшей в плечах. Голос его скучен, он вызывает у слушателей дремоту.
Ходошев настолько увлекся представшим перед его глазами зрелищем, что не мог сосредоточить своего внимания на отдельных депутатах. Громадная люстра, свисавшая с потолка, две поменьше — по бокам — ослепительно сияли многочисленными электрическими лампочками.
В полукруге кресел — депутаты различных партий: правые черносотенные от «Союза русского народа», октябристы, организовавшиеся после 17 октября 1905 года. Несколько обособленно от них — кадеты, далее — националисты, прогрессисты; затем трудовики, так называемые буржуазные демократы; совсем отдельно — рабочие демократы, среди них и социал-демократы. Большинство депутатов составляли помещики, фабриканты, заводчики; кое-где в ряду многочисленных гладко причесанных черных голов выделялись пепельные или серебристые пряди волос — головы священников, скрывающих холеные тучные тела под складками ряс.
— Вон там, в дальних рядах самого центра полукруга, — говорил Кузнецов, — сидят кадеты, так называемые конституционные демократы, либералы во главе с известным историком профессором Милюковым.
— Это и есть Милюков? — удивленно спросил корреспондент, направляя свой бинокль на зал. — Интересно бы познакомиться с ним… — Тот как раз нагнулся к соседу, и Ходошев увидел лихо подкрученные кверху усы Милюкова.
— Вон тот, с приподнятыми плечами, — Родичев, — продолжал Кузнецов, — своеобразный, горячий оратор.
— А где сидят Ниселович и Фридман — представители российского еврейства? — обратился Ходошев к своему коллеге по перу.
— Что-то не видно их, но не унывайте… — Кузнецов взял из рук Ходошева бинокль, обвел взглядом ряды депутатов. — Когда начнутся дебаты, они дадут знать о себе. А, вот и они, сидят рядышком…
— Где, где?
— Чуть дальше, за кадетами. Они что-то беспокоятся! Вот, посмотрите в бинокль: в темном костюме — Ниселович, или, как его величают в русско-еврейских кругах, Леопольд Николаевич. А другой — с гладкой головой — Нафталь Маркович Фридман.
— Вижу, теперь я вижу. Кое-что я о них знаю, но продолжайте.
— Первый — Ниселович, пишет по экономическим вопросам, избран от Курляндской губернии. Второй — Фридман — от Ковенской губернии. Оба довольно опытные адвокаты. Собственно говоря, хотя они и защищают в Государственной думе интересы еврейского населения, но по своему образу мышления и пониманию российской действительности принадлежат к той же группе, что Милюков и Родичев. В единичных случаях, когда в парламенте возникает вопрос о правовом — или, вернее, бесправном — положении евреев в Российской империи, на их плечи падает тяжесть быть представителями гонимого народа.
Тут Ходошев невольно подумал: о них, безусловно, не имеют понятия ни бердичевский портной с бескровным лицом, ни витебский жестянщик — ведь не эти труженики избирали Ниселовича и Фридмана…
— О чем задумались, коллега? — спросил Кузнецов.
— Ниселович и Фридман полагают, очевидно, что еврейский народ может быть спокоен, имея в их лице таких защитников…
— Ошибаетесь, евреи знают о них. Совсем недавно мне рассказывал знакомый журналист, что в еврейских газетах «Гайнт» и «Момент» часто упоминаются имена этих депутатов как представителей от евреев. Я хочу сказать, что оба эти адвоката весьма образованные юристы, солидные ораторы, постоянно выступают против грязной волны наветов и вымыслов, приносимых на эту высокую трибуну Пуришкевичем и его единомышленниками. Обратите внимание, у обоих такой вид, будто они внутренне готовятся в предстоящему бою.
— Почему вы так думаете, господин Кузнецов?
— В этом отношении у меня большой опыт, мне достаточно знакомо поведение так называемых избранников в наш российский парламент.
В это самое время часть депутатов поднялась со своих мест и направилась к боковым дверям. Звонок в руке Родзянко остановил оратора, и председатель попросил депутатов вернуться на свои места. Но тщетно! Один из депутатов сделал довольно выразительную гримасу, показывая, как убийственно скучно выступает оратор. Колокольчик надрывался, но остановить депутатов был не в силах. Вскоре жиденькие хлопки из задних рядов оповестили об окончании выступления «выдающегося» оратора.
Ходошева переполняла новизна впечатлений. В Киеве он однажды присутствовал на весьма оживленном заседании городской думы, но та картина, что ему запомнилась, не шла ни в какое сравнение с грандиозностью происходившего перед его глазами теперь.
Звонок председателя зазвенел как-то особо, многозначительно. Родзянко объявил перерыв, после которого начнется обсуждение внесенного в Думу группой правых депутатов запроса о ритуальных убийствах в связи с убийством Андрея Ющинского в Киеве.
Гул в зале не смолкал. Сердце Ходошева забилось сильнее: скоро, скоро он услышит то, ради чего приехал сюда.
Во время перерыва Ходошев пошел в буфет, у стойки столкнулся со светловолосым корреспондентом, своим соседом по ложе.
— Видите тех трех депутатов? — шепнул ему Кузнецов, прихлебывая чай.
— Что сидят у крайнего окна?
— Да. Это тройка правых главарей. В судейском сюртуке — это бывший товарищ прокурора Виленской судебной палаты.
— А-га, догадываюсь. Наверное, Замысловский Георгий Георгиевич.
— Он самый.
— Вид у него довольно поблекший.
— Обратите внимание на его глаза, коллега из Киева. Стеклянные глаза. Присмотритесь получше — просто оторопь берет!
Новый знакомый Ходошева очень верно подметил, что у Замысловского стеклянные глаза; своим мутным блеском они придавали всему его облику выражение напряженности и затаенной злобы.
В это время к Замысловскому подошел пристав с какой-то деловой бумагой в руке.
Корреспонденты взяли по стакану чая и подсели к соседнему столику, поближе к депутатам. Передавая бумагу, пристав сказал, что это текст запроса, подготовленного правыми депутатами к сегодняшнему заседанию.
Замысловский оживился. Слегка сощурившись, он быстро пробежал глазами текст запроса.
— А тот, которому Замысловский передает бумагу, Марков-второй, — шепнул Кузнецов.
Как только Марков ознакомился с документом, лицо его засияло от удовольствия.
— Как вы думаете, Георгий Георгиевич, достаточно ли сильно и убедительно? — спросил Марков, выжидающе глядя на Замысловского.
— Полагаю, что да, — послышался утвердительный ответ.
— Здесь, правда, следовало бы сказать о черте оседлости… — Марков пальцем отметил в тексте строку.
— Плохой же из вас дипломат! Не к месту здесь, — Замысловский укоризненно покачал головой.
— Почему «не к месту»? Это всегда к месту, — не сдавался представитель курских помещиков.
— Чувствуется, что вы не юрист, Николай Евгеньевич.
— Меньше юриспруденции и побольше истинного чувства, — настаивал Марков.
Вынув из верхнего карманчика пиджака карандаш, он собрался было дописать к проекту свое замечание. Но Замысловский быстро выхватил бумагу из рук Маркова, сложил ее вдвое и спрятал в кожаный портфель.
— Доверьтесь нам, Николай Евгеньевич, — многозначительно сказал Замысловский.
— Я никому не доверяю, даже нашему доктору Дубровину.
Тут в разговор вступил Пуришкевич, оторвав распаренные красные губы от горячего стакана:
— Что за спор среди своих? Чем обижен наш громовержец? — вытирая рот, заговорил он.
— Прочитайте и вы, Владимир Митрофанович, и скажите, чего не хватает в нашем запросе, — настаивал Марков, показывая на портфель Замысловского.
Пока Замысловский расстегивал портфель, Пуришкевич тщательно вытирал мокрый лоб платком.
— Георгий Георгиевич, уступите нашему громовержцу, мы должны быть сплоченными как никогда! — сказал Пуришкевич, прочитав документ.
Замысловский засмотрелся на значок, блестевший в петлице визитки Пуришкевича.
— Вы призываете к сплочению, а сами организуете отдельные союзы. Вот тебе и «Михаил-архангел»! — кипятился Марков, красные пятна выступили на его лице.
— А вы что думаете, друзья мои? Союз «Михаила-архангела» — это не еврейско-социалистический союз, — возразил Пуришкевич. — Я даже сочинил стихи в честь нашего союза. И, как мне стало известно, они читаются в высших кругах русского общества.
— Ваши стихи?.. — в голосе Замысловского сквозит ирония. — Лермонтова из вас, Владимир Митрофанович, все равно не получится, и нового гимна вы тоже не сочините.
— Как знать, милостивые государи. — Глаза Пуришкевича самонадеянно блеснули.
— Знаем, знаем, Владимир Митрофанович. Но лучше не дробить силы, а оставаться верным членом нашего «Союза русского народа», честное слово! Не протестуйте, вам не следует протестовать, многоуважаемый господин Пуришкевич. Да, да, сам Дубровин мне об этом говорил…
— Что говорил, что? — горячился Пуришкевич.
— Что наши люди всегда отличались преданностью и готовностью подчиниться, — хладнокровно ответил Замысловский. — Николай Евгеньевич может подтвердить, что и мнение государя императора соответствует… Союзу Дубровина и его органу «Русское знамя» всегда принадлежит первое слово, а вы дробите наши силы, милостивый государь!
— Да, это правильно, — кивнул Марков.
— Чепуха, мы стреляем из разных точек в одну мишень…
Замысловский и Марков все еще сидели за столиком. Теперь Ходошев имел возможность как следует разглядеть бывшего Виленского прокурора, понаблюдать за его манерой говорить, характерной жестикуляцией: каждое произнесенное слово тот сопровождал резким движением рук.
Ходошев подвинулся ближе к Кузнецову.
— В бытность Замысловского товарищем прокурора Виленской судебной палаты, — рассказывал Кузнецов вполголоса, — по его обвинительным речам демократам было вынесено приговоров больше чем на две тысячи лет тяжелых каторжных работ. В самые дикие места Сибири были высланы эти мужественные люди, борцы против деспотического режима.
— Слыхал, слыхал, — подхватил Ходошев.
— Осуждены героические сыны и дочери русского народа, в том числе и представители потомственного дворянства… — продолжал Кузнецов. — Мне рассказывали, как одна курсистка, красивая, с благородными чертами лица, выслушав речь Замысловского, в которой он требовал для нее смертной казни за то, что она стреляла в высокопоставленного сановника, крикнула ему прямо в лицо: «Придет и ваш черед, господин прокурор!» Замысловский, говорят, обратился к присяжным с такими словами: «Господа судьи, не будем дожидаться, пока нас уничтожат. Ее надо повесить на первом попавшемся столбе, посреди Вильно…» А известны вам подробности биографии святейшего апостола черносотенных орд Маркова-второго, господин Ходошев?
— Кое-что известно.
— Но вы, наверное, не знаете, что дед Маркова — сумасбродный деспот, крупнейший помещик Курской губернии, приказал до смерти запороть старого крестьянина и его жену. А внук — депутат Государственной думы, Марков-второй, унаследовавший характер своего деда, рьяно ополчился против инородцев. Поговаривают, будто он во сне, точно так же как его дед, поровший несчастных крепостных до смерти, считает: один, пять, восемь, двадцать три… — Кузнецов на мгновение запнулся: — Простите, коллега Ходошев, вы ведь тоже инородец?
— Я еврей, — ответил Ходошев.
Послышался звон колокольчика, которым Родзянко приглашал депутатов Думы занять свои места. Публика хлынула в зал. Твердый, грудной голос Родзянко возвестил:
— Слово имеет…
Ходошев не расслышал, кому было предоставлено слово. На кафедру взошел чиновник, директор одного из департаментов в министерстве юстиции. Он был лысоват, глаза, слегка прищуренные, беспокойно бегали. Монотонно, словно читая проповедь, он сообщил, что дело об убийстве Андрея Ющинского передано Министерством юстиции следователю по особо опасным делам господину Фененко. Прокурору Киевской судебной палаты Чаплинскому отдано распоряжение с предельным вниманием следить за ведением этого дела. Высокопоставленный чиновник говорил долго и нудно, по нескольку раз повторял одно и то же, а председатель не решался прервать его. В конце концов чиновник оповестил высокое собрание, что Министерство юстиции обратилось в Министерство внутренних дел с предложением осуществить самые решительные меры по розыску преступника.
Правые депутаты шумно и восторженно аплодировали, и оратор с благодарностью обратил взор в ту сторону зала, откуда раздавались аплодисменты. Затем он поднял свою короткопалую руку и торжественно сообщил, что его высокопревосходительство министр юстиции Иван Григорьевич Щегловитов поручил ему заверить господ депутатов Государственной думы, что он самолично займется изуверским убийством и неуклонно будет информировать Думу о результатах расследования… Правые ликовали. Оратор сошел с трибуны. В глубине зала чей-то одинокий голос затянул было ура-патриотическую песню, но председательский звонок заставил его замолчать.
Как всегда, когда шел вопрос об инородцах, и в особенности о евреях, на трибуну выскочил Пуришкевич. Стоило ему только заговорить, как из рядов оппозиции послышались издевательские возгласы, сопровождаемые смехом: «Пошлите за каретой. Он выжил из ума!..» Но голос Пуришкевича обладал незаурядной мощью:
— Ни один запрос в Думу никогда не был так обоснован, как этот. Православная Россия с нетерпением ждет подробностей о зверском убийстве с ритуальной целью и дальнейшего расследования. Пусть нам кричат слева «погромщики!», пусть галдят и шумят, только нечего забывать, что с тех пор, как в России существуют монархические организации, мы о погромах не слышали.
И снова в рядах депутатов из оппозиции раздался смех, кто-то крикнул: «Ложь, шут гороховый!»
Не обращая внимания на выкрики, Пуришкевич продолжал:
— Мы и не обвиняем все еврейство, мы хотим лишь узнать, существует ли у них секта, совершающая ритуальные убийства. Если таковой нет, пусть это будет доказано…
— Докажи, значит, что ты не верблюд! — закричал социал-демократ Гегечкори.
— У меня в руках документ, — Пуришкевич позиций не сдавал, — с которым нельзя не считаться. Этот документ свидетельствует о том, что в России уже совершались подобные убийства. Так помогите же, господа, русскому суду, давайте создадим комиссию для расследования этого страшного дела. Сокрытие правды о таких убийствах — путь, ведущий к погромам…
Против излишней поспешности в деле создания комиссии для расследования убийств Ющинского непосредственно Думой выступил депутат Шубинский.
— В Думе не было ни одного запроса, — говорил он, — который имел бы такую зыбкую почву, как вопрос, который стоит нынче на повестке дня. Всем известно, что пока дело находится в распоряжении палаты, пока судебной палатой не вынесено окончательное решение, Дума от высказывания какого-либо мнения воздерживается. Это означает, что до окончания следствия в местных инстанциях запрос обсуждать нельзя. Высокая трибуна Государственной думы, созданная для блага народа, не должна быть превращена в арену для агитации. — И депутат многозначительно указал рукой в ту сторону, где находился Пуришкевич.
Депутат от Бессарабии вскочил с места:
— Как вам не стыдно, дворянин Шубинский!
— Вы предаете интересы России, дворянин Шубинский! — поддержал его Марков-второй.
В рядах правых и в центре, где сидели депутаты-помещики, раздались аплодисменты.
— А кто теперь? — поинтересовался Ходошев, следя за депутатом, который быстрыми шагами поднимался на трибуну.
— Я давеча говорил вам о нем — это Ниселович.
Тут зазвучал громкий голос депутата:
— Единственная цель, которую преследовали авторы запроса, вынося его на обсуждение Государственной думы, — натравить православное население на евреев. Не иначе! Вот у меня в руках прокламация, которую темные силы распространяли на киевском кладбище во время похорон Андрея Ющинского. Это самые настоящие погромные листки с призывом к резне…
— Их составили, отпечатали и распространили среди евреев сами кадеты! — крикнул Пуришкевич. — Покажите листки, мы сумеем узнать по шрифту, в какой типографии они отпечатаны.
Председатель взял из рук Ниселовича прокламацию, передал ее в зал, и она пошла по рядам. Когда прокламация оказалась у Маркова-второго, он вскочил на сиденье кресла, откинул спадавшие длинные волосы с пылающего лба и принялся читать погромный листок вслух. В то же самое мгновение какой-то человек, сидевший неподалеку, плотный, с черной бородкой, ловко выхватил документ у него из рук и передал обратно Ниселовичу.
— Кто это сделал? — нетерпеливо спросил Ходошев.
— Мне кажется, Фридман.
— Кадет Фридман? Браво! Тот и моргнуть не успел.
— Горяч! — заметил Кузнецов.
— Интересный спектакль!
— Скорее цирк. Прямо жонглер!
На трибуне уже стоял Родичев.
Кузнецов напомнил Ходошеву, что Родичев либерал, товарищ Милюкова по партии. Но оба рыцаря кадетов настолько далеки от интересов ну хотя бы русского крестьянства, как он, Кузнецов, далек от главной мечети в Мекке…
Оратор также выступал против поспешности в постановке вопроса. В своем запросе авторы привели такую формулировку, словно правительству предъявляют претензии, почему-де оно до сих пор не использовало полицейских собак для розыска секты фанатиков.
В зале раздался смех. Но оратор был не из тех, кого можно было легко сбить. Он тут же процитировал древнехристианского писателя Тертуллиана, напомнив присутствующим знаменитый афоризм: Credo, quia absurdum — «Верую, потому что нелепо», тут же сделав для себя вывод: «Я не верю этим глупостям, которые приводятся авторами запроса, потому что они нелепы и смешны».
— Хочу напомнить, — продолжал Родичев, — что против первых верующих христиан воздвигались те же обвинения, как ныне против евреев — якобы они употребляют кровь мальчиков и девочек. О такого рода обвинениях писал тот же Тертуллиан. Много позже византийский император Юстиниан начисто отверг нелепые эти обвинения, указав на то, что признания у женщин и детей вырвали, применяя жесточайшие пытки. Необоснованность столь нелепых обвинений, которые авторы приводят в запросе, преподнесенном нам здесь, давно уже признали римская церковь, римские императоры и отцы восточной церкви. Такие речи, как речь Пуришкевича, произносились и в древние времена; она ничем не отличается от речей римлян эпохи Нерона. Это не случайное совпадение. Сегодня один из членов «Союза русского народа» посулил нам не позднее чем осенью погром. А весной другой «союзник» говорил о так называемых «ритуальных убийствах». Подумайте, господа, какие надгробные надписи сделали «союзники» на могилах убитых во время погромов? Сколько еще кладбищ они украсят подобными «благородными» надписями?.. Речь Пуришкевича не к чести Государственной думе, погромным выступлениям здесь во всяком случае не место!..
Колокольчик председателя буквально охрип, тщетно силясь пресечь несдержанные выкрики правых.
На трибуну влетел разгоряченный Марков-второй. Пусть только попробуют не выслушать курского зубра!
— Наш «Союз русского народа», — начал он, — удерживал православный народ от погромов…
Зал заволновался, кое-где послышались смешки.
— Господа депутаты! — Марков напряг все свои силы, чтобы его голос не утонул в нарастающем со всех сторон гуле. — Наша Государственная дума должна знать, что вскоре наступит время, когда не только пух и перья полетят из перин, но и кровь прольется…
— Провокатор!
— Вот так откровение!
— Безбожник! — раздавались со всех сторон негодующие возгласы.
Но оратор уже не мог остановиться.
— Берегитесь переполнить чашу терпения — гнев народный не знает границ! — изрекал он.
Что творилось в эти минуты! К трибуне устремился темпераментный Фридман: подобно неустрашимому бойцу бросился он на своего лютого врага. Ему казалось, что если враг повержен хотя бы здесь, на этой трибуне, уже никогда не возвратится пора страданий, унижений и позора. Но это был минутный порыв. Разве Марков и Пуришкевич одиноки?.. А если поразмыслить, кто стоит за ними?
Ковенский адвокат понимал, что обречен, но он был честен и в своих стремлениях и в своей идейной беспомощности.
— Почему Марков спешит навстречу Фридману? — допытывался Ходошев.
— Ему хочется первым получить оплеуху.
— К чему это?
— Ну, произойдет скандал, возникнет подсудное дело со свидетелями, с прессой для правых, которых якобы обвиняют… Одним словом — сенсация!
Однако до рукоприкладства дело не дошло. Почувствовав суровый взгляд Ниселовича, Фридман взял себя в руки и вернулся на свое место. И тут на весь зал прозвучал голос Маркова:
— На, на тебе, Нафталь Маркович, мою правую щеку! — Он как-то резко вдруг вытянулся, картинно выгибая шею.
— А вы подставьте раньше левую… — отозвался кто-то в зале.
Место Маркова-второго на трибуне занял социал-демократ Гегечкори — кавказец с большими, темными глазами и густыми усиками, которые щеточкой чернели под длинным тонким носом. Его импозантная фигура и мощный голос произвели впечатление даже на политических противников. К тому же природа наделила его завидным даром красноречия. Гегечкори слушали.
— Что вы делаете — пуришкевичи и марковы? Вы отдаете себе в этом отчет? — Гегечкори говорил спокойно и внушительно. — Вы стремитесь рассорить мирных людей, натравливаете одну часть населения на другую. Вы способствуете развитию низменных инстинктов, разжигаете национальную и религиозную вражду между народами, которые всегда жили в ладу и которым нечего делить…
Из правого лагеря раздался оглушительный свист. «Вон! Вон!» — гремели голоса Пуришкевича и Тимошкина. Кое-кто из депутатов затыкал уши.
— Что представляет собой «Союз русского народа»? — продолжал оратор. — Не только в России, но и за границей, всему миру известно, что он объединяет человеконенавистников и сторонников всего отжившего, осужденного неумолимым ходом истории. Это люди, потерявшие совесть. Не правда ли, господа депутаты, вы удивляетесь, что я, говоря об этих людоедах и головорезах, применяю такое понятие, как совесть?..
— Убирайся вон! — Атмосфера в зале накалялась. Председатель прилагал все усилия, чтобы унять безудержные страсти.
В минуту затишья Родзянко предложил Гегечкори сойти с трибуны. Правые топали, хлопали крышками пюпитров — продолжать выступление было немыслимо. И уж тем более никакой речи не могло быть о мире и согласии…
И все же каким-то образом удалось провести голосование. Большинством голосов была отвергнута поспешность в решении вопроса о диком и глупом документе, подброшенном в парламент черносотенцами.
— Ну, коллега из Киева, — сказал Кузнецов, обращаясь к Ходошеву, когда они вышли на улицу в этот знаменательный апрельский вечер, — теперь можно вольнее вздохнуть. Когда домой собираетесь?
— Вероятно, сегодня.
— Почему такая спешка?
— По законодательству Марковых мне надлежит своевременно убраться из Санкт-Петербурга, иначе…
— Иначе?
— Мне прикажут убраться.
— Ах да, я и забыл: вы ведь инородец…
— Зато этого не забываю я.
Они постояли, вдыхая весенний воздух, а потом медленно пошли. Перед ними расстилалась прямая улица; в строгом порядке на ней стояли столбы, увенчанные электрическими фонарями, напоминающими детские воздушные шары.
Где-то звонко стекали по трубам весенние воды, пробуждая у Ходошева добрые надежды. Он ускорил шаг.
— Вы торопитесь, коллега?
— Спешу на поезд. Чем скорее я уеду, тем будет лучше.
Всю ночь Вера Чеберяк не сомкнула глаз. Зачем вызывает ее Павел Мифле? Она вовсе не желает встречаться с ним… Когда-то Вера плеснула ему в глаза соляной кислотой… Лучше было бы избавиться от него, но какая-то жалость шевельнулась в ней тогда, хотя, несомненно, ей все сошло бы с рук. Не впервой ей такая работа.
Перед ней как живой стоит Мифле. Летние сумерки… Она видит его стройную фигуру в светлом костюме, желтых туфлях фасона «шими» — последний крик тогдашней моды. Холеную его шею схватывает белоснежный воротничок «фантази». Вера сидит на скамье в Царском саду над Днепром и глядит на гладкую поверхность реки. Сияющие нагловатые глаза… Он склоняется к ней… Вера и теперь чувствует на руке этот страстный поцелуй. Дрожь пробегает по телу при одном воспоминании о его прикосновениях, слух приятно щекочет вкрадчивое «пардон, мадам». Для нее, жены мелкого чиновника, такое обращение необычно…
Изящной тросточкой кавалер сбрасывает со скамьи упавший листок и просит разрешения присесть рядом. Прямой нос, глаза слегка прищурены, но их томный блеск выдает скрытое возбуждение и отличное расположение духа. Вера отстраняется, а он пододвигается ближе и спрашивает о чем-то, мешая русские и французские слова. Неважно, о чем он говорил. Тот летний вечер над Днепром растаял как сон…
С этого все началось. Верке-чиновнице не привыкать к уличным знакомствам. Обычно она не испытывала при этом ни удивления, ни смущения. Но этот француз чем-то увлек ее. Вере представилось, что Мифле предначертано вырвать ее из когтей преступного мира. Этот вечный страх, боязнь потерять свободу, даже на короткое время! Она привыкла к мысли о тюрьме, как люди привыкают к своему физическому недостатку. Она знала, что такое тюрьма, — и там она не скучала. Но всегда искала силу, которая могла бы вывести ее к другой жизни, заманчивой и красивой…
Еще в детстве педагоги и знакомые прочили Вере с ее незаурядной внешностью и несомненными способностями карьеру актрисы, завидную будущность. Актрисы из нее не получилось, развеялись розовые девичьи мечты, медленно перераставшие в скучные будни.
Вера всегда стремилась в мир, где она могла бы стать хоть маленькой, но королевой. «Взгляните в мои глаза, — говорила она как-то одному своему поклоннику, — и вы увидите, где мой мир и где я должна обрести свое счастье».
— Вы иностранец? — спросила она однажды у Мифле.
— Да. Я, собственно говоря, давно в России… — он доверительно посмотрел на Веру. — Мой дядя, богатый негоциант, еще мальчиком привез меня в Россию. Сам он потом вернулся в Париж, а меня оставил у своего русского друга в Санкт-Петербурге. И с тех пор… — Мифле запнулся, подыскивая слова для сочиненной им истории. — Так я и остался в Санкт-Петербурге, а затем приехал сюда, в Киев… — Он подумал немного и продолжал: — Я всегда чувствовал, что только в Киеве встречу такую красавицу, как вы…
— Чем вы занимаетесь? — Вера слегка склонила голову набок.
Он мечтательно отвернул лицо.
— Тот же дядюшка-негоциант посылает мне время от времени из Парижа…
— Живете праздной, спокойной жизнью? — с невольной завистью вырвалось у Веры.
— О мадам! — Мифле схватил ее руку и стал целовать.
Сколько потом было встреч! Не сосчитать…
…Но все давно минуло. Зачем же теперь, после того, как она порвала с ним, он ворошит старое, требует встречи?
А ветер монотонно бьет в окна. Широко открыв глаза, Вера лежала в постели. То ли ветер ей мешал в эту июньскую ночь, то ли от предстоящей встречи с Мифле тоскливо замирало сердце… Собственно говоря, увидеть-то он ее не сможет… Как искусно она это проделала!
Поднялся с постели Женька, беспокойно ворочавшийся с боку на бок.
— Почему не спишь? — Вера кинулась к сыну.
Женя опять уснул, однако продолжал ворочаться и вскрикивать во сне. Когда мальчик так тревожен, ей становится страшно.
Заботливо укрыв сына, она вернулась на свою постель. А ветер неистовствует, рвет все кругом, заходится в диком свисте, хлещет дождем и безжалостно хлопает ставнями, словно вот-вот ворвется в дом. Чего же хочет от нее этот Мифле?..
Снова ворочается мальчик. До слуха Веры долетают слова: «Андрюша, не ходи к моей матери…»
Мать соскочила с постели, босая подошла к Жене. Мальчик сидел на кровати с закрытыми глазами. Вера пощупала лоб — холодный пот увлажнил ей руки. Она попыталась успокоить сына, но материнские слова не доходили до его сознания.
А дождь все так же хлещет. То ли ей показалось, то ли действительно лопнуло стекло… Но никто не проснулся. Муж, как всегда, спит крепко, рот его полуоткрыт. Хоть влей в него ведро воды — все равно не проснется! Храп мужа сливается со стенаниями Женьки. Все это гнетуще действует на нервы. К черту все! Она готова немедленно выскочить из дома и побежать к французу, только бы скорее узнать наконец, что ему нужно!
Светает… Ветер разгоняет предутреннюю синеву. Через щели в ставнях пробивается свет и рассыпается странными пятнами по потолку — кажется, будто протянулась рука, а вот чья-то взлохмаченная голова…
Что, собственно, так гнетет и терзает ее? Ведь, вообще-то говоря, она обладает твердым характером и с волей своей в ладах. Родной брат неоднократно внушал ей: «Главное, Верка, всегда строй из себя незнайку. Тебя спрашивают — не видала и не слыхала. На нет — и суда нет». А брат, он знает, что говорит. Ничего, мы еще посмотрим, кто кого.
Пора одеваться. Накинув халат, она остановилась у постели сына — мальчик тяжело дышал, уткнувшись в подушку. Вера повернула его на правый бок — дыхание как будто стало ровнее. Она осторожно поправила одеяло. Не хотелось, чтобы он теперь проснулся. И обе девочки мирно посапывали в смежной комнатушке.
Быстро сняв халат, она вышла на кухню, вымылась под краном холодной водой. Набрав воды в рот, долго полоскала горло. Надела юбку, кофту, зашнуровала ботинки на высоких каблуках, схватила пальто и выбежала из дому.
Раннее утро встретило ее дождем, обдало влажной свежестью. Вера приободрилась. Шла знакомой дорогой, твердо решив про себя, что теперь уже навсегда покончит с французом…
Дождь клонил размокшую липу, одиноко стоявшую у дома, где жил Мифле. Кругом пусто. У дверей Вера замешкалась, затем постучала. Ответа нет. Постучала еще раз. За дверью послышался звонкий голос Мифле.
И вот Вера стоит возле бывшего любовника. Нащупав стул, он просит ее сесть. К ней обращено обезображенное лицо с потухшими глазами. Только ровный нос напоминает, что это лицо недавно сияло молодостью и красотой. Тонкие губы небольшого рта и теперь еще приятны.
— Зачем ты звал меня? — спросила она.
— Садись, Верочка.
— Я уже сижу, не видишь, что ли?
Мифле понял, что она насмехается над ним. Судорожно сжал кулаки. Заметив это движение, Вера испугалась и невольно отодвинула стул.
— Сиди, сиди, — вырвалось у него.
— Я сижу, не волнуйся… Итак, зачем ты меня звал?
Брови его насупились. Видимо, то, что он готовился сказать, было для него очень важно и в то же время тягостно. Овладев собой, он произнес:
— Почему ты перестала бывать у меня?
— Хватит. Все кончено… — сказала она тихо, сжимая в руках черную плетеную сумочку.
— Может, для тебя кончено, а для меня — нет. Ты сделала меня слепым, а я скрыл твое преступление. Хотел быть великодушным… А теперь, выходит, я надоел тебе?
Чеберяк вспыхнула. Ноги ее налились свинцом, сердце судорожно забилось. Мифле явно чем-то угрожал, но чем?
— Так ты для этого меня позвал к себе?
— Нет, не для этого…
— А для чего же?
— Посиди, узнаешь. — Павел не спешил. Он вынул портсигар, тонкими пальцами достал папиросу, не торопясь закурил, медленно выпуская дым изо рта. Какая-то судорога искривила его лицо, и он до крови закусил губу.
Вера молча наблюдала за ним.
Наконец Павел сказал, отчеканивая каждое слово:
— Мне известно, что мальчика убила ты, я это знаю достоверно… А ты болтаешь повсюду, будто это сделал я.
Веру передернуло.
— Молчи! Откуда ты можешь это знать?! — закричала она. А после небольшой паузы опять истерически воскликнула: — Молчи!
Он холодно ответил:
— Я не стану молчать. Ты хочешь от меня избавиться, знаю… Боишься меня…
Вера пошарила в сумочке. Нащупав то, что искала, вынула небольшой револьвер и поднесла его к невидящим глазам Мифле.
— Что это, знаешь? — прошептала угрожающе она над его ухом.
— Нет, не знаю.
— Ты будешь молчать, понял?
— Нет, — мотнул Мифле головой и протянул к ней руку.
Побледнев, Вера отступила, рванула дверь и выскочила на улицу. Она успела еще услышать догнавшее ее за порогом ругательство.
Задыхаясь, неслась Вера Чеберяк по улице. Внезапно она остановилась и сквозь зубы процедила:
— Наглец!
В старой потрепанной курточке, из-под которой виднелась измятая рубашонка, навстречу бежал Женя.
— Мама! — крикнул он еще издали.
— Что, сынок?
— Мама, снова пришли. И снова тот…
— Кто?
— Тот, из полиции.
Вера взяла мальчика за плечи, слегка подтолкнула его.
— Беги и скажи, что не нашел меня.
Женя стоял растерянный, не двигался с места.
— Почему стоишь? Беги!
— Нельзя, мама, боюсь. Я боюсь! Он сказал, что заберет меня и папу…
— Пойди скорее, говорю! Иначе… — она замахнулась кулаком.
Но Женя не пошел. Он упал на сырую землю и закричал:
— Боюсь, мама! Ночью Андрюша душил меня… Мама, боюсь!
— Молчи!
— Боюсь, мама. Я ничего никому не расскажу, никому, ей-богу! — и мальчик перекрестился.
Неожиданно Вера решила, что пойдет домой и уж потом поговорит с Женей как следует. Она как-нибудь да выкрутится, не впервой. Опять, значит, евреи подкупили шпиков, снова напали на след…
Взяв сына за руку, Чеберяк повернула к дому. О, она знает, как действовать! Голубев со своими молодчиками не оставит ее в беде…
Она оглянулась — никого, кроме нее и Жени. Достав из сумочки револьвер, она сунула его мальчику в руку.
— Не трясись так, дурачок. Возьми и брось это туда, в ров. Вон туда, видишь? Побыстрее, не бойся.
Дрожа от страха, мальчик взял из рук матери револьвер, подбежал к забору и, оглянувшись по сторонам, забросил его. Раздался всплеск воды, и мальчик вернулся к матери. Она обняла его, прижала к себе, и они пошли рядом.
Муж успел одеться, обе девочки — Людмила и Валя, — босые, в одних рубашонках, стоят возле отца и, не отрывая взгляда, смотрят на жандарма.
Тот, вальяжно развалившись в кресле у стола, что-то писал. По бокам стояли еще два жандарма.
— Что случилось, господин полковник? Что вы там пишете? — испуганно спросила Вера. — Мои дети ничего не знают, ничего!
— Успокойтесь, мадам Чеберяк, во-первых, я — подполковник.
Вера смущенно улыбнулась.
— …во-вторых, мадам Чеберяк, я не разговаривал с вашими детьми, я только поинтересовался у вашего мужа, где вы пропадаете.
— Мой муж ничего не знает и ничего не понимает, — пренебрежительно взглянув на супруга, сказала Вера. Тем временем тот скорчил жалостливую гримасу. — Он болеет, бедняжка, всю ночь стонал…
— Пойдете с нами, — строго прервал ее подполковник.
Увидев, как мать подыскивает, во что бы переодеться, обе девочки и мальчик подняли крик.
— А ну отступись! — рявкнул на детей жандарм. — Вам, голубки, впервой, что ли, видеть, как сопровождают вашу мать…
Дети заплакали еще пуще. Жандарм сделал знак отцу, и тот, жалко ссутулившись, подошел к плачущим детям и привлек их к себе.
— Можешь идти, Вера, я присмотрю за ними.
Дети плакали, а Вера Чеберяк, одетая теперь в старомодное пальто и шляпу, натянула перчатки и кокетливо обратилась к Кулябко:
— Ну, господин полковник, ведите меня в свой департамент… — И повернулась к детям: — Не плачьте, голубки мои. Я скоро вернусь.
…— Что ж, Вера Владимировна, мы снова с вами встретились. Вы, как религиозная женщина, вероятно, верите в перст божий? И понимаете, что к чему?
Так начал разговор с Верой Чеберяк следователь по особо важным делам Киевского окружного суда Василий Иванович Фененко.
Вера застыла в молчании, будто бы внимательно разглядывая его гладко зачесанные, насаленные фиксатуаром волосы и искусно подкрученные кверху усики.
— Что вы так смотрите на меня, Вера Владимировна?
— А что, нельзя? Вы мне очень нравитесь, — простодушно ответила она.
— Так, значит, нравлюсь, говорите?.. — Следователь поднялся, прошелся по комнате. — Об этом я до сих пор и не подозревал. А ведь сколько раз с вами встречался…
— Я вам, Василий Иванович, не раз об этом говорила…
Пощипывая кончики усов, следователь перебирал бумаги. Вытащив наконец нужную бумагу, Фененко произнес:
— Здесь сказано, что Андрея Ющинского убили в вашем доме. — Он помолчал немного. — Что вы можете сказать по этому поводу?
Вера вынула из сумочки платочек, вытерла уголки губ, сморщила свой красивый матовый лоб. Удивленно пожав плечами, вместо ответа спросила:
— Скажите, пожалуйста, Василий Иванович, сколько раз вы меня уже допрашивали и сколько раз вынуждены были отпускать?
— Теперь совсем другое дело. Вы убили невинного ребенка. — Следователь достал папиросу из портсигара, лежавшего на столе, и закурил: — Вы слышали, что я сказал, мадам Чеберяк?
— Я не глухая, Василий Иванович. Кто вам наговорил такое?
— Наши сыщики предоставили нам достоверные сведения.
— Ваши сыщики… Чепуха! Они подкуплены евреями.
— За оскорбление наших служащих вы будете привлечены к ответственности.
— Василий Иванович, вы прекрасно знаете, что я не из пугливых.
— На сей раз ваша храбрость ни к чему. Следы чудовищного преступления ведут к вашему дому.
— Свежеиспеченная ложь киевского сыска…
Следователь прошелся по комнате, выплюнул размокшую папиросу.
— Сам Плис-Сингаевский — единоутробный братец ваш — свидетельствовал об этом.
— Он никогда бы не предал меня.
— И министерская голова ваша, Рудзинский, письменно признался.
— Неправда!
— Рыжий Ванька — Латышев…
— Ложь. Он не станет клеветать на меня.
Следователь вскочил, рассвирепев, быстро зашагал по кабинету.
— Все, по-вашему, ложь и ложь… Святая душа, богобоязненная монашка ты, Вера Владимировна! В соседней комнате дожидается слепой, он все о тебе расскажет, и правда всплывет, как всплывает жир на холодной воде.
— Не имеете права мне тыкать, Василий Иванович, — твердо сказала Чеберяк и, сверкнув глазами, добавила: — Мне известно, куда подать жалобу, господин судебный следователь по особо важным делам.
Подавляя в себе бешенство, Фененко одернул лацкан мундира. Чеберяк заметила его состояние и злорадно улыбнулась:
— Не стоит нервничать, Василий Иванович. Вы ведь знаете меня.
— Именно потому, что знаю о вас слишком много, я верю донесениям своих служащих.
— Так ведь они же русские люди… — рассмеялась Вера, обнажая ослепительно белые зубы.
— Что ж из этого следует?
— Они знают, как знаете и вы, что Ющинского убили евреи…
— Это ваша выдумка, чтобы скрыть правду…
— Василий Иванович, вы ведь тоже русский человек, как Голубев и Чаплинский…
Следователь помолчал мгновение.
— Вы это бросьте, Вера-чиновница. Лучше сами расскажите правду, мы учтем ваше искреннее признание. А не то… вас сошлют в Сибирь.
Внезапно глаза Веры наполнились слезами, она вся затряслась, судорожно всхлипывая. Фененко подал ей воды, но она оттолкнула его руку, и вода расплескалась на пол, попала и на мундир. Стряхивая с себя капли воды, он строго сказал:
— Держите себя в руках, мадам! Я повторяю: сошлют на каторгу, оттуда не вернетесь!
Вера подняла голову: глаза ее были сухи и жестки.
— Василий Иванович, Женька мой сам видел: еврей с черной бородой тащил Андрюшу, и бедный, несчастный мальчик кричал: «Женя, спасай меня!» А чернобородый Бейлис повернулся к сыну и заорал: «Вон отсюда, а то и тебя заберу!» Андрюша попал к разбойникам в руки, и те выцедили из него кровь. К Бейлису ходили евреи с длинными пейсами… Почему же вы, Фененко, притворяетесь, будто не знаете об этом, на меня всю вину сваливаете? Я не желаю брать на себя вину злодеев.
— Как вы сказали, кто видел?
— Женя, мой Женя своими глазами видел. Вызовите его, он все расскажет.
Распахнулась дверь, и на пороге кабинета появился Голубев. Он был крайне возбужден.
— Зачем вы мучаете невинную женщину, уважаемый господин следователь? — воскликнул студент. — Она потомственная дворянка… Я сам, как представитель общественности, вынужден был заняться этим кошмарным убийством. Могу сказать, что я расследовал дело. Ваши сыщики — продажные души. Мне теперь доподлинно известно, что именно зайцевский приказчик Бейлис зарезал Ющинского… Известны и мотивы этого злодеяния.
Остолбеневший от неожиданности следователь не сразу призвал студента к порядку. Вспомнив, с кем он имеет дело, Фененко соображал, какие лучше принять меры.
Лишь через несколько минут, дав представителю прессы и общественной совести пошуметь и покричать, Фененко встал и, отчеканивая каждое слово, спросил:
— Кто разрешил вам войти во время исполнения моих служебных обязанностей?
— Кто? Совесть и благородство русских людей, которых я представляю в западном крае — в древнем городе Киеве. Вы все играете в прятки, властью ваших мундиров укрываете подлинных преступников — евреев. Пойдемте, — схватил он Веру Чеберяк за руку. — Я выведу вас…
— Вы не сделаете отсюда ни шагу! — решительно крикнул Фененко. — Никто вам этого не позволит! — При этом он встал между Чеберяк и Голубевым. — А вы, молодой человек, ответите за ваше самоуправство.
— Я покажу вам, кто здесь настоящий хозяин! — закричал Голубев, выбегая из кабинета.
Следователь вызвал часового и приказал отвести арестованную в камеру.
На следующий день следователь Фененко получил указание от прокурора Киевской палаты Чаплинского немедленно освободить из-под стражи Веру Владимировну Чеберяк как арестованную по ошибке на основании непроверенных данных.
В начале июля 1911 года в газете «Русское знамя» появилась статья, очень резкая по своему характеру. Автор статьи требовал от следователя, ведущего дело об убийстве Андрюши Ющинского, повнимательнее прислушаться к голосам русских патриотов. Далее автор негодовал, что министр юстиции не проявляет должного интереса к происходящим событиям, оставаясь в стороне… Личное вмешательство министра юстиции просто необходимо, чтобы заставить следователя и прокуратуру действовать, действовать…
Министру юстиции принесли газеты «Русское знамя» вместе с «Земщиной», «Речью» и другими. Подавая газеты, секретарь обратил внимание министра на статью в «Русском знамени».
Всегда внешне спокойный Иван Григорьевич Щегловитов и сейчас ничем не выдал, что какая-то заметка в газете способна вывести его из душевного равновесия. Прочитав статью, министр машинально пригладил волосы, затем поручил секретарю составить телеграмму на имя прокурора Киевской судебной палаты Чаплинского, в которой просил немедленно сообщить ему о ходе следствия по делу об убийстве Ющинского. Подумав, министр распорядился обозначить в телеграмме, что ответ надлежит адресовать не в Петербург, в Министерство юстиции, а в Черниговскую губернию, в имение министра «Кочеты», куда он уезжает на отдых.
Отдав подполковнику Кулябко распоряжение об аресте приказчика Бейлиса, Чаплинский принял решение лично выехать в «Кочеты» для доклада министру юстиции об осложнениях, возникших в ходе следствия.
Следователь по особо важным делам Фененко категорически отказался принять ту версию преступления, которая только и может быть приемлема в данных условиях. Даже Кулябко вначале не давал согласия на арест «человека с черной бородой», требуя оснований, а следователь никаких оснований не находил. Чаплинский же настаивал на немедленном аресте Бейлиса, пользуясь лишь свидетельскими показаниями. Большая беда будет, если обвиняемый скроется во время следствия…
Прокурор разъяснил подполковнику Кулябко, что в особых случаях можно допустить и более широкое толкование закона. Это тем более простительно, если речь идет о безопасности государя императора: вскоре его величество с августейшей семьей прибудет в Киев, а посему надлежит изолировать наиболее подозрительных лиц…
Тут уж подполковник Кулябко не мог противиться прокурорским доводам. Бдительность и еще раз бдительность! Чрезвычайные полномочия, которыми наделялся подполковник в связи с необходимостью охраны августейшей особы.
— Прекрасно! — произнес Чаплинский; настроение у него поднялось. Он спросил у подполковника, какой дорогой удобнее добраться до имения министра юстиции.
Кулябко хорошо знал, где находятся «Кочеты», ему не раз приходилось по служебным делам бывать в тех местах. Он назвал железнодорожную станцию, от которой до имения «Кочеты» рукой подать…
Вот уже несколько недель, как в доме Бейлиса царило смятение. Да и как могло быть иначе, если на улице Бейлису буквально не давали прохода. Как только он появлялся на Верхне-Юрковской, из открытых окон раздавались испуганные восклицания матерей:
— Петька… Ванька… Тамара, скорее домой!
— Что случилось, мамочка?
— Не видишь, еврей с черной бородой…
У Менделя Бейлиса действительно была черная борода. Когда он слышал возгласы напуганных матерей, он мучительно морщился, оборачивался к детям и следил за ними своими грустными глазами, пока они, как всполошившаяся стайка птичек, разбегались кто куда.
Беда пришла в маленький домик: даже густой орешник, прикрывавший своей листвой тихое жилье, не в состоянии был уберечь его от этой черной тучи страха, нависшей над домом.
Временами Бейлису приходила мысль увезти куда-нибудь жену и детей. Но куда? Кое-кто отговаривал: уедешь — тогда уж конечно скажут, что он, Бейлис, сделал это неспроста, значит, он действительно повинен в убийстве Андрея Ющинского. Находились и такие, что настоятельно советовали Менделю немедленно перебраться вместе с семьей в другой город, например в Одессу, а оттуда, как только будут получены нужные документы и деньги на дорогу, переправиться в Америку. Мендель избавится от навета, да и вся киевская община будет спасена…
«Но ведь в ритуальном убийстве обвиняются не только местные евреи — все российское еврейство в опасности… даже евреи всего мира…» — думал Бейлис.
Нет, никуда он не поедет. Он честный человек, не запятнанный решительно ничем, никому не причинивший зла… Незачем ему скрываться… Никаких советов не слушал «чернобородый», он верит в правосудие, убежден, что никто и пальцем его не тронет. Мало ли что выдумывают некоторые насмерть перепуганные женщины. Правда, на душе тяжело, но все это пройдет, как страшный сон.
Однажды, когда Бейлис был еще солдатом, на него ротному командиру пожаловался фельдфебель. Но тогда за Бейлиса вступился не один солдат, и фельдфебелю так и не удалось осуществить свой замысел. Правда, он отвел душу, влепил Менделю затрещину, но… боль прошла, как и все проходит в жизни. Зато на долгие годы сохранилась добрая память о товарищах, вступившихся за него. Бейлис всегда незыблемо верил в справедливость…
Жена пыталась уговорить его: нельзя не прислушиваться к советам друзей. Но Мендель решил твердо: никого он не будет слушаться! Мало ли — собака лает, а ветер носит…
А собак оказалось немало, был и ветер, но сил не хватало относить этот лай. Заварилась каша вокруг Менделя Бейлиса, да и не только вокруг него одного. Главный удар предназначается не тихому Менделю, старательно и честно служившему своему хозяину — владельцу кирпичного завода Зайцеву. Удар рассчитан на более крупную цель…
В полночь с двадцать первого на двадцать второе июля, когда Бейлис и его домашние уже спали, в дверь постучали. Спросонья Мендель не мог ничего разобрать:
— Послушай только, как барабанят в дверь… Кто это?
— Может, пожар…
— О чем ты говоришь, упаси бог… — Мендель уже стоял посреди комнаты.
Тем временем в дверь стали колотить чем-то тяжелым.
— Сейчас, сейчас, — отозвался Мендель, не попадая ногами в старые истоптанные шлепанцы.
— Открывай! — донесся сердитый голос.
— Кто там? — спросил Бейлис.
— Немедленно открой! — еще более настойчиво требовал тот же голос.
— Что вам угодно?
— Здесь живет Мендель Бейлис?
— Да, здесь, — ответил он и, обернувшись к жене, стоявшей подле него, прошептал: — Пришли-таки, сволочи!
— Не отворяй… что они нам сделают?
— Взломают дверь, больше ничего…
И Бейлис пошел открывать.
В дом ворвались полицейские, а за ними жандармы в зеленоватых мундирах. Проснулись дети. Испуганные, еще скованные сном, они от страха втягивали голову в плечи.
Вперед шагнул худой, среднего роста подполковник с длинными усами. Это был Николай Николаевич Кулябко — начальник Киевского охранного отделения. Ловким движением он стянул лайковую перчатку, достал из папки ордер на арест, слегка поклонился и произнес отчетливо:
— Мендель Бейлис, одевайтесь. Пойдете с нами…
— Куда вы его, господин начальник? — бросилась к нему жена Менделя.
Кулябко прищурился:
— Это уже наше дело. А вы успокойтесь, мадам!
Начальник подал знак — и полицейские приступили к обыску.
Дрожащими руками женщина застегивала пальто, которое ей помог надеть старший мальчик.
— Я пойду с тобою, Мендель, — сказала она тихо.
— Мадам, садитесь в стороне и помалкивайте! — строго оборвал ее Кулябко.
Кивком Мендель велел жене поступить так, как приказывают.
Молчать… Как можно молчать в такие страшные минуты?
— Одевайтесь, дети! — не своим голосом крикнула женщина. — Пойдете с вашим отцом.
Кулябко рассмеялся:
— Куда? Куда вы пойдете?
Кулябко взял за рукав жену Бейлиса, пододвинул ей стул и насильно усадил обезумевшую от горя женщину посреди комнаты. Дети окружили ее. Она, с широко открытыми глазами и будто онемев, наблюдала, как полицейские шарили по углам, выбрасывали грязное белье из сундука, вынимали пасхальную посуду из нижнего отделения буфета. В то же время она следила и за выражением лица ее Менделя, застывшего на одном месте. Ей казалось, будто бледные, бескровные губы мужа быстро шевелятся в молитве. Может быть, так оно и было.
— Вот, ваше благородие, — один из полицейских поднес и передал Кулябко талес[2] Менделя, лежащий в особом мешочке. — Здесь оно было упрятано, — он указал на ящик буфета. — А вот и книга — верно, священная…
— А ну давай, что это?
— Молитвенник, — ответила жена Бейлиса.
Подполковник вопросительно взглянул на Бейлиса.
— Да, молитвенник, — подтвердил тот.
— Вот это нам и надо! — обрадовался Кулябко и приказал продолжать обыск.
Чужие, нечистые руки рылись в вещах, одежде, посуде, даже в детских игрушках. Когда в доме все было перевернуто вверх дном, Кулябко повторил Бейлису приказ одеться. И как спешно тот ни одевался, жандарму все казалось, что Бейлис намеренно оттягивает время, и он подгонял арестованного. Бейлис нервничал, руки не слушались его.
На помощь пришла жена, а полицейские и жандармы зорко следили, как бы она чего-нибудь не передала мужу.
То ли от злости, то ли просто издеваясь, подполковник приказал одеваться и девятилетнему старшему сыну Бейлиса.
— Зачем это? — спросил Бейлис.
— Он пойдет с тобой, — последовал холодный ответ.
— Я не пущу его! — Мать вцепилась в мальчика. — Не слушайся их, Давидка, не ходи с ними!
Мальчик сперва ничего не понимал и не двигался с места, но тут один из полицейских нашел одежду ребенка и стал натягивать на него штанишки, затем рубашку, чулки и ботинки.
— Кепку не забудь, — с болью в сердце сказала обескураженная мать и подала ее мальчику.
Тот взял кепку обеими руками и стал рядом с подполковником.
— Пошли! — скомандовал Кулябко.
За окном шумел дождь.
Жена торопливо разыскала и передала Менделю зонтик, но Кулябко вырвал зонтик из рук арестованного и швырнул его на кучу сваленных посреди комнаты вещей.
Все вышли на темную улицу под проливной дождь.
Женщину, направившуюся вслед за мужем, втолкнули обратно в дом. Через открытую дверь в дом врывалась ночная прохлада. Шагов уже не было слышно.
Бейлиса и его сына втолкнули в подвал дома, где помещалась охранка. В углу теплился огарок догорающей свечи, которая вот-вот должна была погаснуть.
— Ну, что скажешь, Давидка? — отец прижал к себе мальчика. — Хочешь что-нибудь сказать, дитя мое?
Давидка молчал. Огарок свечи потух, но в подвале посветлело — сквозь маленькое оконце под потолком пробивалось утро.
— Видишь, папа, светает… — сказал мальчик.
«Да, светает, а мы в заточении», — подумал Бейлис.
Бейлис с сыном сидели на охапке соломы в углу подвала. Лишь теперь их начал одолевать сон. Прислонив голову к отцовскому плечу, Давидка задремал. Заснул и отец. Очнулся он от всхлипываний сына.
— Папа, меня мальчишки били за Андрюшку… — признался он, и Бейлис увидел слезы в глазах ребенка.
Неожиданно мальчик вскочил на ноги. Припав к двери, он отчаянно заколотил ногами.
— Откройте, откройте!
Отец увлек мальчика в угол, подальше от двери, прижал к груди, стараясь успокоить.
— Перестань, дитя мое, прошу тебя… — Бейлис гладил голову сына. — Крепись, не надо им видеть твоих слез…
Чем больше отец старался успокоить сына, тем сильнее он плакал. Бейлис вытирал его слезы, нашептывая на ухо:
— Я тебе что-то расскажу, сыночек… Перестань!
Постепенно мальчик начал успокаиваться, сердце его забилось спокойнее. Отступив немного от отца, он влажными глазами смотрел ему прямо в лицо, обросшее черной как уголь бородой. Бледные щеки отца разгорелись, когда он начал свое повествование:
— В местечке, где я жил в детстве, была ярмарка. Однажды между торговцами, прибывшими с товарами на ярмарку, и сворой воров-конокрадов, задумавших ограбить базарный люд, произошла драка. На ярмарку приехали крестьяне из окрестных деревень и местечковые евреи-торговцы. Воры шныряли среди толпы, высматривая добычу. Было среди прибывших немало здоровенных, широкоплечих парней, которые, конечно, могли бы сопротивляться ворам, могли бы даже одолеть их. Но страх перед бандитами отнял у людей мужество.
Имение «Кочеты» расположилось на пригорке, окруженном соснами, елями, а местами смешанным лиственным лесом — крепкими дубами и редкими низкорослыми кустами. Ошибочно было бы думать, что его хозяина, царского министра Щегловитова, влекла сюда исключительно красота природы благословенного украинского края. Приезжая сюда чаще всего в летнее время, больше, чем о красотах природы, он думал о своей хорошенькой соседке — Ларисе Койданской, молодой вдове генерала, который прославился в русско-японской войне тем, что был близок к Куропаткину. Петербургского сановника привлекало, разумеется, не богатство молодой вдовы. Своей незаурядной внешностью и остроумием Койданская вскружила не одну голову в Киеве и его окрестностях. Она любила говорить по-украински, одевалась в национальные украинские костюмы с яркими бусами, выгодно оттенявшими белизну шеи.
Однажды своевольная вдова выразила желание поехать вместе с Щегловитовым в Петербург, чтобы блеснуть там красотой и многочисленными нарядами, сшитыми для нее еще по заказу мужа-генерала у лучших портных Вены и Парижа.
— Но в Петербурге хохлацкая мова не в почете… — хитровато сощурившись, улыбнулся Щегловитов.
Койданская рассердилась, взмахнув веером, отвернулась и оставила министра одного с камердинером. Так он и уехал ни с чем.
По приезде в «Кочеты» Щегловитов решил первый свой визит нанести в соседнее имение.
Изнемогая от июльского зноя, вдова проводила время в саду. Увидев высокопоставленного гостя, она не смогла скрыть свою радость.
— Иван Григорьевич, голубчик! — воскликнула вдова, устремляясь ему навстречу.
Щегловитов не ожидал такой пылкой встречи. Он снял летнюю шляпу и отдал ее слуге. Одет он был в светлый чесучовый костюм, прекрасно сидевший на нем. И тут Щегловитов снова услышал простые, проникновенные слова:
— Иван Григорьевич, голубчик! Как я рада!
Взяв гостя за руку, Койданская подвела его к скамье.
— Присядем здесь, — предложила она и села первая.
Но гость все еще стоял, молча и откровенно-любуясь прелестной хозяйкой.
— Ну, сядьте же, почему вы стоите, Иван Григорьевич? — повторила Койданская.
Заметив, что Щегловитов восхищается ею, молодая женщина взяла его за руку, потянула к скамье и приказала стоявшему неподалеку лакею принести в сад столик с закуской.
Зачем закуска? Кому она нужна теперь? Он хочет только одного: всласть наглядеться на нее, узнать о ее жизни и ее желаниях. Засиживаться долго он не может: к нему по очень важному делу должен прибыть чиновник из Киева.
Но Койданская так просто не отпустит гостя, решительно заявила она. Давно таких гостей не было… Здесь ведь скучно, тоскливо!
— Сам бог прислал мне вас, Иван Григорьевич, — с чарующей улыбкой призналась она.
Весеннее солнце нагрело стволы берез; горячие капли, сливаясь в прозрачные струйки, сползали вниз и застывали на нежной, белой коре. Молодая хозяйка подошла к одной из берез, взяла затвердевшую струйку сока и натерла ею свои руки.
— Что это вы делаете, Лариса Митрофановна? — удивился гость.
— Говорят, — улыбнулась одними уголками розовых губ молодая женщина, — что этот сок приносит человеку счастье…
Щегловитов рассмеялся, в глазах его вспыхнули лукавые огоньки.
— Можно подумать, что вы выросли в лесу и воспитывали вас колдуны и знахарки…
— Напрасно смеетесь, Иван Григорьевич! Даже опытные медики не считают это бабскими сказками и рекомендуют березовый сок при болях в животе.
— Возможно, что это хорошее средство от болей в животе. Но для счастья…
— Прежде чем спорить, Иван Григорьевич, понюхайте, как пахнет этот сок.
— Для парфюмерии, возможно, он тоже годится, но для мифического, недостижимого счастья… — стоял на своем министр юстиции.
— Однако ведь вы, дорогой Иван Григорьевич, не коммерсант, а ученый-юрист и министр.
— Эх, будь я коммерсантом… Жилось бы мне куда вольготнее.
— Мы бы тогда махнули с вами в Индию или в Японию… Ведь правда? — мечтательно произнесла вдова.
— Не отказался бы! Да еще с вами…
— Почему же вы запнулись? Вы подумали о том, что бы сказала на это ваша супруга, так ведь? — спросила Лариса Митрофановна столь невинным тоном, будто сама она тут совершенно ни при чем.
Щегловитов не ответил. Придвинув к себе изящный графин с холодным напитком, принесенным слугой, он наполнил стакан.
— Такого кваса вы еще в жизни не пили, — уверенно сказала хозяйка. — На это мой Афоня великий мастер!
Щегловитов с наслаждением осушил стакан до дна, оценив напиток по достоинству. Вдруг спохватившись, он посмотрел на часы, заторопился:
— Ой-ой-ой, как поздно! Скоро и солнце скроется. — Он попытался оправдать свою внезапную поспешность: — Мне, видите ли, сегодня надлежит быть у себя, а ведь на дорогу понадобится не меньше чем минут тридцать — сорок.
— Не беспокойтесь, я дам вам кучера, который довезет вас за двадцать минут, — уверила Лариса Митрофановна.
В это мгновение послышался звук подъезжающих дрожек. Оба сидевших в этом уютном уголке сада прислушались.
— Кто б это мог быть? — слегка вспыхнув, промолвила хозяйка.
— Наверное, кто-нибудь из ваших соседей.
— Да нет же, кроме вас…
Издали донесся голос слуги:
— Да. Здесь теперь пребывают его высокопревосходительство Иван Григорьевич Щегловитов.
— Это к вам — вас разыскивают, — тихо сказала Лариса Митрофановна.
— Меня? — Щегловитов, недоумевая, пожал плечами. — Впрочем…
Из-за деревьев вышел Чаплинский. В тени листвы и переплетающихся ветвей он казался мрачным и похудевшим. Прокурор что-то говорил, но что именно — ни Щегловитов, ни хозяйка дома не разобрали. На ходу он задел одну из низко опустившихся веток, и волосы его слегка растрепались.
— Познакомьтесь: Георгий Гаврилович Чаплинский; вдова генерала Койданского — Лариса Митрофановна…
Койданская перебила министра:
— Я много слышала о господине Чаплинском.
Чаплинский несколько растерянно посмотрел на генеральшу. В душе он был недоволен, как «такое» теперь лезет в голову господину министру. Вызвал к себе прокурора по важнейшему и срочному делу, а проводит время с молодой вдовой…
От Щегловитова не ускользнуло настроение Чаплинского. Улыбаясь, он обратился к хозяйке дома:
— Видите, Лариса Митрофановна, вы смущаете даже таких бывалых и многоопытных чиновников. Вам известно, какой пост занимает теперь Георгий Гаврилович? Он прокурор Киевской судебной палаты…
— Да, я слышала и об этом, — мило улыбаясь, ответила Койданская.
— Обо мне и о моей скромной должности? — Чаплинский уставился на нее своими холодными карими глазами.
— «Скромная»? Вы шутите! — рассмеялась генеральша. — Мои знакомые рассказывают о вас страшные истории.
— Даже страшные?.. — Прокурор недоумевающе взглянул на собеседницу. Гость с явным интересом и нетерпением ждал дальнейших слов.
— Что вы на меня смотрите с таким удивлением? Вот здесь, у этого самого столика, недели две назад сидел прокурор Киевского окружного суда Брандорф и довольно откровенно рассказал мне о вашей, господин Чаплинский, такой… неумолимой… жестокости… Но лучше не будем говорить об этом, — будто бы спохватившись, сказала хозяйка, — вы скажете — дамские пересуды… Я не хочу вмешиваться не в свои дела.
После небольшой паузы, заметив любопытство Щегловитова и нахмуренное лицо Чаплинского, Койданская добавила:
— Чувствую, что мне лучше помолчать. Напрасно я начала этот разговор… Садитесь, Георгий…
— Гаврилович, — подсказал Щегловитов.
— Простите, Георгий Гаврилович, — повторила она с легким смущением. — Брандорф — друг моего покойного мужа и мой хороший друг, очень честный человек, могу это утверждать смело. Плохого он о вас, собственно, ничего и не говорил, — генеральша вновь улыбнулась. — Так вот, он рассказал мне одну историю, связанную с какой-то дамой, которая почему-то оказалась замешана в какое-то политическое дело. Подробностей не помню… Но смысл истории сводится к впечатлениям от вашей личности, которые остались у людей, причастных к этому делу. По мнению Брандорфа, господин Чаплинский человек неуступчивый, взыскательно-строгий и недобрый. Вы уж не обессудьте… Я люблю правду, какой бы горькой она ни была. Иван Григорьевич, скажите же вашему коллеге, что, когда приходят в гости к женщине, нельзя быть таким угрюмым. Впрочем, не обращайте внимания на мою болтовню, Георгий Гаврилович. Не придавайте значения, мало ли что говорит женщина… — Лариса Митрофановна рассмеялась так заразительно, что гости невольно улыбнулись. При этом оба думали о том, что лучше уехать отсюда как можно скорее.
Чаплинский выжидательно смотрел на Щегловитова. Хозяйка, несомненно, женщина привлекательная, но монолог, который она произнесла, до того странный, до того сумбурный… Да, сколько же лестных слов было сказано в его адрес… Что она хотела, эта генеральша?
Но вот Щегловитов и Чаплинский усаживаются в дрожки, которые отвезут их в «Кочеты». Кучер трогает с места.
В дороге оба молчали, каждый думал о своем.
«И этот Брандорф, — рассуждал министр юстиции, — явно из немцев… Очевидно, способен натворить немало зла своим языком. Очевидно, его следует поскорее убрать». Министр хотел поделиться своими мыслями с Чаплинским и повернулся в его сторону. В наступивших сумерках казалось, будто Чаплинский задремал, так неподвижно он сидел.
У пылающего горизонта солнце боролось с надвигающейся темнотой, все вокруг было уже окутано коричневатой дымкой; все ниже и ниже стлалась она по вспаханной земле.
Почти бесшумно скользил экипаж по наезженной дороге, лишь кучер будоражил дремавшую ширь звонкими выкриками. Ехали они быстро, обоюдное их желание сводилось к одному: как можно скорее добраться до уютного имения «Кочеты».
Въехали во двор. Лакей встретил хозяина и его гостя. Оба молча сошли с экипажа, Щегловитов пропустил Чаплинского вперед.
В доме было много света — горели настольные лампы, люстры под потолком. В комнате, куда вошли приехавшие, огромная настольная лампа стояла на столе.
— Садитесь, — обратился Щегловитов к гостю. Он сразу же снял пиджак и предложил Чаплинскому последовать его примеру. — Такую духоту выносить невозможно.
Привычным жестом хозяин дома распахнул окно, и в комнату ворвалась волна свежего воздуха. Пламя в лампе дрогнуло.
— Рассказывайте, — услышал Чаплинский твердый голос, совсем непохожий на сдержанные, даже заискивающие интонации, которые слышались в беседе с вдовой-генеральшей. Выглядел теперь Щегловитов официально-строгим и властным.
Чаплинский коротко доложил о распоряжении, отданном им подполковнику Кулябко насчет Бейлиса.
— А какие основания? — спросил министр.
Прокурор несколько замялся.
— Видите ли, ваше высокопревосходительство имеются свидетели — несколько ненадежные, к сожалению, — показания их противоречивы и путаны, однако в ближайшее время основание для обвинения будет подготовлено и мотивировано должным образом. Пока же в целях государственной безопасности…
Чаплинский по выражению министра уловил его недовольство.
— Вы, следовательно, до сих пор не смогли растолковать лицам, осуществляющим дознание, и всем другим, так или иначе связанным с этим делом, что вопрос об убийстве христианского ребенка лежит на совести всей России…
Прокурор чувствовал себя так, будто это он совершил преступление, будто на нем лежит тягчайшее обвинение. Чаплинский понимал, чего хочет от него Щегловитов, но пока что не торопился высказывать все свои соображения. Щегловитов нервничал. Лучше не испытывать терпение министра, подумал Чаплинский.
— Ваше высокопревосходительство, — сказал он, — студент Голубев сообщил мне, что был у вас…
— Был. — Щегловитов ждал, что дальше скажет Чаплинский.
А прокурор все еще не знал, как лучше и удачнее повести разговор. Он не отрывал глаз от сурового лица своего начальника. И тут услышал:
— Я сказал, Георгий Гаврилович, «был»… Вам надлежит держать тесную связь с этой организацией…
— Да, да, конечно, — поспешил согласиться Чаплинский.
— …и меньше прислушиваться к ламентациям либеральных газет. Гессены и Милюковы могут сколько угодно вопить в своих органах, ваше дело поменьше обращать на них внимания.
— Да, да, ваше высокопревосходительство… верно! — едва успевал подхватывать прокурор.
— Законы пишем мы, мы создаем их, а не газеты… — сделав ударение на слове «мы», твердо заявил Щегловитов.
И после небольшой паузы продолжил:
— Должен доверить вам, Георгий Гаврилович, один секрет: киевским делом заинтересовался сам его величество государь император…
— Знаю, знаю, Иван Григорьевич.
— Знаете? Откуда это может быть вам известно? Кто мог это вам сообщить, если, кроме меня, никто этого не знает?
Чаплинский побледнел. Видимо, он как-то неудачно выразился…
— Сказав «знаю», ваше высокопревосходительство, я имел в виду, что мне понятна заинтересованность его императорского величества этим делом… — Чаплинский попытался исправить положение. — Оно затрагивает интересы государства.
— Тогда слушайте, господин прокурор: нам необходимо дать беспощадную отповедь всем тем, кто пытается поднять в Государственной думе вопрос о расширении черты оседлости еврейского населения.
Чаплинский слушал министра, подобострастно заглядывая ему в лицо.
— Вы меня поняли, Георгий Гаврилович?
— Разумеется, ваше высокопревосходительство. — И тут Чаплинский решился задать вопрос: — А чем можно объяснить позицию, занятую газетой «Киевлянин», ваше высокопревосходительство? Как вы считаете?
Министр развел руками: этого он не знал.
— Наша, русская газета — и… так фальшивит. Нет здесь ритуала… Кто бы мог ожидать? — продолжал Чаплинский.
— Да, такая позиция непонятна. Пока… — Министр пригладил волосы и многозначительно улыбнулся: — Дескать, стыдно им за русский народ, за двадцатый век… людоедство в России… А может быть, правильно поговаривают — будто редакция «Киевлянина» получила крупный куш от еврейских организаций? Кагал на все способен. Не забывайте, что они всемирная организация: у нас в России — барон Гинзбург, Поляков, Высоцкий, Бродский, а за границей — барон Ротшильд… Кто знает?
— О чем вы говорите, Иван Григорьевич? Дмитрий Иванович Пихно, редактор «Киевлянина», не такой человек, чтобы его можно было подкупить…
— Георгий Гаврилович, презренный металл — это сила! — Министр многозначительно поднял указательный палец: — Масонские общества, или «масонские ложи», имеют огромные возможности, а люди падки на золото. Так что ваш Пихно…
Теперь прокурор даже и мысленно уже не мог противостоять господину министру. Желая доказать свою верность и преданность делу, в котором заинтересована вся Россия, прокурор достал из кармана пиджака карандаш и протянул руку к лежавшему на столе блокноту в тяжелом переплете с четырьмя треугольниками по углам. Торопливо набросал короткую шифрованную депешу «Арестован ли Мендель?», показал текст Щегловитову и попросил срочно послать человека на станцию для отправки депеши.
Щегловитов позвонил, передал вошедшему камердинеру бумагу и распорядился отправить ее немедленно.
На этом беседа закончилась. Они разошлись по своим комнатам, и вскоре летнюю резиденцию министра юстиции окутали покой и тишина.
Наутро в приемной на столе уже лежала телеграмма, полученная на имя Чаплинского: «Мендель арестован порядке охраны государственных интересов».
Исай Ходошев предложил взять интервью у прокурора Чаплинского, но отнюдь не все члены редакции «Киевской мысли» одобрили эту затею. И хотя знали, что Исай способен проломить глухую стену, не верилось, что Чаплинский примет репортера. Да он и на порог не пустит представителя либерально-буржуазной газеты, убеждали Ходошева коллеги.
Идею Ходошева прежде всего высмеял публицист Лиров, известный своей желчностью: если паче чаяния разговор все же состоится, пусть представитель газеты «Киевская мысль» передаст прокурору, что он, Лиров, собирается писать статью о столпах русской адвокатуры. «Скажите Чаплинскому, — говорил Лиров, — что в связи с предстоящим процессом по поводу убийства Ющинского имя грозного прокурора будет записано в анналах истории человеческого рода».
Всеволод Чаговец, фельетонист газеты, человек с широким кругозором, просил передать привет известному прокурору. Он раскурил одну из своих многочисленных трубок и, насмешливо поблескивая зоркими глазами, сказал:
— О, сей прославит Киевскую судебную палату!
В адрес самого Ходошева Чаговец отпустил довольно злую остроту, которую тому пришлось проглотить. И даже когда за карандаш и бумагу схватился карикатурист, молодой сотрудник газеты, Ходошев не обиделся. Рисунок ходил по рукам — Ходошев сидел перед облаченным в прокурорскую мантию Чаплинским с подобострастным, покорным лицом. Пусть коллеги глумятся над ним сколько угодно, а он таки своего добьется! Материал, вполне возможно, в печати использовать не удастся, но интервью Ходошев запишет!
Постоянно сотрудничая в газете «Киевская мысль», Ходошев одновременно являлся и корреспондентом Санкт-Петербургского телеграфного агентства. Поэтому на сей раз он решил представиться высокому представителю прокурорского надзора в этой своей роли.
Позвонив по телефону секретарю прокурорского надзора, Ходошев попросил доложить Георгию Гавриловичу Чаплинскому, что он просит у него официальной аудиенции. Корреспонденту Петербургского телеграфного агентства тут же было назначено время встречи с киевским прокурором.
В прокуратуру Ходошев явился точно в назначенное время. Предъявив корреспондентское удостоверение, он прошел в большой, просторный кабинет. На одной из стен висел портрет Столыпина. Председатель Совета министров империи величественно взирал с портрета на своих подчиненных. Бросались в глаза четко выписанные, залихватски подкрученные кверху усы.
Яркие лучи солнца падали на стол, освещая сукно, письменные принадлежности и придавая этой большой комнате своеобразный уют.
Распахнулась боковая дверь. Деланно улыбаясь, в кабинет вошел прокурор. Протянув посетителю руку, он указал на кресло.
— Я думал, вы из «Нового времени», — сказал Чаплинский, внимательно разглядывая Ходошева.
— Нет. Петербургское телеграфное агентство интересуется расследованием дела об убийстве Ющинского.
Журналисту на мгновение показалось, что прокурор узнал в нем сотрудника местной газеты.
— Вы православный? — неожиданно спросил Чаплинский.
— Да, — смело ответил Ходошев, глубже усаживаясь в мягкое кресло.
— Несколько дней назад, — произнес прокурор более оживленно, — меня атаковал некий господин из «Вечерней газеты». Газета эта печатается на русском языке, но, как вам известно, не на языке Тургенева, увы… Эта газета издается на деньги евреев… И что вы думаете… Простите, как ваша фамилия, господин?
— Гвоздев, — недолго думая ответил Ходошев.
— Гвоздев… так, так, слышал. Гвоздев… А имя и отчество?
— Иван Тимофеевич.
— Так вот, Иван Тимофеевич, этот деятель из «Вечерней газеты» обратился ко мне, чтобы я сообщил ему мнение прокуратуры о таинственном убийстве Андрея Ющинского. Вы ведь понимаете, Иван Триф…
— Тимофеевич, ваше превосходительство, — подсказал Ходошев.
— Простите, Иван Тимофеевич. А мы не рассказываем того, чего сами не знаем. Проводится сложное и интенсивное расследование. Но… — Чаплинский задумался, затем заговорил неожиданно громко и темпераментно: — Вы ведь знаете о славном древнегреческом герое Геракле: подлинно народном герое, победившем злобного тирана, что нарушал покой и безопасность народа. Мы, — напыщенно произнес Чаплинский после некоторого раздумья, — уподобились прославленному некогда Гераклу, совершившему двенадцать геройских подвигов по приказанию другого мифического героя Эврисфея. А теперь Гераклу, прошедшему через адский огонь, предстоит совершить еще один геройский подвиг: уничтожить страшнейшую гидру, когда-либо рождавшуюся на нашей земле, — революционеров и еврейских агентов. На нашу прокуратуру богами правосудия возложена величайшая и благороднейшая героическая задача — стать Гераклом своего времени, то есть выиграть подготавливаемый нами процесс, чтобы Геракл обрел славу бессмертного героя всех времен, чтобы он освободился от романтической оболочки античного мифа, в которую его облекла легенда, и стал подлинно русским и при этом вполне реальным героем, повергающим ниц всех врагов русского народа и его божественной власти — богом данного нам царя. Такова наша задача.
Ходошев внимательно слушал прокурора. Иронически улыбаясь, он глядел на Чаплинского, рассуждающего о мифологии и о том, что он призван стать Гераклом современности и спасти великую Русь от опасностей, которые эти господа и иже с ними сами же и придумывают.
— Разрешите задать вам вопрос, ваше превосходительство. Если Гераклом явится киевская прокуратура, то кто же будет Зевсом нашего времени, отцом Геракла?..
— О дорогой мой корреспондент, об этом совсем не трудно догадаться. — И Чаплинский указал на портрет Щегловитова, висевший на противоположной стене. — Глава юстиции является воплощением нашего русского правосудия.
— Понятно… — утвердительно кивнул Ходошев. — Вы мне разрешите записать ваш в высшей степени интересный исторический экскурс?..
Согласно кивнув, Чаплинский позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и попросил принести сифон с газированной водой.
— Вы употребляете этот напиток? — спросил прокурор, помогая поставить на стол сифон с двумя стаканами.
— Не откажусь, благодарю вас.
Оба выпили по стакану воды.
— Правду говоря, не люблю беседовать с вашей братией — корреспондентами: может возникнуть недоразумение — бывает, напечатают то, о чем вовсе не говорилось и чего в мыслях не было. Но вы, молодой человек, мне сразу понравились, вы совсем не похожи на тех газетных ловкачей, которые сами не умолкают ни на минуту, слова не дают вымолвить. А потом читаешь в газете бог знает что…
Чаплинский на мгновение задумался.
— Что еще вам сказать? — продолжал он. — Вы, вероятно, читали, что писала «Киевская мысль»? Так вот, эта газета писала, будто мальчика убила некая Вера Чеберяк, хозяйка так называемой «малины». Называют даже имена сообщников. Между тем наша прокуратура имеет в своем распоряжении точно проверенные данные о том, что репортеры этих газет подкуплены евреями. Вы, Иван Тимофеевич, не можете себе представить, как это тайное государство в нашем великом русском государстве завлекает в свои сети русские души, это своего рода status in statu[3].
— Простите, ваше превосходительство, какое именно тайное государство вы имеете в виду?
— Гм… Я подразумеваю тайный союз еврейских капиталистов и общественных организаций, обладающих колоссальными финансовыми средствами. Есть мнение, что названный мною союз куда богаче нашего министерства финансов. И это еврейское финансовое правительство подкупает всех и вся, делая из черного белое и из белого черное — смотря по обстоятельствам.
— Может ли это быть? — осторожно усомнился журналист.
— Уверяю вас! Проверено нашими органами. И еще одна немалая сенсация — это я прошу огласить для заграничных газет и агентства печати: газету «Киевская мысль» содержат еврейские миллионеры, которым удалось обмануть нашего доверчивого русского мужика. Феноменальный скандал! С одной стороны, мне неловко даже рассказывать об этом акте, свидетельствующем о русской доверчивости и отсталости. С другой стороны, этот красноречивый факт говорит всему миру о том, насколько вообще фальшивы, злонамеренны и хитры евреи-фанатики и евреи-кровопийцы, готовые на все, лишь бы обмануть русского человека, и в первую очередь наши судебные органы. Не думайте, что мы собираемся умолчать об этой их игре с огнем. Мы привлечем их к ответственности. Из дела приказчика завода Зайцева — Менделя Бейлиса — мы выделим для особого рассмотрения дело этих евреев-фанатиков, евреев-подстрекателей. О, мы теперь знаем, почему эта еврейская газета хотела повести прокуратуру по неверным следам, утверждая, что убийство мальчика совершено в доме русской женщины Веры Чеберяк…
— Разрешите, ваше превосходительство, я перебью вас… Но ведь и в Петербурге известна так называемая «малина» упомянутой вами Чеберяк, где собираются преступники, и ведь именно там…
Прокурора передернуло. Проведя рукой по лбу, он сказал:
— Если даже там действительно, как вы говорите, «малина», какое она может иметь отношение к ритуальным убийствам? Эти рыцари свободной прессы, защитники Бейлиса, якобы выступающие за справедливость, вознамерились свалить на воровской притон преступление, совершенное евреем с черной бородой. Но народный герой Геракл и здесь совершит свой очередной подвиг— он разрубит узел злонамеренных оговоров, по сути невинной женщины, матери троих детей; уже и теперь наконец мы на верном пути. Мендель Бейлис, как действительный преступник, за решеткой. Пока суд не вынесет справедливого решения — а я уверен, что именно таковое он и вынесет, — Мендель не будет освобожден. И вообще дело не только в нем, а в том, что наш народ тысячелетиями живет плечом к плечу с изуверами, которые выцеживают невинную кровь…
— Выходит, ваше превосходительство, что дело не только в Бейлисе?
— А вы как думали? Мы призваны разрешить один из труднейших вопросов, в котором кровно заинтересован весь наш народ. Человечество жаждет освобождения от ярма ритуальных убийств. Должен признаться, что весьма решительно в этом вопросе помог прокуратуре один благородный человек — Владимир Голубев.
— В Петербурге мы слышали о нем, не раз слышали, — подхватил как будто с одобрением Ходошев.
— Да, это героический рыцарь «Двуглавого орла»! Вы бы видели этого молодого человека! Если хотите, могу вас познакомить с ним, он скоро должен быть здесь.
— Меня вполне удовлетворяет данное вами объективное освещение интересующего нас вопроса, ваше превосходительство.
В эту минуту в дверь постучали. Прокурор сказал «войдите» — и на пороге появился Голубев.
Ходошев было растерялся, но, овладев собой, нагнулся над своими записями, словно и не замечая вошедшего.
Голубев был на волне бурливших в нем эмоций:
— Какую новость я вам принес, Георгий Гаврилович! Будь вы хотя бы в моем возрасте, да вы бы…
Строгий взгляд прокурора заставил студента осечься. Тогда Голубев бесцеремонно подошел к Ходошеву и, подавая ему руку, проговорил:
— Познакомьте меня с вашим гостем.
Черты лица Ходошева показались ему знакомыми, но Голубев никак не мог припомнить, где он мог встречаться с этим человеком.
— Кто это, Георгий Гаврилович? — тихо спросил он.
— Знакомьтесь — господин Голубев, господин Гвоздев, сотрудник Петербургского телеграфного агентства.
— Ага, вспомнил… Я не ошибся? Тогда… возле пещеры, где нашли труп Андрюши. Я не ошибся?
— Простите, господин Голубев, я вас вижу впервые, — невозмутимо сказал Ходошев.
— Тогда все впереди, — с апломбом заявил студент. — Поскольку вы из Петербургского телеграфного агентства, то и вам надлежит знать: еврей Мендель Бейлис признал свою вину, добровольно сознался в убийстве Андрюши Ющинского.
— Возможно ли! — воскликнул Ходошев. — Действительно, это сенсационная новость… — Он старался говорить как можно спокойнее.
— Уж если Владимир Степанович говорит, значит, все достаточно точно и вполне достоверно, почтеннейший, — с нескрываемым удовлетворением произнес прокурор.
— А каким образом вам удалось узнать об этом? — уже совсем спокойно спросил Ходошев.
— Я только что от следователя, — торжествующе сообщил Голубев. — Понимаете ли вы, какую победу одержали мы, русские люди?! Георгий Гаврилович, вы должны немедленно сообщить об этом министру юстиции. Ура! — От восторга Голубев готов был чуть ли не в пляс пуститься. — А вы, господин Гвоздев, можете передать эту радостную весть всем патриотическим русским газетам.
«Пора уходить!» — подумал Ходошев. Картина вполне ясна. Да он и не сомневался в той сложной закулисной интриге, которую уже не первый день плетут Чаплинский и его единомышленники.
— Ваше превосходительство, если позволите, я подготовлю интервью и представлю его вам на утверждение. Лишь после этого мы разошлем его различным газетам.
— Что означает «различным газетам»? — нахмурился Чаплинский.
— Я имею в виду русские газеты, обслуживаемые нашим агентством. До свиданья, ваше превосходительство!
Выйдя из кабинета, Ходошев ускорил шаг, хотелось как можно скорее выбраться отсюда.
Доложив в редакции о своей беседе с прославленным прокурором, Ходошев вызвал у своих коллег и смех, и недоверие. Сослуживцы никак не могли поверить, что Ходошеву все же удалось вырвать интервью у Чаплинского.
Тогда Исай Ходошев подошел к телефону, несколько раз повертел ручку и попросил связать его с Чаплинским. Все окружили Ходошева и с напряженным интересом ожидали разговора.
— Ваше превосходительство, господин прокурор Киевской судебной палаты! Говорит корреспондент Гвоздев. У меня уже готово данное вами интервью. Однако напечатать его я смогу только в местной газете «Киевская мысль». В случае вашего согласия я принесу вам на подпись текст интервью.
— Что, что он ответил? — нетерпеливо спрашивали сотрудники.
Повесив трубку, Ходошев негромко произнес, подражая испуганному голосу прокурора:
— «Это шантаж, вы шантажист! Я привлеку вас к ответственности!»
Он помолчал, после чего воскликнул энергично:
— Он хочет обмануть весь русский народ, но мир этого не допустит!..
Часть вторая
Вот уже несколько дней в Киеве пребывал самодержец Николай Романов с членами своей семьи. Приезд его был приурочен к открытию памятника Александру Второму — деду Николая Второго.
Что творилось в Киеве! Всеобщее ликование и волнение царило в городе, люди готовились к торжествам…
Среди прибывших в Купеческий сад на церемонию встречи его императорского величества находился и журналист Исай Ходошев. В толпе он увидел Настю Шишову с ее приятелем — рабочим Петром Костенко. Это они в буквальном смысле слова спасли его в тот мартовский день возле пещеры, когда возбужденная толпа способна была безжалостно растоптать любого, кто оказался бы на ее пути…
В неописуемой давке перед глазами Ходошева промелькнул с группой студентов и Голубев. Отдавая своим единомышленникам какие-то распоряжения, он, как всегда, горячился, был суетлив. Его студенты рыскали в толпе, цепляясь к тем, кто вызывал в них хотя бы малейшее подозрение, и выводили их из толпы.
Близились сумерки, но было еще достаточно светло. Появление Николая Второго с августейшими дочерьми Ольгой и Татьяной привлекло внимание собравшихся. Императора сопровождали председатель Совета министров статс-секретарь Петр Аркадьевич Столыпин и другие высокопоставленные лица. По склонам гор до самого Подола прокатилось оглушительное «ура». Всюду, куда падал глаз, толпились празднично одетые женщины и мужчины с обнаженными головами.
Пробиваясь вперед со своими друзьями, чтобы поближе разглядеть всероссийского самодержца, Ходошев невольно усмехнулся, вспомнив слова, сказанные много лет назад его отцом: когда впервые увидишь царя, нужно произнести слова благословения.
В толпе, окружившей его величество, Ходошев заметил прокурора судебной палаты. То, что в самом центре священник Федор Синкевич, совершенно понятно: ведь он один из вожаков киевских «союзников». Но прокурор… Не зря, значит, называют Чаплинского одним из приближенных Синкевича…
А вот рядом с прокурором и городской голова — генерал-губернатор — и еще кое-кто из высокопоставленных сановников. Эти лица Ходошеву приходилось видеть не раз.
Пробираясь сквозь толпу, Ходошев оказался почти совсем рядом с беседкой, украшенной государственными гербами. В тот самый момент на подиум поднялся царь. Всматриваясь в даль, он указал рукой на Труханов остров, где утопала в знаменах и хоругвях церковь. Слободка и Труханов остров с наступлением темноты должны были вспыхнуть светом многочисленных электрических лампочек.
Но день не спешил уступить дорогу сумеркам. Золотой диск солнца стоял еще высоко в небе, озаряя далекий горизонт.
Царь и окружающие его лица весьма благосклонно отнеслись к небывалому по красоте зрелищу, открывавшемуся их взору, и не собирались покидать волшебной беседки.
Как и многие, что пришли сюда, Ходошев имел при себе бинокль. Направив его на толпу, журналист увидел Голубева, который стоял возле Чаплинского и что-то нашептывал ему. В это же время отец Синкевич подвел к царю какую-то женщину. Женщина преклонила колени, и в наступившей тишине отчетливо прозвучал ее взволнованный голос:
— Ваше императорское величество! Разрешите поведать вам печаль материнского сердца, печаль простой русской женщины, прожившей тяжелую, но честную жизнь труженицы. По наговору недостойных, продажных людей я находилась под стражей и в это время потеряла своих дорогих детей — Женю и Валю. На меня легло тяжкое подозрение в убийстве Андрея Ющинского. Страдающая мать, оставшаяся без детей, умоляет ваше царское величество освободить меня от этого подозрения и распорядиться открыть мне — дворянке Вере Чеберяк, преданной служительнице престола, — имена преследующих меня людей, наказать действительных виновников и навсегда освободить меня от страшного обвинения…
Лист с прошением, трепетавший в ее руках, женщина положила к ногам царя.
Одна из царских дочерей в умилении нагнулась к Вере Чеберяк, обняла ее за плечи и помогла подняться. Вопросительно взглянула на отца.
Николай Второй благосклонно кивнул головой.
Из-за спины Голубева выросли двое-молодчиков и увели женщину с заплаканными глазами.
В это время Столыпин представил царю прокурора Чаплинского.
Наконец опустились сумерки, и по другую сторону Днепра зажглись многочисленные огоньки на Слободке и Трухановом острове. Сияющая огнями мельница Бродского на Подоле казалась каким-то сказочным замком. Ярко выделяясь на темном бархате неба, она манила к себе невиданной красотой.
Из соседнего павильона доносились звуки музыки. Русского царя приветствовал хор и симфонический оркестр.
Монарх и его приближенные остались весьма довольны.
На следующий день Чаплинский докладывал царю о деле Бейлиса. Все его старания сводились к тому, чтобы подчеркнуть ритуальный характер чудовищного убийства.
Равнодушно кивая головой, как всегда, когда высокопоставленные чиновники представляли ему необычные дела, царь молчал. И вот наконец, вскинув холодные бесцветные глаза, он произнес одно только слово:
— Действуйте!
Чаплинский низко поклонился и, внутренне ликуя, вышел из зала.
Сидевший в карете Голубев пожал ему руку:
— Россия этого никогда не забудет, Георгий Гаврилович!.. Так над кем вспыхнет раньше факел погребальный: над православной Россией или над теми либеральными сановниками, которые с усердием, достойным лучшего применения, надламывают священную для нас арфу, звучащую старыми победными гимнами русского народа?..
Прокурор ничего не ответил. В душе он недолюбливал этого студента-фанатика. «Молодой петух, а такой вредный, даже опасный в серьезных делах! Он готов опередить всех и вся», — с неприязнью подумал Чаплинский.
Столыпин был известен своим бесчеловечным, на редкость жестокосердным характером. Он свободно мог быть приравнен к столпу немецкого империализма — «железному канцлеру» Бисмарку.
Председатель Совета министров прибыл в Киев для осуществления некоторых важных мероприятий в юго-западном крае. Поездку свою в Киев премьер-министр, тщательно оберегаемый охранкой и полицией, приурочил непосредственно к приезду царской семьи, предполагая, очевидно, использовать авторитет самодержца для своих далеко идущих планов. Собственно говоря, почву для еще большего укрепления власти «первого дворянина империи» — Николая Второго — в юго-западном крае готовили правые элементы, словно на дрожжах поднимавшиеся в жестокой борьбе против сил революции.
Беспорядки и волнения, чинимые черносотенцами в связи с убийством Андрея Ющинского, росли с каждым днем. Еврейское население Киева, окрестных городов и местечек переживало тяжкое время. Особенно обеспокоены были жители Киева. Каждую минуту можно было ожидать погрома, страх ломал жизнь еврейских семей. Зажиточные готовились ехать в глубь России, даже за пределы ее, решившись бросить все нажитое.
С прибытием в Киев царя еврейское население несколько воспрянуло духом: вряд ли посмеют распоясавшиеся громилы учинить беспорядки в городе, где находится сам государь император. Люди верили в честность и справедливость монарха и, конечно, не могли и подозревать, что на представляемых царю докладах о евреях и других инородцах высочайшая воля изъявлялась такими записями: «Читал с удовольствием», «Вполне согласен», «Да будет так»…
В накалившейся атмосфере погромной агитации, участившихся эксцессов среди студенчества, смутного ропота и недовольства широких народных масс приезд царя со своим главным министром можно было расценивать как пир во время чумы.
В киевском театре шла опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Благонамеренно настроенная аудитория, состоящая из верхушки чиновничьего класса и офицеров всех рангов, восторженно принимала оперу. Взоры публики то и дело обращались в сторону царской ложи, торжественные возгласы раздавались в честь Николая Второго и его приближенных.
Здание театра снаружи, да и внутри, кишело жандармами, полицейскими и тайными агентами.
В первом ряду партера в окружении своих помощников и адъютантов восседал статс-секретарь, председатель Совета министров Столыпин.
Во втором антракте он стоял у рампы лицом к публике и беседовал со своими соседями. Внезапно к нему приблизился какой-то неизвестный во фраке и выхватил из кармана браунинг. Два коротких выстрела гулко прозвучали в зале, и Столыпин, схватившись левой рукой за правую сторону груди, тяжело опустился в кресло. Левая рука, залитая кровью, постепенно обвисала; раненый, побледнев, начал терять сознание.
Подхватив Столыпина на руки, находившиеся вблизи офицеры и чиновники бережно понесли его к выходу.
Зрителей охватила паника, раздались возгласы:
— Смерть злодею!
— Смерть крамоле!
Но тут поднялся занавес, и публика потребовала исполнения гимна.
Николай Второй, объятый ужасом, механически шагнул к барьеру ложи.
Артисты стали на колени. Зазвучал царский гимн. Хор на сцене, публика на балконе и в партере — все, молитвенно сложив руки на груди, с воодушевлением пели «Боже, царя храни!».
Застыв у барьера ложи, самодержец отвел глаза в сторону. Чувствуя, что ноги его подкашиваются, Николай на миг присел, но тотчас же поднялся. Оглушенный приветственными возгласами, тянущимися к нему руками, он не знал, как поступить — стоять ли здесь или покинуть скорее здание театра.
Но вот в царскую ложу вошел губернатор, и царь со свитой удалился.
Вскоре к театру подъехала карета «скорой помощи». Столыпина повезли в лечебницу братьев Маковских. Придя в себя, раненый премьер-министр пожелал передать государю императору, что готов умереть за него, и попросил привезти священника для отпущения грехов.
После выстрела неизвестный устремился к ближайшему выходу. За ним бросились три офицера. Один из них споткнулся и упал в проходе, двое проявили проворность и ловкость: почти одновременно они настигли преследуемого. Борьба была короткой, хотя убийца довольно рьяно отбивался руками и ногами. Один из офицеров ударил его саблей по голове, и, сраженный этим ударом, он упал, и его связали.
Задержанный отказался назвать себя. Это был высокий, худощавый мужчина с близорукими глазами; внешне — типичный интеллигент. Прибывший на место происшествия начальник охранного отделения Кулябко сразу же опознал задержанного и в остервенении нанес ему сильный удар по лицу.
— Это Дмитрий Богров, помощник присяжного поверенного, — сказал Кулябко. — Какой негодяй!
По приказу начальника охранки государственный преступник был срочно доставлен в здание его не очень популярного ведомства.
Вскоре Богров — избитый, в разорванной одежде — сидел у Кулябко в кабинете.
— Я знал, что ты жид, — кричал охрипший от переживаний подполковник, — но делал вид, что ведать не ведаю!.. Какой же ты мерзавец! Какой негодяй!
Богров молчал.
Кулябко мучительно переживал тот факт, что он лично выдал Богрову билет в театр… Этому самому Богрову, который сулил поймать террориста, якобы готовившего покушение на Столыпина. Теперь, когда он, Кулябко, был так позорно обведен вокруг пальца, когда он понял, что за легковерие и слепоту ему тоже придется держать ответ перед высшим начальством, он доискивался причины, хотел во что бы то ни стало узнать, почему Богров решился на это преступление.
— Скажи, Митя, никого ведь здесь нет… Объясни — что тебя толкнуло на этот шаг? Как ты мог так поступить? — заискивающе спрашивал он.
Богров упорно молчал.
— Тебя ждала блестящая карьера, дубина ты этакая! Двадцать восемь лет, жизнь твоя только начиналась… Почему ты молчишь?
Богров не отвечал.
— Известно ли тебе, что из-за тебя и моя жизнь висит на волоске?
— Знаю, господин жандармский подполковник, — наконец произнес Богров.
— Ты еще, кажется, иронизируешь, подлая тварь! — стиснув зубы, прошипел Кулябко. Сняв мундир, он подошел к шкафу, достал бутылку абрикотина и, наполнив стакан, заговорил уже более мягко: — Все равно тебя за такой проступок не пощадят, ты вполне можешь открыться мне; скажи, что же толкнуло тебя на этот шаг?..
— Как вы думаете, Кулябко, Столыпин еще жив? — спросил Богров.
Пройдясь по кабинету, Кулябко вернулся к столу, взял стакан с ликером и подвинул его Богрову. А тот вытирал со лба засохшую кровь.
— Собака такая, угодил в тебя саблей… — сочувственно сказал Кулябко.
Богров с презрением отвернулся.
— Не веришь, что жалею тебя? — тихо сказал жандарм.
— Нет. Тебе[4] не верю. — Богров четко выделил слово «тебе».
— Ого! Ну так давай выпьем на брудершафт? — Кулябко даже как будто обрадовался.
— Если скажешь, что со Столыпиным, тогда выпью с тобой на брудершафт. Да будет тебе известно, я могу поведать тебе немало интересного, что весьма пригодится для твоей карьеры…
— Для моей карьеры… — подполковник улыбнулся, надел мундир, выпрямился. Сухое его лицо омрачилось. — Моя карьера уже позади… — И после небольшой паузы добавил: —А ты, Митя, даже перед смертью шантажируешь меня, мало тебе содеянного!
— Я не шантажирую, слово чести!
— Слово чести? Разве тебе известно, что такое честь? — Кулябко рассмеялся.
— Глубоко сожалею, Кулябко, что не выполнил первоначальный свой план. Мне надлежало убить тебя первого и лишь потом…
— Не может быть, Митя! Неужели ты — палач?
— Так что благодари бога…
Кулябко смягчился.
— Пуля попала в позвоночник и задела печень, — сказал он, немного помолчав.
— В позвоночник?.. — Богров повеселел. — Господин жандармский подполковник, если доставишь мне радостную весть, что Столыпин сдох, я открою тебе секрет, как уберечься от смерти. Ведь и за тобой охотятся, господин подполковник…
Заметив, что жандарм побледнел, Богров с еще большей злостью добавил:
— И не только за тобой, многие здесь, в Киеве, обречены…
— Кем обречены? — крикнул Кулябко.
— Нами, нами, господин подполковник! — уверенно произнес Богров, усаживаясь в кресло жандарма. Взяв со стола стакан, он залпом выпил абрикотин, зажмурив близорукие глаза.
— Кем это — «нами»? — вкрадчиво спросил Кулябко. — Расскажи, Митя, я ведь тебе не раз одолжение делал.
— Ох уж эти ваши одолжения… Они-то меня и сгубили… — почти шепотом проговорил Богров и опустил голову. — Разве ты способен понять, господин подполковник, что такое чистая совесть?
— Вот уж не ведал я, что ты к тому же и философ! Думал, только провокатор, господин присяжный поверенный Мотель Богров!
— Провокатор или не провокатор — это уже не играет роли. Твоей тупой головушке все равно не понять, что такое совесть.
Лицо Богрова просветлело. Какая-то детская безмятежность и внутреннее успокоение читались на нем.
— Я искупил свои грехи, свое падение… Наконец-то с моей совести смыто пятно позора!
— Опять болтаешь, философ, — грубо перебил его жандарм. — А ну встань с моего кресла, ты, государственный преступник!
— Это еще не все… Твоего царя-батюшку тоже…
— Что ты мелешь? — испуганно закричал Кулябко и оглянулся на дверь. — Скажи мне, Митенька, Митя… Кто?.. Когда?.. Где?..
— Скажу, если обрадуешь меня вестью о смерти Столыпина.
Жандарм потушил большую висячую лампу, оставив только настольную. Заметил, что Богров снова вытер кровь со лба. Достав из ящика кусок ваты, жандарм протянул ее арестованному. Но Богров отстранил его руку. Присев на край стола, Кулябко пристально поглядел на Богрова:
— Послушай, глупый ты человек, что я тебе скажу. Если откроешь мне подробности покушения на его величество, мы найдем возможность освободить тебя. По-дружески тебе говорю, — сказал он. И, заметив ироническую усмешку Богрова, он заговорил еще настойчивей: — Серьезно говорю: мы выпустим тебя и переправим за границу, комар носа не подточит! Мы можем это сделать, все в наших руках — сам знаешь. Уедешь в Америку, в Австралию, куда пожелаешь!
— Доставь мне весть, что Столыпин сдох… тогда поговорим.
— Ну, ладно. Пусть будет так. А пока тебя отвезут в «Косой капонир». Я приеду к тебе туда, в крепость. Там неплохая дача, сможешь на досуге обдумать мое предложение.
Было уже далеко за полночь, когда Кулябко позвонил, и вошедший часовой увел Богрова.
В окрестностях Киева, недалеко от военного госпиталя, на пустыре, поросшем бурьяном, в старые времена была построена монументальная крепость с различными фортификациями — так называемый «Косой капонир». Эта своеобразная крепость в период войны, возможно, служила опорным пунктом, а с начала XX столетия стала тюрьмой с жестким режимом, куда царские властители водворяли опасных военно-политических преступников.
Сюда, в «Косой капонир», по распоряжению подполковника Кулябко и был доставлен Богров. Кулябко рассчитывал, что он не выдержит тяжелых условий и заговорит. Но напрасны были его надежды. Бывший социал-революционер Богров, в ранней молодости увлеченный освободительными идеями, а позже — кто знает по каким причинам продавшийся охранке, после покушения на Столыпина почувствовал некоторое облегчение. Он жаждал искупить свою вину перед бывшими товарищами по борьбе. Но захотят ли они поверить Богрову, не усомнятся ли в чистоте его намерений? Как бы там ни было, его выстрел прозвучал по всей России, а он сам почувствовал себя героем, по крайней мере в собственных глазах. Где-то в глубине души Богров был даже рад, что ранен в голову. Пусть рана подольше не заживает, пусть причиняет ему страдания — это будет ему карой за измену своим прежним идеалам…
Очутившись в мрачном каземате, Богров, усталый и измученный, опустился на сырой, холодный пол и, скорчившись, стал растирать онемевшие холодные руки.
Привезли его сюда поздней ночью, а теперь уже ясное утро, но он сидит все так же неподвижно, будто омертвел. Хотя за все время после ухода из дому у него и маковой росинки во рту не было, он даже не дотронулся до ржавой миски с какой-то бурдой, что поставил перед ним часовой. В нос ударил дух распаренной кислой капусты, и его замутило от одного запаха этой пищи. Во рту была какая-то горечь, в горле першило, словно он проглотил растертую полынь.
Поглядывая из-под полусмеженных век на миску, от которой еще долго подымался вонючий пар, Богров задремал. Почудилось ему или так было на самом деле — мелькнула чья-то рука, забрала со стола миску, чей-то глухой голос проговорил пренебрежительно: «Ешь не ешь — все равно тебя повесят». Богров очнулся.
Из светлой дали сюда, в каземат, пробивался луч солнца, возвещавший о наступлении дня. Богров поднялся, зевнул, потягиваясь, затем решительно подошел к двери и начал стучать в нее кулаками.
— Чего тебе? — сердито спросил часовой.
— Воды умыться.
Через несколько минут тяжело раскрылась дверь и знакомая огрубевшая рука поставила на стол кружку с водой.
— Умываться над парашей, — сказал часовой.
Ополоснув лицо и руки, Богров истратил полкружки воды, сразу почувствовал себя посвежевшим. Остальной водой прополоскал рот.
— Гляди, воду разлил! Убери за собой! — сказал часовой и бросил ему тряпку.
Богров нехотя взял тряпку и медленно вытер пол.
Часовой следил за каждым его движением.
— А это для кого оставил? — часовой указал на небольшую лужицу.
Выпрямившись, Богров отбросил тряпку ногой.
Злобно посмотрев на арестанта, часовой пригрозил:
— Погоди, я начальнику нажалуюсь на тебя… убийца! — и вышел из камеры.
Богрова мало беспокоила угроза часового. Он снова уселся на полу, поджав колени к туловищу, чтобы согреться. Казалось, ветер гуляет по камере, прорываясь сюда через невидимые щели.
Снова раскрылась дверь, и уже другой дежурный часовой поставил на пол ржавую миску с едой. Богров даже не шелохнулся. Поглядывая на остывший неприглядный обед, он подумал: «Лучшего ты не заслужил, господин присяжный поверенный».
Послышался скрип двери, и появился подполковник Кулябко.
— Ну, Богров, как дела?
— Прекрасно, господин Кулябко.
— Неужели прекрасно?
— Безусловно, господин полковник!
— Ты уже и в чине меня повысил?
— А как же! Все равно это произойдет. За поимку такого преступника, как Дмитрий Богров!
— Издеваешься, каналья!
— Ничего, будешь и генералом, Николай Николаевич! — Заметив, что Кулябко от злости прикусил губу, Богров добродушно рассмеялся: — Крепись, старик, не робей!
Жандарм отвернулся. Он сказал бы ему… но приказал себе сдержаться: пришел он сюда с определенными намерениями.
Кулябко подошел к двери, постучал и велел принести табурет. Через минуту гладко обструганный табурет стоял посреди камеры.
— Садитесь, — указал рукой Кулябко.
Богров внутренне напрягся, предчувствуя важный разговор, он мысленно готовился к нему.
— Почему вы не садитесь? — голос жандарма звучал примирительно.
— Насиделся уже, — сказал арестант.
Кулябко снова открыл дверь, кивнул часовому. И вскоре в камеру внесли закуски, о которых Богров мог только мечтать, — икру, колбасы, сыры высших сортов, сардины, две бутылки вина с пёстрыми этикетками, чего тут только не было!
— К чему эта выставка деликатесов, господин подполковник? — спросил Богров и толкнул ногой табурет с закусками.
— Осторожно! — буркнул Кулябко, едва успев поддержать табурет. — Послушай, Митя, будь благоразумен… Твоя судьба в твоих же руках.
— Что вам от меня нужно? Зачем вы пришли?
— Это уже совсем другой разговор! — обрадовался Кулябко. — Видишь ли, нами получены агентурные сведения, что готовится покушение на царя-батюшку…
Богров громко рассмеялся:
— Об этом вы от меня слышали, а у вас уже — «получены агентурные сведения»…
— Да, да, Митя, от тебя слышал. Именно ты и сказал, — пробормотал жандарм.
— Так и говорите, а то «агентурные сведения»!
Кулябко мигнул часовому у дверей, и тот сразу принес два табурета. На один уселся подполковник, а на другой он предложил сесть Богрову.
Богров махнул рукой и, уже сидя, спросил:
— Вы принесли для меня добрую весть?
— Принес, — холодно ответил жандарм.
— Наконец-то! — На лице арестанта мелькнула улыбка.
— Сиди. Пока могу передать только привет, а когда поведаешь о том, что мне надобно, тогда…
— Бросьте меня шантажировать, Кулябко, давайте в открытую: сдох Столыпин или нет?
Жандарм посмотрел в сторону закрытой двери:
— Ш-ш… тише!
— Ну так можете убираться отсюда. Я ничего вам не скажу… — Богров был вне себя.
— Не шуми, Митя!.. — Жандарм проверил, плотно ли закрыта дверь. — Говори тише. Слышишь?
— Убирайтесь немедленно! — решительно заявил Богров.
— Не валяй дурака, Дмитрий Григорьевич! Ты прежде успокойся, давай закусим… — жандарм взял бутерброд. — А икорка-то объедение! — жуя, говорил он.
Голодная слюна обжигала Богрову рот. Он плотно сомкнул губы и отвернулся.
— Ешь, пока глаза открыты, и успокойся. Исходатайствуем тебе у царя помилование, будь только благоразумен! — уговаривал Богрова жандарм. — Государь помилует своего спасителя! А то, что ты Столыпина… Так он уже не воскреснет…
— Значит, Столыпин… — Лицо Богрова вновь расплылось в улыбке. — Его превосходительство преставился.
Отвернувшись в сторону, Богров незаметно перекрестился.
— Ты, Митя, никак перекрестился? Разве ты православный?
— Эх ты… — вздохнул Богров. — Разве тебе дано меня понять, черствая твоя душа?
— Ну ладно, ладно, закуси теперь! Голоден ведь! Вино крепкое, отпей глоток!
Богров отстранил поднесенный ему стакан.
— Бери, бери, не стыдись. Для тебя все это… Сам царь осведомлен. Ей-богу, Дмитрий Григорьевич, лично он и послал меня.
Арестант сверлил подполковника взглядом.
— Как бог свят! — Кулябко перекрестился и принялся за еду. Поев, он встал, стряхнул крошки с мундира, вынул из кармана зубочистку и сказал, ковыряя в зубах: — Теперь, Митя, можешь говорить.
— Что говорить-то? Нет же его в Киеве, царя-батюшки.
— А ты как знаешь?
— Да уж знаю.
— Он вернется…
— В дороге с ним станется.
— Упаси бог! Что ты мелешь… — не на шутку встревожился Кулябко. Кулаки его сжались.
— А может, уже и стряслось… — насмешливо продолжал Богров.
— Замолчи, Митя. Можешь ведь спасти свою грешную душу и мою судьбу облегчить. Скажи только — кто?
— Не знаю.
— Брешешь!
— Господин Кулябко, аудиенция окончена… — поклонился Богров.
Жандарм схватил Богрова за лацкан пиджака и рванул к себе с такой силой, что лацкан остался у него в руке.
Богров пошатнулся, но сразу выпрямился.
— Вон отсюда, господин жандарм!
Кулябко грубо выругался и, увидя в руке оторванный лацкан, швырнул его в лицо Богрову.
— Висеть тебе, как собаке! — в бешенстве прошипел он и вышел, хлопнув дверью.
Убийство Столыпина вызвало в Киеве необычайное волнение. Всюду кипело и бурлило, как в котле. Молодчики из «Двуглавого орла» решили, что пробил час для сведения счетов с ярыми противниками «Союза русского народа». Полиция и жандармерия из кожи вон лезли: вылавливали людей на улицах, производили обыски в домах, рыскали в поисках сообщников Богрова. Особенно свирепствовал Кулябко, чувствуя отчасти свою вину и ответственность за убийство премьер-министра. Жандарм неистовствовал, отдавая бесконечные распоряжения. Подвластные ему люди сбились с ног, стараясь угодить разъяренному шефу.
На завод Гретер-Криванека Кулябко нагрянул с обыском в сопровождении группы жандармов и полицейских.
Молодой рабочий завода Никифор Пилипенко решил, что пришло время действовать. Однажды утром он явился к жандармскому подполковнику и выложил ему все, что знал о Петре Костенко. И в довершение заявил, что он, мол, водится с какой-то курсисткой, прибывшей недавно из Петербурга.
В ту же ночь в доме Костенко был произведен обыск. Ничего предосудительного при обыске не обнаружили, так и пришлось жандармам уйти ни с чем.
Костенко понимал, что в эти тревожные дни он не должен встречаться с Анастасией. Да и она сама никуда не выходила из дома, все сидела у окна, прислушиваясь к беспокойному дыханию улицы.
Брат в эти дни был как-то особенно бодр и оживлен. Настя чувствовала, что готовится нечто страшное, омерзительное, поэтому вела себя осторожно, стараясь не встречаться и не вступать с ним ни в какие пререкания. За закрытой дверью она улавливала знакомый голос Голубева и напутствующие слова матери, которая просила сына не лезть на рожон.
— Тебя, Толя, хорошо знают в городе, — увещевала она сына, — будь осторожен, береги честь отца!..
Нашла с кем говорить об отцовской чести! Да ведь ее сын только и мечтал найти применение силе своих непомерно длинных грязных рук…
— Толя, — снова услышала Настя голос матери, — помни, ты студент университета Святого Владимира. Думай о своем здоровье, не забывай, что с нервами у тебя плохо…
— Мама, о чем ты говоришь, — запальчиво ответил брат, — евреи убили Столыпина… Это, мама, сделано теми же руками, которые замучили Андрея Ющинского…
Убийство Столыпина внесло смятение и страх в квартиру зубного врача Иосифа Ратнера. Нюму снова избили в гимназии. Он вернулся домой с кровоподтеками на лице.
— Ну и начался год! За первые пять дней занятий спокойной минуты не было, — сокрушалась мать.
Тревожными глазами смотрел отец на сына. Может, он скажет, кто этот Богров? Вчера Иосиф Ратнер принял члена судебной палаты, но тот не соизволил ответить ни на один вопрос зубного врача. Говорят, Богров из евреев, и если это действительно так, черносотенцам это весьма на руку. Через несколько дней член судебной палаты снова придет на прием, и тогда уже Ратнер так или иначе добьется у него ответа: как стало возможным, что в гимназиях распоясались хулиганы? Неужели нельзя осадить их, дать им по рукам? Каждый раз, как только в городе начинаются волнения, Нюма приходит из гимназии с синяками. Хорошо еще, что с Яшей в университете ничего не случилось, там пока сравнительно спокойно.
Тем временем пришел и Яков. Он очень волновался, когда рассказывал, что творилось сегодня в аудиториях. Лекций не было. Студенты-«союзники» окружили профессора Шабанова и не давали ему прохода. «Вы, господин профессор, читаете лекции о римском праве, — заявили они, — а что же вы скажете нам по поводу того, что евреи-террористы убивают лучших русских людей и как, по вашему мнению, с них спросить за такие дела?»
— И что же он ответил? — перебил сына отец.
— Постой, постой, — остановила его жена, — пусть Яшенька расскажет все как следует, не мешай ему.
И сын рассказал: профессор хотел уйти из аудитории, а «союзники» преградили ему путь, требуя основательного ответа. А Шабанов — человек горячий, с самолюбием, знает себе цену и не даст сесть на голову. Растолкав теснивших его, он закричал: «Это насилие! Моргунов, Ратнер, вызовите полицию!» — «Ах, полицию… — рассвирепели молодчики, — очень хорошо! Полиция наша, это ведь русская полиция, а не ратнеровская». Профессору удалось разорвать кольцо обступивших его студентов и благополучно покинуть аудиторию.
Яков замолчал, потом тихо добавил:
— А теперь собираются на Софиевской площади. И я туда пойду…
Мать схватила сына за руку и заплакала:
— Клянусь жизнью, ты не пойдешь, не пущу!.. Хватит с меня одного покалеченного сына!
— Ничего я не покалеченный, — возразил гимназист. — Вот посмотри, уже почти и следа не осталось. Пусть Яков идет, нечего им прощать!
— Иосиф, что ты стоишь и молчишь? — бросилась она к мужу. — Мы детей наших потеряем…
Зубной врач находился в полном смятении, он стоял у окна, глядя вслед старшему сыну, который твердо и уверенно шагал в сторону Софиевской площади.
А там разгорались страсти. Какие-то стриженные под скобку люди в поддевках несли хоругви и образа Спасителя. У других на древках развевались национальные флаги.
Анатолий Шишов торжественно и бережно нес большой портрет царя, с рамы свисали ленты с надписью древнерусскими буквами: «Боже, царя храни!»
Со всех пяти рукавов-улиц бесконечными потоками на площадь стекались толпы людей. Звучали песни, слышались слова молитвы. Отдельные прохожие, видя надвигающуюся толпу, в страхе разбегались.
День выдался пасмурный, он словно с неодобрением взирал на людей, топтавшихся на месте, не решивших еще, на кого напасть, на кого обрушить свои кулаки.
На какое-то возвышение поднялся Голубев и принялся что-то говорить, невнятно, путано, но страстный его голос зажигал людей, масса всколыхнулась, и раздалось тысячеголосое «Боже, царя храни!». Темные, забитые люди с хоругвями и иконами в руках выпячивали портреты царя и надсадно надрывали глотки. А растрепанный, светловолосый маньяк — студент Голубев — непрерывно оглашал воздух будоражащими возгласами и призывами.
У врат собора царила неестественная тишина. Люди стояли на коленях. Достаточно было одной искорки, чтобы тишину разорвал оглушительный взрыв.
На место Голубева ступил священник Синкевич. Он начал свою проповедь, изрекая дикие человеконенавистнические лозунги, ошарашивая ими неподвижно стоящих людей.
Вдруг над оцепеневшей толпой словно выросла фигура Костенко:
— Православный люд! Я рабочий, слесарь, простой человек, как все те, которых пригнали сюда. Выслушайте меня: эти студенты в синих околышах — злодеи, призывающие вас терзать и убивать невинных людей. Не поддавайтесь на их призывы! Они могут привести к бессмысленному кровопролитию. Все, кто верит в бога, в Христа, не должны забывать, что Христос был милосерден и никогда не допускал кровопролития…
— Я не знаю этого оратора, — тихо сказал Яков Ратнер стоявшему рядом товарищу, — но с удовольствием пожал бы ему руку. Такая смелость и решимость рабочего просто поражают.
Костенко обладал мощным голосом. Сильные и внятные слова его звучали столь убедительно, что даже возгласы «союзников» не отвлекли внимания толпы. Его слушали с раскрытыми ртами. Костенко стоял в тесном окружении рабочих, и подступиться к нему было невозможно. Высокий, широкоплечий, с копной светлых волос, спадающих на широкий лоб, он привлекал к себе.
— Русские люди, — продолжал он, — вас хотят подбить на резню и опозорить тем самым весь народ. Гоните от себя подстрекателей! У них пьяные головы и руки в крови. Бегите от них, как от чумы!..
Из-за памятника Хмельницкому неожиданно появились зеленые мундиры, и выкрики жандармов заглушили слова оратора.
— По домам, по домам! — раздавалось со всех сторон.
Никто не сумел приостановить растекающиеся потоки людей. Вскоре на опустевшей площади осталась только кучка «союзников» во главе с Голубевым.
Слухи о возможных погромах разнеслись по Киеву с необычайной быстротой. Некоторые семьи, захватив что только можно было, бросились вон из города. Нанимали крестьянские подводы, городских извозчиков.
На киевском вокзале скопились сотни людей, стремящихся уехать в любом направлении — на Казатин, Жмеринку, Вильно, в Москву, в Петербург. Из-за билетов до ближайшей станции буквально дрались, только бы выбраться из Киева…
Какой-то еврей, по внешнему виду местечковый раввин, настойчиво требовал билет в Петербург. Высунув голову из окошечка, кассир кричал:
— Разве в таком виде вас впустят в столицу?! А право на жительство в столице есть у вас?
— Сутки я имею право пробыть в столице — и то хорошо, и то счастье…
Ведя за руку детей, брели к вокзалу смертельно напуганные матери; с ужасом заглядывали в лица каждого незнакомого. До слуха то и дело долетал шепот:
— Посмотри, Янкель, не Пуришкевич вон тот?
— Этот студент, по-моему, Голубев…
— Шмуль, отвези меня в село к нашей молочнице. Маруся хорошая и добрая…
Приехавший из села крестьянин с кнутом в руке разыскивал среди вокзальной толчеи знакомых, уже оставивших свой дом; найдя наконец в толпе семью с узлами и манатками, он повел их к своей подводе, чтобы отвезти в деревню.
— Там воны вас на зачипають, — заверял крестьянин своих друзей, с облегчением покидающих зловещий город.
Настя не выдержала бессмысленного сидения дома и вышла на улицу. Встретив Ходошева, она обрадовалась. Тот расхаживал по улицам с блокнотами в руке, останавливаясь возле каждой кучки людей.
— Слушали Костенко? — сразу спросил ее Ходошев.
— Нет. А где он? — заинтересовалась Настя.
— Думаю, друзья увели его и спрятали, дома ему нельзя показываться. А на вокзале вы были? — спросил Ходошев.
— Я нигде не была. После убийства Столыпина сидела дома. Только сейчас вышла.
— А что творится на вокзале, знаете?
— Слыхала. Может, сядем в трамвай и подъедем?
— Погодите, — проговорил Ходошев, — мне необходимо прежде забежать в редакцию, там ждут новостей.
— Только побыстрее возвращайтесь. Я подожду.
Из редакции Исай прибежал радостный и возбужденный, в руках у него была газета. Это был специальный выпуск, в котором сообщалось, что назначенный на место Столыпина Коковцев приказал местной городской администрации принять энергичные меры во избежание волнений и беспорядков.
— Поспешим к вокзалу, там жаждут такого сообщения, — предложил Ходошев.
В здании вокзала люди ожидали обещанные им билеты. Залы были переполнены беспомощными стариками, женщинами и детьми. В их глазах читался страх перед надвигающейся бедой.
Ходошев влез на скамейку, поднял руку с газетой и крикнул:
— Слушайте, люди, что новый премьер-министр приказал… — и отчетливо пересказал понятными для всех словами содержание экстренного сообщения.
Входные двери затрещали от напора людей, выбегающих из зала. Скорее, скорее к уютной домашней тишине, к своим постелям, к оставленным пожиткам!
В сумерки сентябрьского предвечерья еврейские семьи, жители Киева, торопливо шагали по улицам к своим насиженным гнездам. Они шли с не меньшим воодушевлением и радостью, чем шли их прадеды, когда Моисей, согласно библейской легенде, рассек море перед израильтянами, открывая путь в страну обетованную.
Пятый месяц Мендель Бейлис томился в тюрьме, а его кроткую Эстер ни разу не допустили на свидание с мужем. «Свиданий не положено», — отвечали Бейлису на его многочисленные просьбы о встрече с женой. Он ничего не знал о своем доме, о своих детях, о своей Эстер и, главное, не знал, что предпринимается для того, чтобы его, невинную жертву, вырвать из этой проклятой тюрьмы. Из обвинений, предъявленных ему следователем по фамилии Фененко, он понял одно: ему пришивают страшное дело.
Однажды ночью его, сонного, привели на допрос. Следователь припугнул Бейлиса: если он не признается, с кем сговаривался насчет убийства Андрюши, его сошлют в Сибирь, откуда не будет возврата.
— О чем вы говорите?! Кто мог вам сказать такое?! — закричал Мендель не своим голосом.
Тогда у него впервые сдали нервы. До этого он держался более или менее спокойно, но тут уж допекло! Подумать только! От него требуют, чтобы он подробно рассказал, кто научил его жестоко изуродовать несчастного ребенка! Он в своей жизни никогда этого мальчика и в глаза не видел, а тут еще и сообщников каких-то приплели!
В ту ночь, когда у него хотели вырвать признание и добиться, чтобы он подписался под протоколом, Бейлис потребовал вызова жены, хотел сказать ей, что нужно нанять адвоката. Но следователь отклонил его требование и хладнокровно заявил:
— Бейлис, мы стремимся добиться истины, а в этом только вы один можете нам помочь…
Отчаяние охватывает, когда слышишь эту явную бессмыслицу. Какая еще может быть истина, если ты сам ничего не знаешь, а тебя, ни в чем не повинного, оторвали от жены и детей, от службы, от всего мира, заточили в каменном мешке да еще навязывают такое страшное обвинение! Посадили сперва в одиночку — темную и сырую камеру без света и воздуха, не разрешили даже прогулку, которая по закону положена: двадцать — тридцать минут походить по тюремному двору! Не признаешься, что ты, Мендель Бейлис, убийца невинного мальчика, — так сиди взаперти. Можешь кричать, можешь бесноваться до потери сознания — никто тебе не откроет кованную железом дверь и словом никто не обмолвится, на вопрос не ответит, даже не посмотрит на тебя. Пропадай один-одинешенек!..
Бейлису начинало казаться, что у него отнялась речь; он ходил взад и вперед по камере, разговаривал сам с собой, беспрерывно повторяя: «В чем же ты, Мендель Бейлис, провинился, что так страдаешь и маешься? За какие грехи? Может, за грехи отца, деда, прадеда тебя так мучают?» Фененко однажды сказал: «Если вы не согрешили, Бейлис, то ваша родня, соседи ваши грешны…»
— Кто согрешил, ваше высокоблагородие? — испуганно спросил тогда Бейлис. — О чем вы говорите, бог с вами…
— Ступайте, Мендель Бейлис, в камеру и подумайте, как следует подумайте. А завтра, когда вызову вас, чтобы выложили всю правду, ничего не утаивая. Я ведь вижу вас насквозь и знаю, о чем вы думаете.
— И что же вы, ваше благородие, обо мне знаете?
— Вы таскали Андрюшу по полу, а затем шилом искололи его всего…
— Бог с вами, ваше благородие, полно вам такое говорить!
— Я буду говорить до тех пор, пока сами не раскроете свое сердце и, как честный, благочестивый еврей, во всем признаетесь.
— Не в чем мне признаваться, за мной нет никаких грехов.
Нафиксатуаренный, аккуратный, подтянутый Фененко неотступно стоял перед глазами Бейлиса, где бы он ни находился — сидел ли, спал, ел… Мендель неизменно видел его перед собой. Что можно сделать, если ты под семью замками и с тобой разговаривает один только следователь, который страшными своими обвинениями окончательно выматывает тебе душу?..
На допросах Бейлис неоднократно замечал, что следователь часто подолгу задумывался, лицо его хмурилось, глаза рассеянно скользили по бумагам, лежавшим перед ним на столе. Выступающие на лбу и щеках росинки пота следователь безуспешно старался промокнуть платком. Он часто вставал с места, подходил к Бейлису, вглядывался в его лицо, тщась найти у него ответ на тревожившие его вопросы. Потом снова садился и углублялся в протоколы.
А папка с протоколами с каждым днем разбухала все больше.
— Что же будет дальше, Бейлис? Так и будете все отрицать?
— Я ведь говорил вам, господин следователь, что меня держат здесь понапрасну.
— Но кто же все-таки повинен в убийстве мальчика?
— Этого я не знаю. Знаю только одно — я в этом не виноват.
— Я все слышу — «не виноват», «не виноват». Выходит, я виновен, не иначе. Вы, Менахем-Мендель Тевьев, безусловно, считаете, что я изверг, палач. Правда ведь? Смотрите мне в глаза и отвечайте.
Бейлис смотрел прямо в глаза следователю.
— Правда — я палач? — переспросил Фененко.
Арестованный не находил слов для ответа. Он глядел на тщательно выбритое лицо следователя, на тоненькие усики над верхней губой и молчал.
— Конечно, я палач — Василий Иванович Фененко… — повторял следователь.
— Вы — палач? Не знаю…
— Вы определенно так думаете: они, русские люди, все злые, люди без совести. Правда же, вы так думаете, Бейлис? Отвечайте только правду.
— Не знаю… — Опустив глаза, Бейлис недоуменно пожимал плечами. — Ничего не знаю… — повторял он дрожащими губами.
— А я знаю. И вы, Бейлис, должны поверить, что мне гораздо тяжелее, чем вам…
— Вам тяжелее? О чем вы говорите, господин следователь!
— Да, да. Вы сидите в тюрьме, и другие думают о вас, думают, как помочь вам в постигшей беде. А кто думает обо мне? — Фененко замолк, долго глядел на опустошенное, измученное лицо Бейлиса. — Вы, Бейлис, имеете полное право мне не верить. Но знайте, я не повинен в ваших страданиях. Вы должны понять, что должен чувствовать человек, действующий по принуждению… Вот почему мне тяжело. Понятно вам?
— Нет, господин следователь. Непонятно.
— Так вот, Бейлис. Я сейчас позову конвоира, который отведет вас в камеру. Пойдите отдохните и хорошенько подумайте о том, что я вам сказал. Тогда поймете, что моя совесть чиста перед вами.
Растревоженный странной речью следователя, Бейлис вернулся в камеру. Спать ему не хотелось. Он старался продумать, хорошенько продумать то, о чем сегодня говорил следователь, на что намекал. Да, следователь Фененко, у которого, кажется, глаза честные, в последнее время здорово изменился, это уже не тот Фененко, каким был в начале следствия… «Бейлис, пойдите в камеру и хорошенько подумайте… Расскажите всю правду, как тащили Ющинского к пещере…» Те слова мучительно врезались в память и жгли душу.
Что же теперь стряслось с ним? Он говорит, будто ему тяжелее… Кто же ему поверит? «Пойдите отдохните, Бейлис», — все еще звучало в ушах.
Вот он, Бейлис, будет долго лежать с открытыми глазами на тюремной койке и будет думать, передумывать… Авось что-нибудь для него и прояснится.
Неожиданно Бейлиса перевели в общую камеру, где находились другие арестанты. Судьба свела его с людьми, с какими Бейлису никогда в жизни не приходилось даже рядом стоять, не то что словом перекинуться. Кого здесь только не было! Профессиональные воры, хулиганы, пьяницы, шантажисты, жулики, аферисты, подонки домов терпимости и воровских притонов. И все эти типы с удовольствием разглядывали незадачливого еврея, солидного служащего кирпичного завода Зайцева, тихого, мирного Менделя Бейлиса, и недоумевали: как попал сюда этот «зеленый» человек, совсем неподходящий для их компании?
Некоторые добродушно похлопывали Бейлиса по плечу. «Ничего, вскоре покинешь нашу веселую братию», — говорили они. Другие, подлые душонки, лелеяли мысль обокрасть Бейлиса (ведь все евреи богаты, думали они, что-нибудь ценное да есть у него, даже в тюрьме). А иные хотели просто при нем поживиться: родственники безусловно принесут Менделю вкусную, жирную колбаску, курочек…
Больше всех соседей по камере льнул к Бейлису один арестант с низким лбом и маленькими бегающими глазками — Иван Козаченко.
Молодой паренек — очевидно, совсем еще неопытный, попавшийся за какой-то нелепый проступок, но успевший уже разобраться в каждом из соседей по камере — не раз шептал Бейлису:
— Берегись его, мил человек, — и кивал в сторону Козаченко, — он легавый, может продать. Вот помяни мое слово…
«Легавый так легавый, — думал Бейлис, — мне-то чего бояться? Чем он может мне навредить?»
Козаченко, вероятно, сегодня или завтра выйдет из тюрьмы — так он сам говорит, и все в камере об этом знают. Его должны судить за уголовное преступление, но он крепко верит в освобождение. Бейлису очень хотелось бы передать с ним письмо жене. Как дорога одна только мысль об этом! Душа болит, когда он представляет себе, как Эстер получит его письмецо из тюрьмы. А этот пройдоха обещает добиться у тюремного начальства, что и ответ жены будет передан Бейлису. Он может не беспокоиться — у Козаченко свои люди в тюрьме, и они передадут письмо Бейлису, дело верное. И все это Козаченко обеспечит без всякой мзды, ничего ему не нужно в награду. Он видит, что Бейлис порядочный человек, и все здесь понимают, что сидит он ни за что ни про что. Но Бейлис не хочет услуги даром, он отблагодарит его, хорошо отблагодарит. Не он, конечно, а жена его там, на воле.
Козаченко отправился в суд и в тот же день вернулся обратно, в настроении весьма радужном. Так и есть: он оправдан. Принес даже четвертинку водки, чтобы выпить с соседями по камере на радостях. Каким образом он пронес четвертинку, обманув надзирателей? Козаченко все умеет, он знает все ходы и выходы. Да что говорить: не зря же болтают, что он и в полиции свой. Говорят, будто прежде служил в полиции, а нынче вроде тайного агента…
Но почему Бейлис должен бояться полицейского агента — тайного или нетайного, что ему до этого? Главное, что он берется вынести письмо и к тому же обеспечить, чтобы тюремный надзиратель передал ответ от жены. Бог ты мой! Как был бы счастлив арестант Бейлис!..
Козаченко уже собирает свои манатки и прощается с дружками по камере, которые сожалеют, что он не смог пронести больше одной четвертинки. Здесь каждый глоток или кусок куда слаще, чем на воле. Даже крохотная порция, пронесенная под полой, и то чудо…
— Чудес не бывает! — подмигивает Бейлису молодой, неопытный паренек. — Я ведь говорил вам, что Козаченко в тюрьме свой человек. Он из таких арестантов, которых используют при любых случаях. Такими бывают бывшие полицейские, дворники и вообще все те, кто может доносить на своих товарищей… Это наседки; их специально подсаживают в камеру к арестантам, у которых нужно что-то выведать… Тюремная администрация не сажает их вместе с такими, которых они в свое время предали, — обязательно прикончат! Доносчиков оберегают, они всегда в цене…
Но Бейлис ничего не желает знать, его так увлекла мысль о передаче письма, что ему трудно поверить в человеческую подлость и низость… А ведь ему уже давно следовало бы убедиться, что на свете немало несправедливости и зла. Он верит, что посадили его совершенно необоснованно, не иначе как по чьему-то навету… В этом, несомненно, разберутся, расследуют и выпустят на волю. Что человек способен предать другого — этому Бейлис, несмотря на уверения паренька, не верил.
Где взять бумагу для письма? Есть бумага — Козаченко из своего тряпья вытащил чистый листок бумаги и передал Бейлису.
Чем писать?
И огрызок карандаша нашелся у Козаченко.
Что писать?..
У Менделя губы задрожали — то ли от радости, то ли от того, что появилась какая-то надежда: его Эстер получит от него привет через живого человека, только что освобожденного из тюрьмы!
В камере находились и другие киевляне, они бы тоже не прочь попросить Козаченко заглянуть к родным и передать привет, но Бейлис один ни разу не имел свидания с женой и детьми. Из чувства солидарности они не навязывают Козаченко свои поручения, пусть уж он поможет этому печальному чернобородому старику.
Он пишет, они заслоняют его, чтобы надзиратель, наблюдающий за арестантами через глазок, не заметил ничего недозволенного… Могут еще заподозрить в подготовке воззвания или бог весть в чем…
— Пиши, пиши, Бейлис, — суетится Козаченко. Раскрасневшийся и возбужденный, он торопит Бейлиса: пусть поскорее пишет. Шутка ли, человек, если даже он уголовник, выходит на волю! Нет терпения ждать.
Но у Бейлиса рябит в глазах, сердце болит и сжимается, возможно, от бессонной ночи, а возможно, от предчувствия какой-то перемены…
Заливаясь слезами, Бейлис стал просить, чтобы кто-то написал вместо него. Очки ведь отобрали при аресте, а без них он ничего не видит. Пускай Пухальский напишет: он ему доверяет…
— Арсений Николаевич, — говорит он сквозь слезы, — не откажите в любезности, напишите, пожалуйста. Благодарю вас заранее. Я вам продиктую, а вы пишите.
Покусав огрызок карандаша, как бы раздумывая, арестант, выполняя просьбу Бейлиса, начал писать.
«Дорогая жена! — диктовал Бейлис. — Человек, который передаст тебе это письмо, сидел со мной вместе в тюрьме, сегодня он по суду оправдан. Прошу тебя, дорогая жена, прими его как своего человека, если б не он, я бы давно в тюрьме пропал. Этого человека не бойся, он сможет тебе помочь в моем деле. Скажи ему, кто на меня показывает ложно. Иди с этим человеком к г. Дубовику[5]. Почему никто не хлопочет? Ко мне приезжал присяжный поверенный Виленский. Он проживает на Мариино-Благовещенской, 30. Он хочет меня защищать бесплатно, но я его лично не видел, а передало начальство. Пятый месяц я страдаю, видно, никто не хлопочет, а всем ведь известно, что я сижу безвинно. Или я вор, или убийца? Каждый ведь знает, что я честный человек. Чувствую, что не выдержу в тюрьме, если мне придется еще сидеть. Если этот человек попросит у тебя денег, ты дай ему на расход, который нужен будет. Хлопочет ли кто-нибудь, чтоб меня взяли на поруки под залог? Это враги мои, которые на меня ложно показывают, мстят за то, что не давал им дров и не дозволял через завод ходить. Желаю тебе и деткам всего хорошего, всем остальным кланяюсь. Г. Дубовику, г. Заславскому передай поклон, пусть хлопочут освободить меня. 22 ноября».
Прочитав письмо, Бейлис передал его Козаченко и горько расплакался.
— Иван Петрович, дорогой… — глотая слезы и заикаясь, с трудом произнес Бейлис. — Очень прошу вас, помогите мне в моем несчастье. Похлопочите за меня. Скажите моей жене, что я просил вас об этом, скажите ей, что вас освободили…
— Сделаю, все сделаю, — кивал головой Козаченко.
Взяв свой сверток, он, веселый и сияющий, постучал в дверь. Ему открыли, и он вышел на волю.
Забившись в угол, Бейлис долго еще не мог успокоиться.
Что же сделал Иван Козаченко?
Не успел он выйти из камеры, как тут же, в присутствии надзирателя, развернул письмо и приписал:
«Я Мендель Бейлис, не беспокойся, на этого человека можно надеяться, так как и сам…»
— Что ты там пишешь? — спросил надзиратель.
— Молчи. Так надо.
— Ну, пиши, ежели надо, — равнодушно кивнул блюститель порядка.
Козаченко попросил провести его к начальнику тюрьмы.
Здесь Козаченко уже чувствовал себя совершенно свободно.
— Ну, Ваня, козырь в руках? — спросил начальник.
— Порядок! — Ваня воровски подмигнул. — Поймал рыбку на такой крючок, что теперь уж не вырвется.
Начальник с удовлетворением потирал руки.
— Тебе не холодно, Ваня? Зима пришла.
— Нет, не холодно.
— Посиди, пока позвоню следователю.
Начальник тюрьмы повертел ручку телефонного аппарата. Фененко велел немедленно доставить к нему Козаченко.
— Поедешь в барской карете, — подмигнул ему начальник. — Фененко посылает за тобой. Мы выпустим тебя черным ходом, чтобы никто не видел. Гуляй, Ваня, гуляй, — подбадривал его начальник, получивший указания мягко обращаться со «своим человеком».
Неоднократно начальнику тюрьмы приходилось подсаживать Козаченко к арестованным, у которых нужно было выведать что-нибудь, опутать их ловко расставленными сетями, так что он хорошо знал этого провокатора. Предложив Козаченко папиросу, он дал ему заодно и газетку «Двуглавый орел».
— Не надо мне, — отмахнулся Козаченко. — Я не читаю газет — лишняя трата времени. Отец не обучил, — добавил он.
— А чем занимался твой отец?
— Отец?.. Он был охотником.
— За кем он охотился?
— За кем?.. — Сморщив узкий лоб, Козаченко задумался. — Не знаю. Очевидно, за всем, что плохо лежало…
— Вон ты какой! Значит, еще отец был…
— Такова уж моя судьба!
Начальнику доложили, что подъехала бричка.
— Ну, Ваня, поедешь как помещик. До свидания! — И он покровительственно похлопал арестанта по плечу.
Вскоре Козаченко вошел в кабинет следователя по особо важным делам.
— Садитесь, Козаченко, — сказал следователь, заняв свое кресло за столом.
— Благодарю, ваше благородие.
— Посмотрим, как справились. Рассказывайте, с чем пришли.
Козаченко вынул из кармана письмо и положил его перед следователем на стол.
Заметив, что Фененко не отрывается от письма, Козаченко понял, что теперь он на коне.
— Ваше благородие, — заговорил Козаченко, — с глазу на глаз Бейлис просил меня зайти к его жене. Она поведет меня к управляющему кирпичного завода — Дубовику и к его кузену Заславскому, которые у своих евреев, у всего кагала, соберут большую сумму денег, сколько захочу и сколько потребуется для того, чтобы я отравил какого-то фонарщика и еще какого-то «лягушку». Для этого мне придется устроить с ними попойку и незаметно всыпать им в водку стрихнин. Это те свидетели, которые хотят угробить Бейлиса, дать о нем ложные показания. Так сказал мне сам Бейлис. «Где же достану стрихнин, чтобы отравить этих свидетелей — фонарщика и „лягушку“?» — спросил я. На это Бейлис заявил, что на территории усадьбы Зайцева находится еврейская больница, там дадут мне яд… Но я этого не сделаю, ваше благородие, не хочу, чтобы жид пил русскую кровь…
Фененко внимательно слушал.
— Хорошо, Козаченко, продолжайте. Потом составлю протокол, и вы подпишете его.
— Подпишу, ваше благородие. Мендель еще говорил, если выполню все это удачно, мне дадут столько денег, что их хватит на всю мою жизнь, ей-богу! Понимаете, по словам Менделя, фонарщик видел, как Бейлис насильно тащил Ющинского, и «лягушка» этот что-то видел — не вспомню, что говорил Мендель… Но «лягушка» вредит в его деле. Вот, ваше благородие, запишите.
Быстро бежало по бумаге перо в руке Фененко. Он подробно записывал все сказанное свидетелем Козаченко.
— Слова «если б не он, я бы давно пропал в тюрьме», — пояснял Козаченко, — означают, что жена Бейлиса должна полностью мне верить. Находясь вместе с ним в тюрьме, я заслужил, чтобы Бейлис доверился мне, я хорошо относился к нему.
Слова же «иди с этим господином к г. Дубовику» означают, что я должен пойти с женой Бейлиса к Дубовику, а тот, увидев подпись Менделя, подтвердит, что Мендель Бейлис лично написал письмо, а поэтому жена должна мне верить.
А слова «ты дай ему на расход, который нужен будет», — следует понимать так, что жена Бейлиса должна дать мне деньги для розыска и встречи со свидетелями, которых я должен отравить стрихнином. Подкупить их, сказал Бейлис, невозможно, поэтому их надо убрать…
— Через некоторое время, Козаченко, я дам вам протокол, и вы его подпишете, — сказал Фененко, старательно выводя каждую букву в этом документе.
Как только Козаченко ушел, следователь начал размышлять. Не впервые приходится ему составлять протокол на основании провокаторских показаний Козаченко. «Что же я делаю? — думал Фененко. — Хороший юрист сразу поймет, что представляет собой этот субъект и чем он занимается. А я так тщательно записал его глупые показания… Это ведь преступление. Бразуль-Брушковский из редакции „Киевской мысли“ неоднократно убеждал меня, что Бейлис честный человек и то, что его напрасно держат и мучают, просто преступление. Вы ведь не палач, а истязаете невинного человека, говорил Бразуль… Симпатичный этот Бразуль-Брушковский, — размышлял Фененко. — Сам, по собственной инициативе, взялся расследовать это преступление, хочет добиться правды. Он как сыщик работает. А что побуждает его? Неужели и он продался евреям, как утверждает Чаплинский? Не может быть! Эх, Василий Иванович, — обратился он сам к себе, — не будь подлецом, перестань провоцировать Бейлиса. Что Козаченко мерзавец — тебе ясно, ты ведь хорошо знаешь, что он собой представляет…»
Другой внутренний голос подбадривал следователя, подбивал его совсем на другое. «Какое тебе дело, по сути говоря? — вступал он в спор с самим собой. — Поступай так, как велит Чаплинский, а то…» А то — что?..
Следовало бы позвонить Чаплинскому, сказать, что Козаченко провокатор. Прокурор ведь тоже осведомлен… Может быть, порвать протокол?.. Нет, ничего не получится; Козаченко добьется аудиенции у Чаплинского, и тогда… поминай как звали.
Следователю нелегко насиловать свою совесть. Он меряет шагами кабинет, нервничает, кусает ногти… Нет, он не станет разговаривать с Бейлисом так, как разговаривал раньше. Жалко человека. Бедный человек запуган насмерть и так страдает…
Фененко вспоминает, как Бейлис крепился на допросах, с трудом сдерживая рыдания. «Ваше благородие, вы ошибаетесь, я и пальцем не коснулся мальчика, не знаю даже, видал ли я его вообще…»
Перед следователем возникают образы Бейлиса и Козаченко… Один — тихий, кроткий, безобидный; другой — наглый, крикун, морально разложившийся тип. «Он думал, я не замечу, что последние слова в письме приписаны его рукой…»
Мучительные сомнения терзали следователя: все-таки порвать протокол? Куда девался Козаченко? Черт его знает, а вдруг повели его к помощнику Чаплинского или к самому прокурору?.. Как работает полицейская машина, Фененко знает. Но должен ли он молчать? А если все же пойти на разрыв с Чаплинским? Что будет тогда с безнадежно больной женой?
Фененко тревожно посмотрел на часы, потом на лежавший перед ним протокол. Следовало бы взять у Козаченко письмо Бейлиса… Нет, этого он не должен делать, а вот протокол нужно написать несколько по-иному…
Зазвонил телефон. Вздрогнув, следователь протянул руку к трубке.
— Фененко? — услышал он голос Чаплинского.
— Да, Георгий Гаврилович.
— Почему вы задерживаете протокол? И почему я должен узнавать о таком важном свидетеле не от вас лично? Немедленно принесите протокол. У меня сейчас никого нет.
— Я хочу сказать, Георгий Гаврилович, что свидетель Козаченко преступный элемент.
— Вас об этом никто не спрашивает, Фененко! Где протокол?
— Одну минуту… Я знаю свидетеля, он…
— Я жду протокол. Козаченко уже был у меня, я еще буду с ним разговаривать.
У Фененко раскалывалась голова от напряжения, зарябило в глазах, он очень нервничал, оттягивая свой визит к прокурору.
Чаплинский с нетерпением стоял у окна и смотрел на улицу. Ноябрьский ветер мел снежную крупу, бросая ее в окна с таким остервенением, что звенели стекла. В верхнем углу окна он заметил паутину и в ней паука, присосавшегося к мухе. Взяв со стола линейку, Чаплинский встал на стул, снял паутину, вытер линейку бумагой и бросил ее в камин. Пламя вспыхнуло и тотчас погасло.
Когда швейцар принес протокол показаний Козаченко, Чаплинский спросил:
— А где же сам господин Фененко?
— Господин следователь просили передать вашему превосходительству эту папку, а сами они отбыли домой по причине нездоровья.
«Что с ним?» — с неудовольствием подумал прокурор, но вскоре забыл о нем, целиком погрузившись в показания нового свидетеля. Читая, Чаплинский покрякивал от удовольствия. Досконально изучив материал, прокурор походил по кабинету, потом еще раз перечитал протокол и сел писать рапорт на имя министра юстиции Щегловитова. Сомнений уже не оставалось! Отныне все те, кто до сих пор не верил в виновность Бейлиса, вынуждены будут признать, что убийство Ющинского совершил именно он, человек с окладистой черной бородой, он и его хасиды.
На столе в роскошном кабинете русского самодержца лежало распечатанное письмо немецкого посла, в котором тот запрашивал, когда ему будет предоставлена возможность поохотиться в Беловежской пуще. Как раз время — в декабре обычно выпадает обильный снег и охота на зубров может доставить большое наслаждение и его императорскому величеству, и придворным. Он, посол, хотел бы примкнуть к свите его императорского величества…
Охота на зубров… А ведь она опасна… Водянистые глаза самодержца выглядят усталыми: все утро он рассматривал модели гарнитуров, полученные из Вены. Новые гарнитуры мебели, которой и так в изобилии… Ею заставлены и Зимний дворец, и Царскосельский. Это давнишняя страсть монарха.
Сидя за столом августейшего своего родителя императора Александра Третьего, нынешний самодержец задумался. Вспомнилось, как недавно с божьей помощью спасся он от верной гибели в Киевском оперном театре, где нашел свой трагический конец незабвенный Петр Аркадьевич. А что, если бы злодей стрелял в него? Невольная дрожь охватила царя.
Поднявшись с кресла, Николай заложил руки за спину, прошелся по кабинету. Вернувшись к столу, он еще раз с сожалением бросил взгляд на альбом моделей, лениво закрыл его и снова прошелся по натертому паркету.
Вошел дежурный камер-юнкер и, стоя в дверях, сообщил, что министр юстиции Иван Григорьевич Щегловитов просит высочайшей аудиенции. Царь сделал жест рукой: пусть войдет.
Министр переступил порог и поклонился. Держа в обеих руках папку, Щегловитов остановился по правую сторону широкого стола, за которым сидел в официальной позе Николай. Не спеша подняв на министра глаза, он спросил:
— Иван Григорьевич, не желаете ли вы поехать в Беловежскую пущу?
— Ограничен временем, ваше императорское величество, — не задумываясь ответил министр.
— А что, много дел?
— Много, ваше императорское величество.
— А именно?..
Министр достал из папки свой рапорт, в котором было пересказано сообщение Чаплинского о новых показаниях по делу об убийстве Ющинского, и добавил:
— Теперь уже нет сомнений в том, что Бейлис виновен… — Щегловитов торжествующе смотрел в бесцветные холодные глаза царя. — И определенно с ритуальной целью…
— С ритуальной целью, говорите? Еще мой прадед Александр Благословенный об этом в своем указе упоминал… Да-да, припоминаю,
— Совершенно верно, ваше императорское величество. Императором Александром Первым был дан указ на сей предмет…
Царь отодвинул письмо немецкого посла, собрался было подняться, но, подумав, остался сидеть. Окинув министра юстиции взглядом, он тихо, но с заметным раздражением произнес:
— Бейлиса судить согласно закону… сурово… — И царская рука опустилась на папку с рапортом.
Фененко наконец прозрел, но отнюдь не потому, что журналист Бразуль-Брушковский, начав частное расследование по делу об убийстве Ющинского, высказал следователю свои догадки. Просто, допрашивая однажды Веру Чеберяк, следователь обратил внимание на то, что Вера-чиновница боится даже упоминания о Рыжем Ваньке. Если следователь называл его, Чеберяк уклонялась от прямого ответа: она-де не знает, не помнит, такого не встречала и вообще в глаза никогда не видела…
Вера хорошо знала, что Рыжий Ванька наиболее опасный из всей компании. Он стремителен, задирист, своевольнее других, но неуравновешен, может вдруг потерять интерес к делу, словно его оно и не касается, стать безвольно-податливым и потерять самообладание. А если так, он может испортить все дело. Как только найдет на него пресловутая истерия или апатия, так и раскроет все карты…
В распоряжении Фененко имелись все сведения губернского жандармского управления, касающиеся воровской банды, которая работала в Киеве. Ему было известно, что Вера Чеберяк — ловкая скупщица краденых вещей — поддерживала связь с десятками воров и перекупщиков. Благодаря им дела ее шли хорошо, и она жила припеваючи.
Фененко знал также, что вся эта банда собирается у нее дома, в так называемой «малине», что Чеберяк ловко сбывает краденые вещи и ценности, добываемые бесстрашным Борисом Рудзинским, Латышевым, Мандзелевским. С ним орудовал и родной брат Веры — Петр Сингаевский и много других дельцов киевского дна. Не раз лежало на столе у Фененко пухлое досье с данными на этих уголовников, но ему нужно было признание самой Веры. Следователю было достоверно известно, что у Кольки-матросика, восемнадцатилетнего безусого вора-хеврака, была своя мечта — стать анархистом; следователь знал также, что Николай Мандзелевский, дерзкий, бесстрашный квартирный вор, выгнан был из пятого класса гимназии и вместе с Иваном Латышевым широко известен в уголовном мире. Прославленные мастера по несгораемым кассам, они смело могли конкурировать даже с непревзойденными варшавскими кассистами. Обо всем этом Фененко был отлично осведомлен, поэтому и пришел к убеждению, что предположения Бразуля вполне правильны: именно эта компания и убила Ющинского.
Из «еврейской прессы» (так Чаплинский называл некоторые киевские и петербургские газеты, хотя они издавались на русском языке) Фененко знал, что все следы ведут к чеберяковской «малине». Но требовались веские доказательства. Он знал также, что перед Чаплинским нельзя было заикнуться о подобных предположениях, несмотря на то, что в жандармском управлении и в сыскном отделе полиции не раз упоминалась эта версия… Неужели он, Фененко, должен один пойти против всех, несмотря на то, что им так же хорошо известна правда об истинных убийцах Ющинского, как и ему.
Самое важное и трудное было еще впереди. Предстояла борьба с Чаплинским, которого Фененко искренне недолюбливал и жаждал дискредитировать. Теперь следователю представлялось ясным, куда метит Чаплинский. С каждым днем действия прокурора вызывали в нем все больший протест и неприятие.
«Честность, Васька, только по-честному… — звучали в ушах Фененко слова отца. — Будь человеком совести и правды». Так простой трудолюбивый крестьянин с натруженными руками и добрым сердцем поучал младшего сына, когда приезжал к нему в гости в Киев. И на ответственном посту следователя Фененко свято помнил завет отца и не мог, не хотел позорить его память.
Уже с первых дней совместной работы с прокурором Фененко почувствовал, предвзятое отношение Чаплинского. Следователь до поры до времени решил скрывать свое недовольство прокурором, сдерживать свои чувства, пока полностью не раскроет подлинных преступников. И лишь тогда он даст понять Чаплинскому, что знает правду о зверском убийстве на Лукьяновке и не намерен поддаваться его давлению.
Чтобы убедиться в правильности своего предположения, Фененко решил взять в оборот одного из опаснейших головорезов — Ивана Латышева, злополучного Рыжего Ваньку, сидевшего нынче в лукьяновской тюрьме по делу очередного ограбления. Он распорядился доставить Латышева на допрос, заказал в кабинет вино и закуску.
Стоя у окна, следователь готовился к разговору, на который возлагал немало надежд.
Дверь открылась, и конвоир ввел Латышева.
— Садитесь, Латышев, — следователь подошел к арестованному и указал на стул.
По знаку следователя конвоир вышел и, как ему и было положено, остался за неплотно закрытой дверью.
Расположившись в кресле, Фененко повторил:
— Можете сесть.
Арестант одернул потрепанный пиджачок, достал из кармана платок и вытер шею, затылок. На лице Латышева, сплошь усыпанном веснушками, проступала желтоватая бледность.
— Даже зимой вам жарко?
— В воронке было душно, — хрипло ответил Латышев.
— Вы простужены?
— Да, немного повредил горлянку, — ухмыльнулся арестант.
— В опере вам, Иван Дмитриевич, так или иначе не петь, — пошутил следователь.
— Как знать, ваше благородие! Когда-то мечтал стать певцом.
— Именно поэтому я и говорю, что петь уже не придется.
Подняв голову и зажмурив хитрые глаза, словно вправленные в рамку рыжих век и бровей, Ванька сказал:
— Вы вот думаете, что Латышев только вор, но он…
— Почему не договариваете, Латышев? — Фененко выжидающе смотрел на него. — Продолжайте.
— Да что без толку говорить? Меня мордуют, перебрасывают из одной тюрьмы в другую… Напрочь отбивают охоту к жизни…
Следователь внезапно изменил тон:
— А вы бы как хотели, Рыжий Ванька? Грабить, воровать, и чтоб вас оставили на свободе?
Латышев опустил голову.
— Вы слышите, Рыжий Ванька? — повторил он.
— Кого вы имеете в виду, ваше благородие? — спокойно спросил Латышев.
— Вас.
— Меня зовут Иван Дмитриевич.
— Вера-чиновница мне говорила, что ваша кличка Рыжий Ванька.
— Чеберячка, что ли?
— Да, она.
— Бросьте шутковать, ваше благородие!
Латышев вызывающе глянул на следователя и пододвинул стул ближе к круглому столику, вплотную приставленному к письменному столу. На этом столике обычно лежали составленные следователем протоколы допроса. Теперь здесь стояла бутылка вина и закуска.
Латышев удивился: что за притча! Не подвох ли? Ему не однажды приходилось иметь дело с этим строгим, хотя внешне и добродушным следователем; не раз, пойманный с поличным, он подписывал протоколы о совершенных им кражах и других преступлениях. Если думают его, Рыжего Ваньку, на этом купить, то не на такого напали!
Голос следователя вывел его из размышления:
— Садитесь ближе, Иван Дмитриевич.
Латышев неожиданно махнул рукой: будь что будет — хорошая закуска дела не испортит.
— Да, я и позабыл: у меня ведь есть икра первосортная… — следователь открыл ящик своего стола и вынул жестяную круглую банку с красной икрой.
— Я, ваше благородие, предпочитаю белую булку с черной икрой, — проговорил арестованный. — Чуть вкушу эту самую икру, она для меня как бальзам. Смачно!
Оба понимающе улыбнулись. Выпили по стопочке, закусили. Все это время Фененко пристально глядел на Латышева. А тот думал:
«Неспроста такой прием, что-то за этим кроется! Тут и Верка-чиновница замешана, ясно. Возможно, она засыпалась и меня за собой тянет».
— Но этот номер не выйдет. Дудки! — пробормотал он.
— Вы что-то сказали, Иван Дмитриевич?
— Молчу, как рыба, ваше благородие. Икрой балуюсь.
— Послушайте, Иван Дмитриевич. Мне известно, что вы хороший мастер, слесарь. Работали в мастерской под Белой Церковью. Послушайтесь меня: вернитесь к прежней жизни. Зачем вам мыкаться по тюрьмам? Вам тяжело, да и нам нелегко расхлебывать ваши дела…
— Мне не тяжело, ваше благородие, — перебил Латышев.
Но чуткое ухо следователя уловило в реплике собеседника какую-то надломленность — это была неплохая примета, видно, что-то задело неуемного рецидивиста, может, теперь-то он и клюнет на разговор. Значит, лучше сразу изменить тактику действий.
Следователь поднялся, подошел к Латышеву сзади и нагнулся к нему.
— Помните, Иван Дмитриевичу — сказал он, — некоторое время тому назад я говорил вам, здесь же в кабинете, что готов выпустить вас, если дадите слово вернуться к честней жизни, к профессии слесаря. И теперь обещаю, что буду ходатайствовать о полном вашем освобождении. Забудем о прежних грехах. Подумайте об этом. В противном случае дело кончится петлей… Имейте в виду, я ведь говорю не для того, чтобы запугать вас…
Голос следователя смягчился. Рыжий Ванька смотрел следователю прямо в глаза. В какое-то мгновение Фененко показалось, что он у цели… И вдруг Латышев точно сорвался с места.
— Ваше благородие, — крикнул он, — слесарное дело не могло прокормить меня! Ничтожный заработок! Лучше пробыть полгода в тюрьме, зато жить потом широко и вольготно.
— Кражами и грабежами? — спокойно спросил Фененко.
Латышев не ответил.
Следователь отошел к окну.
— Ешьте, Иван Дмитриевич. Все это казенное.
Фененко заметил, что Латышев ест неохотно, больше для виду. Он был уверен, что следователю не поддастся и тот не добьется от него ни одного лишнего слова. На то он и Иван Латышев — никогда не продаст!.. Если его и предали, он даже из мести не будет платить тем же: и у вора есть совесть. Нужно иметь голову на плечах, не то легавые восторжествуют. Легавых надо бить, уничтожать, как чумных крыс!..
— Вы что-то сказали?
— Нет, молчу, как ушат с водой, ваше благородие.
Фененко досадовал: повлиять на преступника оказалось не так просто.
Снова выпили по рюмке, закусили. На опьянение расчета не было, Фененко заготовил одну только бутылку кислого вина.
Латышев наелся, глаза его приняли сытое выражение.
— Теперь, Иван Дмитриевич, признавайтесь, это ведь вы украли из жандармского управления протоколы о том, что вы с Рудзинским и Сингаевским в доме Чеберяк убили Андрюшу Ющинского.
Латышев расхохотался:
— Если вы только для этого пригласили меня на эту роскошную трапезу, так это зря. Меня на такой крючок не подденешь.
Помолчав, он решительно встал.
— Сидите, сидите, Рыжий Ванька.
Лицо Латышева загорелось. От злости он прикусил губу.
— Никаких протоколов мы не брали. Чепуха! Кто это выдумал? И Андрюшку не трогали. Это Мендель Бейлис тащил его туда, на мыло — и там его по горлышку… Это всем известно… Об этом и воробьи на крышах чирикают.
По выражению лица Латышева, по тону его разговора следователь понял, что фразы эти хорошо заучены.
— Мне казалось, ваше благородие, что вы стали солиднее, не занимаетесь больше выгораживанием евреев. Как не стыдно вам, господин Фененко, к чему все это? Чтобы по всей России о вас говорили? Вы себе карьеру испортите, господин следователь! А правда ведь у нас, уголовников, ей-богу!
— Прекратите паясничать, Рыжий Ванька, а то посажу вас на голодный паек.
— Полноте, ваше благородие!
Фененко вытащил лист бумаги и начал писать протокол.
«Настоящим показываю, — быстро строчил он, — что я, Латышев Иван Дмитриевич, по кличке Рыжий Ванька, вместе с Борисом Рудзинским и Петром Сингаевским в доме Веры Чеберяк, что по Верхне-Юрьевской улице, убили мальчика Андрея Ющинского, после чего труп завернули в ковер и отнесли в пещеру…»
Закончив, следователь подал протокол Латышеву, чтобы тот подписал. Прочитав протокол, Латышев рассмеялся.
— Ваше благородие, — сказал он, — этого я не подпишу, будь оно даже сущей правдой. Вы не можете заставить меня это сделать. Законы мне хорошо известны!
Быстро открыв ящик и достав оттуда два листа мелко исписанной бумаги, Фененко ловко развернул их.
— Узнаете почерк Веры Чеберяк? Вам ведь знакома эта витиеватая подпись? Присмотритесь хорошенько, Рыжий Ванька…
У Латышева помутилось в глазах. Неужто действительно это подпись Чеберяк? Неужто Верка-чиновница стала такой тварью?
— Покажите поближе, — попросил он.
Но следователь уже спрятал листки в ящик и запер его.
— Можете не сомневаться.
Арестант что-то невнятно пробормотал и заерзал на стуле.
— Ложь! — крикнул он наконец. — Верка не такая!
— Сейчас я устрою вам очную ставку. Она сама напомнит вам обо всем.
— Вы не сделаете этого… По закону вы не имеете права заставить меня подписать… — продолжал волноваться Латышев.
— Ишь какой законник выискался! Я сделаю это, — повторил следователь.
Латышев схватил со стола протокол и хотел разорвать его. Но тут дверь распахнулась и конвоир обнажил саблю. Латышев быстро швырнул протокол на стол.
— Приведите из соседней комнаты Веру Чеберяк, — сказал Фененко конвоиру, — и подождите за дверью.
Латышев побледнел. Глаза его беспомощно забегали.
— Вера-чиновница нам рассказала все без утайки, — спокойно сказал следователь.
— Нет, нет, пусть она не приходит… — умоляюще проговорил Латышев. — Я сам все скажу!
— Вера Владимировна вам подтвердит, что вы, Рыжий Ванька, принимали участие в убийстве Ющинского.
— Ваше благородие, не нужно очной ставки с Веркой!.. Я убью ее!.. Вот здесь, у вас на глазах!.. — бесновался Латышев.
— Она не даст убить себя — не такова! Это во-первых. А во-вторых, вы забыли обо мне и конвое. — И после небольшой паузы добавил: — Вот, осталась еще икра, ешьте. Чего колеблетесь? Вас выдала Вера Чеберяк.
Не в силах совладать со своим страхом, Латышев выложил следователю некоторые подробности дела, тот быстро все записал и протянул лист бумаги Латышеву. И вдруг руки Латышева бессильно опустились, голова его мелко-мелко затряслась, как у глубокого старика.
Некоторое время Латышев сидел неподвижно, глядя в одну точку. Затем вскочил со стула и закричал в исступлении:
— Рассказать-то я вам рассказал, а вот подписывать не стану! По закону не можете меня заставить!.. Я бывалый, что-что, а законы знаю!
Фененко не обращал никакого внимания на его крики. Он, собственно говоря, уже выведал то, чего ему не хватало. А если Латышев не хочет подкрепить свои слова подписью… то что ж поделаешь? Для него, Фененко, вполне достаточно и того, что он разрубил важнейший узел во всей этой таинственной истории.
Но мысль о встрече подсудимого с Чеберяк не давала ему покоя. Латышев вряд ли сможет сдержаться увидя Веру. Скорее всего, набросится на нее… Необходимо только с умом провести эту очную ставку.
— Конвой! — крикнул следователь, подойдя к двери. — Введите арестованную.
Вошла Вера Чеберяк. Своим магнетическим взглядом она мгновенно вобрала в себя растерянного Латышева.
— Вера Владимировна, наша матка хевраков! Простите грешника! — воскликнул Латышев; он сложил руки на груди и опустился к ногам побледневшей женщины.
Она же, быстро овладев собой, нагнулась и помогла ему подняться, приговаривая с материнской нежностью:
— Голубчик ты мой, Иван Дмитриевич, что с тобою? Успокойся!
Фененко приказал подследственным разойтись по углам кабинета и молчать.
— Вы, Чеберяк, знаете сидящего напротив вас человека?
— Да.
— Кто он?
— Латышев Иван Дмитриевич.
— А вам, Латышев, знакома эта женщина?
— Да. Это Вера Владимировна Чеберяк.
Следователь повернулся к арестованной:
— Так вот, Вера Владимировна, Латышев мне рассказал, как у вас в квартире утром двенадцатого марта убили мальчика Андрюшу, которого вы прозвали «домовой». Вместе с Латышевым в убийстве замешаны Борис Рудзинский, ваш брат Петр Сингаевский…
Словно пантера бросилась женщина на Латышева и принялась неистово трясти его:
— Врешь! Врешь, собака!
Лишь с помощью конвоира удалось следователю оторвать разъяренную женщину от бандита.
Дрожащими руками Латышев перебирал пуговицы распахнутого пиджака и пугливо поглядывал в сторону Чеберяк.
— Ей-богу, матка, не моя вина… — бормотал он.
— Молчите! — приказал следователь. — Отвечайте только на вопросы.
Но Чеберяк не собиралась подчиняться его приказу.
— Господин следователь, вы шантажируете меня! — закричала она. — Я буду жаловаться, у меня есть кому жаловаться!..
Следователь хорошо знал, кому и куда бывалая преступница может жаловаться, в какие двери стучаться. А двери перед этой женщиной растворялись словно по мановению волшебной палочки. Они растворялись благодаря Чаплинскому — в этом следователь имел возможность убедиться.
Он подошел к Латышеву и, взяв его за плечи, велел повторить то, что тот говорил до прихода Чеберяк.
— Я ничего не знаю! Протокол я не подписал… — твердо сказал Латышев. — Вот и все.
Вера почувствовала себя еще уверенней.
— Это не по закону, господин следователь, — заявила она и бесцеремонно уселась на стол. — Прикажите отпустить меня домой. Я пожалуюсь на вас прокурору… министру пожалуюсь… могу и до царя добраться… Мне известно, что вам положено и чего вы не имеете права делать.
Фененко позвал конвоира и распорядился увести Чеберяк, а Латышева водворить в камеру.
Через несколько дней Чаплинский вызвал к себе следователя по особо важным делам.
Переступив порог прокурорского кабинета, Фененко уловил недоброжелательное настроение Чаплинского. Вальяжно развалившись в кресле, он как бы не замечал вошедшего. И только тогда, когда Фененко очутился прямо перед лицом прокурора, он поднял на следователя глаза.
— Василий Иванович, прокуратура окружного суда передала мне две жалобы на вас…
Чаплинский порылся в бумагах, нашел нужных два листа, быстро пробежал их глазами.
Фененко молча смотрел прямо в лицо прокурору.
— Вы слышали? Две жалобы… Вас, Василий Иванович, разве не интересует, какие это жалобы и почему сразу две?
— Интересует, Георгий Гаврилович.
— Первая — от Веры Чеберяк. Как следователь вы не имеете права шантажировать допрашиваемое вами лицо. Вам, безусловно, известно, что я имею в виду?
Фененко внутренне весь сжался: выложить ли Чаплинскому все то, о чем он столько раздумывал последние недели? Пришло ли для этого время? Краска ударила ему в лицо, он мучительно колебался. Наконец он решился:
— Должен сказать вам, Георгий Гаврилович, что по многочисленным допросам, учиненным мною Вере Чеберяк и посетителям ее так называемой «малины», я пришел к выводу, что не Бейлис повинен в убийстве Ющинского…
Чаплинский привстал, схватил со стола газету и яростно замахал ею перед лицом следователя:
— Это не ваши мысли, милостивый государь! Вы слепо вторите еврейской прессе!
— Ошибаетесь! — покачал головой Фененко. — Это мое убеждение, основанное на собственных выводах…
— Кому нужны ваши выводы, господин Фененко!
— Как это «кому»? Судебным инстанциям, прокуратуре… правосудию, наконец.
— «Правосудию»!.. — насмешливо повторил Чаплинский.
— Да, да, правосудию, нам с вами, обществу, русскому народу…
— Довольно, я сыт по горло вашей христианской проповедью, господин Фененко!
Наступило тягостное молчание. Посмотрев на Фененко, прокурор пододвинул свое кресло к стулу, на котором сидел следователь, и заговорил неожиданно миролюбиво:
— Послушайте, Василий Иванович! Вы давно уже служите здесь, в Киеве, как следователь по особо важным делам. По особо важным! — подчеркнул прокурор. — Вы русский человек или, может быть, я ошибаюсь?
Фененко инстинктивно отодвинулся.
— Я, конечно, русский человек… Но факты и показания…
— Факты и показания, — перебил его прокурор, — вам надлежит использовать в том духе, в каком того требует русский престол…
— Престолу нужна законность, истина нужна, Георгий Гаврилович!
Подойдя к столу, прокурор взял заранее приготовленный лист бумаги.
— Здесь ваш сын написал о своей матери — вашей бывшей жене, умершей якобы не своей смертью… Вы слышите, о чем я говорю, Василий Иванович? А вы мне толкуете — законность, справедливость… Что с вами, вам плохо?
— Я вполне здоров, — ответил несколько обескураженный Фененко, удивляясь хитрости, с которой Чаплинский подготовил шантаж…
— Так вот: вам придется написать объяснение, что это за история, о которой упоминает ваш сын.
Фененко протянул руку.
— Нет, — покачал головой прокурор, — этот документ предназначается тому следователю, который учинит допрос вам, господин Фененко.
— Кто это написал? — тихо спросил Фененко.
— Ваш сын…
— Этого не может быть, господин прокурор, — решительно возразил Фененко.
— Придет время, воочию убедитесь.
Кивком прокурор дал понять, что считает беседу законченной.
В одно зимнее субботнее утро возле киевской синагоги в переулке, неподалеку от Большой Васильевской улицы, появился субъект в длинном, до начищенных юфтевых сапог, крестьянском кожухе и теплой шапке. Это был Иван Козаченко, на днях выпущенный из тюрьмы.
Озираясь по сторонам, он заговаривал с богомольными евреями, неторопливо шагающими к субботней трапезе домашнего очага, где каждого ожидали жена и дети. Некоторые из них проходили не останавливаясь, не желая вступать в разговор с незнакомым, другие, наоборот, заинтересовались письмом, которое он показывал из-под полы.
— Неужели от самого Бейлиса?
— Да. Письмо к его жене Эстер, — уверял Козаченко.
Люди напрягали зрение, стараясь прочесть расплывчатые строки.
— А вот и подпись самого Бейлиса, — Козаченко тыкал пальцем в бумагу.
— Действительно, — убеждались любопытные. — Но каким путем письмо попало к вам?
— Очень просто, — объяснил Козаченко, — мы с Бейлисом вместе сидели в тюрьме. Он плакал, ваш Бейлис, когда меня освободили. Я ведь по глупости попался в руки головорезов. Мендель был моим лучшим другом по камере. Ох, до чего ж он убивался, когда я уходил.
— Слышите, что рассказывает этот человек? — сочувственно отзывались люди.
Только один усомнился в том, что рассказывал незнакомец.
— Мало что он говорит, надо ему еще поверить… — сомневался он.
С теми же, кто верил, Козаченко уходил во двор или в темные задворки какого-нибудь дома и там под большим секретом сообщал, что необходимо собрать хоть немного денег для жены и детей Менделя, да и для самого Бейлиса, долгое время томящегося в тюрьме. За деньги ему все купят — масло, колбасу, сахар, так он хоть голодать не будет.
— А если собрать деньги, как они попадут к нему?
— Очень просто: он имеет в тюрьме знакомых среди надзирателей, — уверял мнимый крестьянин. За небольшое вознаграждение те передадут Менделю деньги, а его жене он сам передаст. Вот он от нее, от жены Бейлиса, получил записку для Менделя. Он хорошо знает ее, не первую записку берет для Менделя. — Ой, как Мендель плакал, и жена с детьми плачут, до чего жалко их!.. — Козаченко скорчил сочувственную мину и перекрестился.
Как не поверить столь богобоязненному человеку, истово осенявшему себя крестным знамением? И нашлись такие, что совали Козаченко деньги для несчастного Бейлиса. А если у кого-либо при себе не оказывалось денег — в субботу истинно набожные евреи ничего с собою не носят, — то одалживали у соседа. Так Козаченко собрал довольно изрядную сумму.
Почувствовав, что дело пошло на лад, он достал чистый лист бумаги и попросил одного из наиболее милосердных людей взять на себя труд по сбору пожертвований для их несчастного собрата Менделя Бейлиса.
— Здесь, — тыкал Козаченко грязным ногтем в бумагу, — пусть каждый пожертвовавший поставит свое имя и фамилию и распишется.
— Хорошо, — согласился сердобольный, принимая от Козаченко бумагу. Он все сделает и за это надеется на том свете попасть прямо в рай. Помощь Менделю станет таким образом помощью всему кагалу: ведь утверждают, будто убийство совершил не один Бейлис, а все евреи города Киева. И чего только не выдумают, изверги. Они готовы и расправу учинить… пахнет погромом… Ой, пахнет! Поэтому их долг помочь, кто чем может.
Спрятав собранные деньги и оставив лист для пожертвований, Козаченко исчез.
Один из присутствующих взял у собиравшего подписной лист и, надвинув на лоб шляпу, многозначительно произнес:
— Что-то мне не нравится этот очень уж жалостливый мужичок. У меня в квартире живет сотрудник газеты «Киевская мысль», некий Исай Ходошев, надо ему показать листок. Он парень толковый, разбирается, что к чему, послушаем, что он скажет.
С этими словами человек в шляпе сунул бумагу в карман и зашагал прочь, оставив людей в нерешительности.
— Послушайте, вы, в шляпе! — крикнул ему вдогонку сердобольный. — Не забывайте, что речь идет о спасении целой общины… Что вы делаете?
— Пусть это вас не волнует, — обернувшись, ответил человек в шляпе. — Ходошев только посмотрит. Не нравится мне этот мужичонка, больно глаза у него плутовские.
…Ходошев прочитал вслух заголовок:
— «Мы, евреи киевской общины, жертвуем в пользу Менделя Бейлиса каждый по возможности и призываем всех жертвовать, кто сколько может».
Внизу было оставлено место для подписей председателя общины, секретаря и казначея.
— Неплохо организовано, нечего сказать. А работенка-то какая проведена! — улыбнулся Ходошев. — Интересно, как выглядит этот тип?
Выслушав описание Козаченко, Ходошев кивнул:
— Мне думается, не из «союзников» ли он? Боюсь, плакали денежки, что собрали доверчивые прихожане синагоги!
Ходошев решил посоветоваться с присяжным поверенным Марголиным, в котором, по слухам, видели одного из защитников Бейлиса в случае, если дело дойдет до открытого процесса.
Широко популярный в Киеве как общественный деятель и опытный адвокат, Арнольд Давидович Марголин происходил из зажиточной семьи. Отец его — очень состоятельный человек — владел несколькими собственными домами в Киеве и пароходами на Днепре. Все это было известно. Не знали только о количестве акций в различных компаниях и обществах и об акциях, находящихся в его сейфе. Шутя адвокат говорил: «Обладай я десятой долей имущества моего отца, мне незачем было бы заниматься адвокатурой».
Злые языки утверждали, что и Марголину-сыну не следовало бы жаловаться; некоторые желали своей семье столько же на год, сколько адвокат Марголин может разрешить себе проиграть в карты за один вечер в Купеческом клубе. Но стоит ли обращать внимание на досужие разговоры. Как бы там ни было, Арнольд Марголин был солидным адвокатом с обширной практикой и порядочным стажем. Как общественного деятеля его очень уважали и с ним считались. И что еще было важно — он обладал отзывчивым сердцем.
Когда Ходошев показал Марголину подписной лист, тот сразу понял, чьих рук это дело: безусловно — членов «Союза русского народа» и реакционных судебных сановников,
Марголин уже несколько недель изучал дело об убийстве Ющинского, поэтому он был особенно доволен, что Ходошев пришел к нему с этим подписным листом. Расчувствовавшись, адвокат поделился с газетным репортером своими соображениями.
— В вашей газете работает журналист Бразуль-Брушковский — вероятно, знаете его. Вам, безусловно, известно и его намерение доказать, что следы убийства Ющинского ведут к Вере Чеберяк.
— Бразуля я отлично знаю, — сказал Ходошев, — весьма порядочный человек. Мне известно, что он частным образом занимается расследованием дела об этом убийстве.
— О порядочности Бразуля говорить не приходится, — продолжил Марголин. — Недавно я как-то вместе с ним вышел из помещения нашего общества, находящегося, между прочим, в одном доме — только на другом этаже — с помещением следователя по особо важным делам. Он и ведет расследование. Бразуль показал мне на Чеберяк, вышедшую, очевидно, из кабинета Фененко. Она очень интересная женщина, знаете, цыганский тип! А глаза! Пронзительные, с каким-то колдовским огоньком, черт бы ее побрал! Бразуль связан с нею, потому что подозревает ее в соучастии в убийстве Ющинского, он хочет добиться личного ее признания. Не выпускает ее из поля зрения, часто с нею встречается. А женщина эта хитра, юлит и заметает следы… Одним словом, Бразуль делает все, чтобы вывести ее на чистую воду, но нужны факты… Интересно, что когда Фененко начал сильно нажимать на нее, доказывать ее сопричастность к убийству, она закатила истерику, обвинив Фененко в том, что он хочет скрыть от общественного мнения виновность Бейлиса. А Бразулю она просто-напросто морочит голову, хочет запутать его разговорами о бесчисленных инстанциях, а сама просто-напросто является рупором тех, кто готовит навет на наш народ. И ее новая версия с французом не что иное, как попытка отвести следствие от истины…
Приблизительно в то же время Голубев вызвал к себе в редакцию «Двуглавого орла» Веру Чеберяк.
— Не подумали ли вы, Вера Владимировна, — сказал он, — что ваше сближение с сотрудником газеты «Киевская мысль» Бразуль-Брушковским может привести к плачевным результатам?
— Почему вы так считаете, Владимир Степанович? — с нескрываемым испугом спросила она. — Эта газетная крыса думает, что убийца — Мифле.
— Что за Мифле?
— Француз, старый мой знакомый.
— Мифле… откуда он взялся?
— Да вот, выплыл, Владимир Степанович! Бразуль-Брушковский уже начинает поддаваться моим доводам и согласен поверить, что именно этот француз вместе с отчимом Андрюши, начитавшись медицинских книг…
— Погодите, — перебил ее Голубев. Не нравилась ему эта история с французом. — Послушайте, Вера Владимировна, что я вам посоветую, и это не только мой совет: поменьше якшайтесь с Бразулем. Он вас перехитрит.
— Меня? — Чеберяк встала. — Очевидно, вы плохо знаете Веру-чиновницу… — Она гордо подняла голову, сверкнув глазами. — Совсем не знаете, Голубев!
Студент ехидно засмеялся. Ему стало обидно, что эта полуграмотная, наглая женщина ставит себя выше его, одного из руководителей киевских монархистов. А рассориться с нею ему невыгодно: все же она покорное и очень важное орудие в его руках. И он заговорил несколько мягче:
— Не волнуйтесь, мы ведь с вами заодно — я не раз говорил вам об этом. Но тем не менее послушайте меня: Бразуля гоните прочь.
— Да, вам легко говорить — прогнать эту газетную крысу… Но он ведь влезает в душу. Если я не отвечаю на какой-нибудь вопрос, он угрожает.
— Угрожает? Вот подлец! Да как он смеет! По одной этой причине нужно избавиться от него — гнать в шею!
— Не поддается. Он прилипчив, как муха.
— Да ну его к черту! — вышел из себя Голубев. — Вот что мы вам посоветуем, Вера Владимировна: скажите этому Бразулю, что вы готовы взять на себя вину…
— О чем говорите, Владимир Степанович?.. — от неожиданности Вера отшатнулась.
— Не пугайтесь, моя дорогая, сидите спокойно.
— Как я могу сидеть спокойно? Легко сказать — взять на себя вину… О чем вы говорите? — вскипела Чеберяк.
— Знаем, знаем, что вы ни в чем не повинны… Успокойтесь, Вера Владимировна. Весь мир знает… — Он помолчал, не сводя с нее внимательных глаз. Чего доброго, эта экзальтированная женщина может подняться и убежать, с нее станется… — Значит, так: вы намекнете сотруднику «Киевской мысли», — продолжал Голубев, — что готовы… Не перебивайте! Вам известна пословица «кто суется с перебивкой, тому кнут с перевивкой»… Вы не женщина, а огонь, Вера Владимировна! Воображаю, как достается от вас Фененко… Значит, когда Бразуль придет к вам, вы скажете ему о ваших намерениях.
— Я никак не соображу, зачем это?
— Да очень просто, ясно, как божий день. Вы ему скажете так: «Господин Бразуль, передайте вашей общине, что Вера Чеберяк согласна взять на себя вину в убийстве мальчика, если ваша община уплатит…»
— Уплатит?
— Ну да, уплатит. Такое удовольствие незачем предоставлять им бесплатно. Понятно?
— Сколько же с них спросить?
— Сколько душе угодно. Вы ему так и скажете: «Как только я возьму на себя вину, ваша община должна предоставить лучших адвокатов, которые смогут защитить меня в том случае, если меня передадут суду. А когда я по суду буду оправдана, я желаю получить заграничный паспорт, чтобы с мужем и детьми…»
— Это продлится месяцы? — испуганно спросила Вера.
— Да это только для красного словца, Вера Владимировна. До этого не дойдет, будьте спокойны! Как только получите у них денежки, мы доложим об этом Чаплинскому, а он уже будет знать, как действовать дальше.
Легкий румянец вспыхнул на лице Чеберяк. Она лишь теперь уловила, куда клонит ее собеседник.
— Что вас так удивляет? Вам бы надлежало привыкнуть к нам и поступать так, как мы требуем.
— А если нет, Владимир Степанович?
В ее глазах зажегся какой-то злой огонек, и Голубеву, прожженному интригану, стало не по себе.
— Я говорю, что вы всегда должны быть готовы выполнять то, что мы вам предлагаем. Вы ведь преданы нашим идеям, вы ведь русская женщина. Поймите меня правильно, госпожа Чеберяк. Не забывайте, что за вашей спиной стоит вся православная Русь.
— Ну хорошо, сделаю, как вы говорите, Владимир Степанович.
— Очень рад, Вера Владимировна, — Голубев добродушно улыбнулся. — Поверьте, если б я был священником и вы пришли бы ко мне исповедаться, я бы отпустил вам все грехи.
— Значит, вы, Владимир Степанович, уверены, что я грешна? — рассмеялась Чеберяк.
Голубев ничего не ответил.
Указательным пальцем, на котором сверкало кольцо, Чеберяк коснулась его подбородка:
— Неужели вы боитесь смотреть мне в глаза, Владимир Степанович? И не стыдно вам так думать обо мне, а?
Голубев нагло взглянул на свою партнершу и цинично заметил:
— Вы — женщина, Вера Владимировна. Этим сказано все…
— Вы меня обижаете.
— Прошу прощения! — Он пожал ее красивую, пахнущую духами руку и сказал: — Ну, идите, с богом! Желаю успеха! — У порога он еще раз остановил ее: — Не забудьте, чего мы ждем от вас!
Этой бывалой женщине, которую судьба бросала из одной тюрьмы в другую, только и нужно было, чтобы ей подали новую мысль, связанную с интригой и опасностью. О чем тут раздумывать, если сам вожак местных черносотенцев, этот дикарь Голубев, благословил ее на столь рискованный шаг! Чеберяк не привыкать к опасностям. Она неоднократно проваливалась при продаже краденого — и как с гуся вода! А теперь ей предстояла беседа с ее «катом», как она прозвала Бразуль-Брушковского. Она предвкушала сладкое чувство мести. О, она отыграется! Она душу из него вымотает, выльет всю горечь обид, нанесенных ей легавыми и теми, кто хочет добиться от нее правды. Как она будет морочить голову этому въедливому Бразулю с подкрученными усиками… Ему будет и холодно, и жарко, как он того и заслужил… Пусть знает…
…Бразуль явился в точно условленное время, когда муж был на службе. Чеберяк встретила его с необычайным оживлением.
— О, Степан Иванович, как я рада! Где вы пропадали так долго? — с притворной улыбкой спросила она.
Бразуль сразу уловил фальшивую ноту. Обычно она встречала его сдержанно, потупив глаза, выражая явное недовольство. У нее выработалась профессиональная привычка торговки краденым — скрывать свои истинные чувства в искусственно настороженных глазах. А на сей раз она, не пряча глаз, смотрела на него в упор.
— Чем вы взволнованы, уважаемый Степан Иванович? — продолжала она глубоким грудным голосом. — Что сталось с вами, что-нибудь случилось в редакции? Или супруга удрала с приезжим офицером? Не стыдитесь, милый господин, и такое случается в наше время.
Для умного, проницательного Бразуля было совершенно ясно, что с Верой Чеберяк что-то произошло. Но как доискаться правды? Нужно выждать, пока она сама проговорится и выскажет то, что задумала. Пусть ей кажется, что она смеется над ним, издевается, пусть получает удовольствие от своей развязности, пусть ей кажется, что она ловко интригует его. Он на все согласен во имя дела.
— Есть какие-нибудь новости, узнали что-нибудь о Мифле? Я ведь правду говорила, утверждая, что Мифле — убийца домового…
— Как вы сказали, Вера Владимировна — «домового»?
— Для вас это ново? А мы всегда этого байстрюка так называли — домовой!
— Кто это — «мы»?
— Мы — это мы, Степан Иванович…
Теперь Бразуль почувствовал раздражение в ее голосе; в первые моменты встречи женщина казалась куда спокойнее, вдумчивее. Бразуль понял — что-то давит ее, чем-то она встревожена, поэтому он настаивал:
— Я спрашиваю, Вера Владимировна, кто это «мы»?
— Я оговорилась, — тихо сказала она. — Я никогда никого не принимаю в свой круг. Это мы с моими детьми Андрюшу называли «домовой».
— Только с вашими детьми?
— Да, да, да, я и мои дети! — резко повторила она.
— А я думал, вы и Мифле… — произнес Бразуль-Брушковский спокойно.
— Я и Мифле?! — Чеберяк окинула его беглым взглядом. — Ошибаетесь, с Мифле у нас давно уже нет ничего общего.
— А я думал…
— Нечего думать, Степан Иванович. Что вы все путаете? — В ее голосе нарастали нотки раздражения. Но, помолчав, она взяла себя в руки. — Степан Иванович, вы торопитесь?
— А вам хочется, чтобы я ушел?
— Полноте, вы же знаете — муж на службе, а Людочка у соседки.
Бразуль досадливо махнул рукой.
— Выслушайте, Степан Иванович, что я вам скажу. Вот вы ходите ко мне… Сколько времени вы уже ходите ко мне? Несколько месяцев. И Красовский ходил. И еще ходили другие. У всех у вас одна цель: засыпать меня…
— Боже сохрани, «засыпать»! О чем вы говорите, Вера Владимировна?
Увидев, что Вера принялась прихорашиваться перед зеркалом, Бразуль отвернулся.
Стоя перед зеркалом, Вера говорила:
— Можете не отворачиваться, друг мой! Я не смущаюсь, если на меня смотрят.
Еще раз окинув себя внимательным взглядом, Чеберяк подсела к Бразулю.
— Слушайте меня внимательно, вникайте в каждое слово. Все равно в ваших газетах считают, что я повинна в убийстве байстрюка… Вы слышите, что я говорю?
— Слышу.
— Так можете передать вашей общине или тем, с кем вы связаны, что я согласна взять на себя вину в убийстве Ющинского…
— Вы?!
— Да, я. Почему вы удивляетесь? Все равно ведь вы считаете, что я виновна… что это случилось в моей «малине»… Правда же, вы все в этом уверены? Думаете, я не знаю?
Бразуль удивился. Не отвечая, он настороженно ждал дальнейших слов Чеберяк. Она недолго заставила ждать и продолжала:
— Значит, можете передать вашей общине, что я готова, только… — она запнулась, наблюдая за Бразулем, ей не терпелось увидеть, как подействовали на него ее слова.
А Бразуль сидел спокойно, внешне не выказывая никаких признаков заинтересованности. Молча ждал ее дальнейшего признания.
— Степан Иванович, — продолжала Чеберяк, — вы сегодня, удивительно безразличны к моим словам…
— Почему? Я, как всегда, слушаю вас внимательно.
— Да… Так передайте, что это будет им стоить всего лишь сорок тысяч рублей.
— Из какого расчета, Вера Владимировна?
— Очень просто. Когда меня арестуют, общине нужно будет предоставить мне лучших адвокатов, чтобы избавить от полиции и от рук судей и прокуроров. А ведь они будут стремиться осудить меня. Поэтому придется подыскать самых известных адвокатов, чтобы доказать мою невиновность. Понимаете, Степан Иванович?.. Что вы на это скажете?
— Что я скажу на это?.. — Бразуль-Брушковский задумался. — Ваше предложение можно истолковать всяко — например, что вы одумались и хотите поступить как подобает честной женщине, в которой проснулась совесть…
Чеберяк расхохоталась.
— Мне кажется, вы сегодня что-то… господин Бразуль-Брушковский, — сказала она. — До вас не доходит смысл моих слов. Зачем вы мне сказки рассказываете и дурите голову какой-то там совестью? Что за совесть? Об этом может проповедовать священник на амвоне. Это его дело — болтать о честности и совести. Плевать мне на совесть! Нет ее у меня! Есть только интересы любви, денег, желание красиво одеваться и жить легкой, беспечной жизнью. Вот каковы мои интересы. А вы, газетные пачкуны, чепуху несете о правосудии, о правде, совести. Еще с детства я поняла, что сильнее всего в человеке стремление разбогатеть, а для достижения этой цели — все средства хороши. Мой брат Петя говорит, что за один счастливый день в жизни можно разрубить сто туш на мясо. Понимаете, ради одного дня сто туш!
Монолог Чеберяк поразил Бразуля своей жестокостью, прозвучал как эхо из далеких джунглей. Ему казалось, что сюда, в этот прекрасный южный город, каким-то образом попало дикое существо, жаждущее растоптать все достижения человеческого ума и красоты человеческой.
— О чем вы, Степан Иванович, так долго раздумываете? — услышал он несколько охрипший голос Чеберяк. — Раздумываете, и ничего-то вы придумать не можете.
— Мне непонятно, чего вы хотите от меня?
— Чтобы вы передали вашему кагалу все, о чем я говорила. Уверена, что они ухватятся за мое предложение. Но помните: без сорока тысяч ко мне и не подходите. А если…
— Что «если», Вера Владимировна? — нетерпеливо спросил Бразуль.
— Если опоздаете с ответом, пеняйте на себя.
— Но за что, собственно, вы хотите сорок тысяч?
— О большей сумме я еще не думала, — последовал наглый ответ.
Не лучше ли было бросить в лицо этой женщине слова оскорбления и уйти, чтобы больше с нею не встречаться! Но у Бразуля мелькнула мысль, что это он всегда успеет сделать, а пока, если он хочет чего-нибудь добиться, должен действовать осторожно, вести себя осмотрительно и спокойно.
— Ну ладно, Вера Владимировна, я приду с ответом, — подумав, сказал он.
— Когда?
— Через три дня.
— Смотрите, не позже…
Лишь очутившись на улице, Бразуль осознал, чего хотела от него Вера Чеберяк: она берет на себя вину за содеянное убийство и хочет сорок тысяч как бы в уплату за свои переживания, когда она официально признает себя виновной.
Наутро журналист по телефону связался с Марголиным. Ему нужно повидаться с ним по важному делу, сказал он.
— Приходите немедленно.
Бразуль пришел в крайне возбужденном состоянии. Марголин сразу учуял, что произошло нечто важное.
— Что вы можете сообщить мне? — спросил он.
Журналист обстоятельно, во всех деталях, передал ему разговор с Верой Чеберяк.
Марголин задумался.
— Знаете что, любезный Бразуль… — сказал он после недолгого раздумья, — я считаю нужным посоветоваться с Грузенбергом. Он вот-вот должен приехать в Киев. Возможно, он выступит защитником Бейлиса.
— А вы? — спросил Бразуль, не сводя глаз с адвоката.
— Я? Я тоже. Но Грузенберг… Вы же сами понимаете, что для нас означает Грузенберг.
— Какой же ответ ей дать?
— Пока воздержитесь.
— О, не дать ей ответа… Мне, Арнольд Давидович, предстоит еще не одна встреча, я вынужден поддерживать с нею хорошие отношения.
— Ну понятно. Держите с ней связь, но будьте осторожны. Не забывайте, что она способна на провокацию.
— Этого я не забываю, я всегда с ней начеку.
Ушел от Марголина взволнованный и обеспокоенный Бразуль. Обидно, что он оказался столь неосмотрительным… Ведь ясно, что вся эта затея не ее ума дело…
А Вера Чеберяк между тем и не собиралась ждать никакого ответа. Она дала знать Чаплинскому, что хочет повидаться с ним, и тот же связист сразу провел ее к прокурору.
С каким вниманием и готовностью встретил прокурор свою подопечную!
— Садитесь, госпожа Чеберяк, и рассказывайте. Прежде всего, как поживаете? Как самочувствие? Здоровы ли ваша дочурка и муж Василий…
Чаплинский запнулся, он не запомнил отчества ее мужа.
— Не беспокойтесь о нем, ваше превосходительство. Он у меня не больно удачливый.
— Он вас обижает, Вера Владимировна?
— Не то что обижает, я не из тех, кто позволит обидеть себя или разрешит сесть на голову. Но он… Да не стоит говорить, пожалуй… — Женщина достала надушенный шелковый платочек и поднесла его к губам.
— Не волнуйтесь, Вера Владимировна.
— Да как же не волноваться, ваше превосходительство, если следят за мной на каждом шагу, прямо-таки жить не дают.
— Снова газетчик? Этот, как его, ну, из «Киевской мысли» — Брузколь-Бразульский?
— Бразуль-Брушковский, — поправила его Вера. — А откуда вам известно о нем, ваше превосходительство?
— Не думайте, что мы ничего не знаем. Мы интересуемся вами больше, чем вы можете предполагать. Священник Синкевич нам все рассказывает. Я был бы невнимательным человеком и небдительным рыцарем его императорского величества, если б не знал того, что надлежит знать. Рассказывайте, что он хочет от вас.
— Ах, ваше превосходительство, он такой наглый, ей-богу!
— Наглый? Кто?
— Бразуль. Он дал мне денег, поехал со мною в Харьков, а там свел меня с каким-то лысым господином, представившимся членом Государственной думы. И как только тот остался со мной наедине, встал на колени…
— Кто встал на колени? Бразуль или лысый господин?
— Бразуль? Да нет, лысый! Ой, что это я? Оба… — у нее заплетался язык. — Я к такому не привыкла. «Вы благородная женщина, — сказал он мне, — и хотя говорят, будто вы причастны к убийству Ющинского, я этому не верю. Мы хотим спасти вас от подозрения…»
— Так и сказал — что вы причастны к убийству Ющинского?
— Ну, это он просто так загнул, чтобы я согласилась с его предложением. Так слушайте дальше, ваше превосходительство…
— Какой подлец! Вам, Вера Владимировна, такое говорить!
— Не перебивайте. Значит, так: «Мы хотим вас…»
— Кто «мы»? — перебил ее прокурор.
— Не торопитесь, ваше превосходительство. Мы — это еврейская община.
— Киевская община?
— Он имел в виду общину всей России. Так слушайте же! «Мы, — сказал он, — дадим вам сорок тысяч рублей наличными, с тем чтобы вы взяли на себя убийство Ющинского».
— Погодите, погодите, Вера Владимировна. Сорок тысяч наличными… А что же вы должны сделать?
— Очень просто, ваше превосходительство. Должна дать им бумагу о том, что я в моем доме убила этого несчастного мальчика. Меня, конечно, сразу арестуют — да о чем говорить! Вы сами, ваше превосходительство, как только увидите мое письменное признание в убийстве Ющинского, прикажете арестовать меня. Тогда они, община, их кагал, возьмут лучших защитников, которые будут защищать меня. А потом, когда меня выручат, заготовят заграничный паспорт и вывезут меня в Америку или в Швейцарию — или еще дальше, там купят мне дом за сто тысяч рублей… Деньги, сказал тот, из Государственной думы, для них роли не играют. «Вы ведь знаете, Вера Владимировна, — сказал он, — что евреи богаты, они могут купить все церкви в России…» И я, мол, со своей семьей буду жить счастливо и беспечно по ту сторону границы, где-то у черта на куличках!
— У вас есть доказательство сказанному? — неожиданно спросил Чаплинский.
— Конечно. А как же!
— Какое же?
— Во время разговора я попросила воды напиться — в комнате воды не было. И тот, из Думы, выскочил в коридор за водой. А я тем временем расписалась на обороте портрета царя, висевшего в комнате.
— На портрете царя расписались! Великолепно!
— И на стене расписалась, в углу…
— Умница! Мы это проверим и составим протокол.
Вера Чеберяк прижала к губам платочек. Чаплинский рылся в ящике стола.
— Лысый господин, лысый… Не киевский ли это адвокат Марголин? — Чаплинский поднял глаза. — Вы когда-нибудь видели Марголина? Лысый, с жирным носом, широкоплечий, с длинными руками.
— Не видела, никогда не видела. Не знаю, — отрицательно мотала она головой. Вера была беспокойна, в груди будто что-то сжимало, мешало дышать, она отводила глаза в сторону, закрывая их платком.
— А что вы ответили на его предложение?
— Что мне отвечать? Конечно, отвергла.
— Почему же, нужно было согласиться, а мы б нашли способ, как выгородить вас из этой истории.
Чеберяк сникла.
— Сорок тысяч рублей! Да ведь это состояние, Вера Владимировна! — продолжал Чаплинский. — И у нас в руках была бы еврейская община!..
Чеберяк никак не могла совладать с собой. Она поняла, что совершила крупную ошибку… Такая сумма денег!
— А знаете что?.. — сказал прокурор голосом, не терпящим возражения. — Вы, мадам Чеберяк, пойдите к Бразулю и скажите, что принимаете предложение. Пусть вам выплатят сорок тысяч рублей. Дайте ему даже расписку. А мы, прокуратура, сделаем все, чтобы выгородить вас
— Нет, нет, — Вера явно перепугалась. — Я не хочу… Не я убила Ющинского… Ненавижу евреев с их общиной, не нужны мне их деньги!
Одна мысль неотступно преследовала ее: «Если я это сделаю, брат убьет меня за то, что выдала. Они с Рудзинским и Латышевым, как Андрюшу, зарежут меня…»
— Полноте, мне понятны ваши чувства, Вера Владимировна, — говорил тем временем Чаплинский. — Успокойтесь. Мы проверим вашу подпись на стене и на портрете в харьковской гостинице и тогда примем решение.
Прокурор записал что-то в своей записной книжке и поднялся.
— Очень хорошо, что вы ко мне пришли. Можете положиться на нас. Спите спокойно и помните, что мы всегда будем стоять на страже ваших интересов, Вера Владимировна!
Немного успокоенная его словами, Чеберяк вышла из кабинета прокурора.
Чаплинский незамедлительно написал рапорт на имя Щегловитова и специальным курьером отправил его в Петербург.
Прочитав рапорт Киевской судебной палаты, министр юстиции пришел к выводу, что некоторые лица в Киеве, не входящие в должностной аппарат департамента юстиции, сами по себе, по своей воле и инициативе, занимаются расследованием дела об убийстве Ющинского. То обстоятельство, что они пытаются докопаться до истины, к добру не приведет. Их поползновения следует решительно пресечь… На представителей прессы министр, конечно, не мог распространить свое влияние — он имел в виду прессу, где сотрудничает Бразуль-Брушковский и прочие шерлокхолмсы. Пресса, к сожалению, не находится в подчинении у Министерства юстиции. На Голубева из «Двуглавого орла» или на Замысловского из газеты «Русское знамя» и им подобных министру незачем нападать — это были его единомышленники, одних с ним убеждений. Что же касается, скажем, присяжного поверенного Марголина, которого евреи хотят сделать защитником Бейлиса, — то его министр вправе отстранить от дела. Но даже располагая такими фактами, какие сообщила Вера Чеберяк, это довольно рискованно. Подымется шум в «еврейской прессе», и, как обычно в таких случаях, добром это для Министерства юстиции не кончится… Министр уже подготовил приказ по Киевской судебной палате об исключении Марголина из состава адвокатуры, но, посоветовавшись в последний момент с кем-то сведущим, пришел к выводу, что действовать надо негласным путем — в канцеляриях ведомства юстиции не должно остаться никаких следов: он устно договорится с Чаплинским об устранении Марголина из адвокатуры, и тогда еврейский присяжный поверенный увидит защиту Бейлиса разве только во сне. Чаплинский не раз на деле доказывал свою готовность выполнить любое желание министра. Угодливый и изворотливый, он и на сей раз выполнит его волю.
Дождавшись ближайшего приезда Чаплинского в Петербург, Щегловитов вызвал своего подчиненного для разговора.
— А теперь, мой дорогой Георгий Гаврилович, перейдем к вашему киевскому адвокатишке с горбатым носом и голым черепом…
Прокурор ухмыльнулся:
— Догадываюсь, Иван Григорьевич, кого вы имеете в виду.
— Ну, кого?
— Марголина.
— Правильно. Помилуйте, Георгий Гаврилович, до каких же пор он будет держаться при вашей палате?
— Пока вы не сочтете нужным убрать его, Иван Григорьевич.
— Это не только мое желание, господин прокурор.
— Понимаю. Я понимаю… — Чаплинский вежливо склонил голову.
— Что вы понимаете? — переспросил министр.
— Иван Григорьевич, я всегда понимаю вас с первого слова.
— Так вот, желательно, чтобы этот адвокат исчез с нашего горизонта.
— Будет исполнено, ваше высокопревосходительство! И в самое ближайшее время.
Судьба адвокатской деятельности Марголина в Киеве была предрешена.
На дворе стоял солнечный майский день, который назло всему подлому миру киевских черносотенцев опустился на древний город и пронизал его лучами, наполнив радостью все живое. Одно было обидно: среди тысяч и десятков тысяч киевлян это же яркое солнце ласкало на равных правах и гостя из Петербурга — вице-директора первого департамента Министерства юстиции Александра Васильевича Лядова. Он прибыл из российской столицы утренним экспрессом, занял номер в первоклассном отеле «Континенталь». Побывав в парикмахерской и подкрутив усы, высокий чин протелефонировал в прокуратуру. Экипаж прибудет за ним к одиннадцати. Лядов тут же распорядился, чтобы к его приезду в прокуратуру был вызван профессор Киевского университета Святого Владимира Сикорский.
Профессор в это время был свободен от лекций и изъявил готовность прибыть в судебную палату в назначенное время.
Представитель министерства уже успел высказать прокурору Чаплинскому мнение — не только министра Щегловитова, но и, как выразился Лядов, еще более высоких инстанций — о том, что русский народ и вся Россия вообще весьма заинтересованы в подготовке «процесса XX века». Процесс необходимо провести на должной юридической и научной высоте. Пора наконец найти виновного в тех беззакониях, что творятся в нашей стране.
Прокурор Киевской судебной палаты безошибочно разгадал своего коллегу из Министерства юстиции. Пожелания Лядова, высказанные в сжатой, но выразительной форме, он принял к исполнению покорным наклоном головы.
Лядов, сияя белоснежным воротничком и безукоризненно повязанным ярким галстуком, остался доволен собой и своим собеседником.
— Его величество государь будет обрадован вашими действиями…
Петербургский сановник поинтересовался, придет ли профессор к назначенному времени. Прокурор не замедлил заверить его, что профессор Сикорский весьма пунктуален, отличается высокой моралью и вниманием к интересам России и ее патриотов.
— Да, конечно, — сказал Лядов. — Перед отъездом в Киев я тщательно ознакомился с делом Кондрата Малёванного — колесника одной из деревень Таращанского уезда Киевской губернии, организовавшего в 1891 году секту, названную его именем. По делу реформатора религии, руководителя секты Малеванного, Сикорский дал авторитетную экспертизу… Малёванцы утверждали, что «близится время полных перемен, что наступают новые времена, и Страшный суд свершится, и уже здесь, на земле, наступит царство истинного блаженства».
— Самое неприятное в этом деле то, — продолжал Лядов, — что малеванцы отказались работать у помещиков; они утверждали, что достаточно поработали на попов и что не хотят работать и на панов. Начальство, конечно, было обеспокоено такими умозаключениями и настроениями среди крестьянства, тревожила опасность возникновения бунтов, которые могли принять устрашающие формы и распространиться на ближайшие губернии. Пришлось обратиться к науке в лице психиатра Сикорского, дабы он высказал по сему предмету свое мнение. Профессор ознакомился с делом на месте и пришел к выводу, что создание секты малеванцев свидетельствует о массовом психозе.
В результате сего авторитетного заключения малеванцы были признаны преступниками, а руководитель секты, бедняк Малеванный, был отправлен «на лечение» в дом умалишенных в Киеве, а через некоторое время его переправили в психиатрическую клинику в Казани. После долгих лет заключения этого «реформатора» освободили, и то благодаря амнистии по делам религии.
— Понимаете, Георгий Гаврилович, — продолжал Лядов, — господин Сикорский в своей экспертизе обнаружил тогда у малеванцев кое-что интересное: они начали есть досыта, пить чай с сахаром, употребляли сахар и в чистом виде; у них возникла необходимость жить в сытости, выросла жажда удовольствий. Более обеспеченные малеванцы некоторым образом даже снабжали сладостями неимущих крестьян.
Здесь Лядов саркастически хохотнул, в свою очередь прокурор угодливо осклабился.
— Вот чего нашему русскому мужичку захотелось — сладкого чая!
— Но самое главное, ведь Иван Алексеевич Сикорский— наш ученый, — сказал Чаплинский.
— Да, да, — никак не мог успокоиться Лядов, — сладкий чай… Удивительно, что они не требовали лимонов к чаю…
Оба долго смеялись, пока секретарь не доложил, что прибыл господин Сикорский.
Служители Фемиды поднялись навстречу почтенному ученому.
— Профессор Иван Алексеевич Сикорский, — представил его Чаплинский. — Александр Васильевич Лядов, вице-директор первого департамента Министерства юстиции.
Лядов левой рукой поправил галстук и протянул руку.
— Очень приятно… — пробормотал он.
Внимательные холодные глаза профессора с синеватыми мешочками под ними уставились на вице-директора. Шире раздулись мясистые окрылки ноздрей, он словно пытался что-то разнюхать. Протянув большую волосатую руку, профессор сказал:
— Очень рад! — и плотно сомкнул губы.
Все трое сели к большому прокурорскому столу, обитому ярким зеленым сукном, отчего лицо Чаплинского показалось свежее обычного. Возле него уже стоял секретарь, поставивший на приставной столик бутылку токайского и три граненых бокала на серебряном подносе. Зная слабость профессора к этому сорту вина, прокурор поспешил наполнить бокалы. Зеленоватые глаза профессора оживились, сомкнутые губы раздвинулись в улыбке и обнажили два ряда безупречных искусственных зубов.
— По какому поводу пир, Георгий Гаврилович? — спросил профессор.
— Испытанное средство от сухости во рту, Иван Алексеевич.
Приезжий сановник молча усмехнулся.
Послышался легкий звон бокалов. Сикорскому прокурор наполнял бокал трижды, и профессор осушал его одним залпом, одобрительно покрякивая.
Когда профессорские глаза маслянисто заблестели, он отодвинул бокал.
— Больше нельзя. Затуманится голова… — И губы его снова плотно сомкнулись.
— Вы правы, Иван Алексеевич. Довольно, Итак, мы пригласили вас, чтобы передать личный привет от Ивана Григорьевича, — любезно сказал Лядов.
— От кого? — наморщив лоб, переспросил Сикорский.
— От министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова.
— Ах так, я не расслышал… Прошу прощения.
— Россия, — продолжал Лядов, — нынче накануне большого и важного события. Нужна ваша помощь.
— Моя помощь? — психиатр выдавил на своем лице подобие улыбки.
— Да, именно ваша… Видите ли, в прокуратуру поступили сведения, что убийство отрока Ющинского совершили… секта фанатиков-евреев, — Лядов взглянул на прокурора, склонившего голову в знак подтверждения этого факта.
— Секта фанатиков? — переспросил профессор. — Я что-то слыхал об этом изуверском убийстве. Секта, говорите?.. — Сикорский, возможно, вспомнил о своем заключении по делу Кондрата Малеванного и о протестах либеральной прессы против этой явно тенденциозной экспертизы. — Секта фанатиков, значит? — повторил профессор,
— Да, господин профессор. Своими глубокими знаниями и большим авторитетом вы однажды уже послужили интересам русского правительства… — Лядов угадывал скрытые мысли Сикорского. — Нам памятны слова ваши по поводу одичавших крестьян и их деяний в пылу религиозного экстаза…
Профессор состроил недовольную мину:
— А известно ли вам, господа, сколько грязи на меня вылили в некоторых кругах русского общества?
— Знаем и ценим ваше мужество, — ответил Лядов. — Георгий Гаврилович может подтвердить, что мы как раз вспоминали об этом до вашего прихода, Иван Алексеевич.
— Вспоминали? — удивился профессор. — О чем конкретно?
— О ваших заслугах перед наукой и, в особенности, о ваших заслугах перед русским народом и перед его правоверным правительством.
— Да, да, — согласился Сикорский и задумался. Прикусив верхнюю губу, он долго тер лоб. — Если в памяти вашей выплыла фанатичная секта сынов Якова, мне уже ясно, в чем здесь дело, господа. Тогда мне все ясно…
Петербургский сановник быстро поднялся с места, его примеру последовал и прокурор, давая этим понять профессору, что аудиенция окончена.
Глядя на них, Сикорский не спеша, сообразно возрасту и положению, поднялся и пожал руку сперва представителю министерства, а затем прокурору.
Чаплинский позвонил.
— Велите подать экипаж для господина профессора, — сказал он секретарю.
Сикорский вышел.
Лядов иронически усмехнулся и обменялся с Чаплинским быстрым взглядом.
На Подоле, где-то в закоулке, у самого берега Днепра, в покосившемся домике проживал в постоянной нужде жестянщик Липа Поделко из местечка Черняхов. Человек простой, он едва мог прочитать молитвы или разобрать что-либо написанное на родном еврейском языке. Но человек он был душевный, участливый, тихий и спокойный. Никто из соседей не припомнит, чтобы Липа когда-нибудь обидел кого-либо, на жену и детей никогда голоса не повышал. Одним словом, человек, как говорится, добронравный и смирный.
А руки у жестянщика — золотые. Из простой или оцинкованной жести он мастерил кружки, бидоны, чайники, противни разных размеров, ведра. И, кроме всего этого, он прекрасно выделывал водосточные трубы.
В молодости Липа был в своем местечке Черняхов только кровельщиком, а теперь, когда ему за пятьдесят, он, живя в большом городе, уже не занимался кровельным делом. Кому нужно, чтобы мастеровой в летах лазил на крыши четырех- или пятиэтажных домов — может ведь и беда случиться. Ноги уже и так подкашиваются, да и зрение ослабело. Уж лучше сидеть с утра до ночи у своего верстака и мастерить жестяную посуду для крестьян, приезжающих из ближайших деревень, и для мелких торговцев округи.
Рассказ о том, как Липа со своей семейкой попал в Киев, уже сам по себе занимателен. Один сын и одна дочь давно отошли от него, имели уже свои семьи, но еще две дочери жили при нем. А от дочери, умершей после вторых родов, остался удивительных способностей мальчик, которого Липа оставил у себя. И вот мальчик оказался счастливым: богатый купец из Черняхова собирался повезти на контрактовую ярмарку в Киеве большую партию товара и взял с собой внука Липы — двенадцатилетнего Михеля, чтобы тот присматривал за товаром на ярмарке. Случилось так, что Михель пришелся по душе какому-то чиновнику, заключившему выгодный контракт с черняховским купцом, и тот устроил Михеля в одну из киевских гимназий. Мальчик, конечно, два года до того готовился к экзаменам. Купец снял для способного мальчика квартиру в Киеве, и с тех пор Михель стал киевлянином. А жестянщик Липа Поделко с семьей выехали к внуку-гимназисту, который был приписан к Липе как родной сын. Так пожилой жестянщик получил право проживать в самом Киеве.
Четыре года проживает Поделко с семьей в Киеве. Гимназист Михель вытянулся ростом, возмужал. Учился он в одном из старших классов, давал уроки и из своих заработков помогал постоянно нуждавшемуся дедушке.
Убийство Ющинского совсем недалеко от места жительства Липы Поделко, несомненно, привело в волнение жителей всего Подола. Длиннобородый жестянщик высоко поднимал густо разросшиеся седоватые брови и все допытывался у людей:
— Скажите на милость, поясните, люди добрые, неужели так и не известно, кто подлинный убийца несчастного мальчика?
И если не сразу ему отвечали, у Липы гневно раздувались ноздри и, пощипывая бороду, он твердил:
— Нет бога на свете, говорю я вам… Нет его, право, нет.
— Да что вы, Липа, как вам не совестно произносить такое… — выговаривали ему.
Липа стыдливо отворачивался и невнятно бормотал:
— Я, конечно, грешен в своих думах… Но коль скоро бог все это видит и молчит… Не знаю уж, что сказать… не знаю…
Так и не знал Липа, как и тысячи других в Киеве и во всей России, за что посадили Бейлиса.
Основным источником, откуда Липа черпал сведения об этом деле, являлся внук. Он-то и поставлял деду всяческие слухи, разносившиеся в стенах гимназии и вне их. Например: словно ангел, появился пристав Николай Красовский, напавший на след, а этот след ведет к «малине» Веры Чеберяк; или что следователь отказался танцевать под дудку прокурора Чаплинского. От таких слухов Липа Поделко оживал: в карих его глазах появлялся веселый огонек, освещавший все его изможденное лицо. В такие минуты Липа готов был каждого встречного приветствовать, выпить с ним по чарочке, закусив медовым пряником, и твердить, что вот все-таки есть бог на свете, и совесть есть у людей, и справедливость, и честность.
Но вот в последние несколько недель Михель ничего хорошего не говорил.
«А бедный Бейлис в одиночестве все еще сидит в тюрьме, отверженный, оторванный от жены и детей…» Эта мысль не покидала Липу Поделко.
Глаза свои, полные скорби, старый ремесленник не раз устремлял в потолок ветхой лачуги, а бледные губы шептали:
— Несчастный Менахем-Мендель Бейлис, всеми забытый…
Жена окликала его:
— Бог с тобою, Липа… Ты сегодня еще ничего в рот не брал.
Куда там, не до еды ему. Он теперь ведет разговор с разными людьми, со всем миром, с богом…
Сидя за верстаком, Липа Поделко яростно колотил по жести своим деревянным молотом, гулкий звон разносился далеко, а в руках появлялись ведро для воды, кружка, бидон. Звон этот обрывался только тогда, когда Липа задумывался.
Однажды Поделко неожиданно вызвали в полицейский участок. Для чего? Ради кого? Когда за ним пришли, дома никого не было, и Липа решил никому об этом не рассказывать, даже жене. «Узнаю раньше сам, зачем я им понадобился, а там посмотрим», — думал он.
В полицейском участке у Липы проверили паспорт и право на проживание в Киеве. Все оказалось в полном порядке.
— Поделко, — обратился к нему начальник, — вам что-нибудь известно о вашей тетушке в Америке?
— О тетушке?
— Да, о тетушке.
— Как звать ее, тетку эту? — спросил Липа.
— Нам хочется, чтобы вы сами сказали, как звали вашу тетку.
Поделко растерялся. Логика подсказывала, что никакого подвоха тут нет, никакая опасность не грозит ему. Подумав, он вспомнил, что когда-то из Черняхова уехала сестра отца — Бейла-Рохл.
— А что, моя тетка Бейла-Рохл умерла? — всполошился он.
— Бейла-Рохл звали ее? — переспросил начальник, заглядывая в какую-то бумагу.
— Да, говорю же я вам — Бейла-Рохл…
— Верно. Бейла-Рохля. А фамилия ее как? — поинтересовался начальник.
— Фамилия? Такая же, как моя, как моего отца, — Поделко.
— А как фамилия ее мужа?
— Мне кажется, она никогда замуж не выходила, — твердо ответил Липа.
— Значит, Поделко, Бейла-Рохля…
— Да, ваше благородие, господин пристав. Поделко. Бейла-Рохл.
Пристав поднялся с места, заложив руки за спину, прошелся по комнате, долго молчал, затем пробормотал под нос:
— Так-так, господин Поделко… — Он улыбался. — Вы — жестянщик, сбиваете жестяные банки?.. Так хватит с вас ведер, кружек, господин Поделко. Что уставились на меня? Вы становитесь Бродским, Ротшильдом, господин Поделко…
«Чего ему от меня нужно, этому приставу? — недоумевал Липа, борода у него задрожала. — Не издевается ли надо мной чиновник?..»
В то же мгновение пристав схватил жестянщика за руку.
— Поздравляю вас, господин Липа Борисович Поделко, с большим наследством, — торжественно произнес он, пожимая ему руку.
Липе, конечно, хотелось спросить, сколько, сколько же оставили ему в наследство, но постеснялся. Наследство, знал он, найденное богатство, да еще такое далекое…
— А знаете ли вы, сколько денег…
— Да, сколько? — нетерпеливо перебил его Поделко.
— Десять тысяч рублей! Целое состояние! Вы — Бродский! — не своим голосом воскликнул пристав.
— Десять тысяч… — едва повторил ошарашенный жестянщик.
…Липа стоял посреди улицы, не зная, что с ним творится. Осенний ветер трепал щеки, сбивал бороду. В одно мгновение он разбогател! Никому, никому он не расскажет, даже жене, даже Михелю, никому. А почему? Действительно, почему? Что он сделает с таким богатством? Помогать беднякам! Сколько кругом ветхих домишек с растерзанными крышами и горбатыми стенами, с покосившимися окошками. И ветер с Днепра насквозь их продувает. А разве плохо быть благодетелем? Хорошо, очень хорошо… Да, да, никому из своих он не расскажет о десяти тысячах, но с кем бы ему все-таки посоветоваться?.. Так, так, он придумал… Тот человек, с кем он надумал посоветоваться, согласится с ним. Все же нужно сначала самому хорошо все обдумать… Всю ночь он сегодня будет думать, думать…
Дома жена возилась по хозяйству, внук готовил уроки, другие дети — две взрослые дочери — делали свои дела: одна шила, другая гладила. Липа поужинал и, почти ни на кого не глянув, погрузился в свои раздумья.
А думал он вот о чем: Мендель Бейлис томится в тюрьме, бедствует без всякой помощи. Жалко его… Он ведь страдает не за свои грехи. А какие у него грехи? Что за грехи? И за что ему тюрьма? Мендель Бейлис сидит в тюрьме за всех евреев России. Да, да. Это сущая правда.
Какой-то неясный еще план рождался в голове этого простодушного ремесленника. Мысли путались. Теперь уже Липа понимал, что для достижения цели требуются жертвы. Ему, Липе Поделко, нужно стать первой жертвой. Так оно и будет… Наследство, правда, могло бы всю его семью поставить на ноги, как сказал пристав, «хватит с вас звона жести, сопровождающего всю вашу жизнь». Хватит с него, бедняка, согбенной поясницы; какая у него покалеченная жизнь! А какую благотворительность он смог бы развить! Сколько света и надежд пришло бы в его бедняцкий дом! А как ожила бы его старушка, прозябающая в постоянной нужде. «Что ты, Липа, дашь мне на субботу?..» — тоскливо сверлит ее скорбный голос. Никогда бы не гасли радость и свет в его доме! Даже в будний день скатертью был бы накрыт не только обеденный стол, но и кухонный шкафчик…
Но нет, он будет ждать, как все евреи ожидают, светлых празднеств с приходом Мессии. Ждали ведь столько, так подождет еще! Зато жестянщик Липа, жестянщик из поколения в поколение, ремесленник испокон веков, спасет безвинно страдающего несчастного человека.
Нужно только найти адвоката Марголина, говорят, что тот что-то предпринимает для спасения Менахем-Менделя Бейлиса. Вот с ним он и посоветуется…
Отягощенный размышлениями, Липа рано поднялся, умылся и произнес утреннюю молитву. Молча перекусив и никому ничего не сказав, он направился к присяжному поверенному. Как же узнать адрес этого адвоката? Липа как-то слышал, что Марголин будто бы проживает по Кузнечной улице, но не знал, в каком доме. Что ж, он будет ходить из дома в дом, пока кто-нибудь не укажет ему точный адрес.
Уже на Кузнечной Липу осенила мысль: надо обратиться к полицейскому, стоящему на посту, и осведомиться у него.
Высокий, длинноусый полицейский смерил подошедшего ремесленника суровым взглядом. Очевидно, одежда его не пришлась по душе строгому блюстителю порядка. У Липы замерло сердце.
— Что тебе нужно от господина адвоката? — спросил наконец городовой. — Почему молчишь, господин еврей? — спросил он, все еще рассматривая Липу.
— Нужен мне этот господин Марголин.
— Для чего?
— Я должен получить наследство… вот и хочу узнать…
— Вот как! — Полицейский разгладил длинные усы и с удовлетворением улыбнулся. — Наследство… А большое наследство?
«Его собачье дело», — подумал жестянщик, но не отвечать вовсе было нельзя.
— Видите ли, ваше благородие, — замялся Поделко, — я получаю наследство от моего отца.
— Так вот я и спрашиваю — большое ли наследство?
Липа промолчал.
— Пойдем, укажу тебе, где проживает господин Марголин. Гляди, видишь вон тот дом на углу, куда повернул трамвай? Да смотри, куда тебе указывают, а то таращишь свои гляделки не в ту сторону. Вон там, где бакалейная лавка.
— Вижу, ваше благородие. Благодарю вас.
Служанка сперва не хотела впускать жестянщика: «Господин Марголин занят, адвокат сегодня не принимает. Скажите, кто вы и по какому поводу пришли».
Такая встреча перепутала мысли и планы старика. Подумать только: он все подготовил, даже первую фразу при встрече с адвокатом продумал, так вот тебе такая напасть — служанка преградила ему путь.
— Прошу вас сказать господину Марголину, что мне необходимо повидать его.
— Кто вы и как вас звать?
— Как меня звать? — Липа задумался.
— А что, нет у вас имени? — рассмеялась служанка.
После небольшой паузы она смилостивилась и направилась в комнаты, но вдруг остановилась и вполоборота спросила:
— Как же мне сказать Арнольду Давидовичу, кто хочет повидаться с ним?
— Как сказать? Скажите — еврей, простой ремесленник… — Никак ей не понять, что сказать хозяину, кто все-таки хочет повидать его. — Скажите, пожалуйста, ремесленник с Подола пришел, по важному делу, по очень важному делу.
— Обождите минуточку. — И она захлопнула за собой дверь.
Минуты ожидания показались Липе долгими. Наконец распахнулась дверь и служанка впустила его.
Сняв свое пальтишко, Поделко обтрусил потертый пиджачок и брюки, словно они были чем-то испачканы.
— Вы хотели меня видеть? — спросил хозяин квартиры.
— Да, хотел… — Липа увидел перед собой человека средних лет с круглым, гладко выбритым лицом, с лысиной почти до затылка.
— Почему так смотрите, разве знаете меня? — спросил Марголин.
— Нет, никогда не видал, слышал только о вас, много слышал, господин Марголин.
— Очень приятно. Садитесь. Какое у вас дело?
— Я хотел бы просить, чтоб выслушали меня.
— Садитесь, пожалуйста.
Поделко сел, не сводя глаз с портрета на стене.
— Вам понравился портрет? — спросил Марголин. — А знаете, кто это?
— Знаю. Виленский гаон[6], — выпалил жестянщик.
— Нет, это барон Гинзбург[7].
Адвокату стало понятно, что его посетитель не знает, о ком идет речь.
— Вы никогда не слышали о нем? Это великий благодетель, он много жертвует.
— Понимаю, он жертвует для нуждающихся, — обрадовался Поделко. — Очень хорошо, что есть среди евреев такие люди.
— О чем же вы хотели со мной говорить?
— Я уже говорил о своем желании — чтобы вы выслушали меня, господин…
— Меня зовут Арон.
— А по отцу?
— Давидович.
— Очень хорошо. Меня зовут Липа, а отца Борух.
— Так что же вы хотели сказать, реб Липа Борухович?
— Поговаривают, что вы заступаетесь за Бейлиса, что вы его защитник…
— Пока, уважаемый, еще ничего не известно. Буду ли я защищать его, мне еще самому не известно. А если и буду, какое это имеет к вам отношение?
Пауза. Липа опять потерял все нити, не знал, как приступить к делу.
— Я, видите ли, получил большое наследство… Хорошо было бы эти деньги обернуть на спасение невиновного человека… Менахем-Менделя Бейлиса я имею в виду.
— Большое наследство? К примеру, сколько?
— Десять тысяч.
— О-го-го, целое состояние. — И после паузы: — Как же вы представляете себе, я имею в виду, каким образом думаете использовать эти деньги?
— Использовать их нужно с умом, с головой. В общем, как вы найдете нужным. Вы ведь опытнее меня в таких делах.
Адвокат беспокойно зашагал по комнате, тяжелой рукой поглаживая лысину. Наконец он остановился возле своего гостя.
— Все-таки как в вашем представлении можно использовать ваши… ваше наследство? — спросил Марголин.
— Как? Поставить лучших защитников Петербурга, всей России, откуда только хотите. Нужны адвокаты русские, люди порядочные и честные… — разгорячился Поделко.
— О, вы, безусловно, философ, реб Липа.
— Совсем не нужно быть философом, я думаю, это логично и просто, как ведро воды.
— Не так уж оно просто, как вы думаете.
Марголин задумался. Он подошел к столу, что-то записал в настольный блокнот, переспросил у посетителя его имя и фамилию, где он проживает в Киеве. Записав все это, адвокат сказал, что подумает, посоветуется с коллегами. Пусть Поделко вторично придет к нему недели этак через две. А если захочет, он может позвонить по телефону.
— Я не умею звонить по телефону, — не постеснялся признаться жестянщик, — уж лучше я сам… Ничего, не очень-то далеко с Подола сюда, на Кузнечную. Мои ноги легко понесут меня…
Окрыленный Липа вышел на улицу, не чувствуя земли под ногами. Он был счастлив, что нашел путь к использованию своего наследства; ему казалось, что свою долю в дело спасения невиновного человека он уже внес.
В истории российской адвокатуры совершенно особое место занимал присяжный поверенный Оскар Осипович Грузенберг. Этот адвокат в разное время успешно защищал Максима Горького, Владимира Короленко, Корнея Чуковского, Венгерова и других представителей русской литературы и журналистики. В 1906 году он даже стоял во главе защиты в процессе «Совета рабочих депутатов». Опыт и знание своего дела, проявленные им тогда, поразили даже специалистов-криминалистов и бывалых кассационистов. Но вершины своей популярности Грузенберг достиг в процессе Бейлиса.
После ареста Бейлиса Грузенберг вместе с киевским адвокатом Марголиным взял на себя его защиту. Но Марголина министр юстиции Щегловитов отстранил, а до Грузенберга никак руки не доходили.
Грузенберг понимал, что следует в срочном порядке заняться доскональным изучением вопроса о ритуальных убийствах, хорошо вооружиться против всех бесноватых безумцев типа Замысловского, Шмакова и иных последователей пресловутого Лютостанского. Благородный адвокат понимал также, что передовая интеллигенция — писатели, ученые, педагоги, художники, артисты — должны сказать свое веское слово, выступить против средневекового фанатизма, против лжи, на которой построено дело Бейлиса. Поэтому он обратился к Владимиру Короленко, взывая к его вмешательству и помощи, тем более что Короленко и так уже включился в круг протестовавших.
Адвокату стало известно, что среди художественной интеллигенции уже поговаривали о необходимости выступить со словом к русскому обществу, в котором осуждались бы те, кто разжигает расовую ненависть и призывает к погромам. В петербургских писательских кругах уже составили первый вариант воззвания к русскому обществу, но, ознакомившись с ним, Грузенберг нашел, что в нем недостает силы и огня, логики и красоты мысли, которые должны повлиять на разум и чувства читателя. То был только первый вариант воззвания, составленного писателями Чириковым и Арабажиным.
Короленко откликнулся на призыв Грузенберга своим появлением в квартире адвоката.
— Благо мы хоть иногда по телефону перебрасываемся словечком, а то, Оскар Осипович, я забыл бы ваш голос.
— У вас, Владимир Галактионович, такая память, что можно и другим пожелать не худшую.
Под зеленым абажуром ярко светила лампа на письменном столе, за которым в окружении многочисленных папок и бумаг сидел хозяин дома. Грузенберг тонкими пальцами снимал пенсне с носа, снова надевал и, глядя с уважением на Короленко, говорил:
— Вот это, Владимир Галактионович, проект воззвания к русскому обществу. Хотелось бы знать ваше мнение.
Прочитав только первые строки воззвания, напечатанного на пишущей машинке, Короленко недовольно пожал плечами. А дочитав до конца, молча протянул Грузенбергу бумагу.
— Мне понятно, Владимир Галактионович, что вы хотите сказать: такой документ удовлетворить не может. Здесь, во-первых, недостаточно разъяснена история ритуальных убийств и, во-вторых, документ составлен слишком сжато, местами коряво, мало аргументов.
Задумавшись, Короленко одной рукой теребил бороду, другой взял со стола лист бумаги и снова пробежал текст глазами.
— Согласен с вами, Оскар Осипович, здесь нет главного: не разоблачены те лица, которые заинтересованы в распространении фанатичного навета, злой легенды… Здесь, возможно, нужно упомянуть о Мултанском деле — о человеческих жертвах среди мултанских вотяков…
— Простите, Владимир Галактионович, но мне думается, что в этот документ не следует впутывать Мултанское дело, — перебил его Грузенберг.
— Представьте себе, Оскар Осипович, что в том процессе, о котором вам, безусловно, известно, и я принимал участие…
Грузенбергу было известно, что писатель тогда выступал защитником и много писал в прессе об этом процессе.
— Однако не следует путать тот процесс с предстоящим, — настаивал адвокат.
— Погодите минуточку, дорогой. Мне помнится, что обвинитель вотяков в своей речи заявил: «Как известно, евреи употребляют христианскую кровь для своей пасхальной мацы».
— Да, тот грубый фанатик — прокурор — мог разрешить себе так безответственно выразиться в своей речи, а в подобном документе, — Грузенберг ткнул пальцем в лист бумаги, — такое, по моему мнению, излишне.
— Возможно, возможно, Оскар Осипович, — соглашаясь, произнес писатель.
Грузенберг поднялся и стоя сказал:
— Я долго думал, советовался с коллегами — с видными юристами, — и мы пришли к выводу, что именно вы, Владимир Галактионович, должны написать текст такого воззвания к русскому обществу.
— А время, время-то где взять? На моих плечах теперь журнал «Русское богатство», другие члены редакции больны. Да и сам я едва на ногах держусь.
Неожиданно глаза Короленко хитро блеснули, и он улыбаясь сказал:
— Скажу вам по секрету: у меня дома уже лежит проект такого документа — воззвания к русскому обществу, но он меня пока не удовлетворяет…
— Подумать только… И вы, Владимир Галактионович, молчали…
— Потому что я должен еще хорошенько поработать над ним. Поэтому я и не захватил его с собой, хотя и предвидел, о чем у нас будет разговор.
— Великолепно! Владимир Галактионович, это наш долг, это и есть настоящий гуманизм…
— Не нужно громких слов, — Короленко недовольно поднял руку.
— Но это еще не все, любезный Владимир Галактионович…
— Еще что? — забеспокоился Короленко.
— Успокойтесь, я никогда не выступал в роли прокурора, ни-ког-да, — улыбнулся адвокат, быстро сняв и положив пенсне на бумагу. — Хорошо было бы, если б вы, Владимир Галактионович, включились также в защиту… на процессе.
— А силы-то где взять? Силенок нет, мой дорогой адвокат!
— Силы? — переспросил Грузенберг. — Их необходимо мобилизовать. Россия от вас требует этого.
— Только без пышных фраз, господин адвокат, очень прошу вас. — И после паузы: — «Россия требует»… Подумаю, — в конце концов сказал Короленко. — Напишу сперва воззвание, а о защите… еще подумаем. Не взваливайте на меня все сразу. — В глубоких глазах писателя блеснула улыбка: — Я ведь уже стар, друг мой, и очень устал…
— К кому ж обращаться, Владимир Галактионович? Был бы жив Лев Николаевич, возможно, и к нему бы обратились.
— Но живет на свете Максим Горький, — напомнил Короленко.
— Горький… Это верно. Но он теперь на Капри.
— О, у этого нижегородского мужика крепкие кости и ясная голова… — добавил Короленко.
— Конечно! И большое, доброе сердце… Но он болен и находится далеко от нас.
— Ничего, он приедет, если понадобится.
— Можете не сомневаться, Владимир Галактионович, что Горький один из первых поставит свою подпись под этим документом вместе со всеми нами. В этом никто не сомневается. А общественную защиту придется взять на себя вам, глубокоуважаемый Владимир Галактионович.
Грузенберг оделся и вместе с писателем вышел в холодную петербургскую ночь, чтобы проводить его домой.
На своем письменном столе Короленко увидел письмо от жены. Быстро прочитав его и отпив из стакана холодного чая, Короленко сел к столу и достал проект воззвания. Он предполагал только добавить несколько возникших у него мыслей, но перо безудержно бежало по бумаге, и вот что он написал:
«К РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ
(по поводу кровавого навета на евреев)
Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы подымаем голос против новой вспышки фанатизма и темной неправды.
Исстари идет вековечная борьба человечности, зовущей к свободе, равноправию и братству людей с проповедью рабства, вражды и разделения. И в наше время, как это бывало всегда, — те самые люди, которые стоят за бесправие собственного народа, всего настойчивее будят в нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав, готовые подавить их самыми суровыми мерами, — они льстят народным предрассудкам, раздувают суеверие и упорно зовут к насилиям над иноплеменными соотечественниками.
По поводу еще не расследованного убийства в Киеве мальчика Ющинского в народ опять кинута лживая сказка об употреблении евреями христианской крови. Это давно известный прием старого изуверства. В первые века после Рождества Христова языческие жрецы обвиняли христиан в том, будто они причащаются кровью и телом нарочно убиваемого языческого младенца. Так объяснили они таинство Евхаристии. Вот когда родилась эта темная и злая легенда!
Первая кровь, которая пролилась из-за нее, по пристрастным приговорам римских судей и под ударами темной языческой толпы, — была кровь христиан. И первые опровергли ее отцы и учителя христианской церкви. „Стыдитесь, — писал святой мученик Иустин в обращении своем к римскому сенату, — стыдитесь приписывать такие преступления людям, которые к ним не причастны, перестаньте! Образумьтесь!“»
Остановив бегущее перо и перечитав написанное, Короленко сделал паузу, отпил еще чая и писал далее:
«…Теперь лживость молвы, обвинявшей первых христиан, ясна, как день. Но, изобретенная ненавистью, подхваченная темным невежеством, — нелепая выдумка не умерла. Она стала орудием вражды и раздора даже в среде самих христиан. Доходило до того, что в некоторых местах католическое большинство кидало такое же обвинение в лютеран, большинство лютеран клеймило им католиков.
Но всего более страдало от этой выдумки еврейское племя, рассеянное среди других народов. Вызванные ею погромы проложили кровавый след в темной истории средних веков………
…Указы тлеют в архивах, а суеверия живучи. И вот снова уже с трибуны Государственной думы распускают старую ложь, угрожающую насилием и погромами. В этой лжи звучит та самая злоба, которая некогда кидала темную языческую толпу на первых последователей христианского учения. Еще недавно в Китае та же сказка об употреблении детской крови, пущенная китайскими жрецами против миссионеров, стоила жизни сотням местных христиан и европейцев. Всегда за нею следовали самые темные и преступные страсти, всегда они стремились ослепить и затуманить толпу и извратить правосудие. И всегда с нею боролось чувство любви и правды. Не к одному римскому сенату были обращены слова христианского писателя, мученика Иустина, который в свое время боролся с тем же суеверием. „Стыдитесь приписывать такие преступления людям, которые к тому не причастны“.
Мы присоединим свои голоса к голосу христианского писателя Иустина, звучащему из глубины веков призывом к любви и разуму.
Бойтесь сеющих ложь! Не верьте мрачной неправде, которая уже много раз обагрялась кровью, убивала одних, других покрывала грехом и позором…»
Уснул Короленко поздно. Корректура ближайшего номера журнала «Русское богатство» осталась на завтра.
На следующий день Грузенберг посетил Короленко на дому. Ознакомившись с текстом воззвания, адвокат пришел в восторг.
— Владимир Галактионович, история никогда вас не забудет! — вырвалось у него.
Теперь Короленко не остановил его обычным «без громких фраз», только поинтересовался, каким образом можно поскорее переслать текст Горькому.
— Для этого существует телеграф, — ответил Грузенберг. — Можете быть спокойны.
И пошло воззвание по рукам лучшей части русской интеллигенции того времени. Свои подписи поставили писатели Владимир Короленко, Сергеев-Ценский, Алексей Толстой, Леонид Андреев, Максим Горький, Александр Блок, профессор Туган-Барановский, профессор Бодуэн де Куртенэ, академик Овсянико-Куликовский, члены Государственного совета М. М. Ковалевский и А. Васильев, академик Вернадский и еще многие другие, протестовавшие против средневековья и защищавшие честь русского народа.
Воспоминания, воспоминания…
Не спеша шагает по киевским улицам петербургский присяжный поверенный Оскар Осипович Грузенберг. Еще учеником Четвертой киевской гимназии он любил тихую улицу, ведущую к Липкам. Здесь он медленно поднимался вверх, насыщая взор светлым зимним пейзажем. Строгие ряды деревьев в белом одеянии по обеим сторонам, как и тогда, стоят перед его глазами. Поглубже на Липках все больше купеческих особняков. Еще дальше — небольшие одноэтажные домики, манившие к себе внешней строгостью и видимым внутренним уютом, принадлежали профессорам киевских высших учебных заведений.
Известный теперь адвокат помнил, что в его гимназические годы в доме отца все было высчитано до копейки, царила сдержанность и скромность. Стоило кому-нибудь из членов семьи только заикнуться о состоятельности знакомых или соседей, и отец немедленно сурово прерывал такие разговоры, даже штрафовал за завистливые речи. Да, будущий адвокат прошел хорошую школу воспитания, ему помнятся поучения о необходимости довольствоваться тем, что есть, что дано жизнью.
Воспоминания, воспоминания…
Получив в ноябре 1911 года из Киева телеграмму от некоторых организаций с предложением взять на себя защиту Бейлиса, Грузенберг не заставил себя долго ждать — он немедленно приехал, чтобы на месте ознакомиться с делом и с людьми. Ему представилась возможность поближе сойтись с адвокатом Марголиным, который поведал ему о предложении Веры Чеберяк: она, дескать, согласна взять на себя обвинение в убийстве мальчика, но хочет за это сорок тысяч рублей.
Вначале Грузенбергу показалось, что это предложение следует продумать, так или иначе она ведь настоящая виновница. Но, хорошенько поразмыслив, он пришел к выводу, что вся затея — чистая провокация и к добру не приведет. Ее предложение может, как бумеранг, нанести обратный удар. Разочаровал он не только Марголина, но и журналиста Бразуль-Брушковского, горячего сторонника предложения Веры Чеберяк.
— Это авантюра, — убеждал Грузенберг. Умные и проницательные глаза под сверкающими стеклами пенсне сердились. — Не ее это фантазия, кто-то из своры Чаплинского все подстроил…
— Но предложение это можно рассматривать как шахматную комбинацию, — возражал Марголин.
— Эффектную, ловкую, но не обоснованную. Морфи забраковал бы ее, — улыбался Грузенберг.
— Наоборот, это как раз комбинация для Морфи, — настаивал Марголин. Ему, киевскому адвокату, было безразлично, каким путем достигнуть цели, только бы поскорее освободить Бейлиса.
— Как вам известно, вопрос теперь стоит не только о Бейлисе, — пояснил Грузенберг. — Дело в сохранении достоинства и покоя целого народа, поэтому нужно продумать каждый шаг. Я, естественно, не могу запретить вашим киевским общественникам действовать теми путями, какими они думают достигнуть успеха в этом несчастном деле. Но я как адвокат не пошел бы на это, принимая во внимание действия темных сил, вооруженных страшным оружием… Я бы запретил комбинацию с Верой Чеберяк…
Несколько позже Грузенбергу рассказали о Липе Поделко, который согласен отдать наследство, полагая, что со своими десятью тысячами он станет современным Мессией.
— В нашем народе были многие, — заметил Грузенберг, — принесшие себя в жертву, но о таком я еще не слышал. Мне думается, что будущие адвокаты Бейлиса не подумают о гонораре. Это дело чести, долга и настоящего гуманизма. Золя, принимавший участие в процессе Дрейфуса, не думал о вознаграждении. Даже разговоры об этом оскверняют святое дело защиты Бейлиса.
…Грузенберг долго расхаживал по Липкам, предаваясь волне воспоминаний. Давно он не был в Киеве, поэтому хотелось подольше посмотреть на город в зимнем наряде. Он знал, что этот город хорош даже в осенние плачущие дни, обаяние города сильно во все времена года. Петербургскому адвокату хотелось хоть немного отдохнуть здесь от столичного гама и суеты.
Лишь когда начал угасать дневной свет, стирая грани домов и сливая их, дома, в одну темную массу, когда исчезли тени, Грузенберг вспомнил, что договорился о встрече с местным адвокатом Григоровичем-Барским — прогрессивным и в высшей степени порядочным интеллигентом, которому прекрасно были известны проделки местных «союзников». Да, необходимо встретиться с ним и поговорить, это очень важно и полезно для предстоящего дела.
Встреча адвокатов произошла в доме Григоровича-Барского, проживающего недалеко от городской думы.
— Очень рад видеть вас у себя, Оскар Осипович! — встретил Грузенберга хозяин.
— Приветствую вас, Дмитрий Николаевич, в вашем доме.
В завязавшейся беседе Григорович-Барский рассказал о некоторых проделках студента Голубева и его своры, о добрых намерениях следователя Фененко в деле разоблачения подлинных преступников, а также о действиях Чаплинского. Перед Грузенбергом возникла яркая картина всего происходящего в Киеве в связи с делом Бейлиса.
— Не считаете ли вы, Оскар Осипович, что, если процесс действительно будет организован, следовало бы пригласить защитником также Николая Платоновича Карабчевского?
Грузенберг задумался: как лучше ответить на заданный вопрос?
— Я думаю, — заговорил он наконец, — если Чаплинский затянет дело подготовкой ложных показаний, чтобы оправдать ритуальную версию, тогда, несомненно, вызовутся защитниками не только Карабчевский, но и другие видные петербургские адвокаты. Зарудный уже разговаривал со мной об этом. Мне бы хотелось, чтобы вмешался Короленко, — для нас это было бы выигрышно, а для черносотенцев сильным ударом. О воззвании к русскому обществу вы, безусловно, уже слышали. Оно скоро появится во многих либеральных газетах.
И Грузенберг рассказал о своих последних встречах с Короленко.
— Мне думается, что на Мултанском процессе Владимир Галактионович исчерпал себя. К тому же он много занят литературными делами, — отозвался Григорович-Барский.
— Верно. Редакция «Русского богатства» занимает все его время. Сам Короленко жаловался мне на это. Кроме того, он хворает последнее время, не молод уже… — добавил Грузенберг.
На столе весело распевал небольшой тульский самоварчик, своим шипением внесший в теплую атмосферу дома еще больше уюта.
— А знаете, Дмитрий Николаевич, — неожиданно заговорил Грузенберг, — когда я еще был студентом юридического факультета и мечтал о своей будущей адвокатуре, я уже тогда думал, что необходимо научиться оперировать железным хлыстом закона, уметь хлестать им председателя суда, если он забудет об объективности, высечь также прокурора, собственного удовольствия ради уничтожающего свою жертву. И еще одно: знаете, что толкнуло меня на путь защитника? Однажды, еще в бытность студентом, возле нашей квартиры в доме Широкого на Крещатике, я приметил зимой оборванного старика с посиневшим от холода лицом и покрасневшими глазами. Я забрал его к нам в дом, и он рассказал мне о своей страшной судьбе. Понимаете, произошла судебная ошибка. Молодой ревностный прокурорчик осудил его за то, что он, желая жениться на любимой девушке не своего ранга, украл у родного отца пятьдесят рублей. Вы слышите — у родного отца пятьдесят рублей! Какое преступление против морали и семейного приличия! Он провел десять лет на каторге за нарушение закона о морали. Ужасно! Как писал Лев Николаевич Толстой — «бог видит правду, да не скоро скажет». Я запомнил эту ужасную историю. Если вы забыли ее, я вам напомню.
— Помню, как же, Оскар Осипович.
— Так вот тогда я решил вооружиться знаниями, чтобы железным хлыстом закона безжалостно хлестать продажных председателей суда и двуликих прокуроров. Будьте уверены, такие еще не перевелись и в наше время.
Чаплинский торжествовал. Ему казалось, все уже готово, чтобы в судебной палате провести утверждение обвинительного акта против Менделя Бейлиса и поставить его перед судом. Особенно имея такого свидетеля, как Козаченко, и такого эксперта, как профессор Сикорский. Правда, следователь Фененко начал колебаться в своих убеждениях по поводу виновности Бейлиса. Но с ним уже справились — он фактически отстранен. Не в нем дело, он не более как пешка в этой игре. Важно протащить обвинительный акт в судебной палате. Необходимо только доказать, что следствие закончено, и можно считать Бейлиса виновным. Потом все пойдет по законным рельсам, окончательный удар по Бейлису будет нанесен на самом суде.
Да, следует поспешить, ведь неугомонный журналист Бразуль-Брушковский и пристав Красовский поднимают шум по поводу их нового открытия: они настаивают на том, что в убийстве виновна Чеберячка, а это и повлияло на следователя Фененко. Он испугался. А кого испугался? Чаплинский никак не поймет: перед кем он струсил?
Но и сам Чаплинский тоже опасался, что пресса поднимет шум по поводу заявления Бразуль-Брушковского. Прокурору известно, что у сенсаций сильные и быстрые крылья, а что уж говорить о подобного рода сенсации: воры, «малина», женщина с цыганскими глазами и цыганской хваткой. Черт бы побрал этих журналистов, сующих свои носы куда не следует! Таков Бразуль, таков и тот Гвоздев, выманивший у него интервью.
Собственно говоря, думает прокурор, если уж очень понадобится, можно прибегнуть к старому испытанному средству: негодных снять с весов — и точка… Нужно только намекнуть Голубеву с его парнями — и муха не чихнет. «Хотя… — горячий прокурор сам прервал свои размышления, — действовать нужно крайне осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Носы у журналистов гораздо острее, чем у наших шпиков…»
И тут уж совсем разыгралась прокурорская фантазия! Он уже видел грандиозный процесс, на скамье подсудимых — еврей с черной бородой, — персонаж, на котором он и надеется сделать карьеру. Разве его интересует Бейлис? Весь этот народ следовало бы посадить на скамью подсудимых! Он, Чаплинский, выполняет теперь волю министра Щегловитова, Маркова-второго, Пуришкевича, волю «союзников» и… коронованного монарха. В ушах прокурора звучит царское магическое слово «действуйте», и действия прокурора становятся более энергичными…
Сообщение к заседанию судебной палаты на 20 января готовил Куровский Василий Павлозич. Все будет юридически обоснованно. Сообщение прозвучало более веско, если б его взял на себя Леонтий Иванович Шишов, тот сделал бы это по-научному, так сказать, но он чего-то мнется, Шишов. Чем он недоволен? Нужно бы покопаться в его душе, он, возможно, заражен либеральными идеями. Взял бы Шишов на себя сообщение, тогда полтавский отшельник, кудрявый Владимир Короленко со своими коллегами — Горьким, Андреевым и, как их там звать, либеральными профессорами, могли бы писать свои воззвания к русскому обществу. И сколько б они ни писали и ни трубили в еврейских газетах «Речь», «Киевская мысль», все равно ничего бы не получилось. Да мы всех их опередим и отдадим Бейлиса под суд! А на самом процессе можно будет так повернуть дело, что все эти воззвания к русскому обществу останутся лишь ничтожными бумажками. Подумаешь! «Русское общество»… Несколько писак и два-три сморщенных старых либерала, из которых уже песок сыплется…
Где-то какой-то журналист грозился, будто вскоре будут опубликованы разоблачающие документы, которые повергнут Чаплинского. Докажут, дескать, что Георгий Гаврилович происходит от Чаплинского, воевавшего против Богдана Хмельницкого, которому Россия воздвигла памятник, да как раз у того помещения, где будет происходить процесс, да будто он, Чаплинский, от своего прадеда унаследовал склонность ко лжи. Правдой здесь является лишь тот факт, что он, католик, принял православие и близок к правым организациям. Все остальное выдумано. Сам Чаплинский впервые об этом слышит.
Не является ли это проделкой репортеришки из «Киевской мысли»? О, как она докучает, эта газета! Тот — Гвоздев — интриган, тоже оттуда… Ох уж эти продажные души!..
Целый год прокурор неустанно плетет сеть, и наконец его труды, кажется, оправдались: обвинительный акт составлен. Искусно сфальсифицированная судебно-медицинская экспертиза, свидетельские показания фонарщика, Веры Чеберяк и, главным образом, показания Козаченко. Они сыграли немаловажную роль!
В честь этого Чаплинский купил в лучшем ювелирном магазине дорогую брошь для жены. Пусть не будет она в претензии на судебные дела, из-за которых муж забывает о ней. Достав из жилетного кармана брошь, он залюбовался ею. Что скажет жена об этом подарке и как заблестят ее теплые, добрые глаза! «Обо мне часто говорят, — подумал Чаплинский, — что у меня холодные глаза и жестокое, злое сердце. Зато бог дал мне жену, обладающую искренним сердцем и теплыми, добрыми глазами. Судьба сама исправляет свои ошибки, дарует человеку то, чего ему не хватает…»
В судебной палате все были уже в сборе, ожидали только председателя.
— Что хорошего, Леонтий Иванович? — спросил Буковский. — Ваш сынок, говорят, бунтует студентов в университете?
Шишов вынул табакерку из кармана, ухватил, как обычно, двумя пальцами щепотку табака и поднес к ноздрям. Уже водворив табакерку обратно в карман, он исподлобья взглянул на Буковского и с той же интонацией спросил:
— А что у вас нового? Как приживалки? Уехали уже домой в Вятскую губернию или надолго присосались к вам, Василий Павлович?
— Представьте, присосались, словно пиявки, — ответил Куровский, уткнув лицо в бумаги, в беспорядке лежавшие перед ним на столе.
Члены палаты с нетерпением поглядывали на часы. Два раза уже приносили чай, снова оставались пустыми стаканы с ложечками на блюдцах.
Но вот в дверях показался тайный советник Мейснер. Он, очевидно, не совсем здоров — его неизменно свежевыбритое лицо кажется теперь усталым. Бледная желтизна скрывается в основном в складках по обе стороны носа, а небольшие спокойно-строгие глазки потускнели.
— Как самочувствие, Александр Александрович? — первым подошел к нему Буковский.
— Благодарю, Василий Павлович, — Мейснер подал ему руку. — Вас, Феофил Филатович, — обратился председатель к совсем седому члену судебной палаты, в руках которого дрожала газета «Киевлянин», — можно уже поздравить с правнуком?
— Что? — подставил ухо полуглухой старик. — Что сказал уважаемый Александр Александрович?
— Можно ли вас поздравить с правнуком? — поспешил повторить вопрос Буковский. — Александр Александрович очень интересуется.
— Чувствую себя сносно.
— Вы уже прадед? — раздался чей-то более строгий голос.
— Да, да. Уже три дня.
Вмиг все девять членов Киевской судебной палаты выстроились в ряд и один за другим пожимали руку Феофила Филатовича. На лице прадеда засветились два безжизненных глаза. Старик бесконечно кланялся.
В кабинет стремительно вошел Чаплинский. Быстро подойдя к своему месту, он, разгладив усы, объяснил, почему заставил членов судебной палаты ожидать почти полчаса… Сейчас они узнают новость, полученную из Министерства юстиции…
— Господа, история, аналогичная нашей с Ющинским, произошла в Одессе, и даже не накануне иудейской Пасхи. Что творится на нашей Руси!.. — Чаплинский схватился за голову.
Эффект был не таким, какого ожидал прокурор. Большинство членов судебной палаты равнодушно выслушало его сообщение. Лишь на лице Буковского можно было заметить оттенок сожаления. Седовласый Феофил Филатович поинтересовался, о чем идет речь, и с удивлением спросил:
— А почему, Георгий Гаврилович, об этом ничего нет в газете «Новое время»?
Послышался смех.
— И быть не может. Журналисты, очевидно, не разузнали еще об этой истории, — ответил Чаплинский.
— О-го-го, — рассмеялся старец, — журналисты узнают все всегда раньше полиции.
— Ошибаетесь, Феофил Филатович, — вмешался Буковский.
Грозный голос председателя палаты перебил его:
— Прошу господ членов судебной палаты освободить стол от лишних бумаг, не имеющих отношения к делу, которое мы будем сейчас обсуждать.
Газета возле Феофила Филатовича мгновенно исчезла.
— Александр Александрович, — обратился прокурор к председателю, — пока мы еще не приступили к делу, у меня небольшое замечание.
Председатель улыбнулся:
— Мы еще ни о чем не говорили, а у вас уже замечание! Не совсем в вашем стиле, Георгий Гаврилович.
— Необычность вопроса вынуждает меня на сей раз сделать необходимое замечание. На вас, уважаемые коллеги, возлагает большие надежды русское население всего западного края, — Чаплинский повернулся в сторону Шишова. — Мне памятно, как уважаемый Леонтий Иванович при первой нашей встрече удачно выразился, дескать, найденная правда всегда возвышает как русский народ, так и престол… Вся Россия в ожидании этого процесса, который должен стать процессом двадцатого столетия…
С места поднялся Каменцев — человек с мягким, бархатным голосом — и позволил себе перебить прокурора.
— Мне непонятно, — сказал он, — почему Георгий Гаврилович нарушает закон…
— Александр Александрович, — Буковский пытался что-то сказать, но его остановил строгий взгляд Шишова, и он замолчал.
— Петр Дементьевич, несомненно, прав, — согласился Чаплинский, — не по закону прокурору иметь вступительное слово на таких заседаниях. Но, уважаемые господа, дело это исключительной важности, завершения его ждут с нетерпением во всей России, ждут справедливого его разрешения.
— Выслушаем раньше отчет, а затем уж и разберемся, — вставил Шишов, обеими руками разглаживая бороду.
— Безусловно, дорогие коллеги, — отозвался наконец председатель. — Итак, Василий Иванович, вам слово.
Буковский зачитал приготовленный обвинительный акт, которому предстояло сыграть должную роль в предстоящем процессе.
Шишов, презрительно сощурившись, глядел на оратора и думал: «И как не стыдно ему в этот солнечный, ясный день — ложь пронизывает каждое его слово! Даже голос его фальшив. И никакого юридического обоснования! Хотя в его плохой актерской игре все же чувствуется хорошая режиссура Чаплинского».
Едва только Буковский закончил свой доклад, председатель предложил высказываться.
Феофил Филатович задал несколько ничтожных вопросов — велика ли семья у Бейлиса, сколько лет старшему ребенку. Большинство членов палаты молчало. Поглядывая на членов палаты, Шишов подумал: «Все они являют собой неслаженный оркестр, издающий фальшивые звуки, а сами музыканты — безжизненные существа. И капельмейстер Мейснер не справляется со своими функциями, вместо него оркестром руководит прокурор Чаплинский, стремящийся всех забрать под свою прокурорскую мантию…»
Нет, он, Шишов, не полезет под его прокурорскую красную мантию, она цвета крови…
Чтобы вывести себя из тяжелого душевного состояния, Шишов тычет в ноздри табак и задумывается. Тут он слышит, что Мейснер предлагает ему высказать свое мнение.
Поднявшись, Шишов взял обвинительный акт и начал ясно и четко:
— В оглашенном обвинительном акте отсутствуют необходимые доказательства, согласно которым можно было бы, как гласит закон, предать человека суду. Их нет! Это бессодержательный документ…
— Вы забыли, милостивый государь, кому служите и для кого служите, — услышал он раздраженный голос Чаплинского.
— Спокойно, господа! — попросил председатель. Веки у него задергались чаще и быстрее.
— Я никогда не забываю о моем долге, Георгий Гаврилович, — ответил Шишов, понизив тон, и положил на стол обвинительный акт.
Послышался стук хлопнувшей двери: то Чаплинский вышел в соседнюю комнату.
— Леонтий Иванович, пожалейте себя и вашу уважаемую супругу, — шепнул Буковский, — одумайтесь…
Шишов отвернулся от Буковского и обратился к членам судебной палаты:
— Я уверен, что вы не осудите невинного человека…
Шишов вернулся на свое место, ему казалось, будто в ушах звенит голос его Настеньки: «Правильно, папа, правильно поступаешь. Совесть и справедливость…»
Вернулся Чаплинский и с порога спросил у председателя:
— Вы уже проголосовали? Я специально вышел, чтобы не подумали, что я оказываю давление на членов палаты.
У прокурора не было уверенности, что рыцари богини Фемиды захотят осрамить его. Зато он был уверен, что рыцари Киевской судебной палаты останутся верными слугами щегловитовского Министерства юстиции.
Что касается богини Фемиды, то другие боги недаром завязали ей глаза — чтобы не видела, каких рыцарей она себе выбирает. Они должны нести огонь справедливости в своих сердцах и не сгореть, не погибнуть…
На том январском заседании Киевской судебной палаты прокурор Чаплинский настоял на своем, и Фемида была посрамлена…
Домик на территории кирпичного завода Зайцева, в котором проживал Бейлис с семьей, спрятался под снежным покровом.
В то утро все вокруг домика спало, спали также и его обитатели. Мела поземка, мелкий снежок сеялся словно сквозь редкое сито, наслаиваясь на землю и на высокую крышу. У входной двери — набухший бугор мерзлого снега.
На стук в окно никто не отозвался, словно все в доме вымерли. Так показалось двум людям, тенями проскользнувшим мимо окна.
Что привело сюда, к заброшенному домику, рабочих завода Гретер-Криванек — Петра Костенко и Тимку Вайса? Ведь при одном упоминании о нем людей охватывает дрожь. После ареста Бейлиса дорога сюда забыта. Его жена и дети какое-то время боялись ночевать дома — им казалось, что снова ворвутся жандармы и полицейские и, как в ту страшную ночь, их всех потащат в тюрьму. И никто не сможет заступиться за них, вырвать из тюремных стен, где до сих пор томится Мендель Бейлис.
Старшего сына-первенца Эстер отправила к своим родным на Демиевку[8], а сама с четырьмя младшими детьми ютилась в осиротевшем доме. Услышав стук в окно, все, как по команде, проснулись.
— Мама, давно уже день, а мы еще спим, — сказал, вздрогнув, Довидл.
— Кто-то стучит в окно, — проговорила, прислушиваясь, мать.
— Тебе показалось, — постарался успокоить мать мальчик, а сам побледнел от страха.
Две худенькие девочки с узкими личиками и туго заплетенными косичками и семилетний большеглазый мальчик тоже напряженно прислушивались.
— Действительно стучат, мама, — чуть слышно проговорила одна из девочек.
Эстер боится открывать. Знаками показала детям, чтобы они замолчали, мол, нужно лежать не шевелясь.
— Спите, спите, дети, еще рано и очень холодно, — шептала она.
— Давно уже наступил день, — повторил Довидл.
— Замолчи, Додик, прошу тебя, — прошептала одна из сестренок.
Повторный стук заставил детей встрепенуться.
— Мама, кто-то стучит в дверь! — закричали они.
Эстер устремилась к дверям в сенях, но, ничего подозрительного не услышав, вернулась к испуганным детям.
— Это, видно, ветер шумит, метель ведь вон какая! — сказала она, успокаивая детей. — Лучше растоплю печь, поставлю варить суп. Да, дети?
— Мама, не в дверь, а в окно стучат…
Сквозь заиндевевшие стекла Эстер разглядела две тени.
— Кто бы это мог быть в такую рань? — пробормотала она про себя.
— Боюсь… — запищала девочка.
— Замолчи ты! — прикрикнул на сестренку Додик, Он, бывалый, смелый, всегда командует на правах старшего младшими.
Пинька — третий по счету ребенок Бейлиса, — с большими, широко раскрытыми глазами, заулыбался, а вслед за ним повеселели и девочки.
— Нечего бояться, мама, открой им. Может, весточка какая от отца, — сказал Додик.
— Действительно, может, весточка… — подхватил Пинька.
Эстер набралась смелости.
— Кто там? — спросила она.
— Откройте, мадам Бейлис, — услышала в ответ.
— А что вам от нас нужно? Кто вы такие?
— Люди, не бойтесь нас.
— «Люди»… А кто знает, что за люди. Что вам нужно?
— Откройте, пожалуйста, и мы вам скажем… Не бойтесь.
Услышав спокойный голос, она, все еще колеблясь, вопросительно поглядывала на детей.
— Открой, мама, — решительно сказал Додик, взяв ее за руку.
Словно почувствовав опору, она быстро направилась в сени, отодвинула запор.
Вместе с влетевшими снежинками порог переступили двое в рабочей одежде.
Прижавшись друг к другу, девочки смотрели на незваных гостей, а Пинька не сводил глаз с сестричек.
Додик положил руку на плечо матери и смело глядел на вошедших.
— Кто вы? — спросила Эстер.
Костенко подмигнул Тимке — пусть скажет он.
— Не бойтесь нас… Кто мы такие — спрашиваете. Рабочие с завода Гретер-Криванер, слышали, наверно, о таком заводе. А это мой товарищ, очень порядочный человек.
— Христианин?.. — Эстер посмотрела на улыбающегося Костенко.
Тот понял, что речь идет о нем.
— Да, да, не бойтесь, ничего плохого мы вам не сделаем, — добродушно сказал Костенко, по-прежнему подмигивая Тимке, чтобы тот продолжал разговаривать.
Эстер переводила взгляд с одного рабочего на другого, словно хотела убедиться в искренности пришедших к ней людей. Наконец, высвободив руки из-под фартука, вытерла одну табуретку, затем другую и предложила:
— Садитесь, пожалуйста, садитесь.
— Спасибо, мы можем и постоять, — улыбнулся Тимка.
— Мадам Бейлис, — обратился к Эстер Костенко. — Мы пришли к вам от имени целого коллектива. Вы, возможно, читали в газетах, что ученые, артисты, писатели — словом, большая часть прогрессивной интеллигенции защищают вашего мужа. Поэтому вы должны крепиться, и все будет хорошо. Тимка, расскажи ты поподробнее, — обратился он к своему другу, — тебя она лучше поймет.
— Мадам Бейлис и тебя хорошо понимает. Правда? — И к Додику: — Как зовут твою мать?
— Эстер! — хором ответили дети.
— Вы должны быть мужественны, Эстер. Мы не оставим вас в беде, — подбадривал женщину Тимка.
А тем временем Костенко подошел к кровати и быстро сунул что-то под одеяло.
Додик заметил это, но промолчал.
— Вы не скажете мне, когда отпустят моего Менделя? — со слезами на глазах спросила Эстер у Вайса.
— Скоро, очень скоро, — старался успокоить ее Тимка.
— А судить его будут?
— Думаю, что нет. Впрочем… Трудно сказать, — ответил Вайс.
— А что вы хотите, молодые люди, от меня? — поинтересовалась Эстер.
— Мы… мы… там под одеяло кое-что положили… Передали рабочие, от чистого сердца. Просили не падать духом. Крепитесь, — не зная, чем еще утешить женщину, бормотал Костенко. — Честные люди с вами…
— Премного вам благодарна за сочувствие.
— А соседи вас обижают? — спросил Тимка.
— Нет, они нас не трогают, но все равно страшно вам это должно быть понятно.
Исстрадавшейся женщине захотелось высказать все то, что давно наболело. Она рассказала, как в прошлом году ввалились к ним в дом жандармы и полицейские, как начали шарить и перетряхивать все в доме, искать в каждом углу, а потом увели Менделя.
Дети прислушивались к словам матери и с надеждой поглядывали на рабочих.
— Не нужно плакать, госпожа Бейлис, не следует унывать. Вашего мужа освободят.
— Хорошо, если б ваши слова сбылись…
— Мы еще зайдем к вам, — добродушно сказал Костенко.
У самого порога обе девочки забрались на руки к Костенко и к Вайсу, словно им тоже хотелось покинуть заброшенный, одинокий домик на заводском дворе.
— Слезайте! — прикрикнул на них Додик. — Глянь, как пристроились…
Девочки спустились на пол. Рабочие попрощались и ушли.
Уже в который раз Яков Ратнер кладет в почтовые ящики на дверях разных домов сложенные листы бумаги — и каждый раз, прежде чем опустить эти листы, оглядывается по сторонам. Он очень осторожно выполняет порученное ему дело.
Теперь Яков стоит у обитой темно-коричневым дерматином двери профессора Сикорского. Здесь нет ящика для писем и газет, нет даже простого отверстия. Студент постоял у двери в раздумье: «Как бы сделать, чтобы эта бумага попала в руки уважаемого профессора?»
На дверях дощечка с надписью: «Профессор Иван Алексеевич Сикорский. Прием три раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам». Указаны и часы приема. Сколько же осталось до начала приема? Ратнер вынул из брючного карманчика часы — ага, пятнадцать минут. Великолепно!
Надвинув на лоб студенческую фуражку и подняв воротник шинели, он медленно спустился со второго этажа и вышел на заснеженную улицу.
В памяти возникли строгие буквы, из которых складывались сильные слова, а из слов — логично аргументированные фразы воззвания «К русскому обществу». Многие газеты, напечатавшие воззвание, сразу были раскуплены. Но, независимо от этого, Ратнер и его друзья отпечатали на шапирографе десятки экземпляров воззвания и распространяли среди видных судебных работников, среди чиновников различных государственных учреждений, учителей, профессуры киевских высших учебных заведений и вообще среди интеллигенции.
Яков Ратнер взял на себя эту обязанность. Он добивался, чтобы воззвание попало ко всем, кто мог приложить руку к утверждению страшного, кровавого догмата — к реакционно настроенной части населения. В университете, например, он снабдил воззванием голубевских орлят, даже сам Владимир Голубев нашел экземпляр в кармане своей шинели. Сначала рассердился, стал ругаться, но потом из любопытства прочитал и забегал по коридорам университета, размахивая воззванием как знаменем. Очень уж хотелось ему узнать — кто с таким пафосом написал воззвание в защиту евреев…
Когда в одном из университетских коридоров вокруг Голубева собралась свора его приверженцев и он уже в который раз вопрошал: «Кто распространяет эту крамолу?», один из его крикунов неожиданно сказал:
— Владимир Степанович, для нас гораздо важнее узнать, кто составил эту бумажку.
— Да, да, — пробормотал Голубев, — кто занимается составлением таких безобразных прокламаций, хотел бы я знать…
— Хотите узнать кто? — спросил из толпы незнакомый голос. — Короленко Владимир Галактионович!
— Какой Короленко?..
…Ратнер шагал по морозной улице. Взглянул на часы. Пора. Уважаемый профессор готов начать свой прием.
И вот Ратнер у его дверей. Позвонил. Дверь открыла почтенная женщина в белоснежном чепце.
— Войдите, — пригласила она.
— Будьте любезны, передайте это письмо профессору.
— Проходите, Иван Алексеевич у себя в кабинете.
Вложив конверт в руку женщины и повторив свою просьбу, Ратнер повернулся и ушел. Теперь ему нужно доставить воззвание члену судебной палаты, о котором в городе говорят, будто он колеблется в своем мнении относительно виновности Бейлиса.
Медленно опускаются сумерки. Тяжелые тени покрывают улицы. С громоздких снежных шапок на крышах домов ветром сдувает отдельные снежинки. Колдовски поблескивая в свете электрических фонарей, они залетают Ратнеру за воротник. Вздрагивая, он стряхивает снежинки, вытирает влажный воротник, неприятно пристающий к шее.
Вот и дом на Фундуклеевской. Справа на дверях небольшая блестящая медная табличка, на ней выгравировано: «Василий Павлович Буковский». «Ага, здесь», — подумал Ратнер. Он позвонит и передаст конверт в руки тому, кто откроет дверь.
Студент не мог предположить, что дверь откроет сам хозяин.
— О, господин студент? — удивился Буковский. — Письмо? Весьма благодарен. Подождите… Мы с вами никогда не встречались?
— Нет, Василий Павлович, никогда.
— А вы меня знаете?
— Нет, не знаю.
— От кого письмо? — Вопрос прозвучал весело и бодро. — Зайдите, господин студент. Сегодня у меня праздник.
Ратнер не знал, как быть… Впрочем, чего ему бояться?
— Внучка моя замуж вышла. Не здесь — в Вятской губернии, — продолжал Буковский. — Только что принесли телеграмму. Да входите же, не заставляйте себя упрашивать.
Буковский недоуменно повертел конверт, все поглядывая то на студента, уже переступившего порог, то на послание. В конце концов он сунул конверт в карман.
— Не стесняйтесь, снимите шинель и входите. Степанида! — крикнул Буковский в одну из дверей. — Подай стакан чая гостю, стакан чая в честь свадьбы моей Верочки.
Ратнер не заметил, как очутился в скромно обставленной комнате, где было много стульев и кресел в полотняных чехлах. На пузатом буфете выставлено много фотографий. Одну из них Буковский показал студенту.
— Это моя Верочка. Садитесь, садитесь, господин студент. Степанида! — снова крикнул он в темноту коридора. — Где же стакан чая, чтобы согреть душу? Правда, здесь прохладно. Если б знали, господин студент, сколько у меня нахлебников, приживалок… А вот наконец и чай. Садитесь, молодой человек, садитесь и рассказывайте, обучаетесь? Я закончил юридический факультет Петербургского университета, давно это было, даже забыл, в каком году… Пейте, пожалуйста, — Буковский придвинул розеточку с сахаром. — Здесь, конечно, должно быть варенье, но Степанида ленива. Пейте, пожалуйста. Хотите, покажу вам еще одну фотографию своей внучки — это моя единственная внучка. Жена не дожила до сегодняшнего праздника… Когда вы, господин студент, доживете до моих лет, только тогда вы меня поймете… Правильно я говорю? Почему же не пьете чай?
Ратнер наконец помешал чай ложечкой и, отпив несколько глотков, отставил стакан.
— Горячий? — спросил Буковский.
— Нет. А вы, Василий Павлович, почему не пьете?
— Я люблю крутой кипяток.
Буковский вытащил из кармана конверт и не спеша раскрыл его. Прочел не более двух фраз, и краска гнева залила его лицо.
— Вы что, социал-демократ, молодой человек? — спросил он, сурово взглянув на студента.
— Почему вы так думаете?
— Тогда что ж это такое? — Буковский прочел: — «Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы подымаем голос протеста против новой вспышки фанатизма и темной неправды.
Исстари идет вековечная борьба человечности, зовущей к свободе, равноправию и братству людей, с проповедью рабства, вражды и разделения…» — Он прервал чтение и возбужденно заговорил: — Так что это, если не слова социалистов? А кто подписал? Ага… Короленко, Максим Горький, Леонид Андреев, граф Алексей Толстой, академик Овсянико-Куликовский, профессор Туган-Барановский, профессор Бодуэн де Куртенэ… Ну конечно — все социалисты. А вы, верно, социал-демократ… Заберите это, молодой человек…
Буковский сложил бумагу и сунул студенту в карман.
Ратнеру хотелось что-то сказать, но Буковский не дал ему заговорить:
— Запомните, господин студент: вы не были у меня дома. Идите! Не омрачайте мою радость. Степанида! — крикнул он в темный коридор. — Проводи господина студента! Запомните, молодой человек, мы с вами не виделись, я вас совсем не знаю…
…Буковский сердито захлопнул за ним дверь и запер ее на все замки.
Родители Якова Ратнера были крайне обеспокоены тем, что у сына — правда, не очень часто — собираются студенты. Особенно они возражали против одного, который, впрочем, не имел никакого отношения к университету.
— Скажи мне, сыночек, кто этот вихрастый блондин? — выпытывала мать.
— Какой вихрастый, мама? — недовольным тоном спросил Яков.
— Ну, тогда курносый… — пояснила мать, — у которого шапчонка как у мороженщика.
— Это рабочий, мама, порядочный и честный человек.
— Подумаешь, сама честность… Как он попал к тебе, что общего у него с тобой и твоими товарищами?
— Он мне дороже десяти студентов.
— Гляди, Яшенька, как бы не затянули тебя эти революционеры… вышлют ведь за тридевять земель…
— Мама, скажи прямо — чего ты хочешь от меня?
— Чего я хочу?.. Чего желает мать своим детям? — Второй подбородок у нее надулся, и она с гордостью произнесла: — Хочу, чтобы мои дети были порядочными людьми. А когда приводишь в дом такого человека, мне страшно: он может подвести тебя. Ты ходишь на студенческие сходки, и я не знаю, о чем вы там говорите… Но здесь я слышу, что ты кричишь громче всех, а тот с шапчонкой, как у мороженщика, водит тебя за нос. Скажи на милость, кто он у вас, почему говорит больше всех?
— Мама, пусть это тебя не занимает.
— Ну а девица кто такая?
— Курсистка, тоже студентка.
— Так… Папа говорит, что она дочь члена судебной палаты. Это правда?
— Мне, мама, неизвестно, кто ее отец.
— Кто же эта барышня, единственная среди такого множества кавалеров?
— Порядочная, очень порядочная. Со светлой головой…
— Тоже социалистка?.. Ах, сын мой, смотри, как бы не исключили тебя из университета.
— Не беспокойся, мама.
— Не помешало, если бы побеспокоился и отец этой курсистки, что приходит к тебе да все речи говорит. Не пойму, почему нужно столько говорить и часами спорить. Скажи мне, сыночек, разве от ваших разговоров изменится мир?
— Не знаю, мама, что тебе на это ответить.
— А тебе известно, что папу вчера опять звали в гимназию к инспектору, и все по поводу Нюмы?
— Опять что-то стряслось?
— Он читал гимназистам какое-то воззвание. Почему улыбаешься? Знаешь, о чем речь? Пожимаешь плечами… Улыбаешься — значит, знаешь, знаешь… А если пожимаешь плечами, выходит, ничего не знаешь? Притворяешься, Яшенька…
— Мама, меня там дожидаются!..
— Наверное, опять курсистка с вихрастым блондином!
— Почему называешь его вихрастым? У него гладкие волосы.
— Думаешь, я слепая. Хвала господу, еще не ослепла. Когда он горячится, его вихры спадают на лоб…
— Подсматриваешь, мама… Некрасиво!..
— Тебе, видишь ли, хочется приводить в дом курсистку и рабочих, а мне и не поглядеть на них! Я ведь мать! Я тоже хочу знать, что творится на белом свете. Думаешь, я не знаю о деле Бейлиса? Мне все известно. Знаю, что ни за что мучают несчастного человека, эта босячка — Вера Чеберяк — на свободе, хотя она и есть подлинная убийца Андрюши Ющинского.
— Ой, мама, ты, значит, настоящая всезнайка…
— Погоди, не торопись. Думаешь, не слыхала, как тот, рабочий твой… как он все толковал и доказывал, какое это счастье, что Короленко… он, верно, имел в виду писателя…
— Ты и это слышала, мама?! — перебил ее сын.
— А что, ушей, что ли, у меня нет?
— И что же еще ты слышала?
— Вы, значит, счастливы, что Короленко напечатал прокламацию, в которой говорится о невиновности евреев… И все петербургские газеты тоже напечатали эту прокламацию.
— Не только петербургские, и московские, киевские, одесские, харьковские… Во всей России напечатали.
В разных кругах русского общества далеко не одинаково было воспринято обращенное к нему воззвание. Вполне естественно, что пуришкевичи и голубевы сердились, из кожи вон лезли, желая принизить значение этого документа, призывавшего всех честных людей осудить кровавый навет. Черносотенцы в своих газетах «Русское знамя», «Новое время», «Земщина», «Двуглавый орел» и других им подобных осыпали злобными оскорблениями Владимира Короленко. Они скрежетали зубами, размахивали кулаками, стремясь уязвить русский народ, волю которого выполнял писатель. А Короленко спокойно жил в Полтаве на тихой улице и продолжал писать свои горячие статьи, которые как добрые посланники доходили до самых отдаленных уголков великой страны и будили в людях благороднейшие чувства.
Окрыленный воззванием к русскому обществу, Петр Костенко пришел к своим товарищам, собравшимся в клубе служащих контор и промышленных предприятий. Сюда затащили и двух молодых рабочих — Сергея и Николая, которые усомнились в правдивости агитации Голубева. Они слышали, как он и в церкви проповедовал вражду и ненависть к так называемым инородцам…
Теперь, после долгого перерыва, сюда, в клуб, пришел старый рабочий Федор Гусев. После того как Костенко открыл собрание, Гусев первым взял слово и рассказал, что лет десять назад в одном из сел полтавской губернии он имел счастье встретиться с Максимом Горьким. Горький тогда рассказывал о Владимире Короленко.
— Какой же это был рассказ, скажу я вам! — с восторгом рассказывал старый рабочий. — Горький прочитал тогда наизусть рассказ Короленко… кажется, «На реке»…
— Кого же вы лучше запомнили, — съязвил Сергей, — Горького или Короленко?
Гусев сник, в этом вопросе он почувствовал неуважение к себе. Укоризненно посмотрел на говорившего, немного помолчав, поднялся, подошел к молодому рабочему и, взяв его за плечи, сердито сказал:
— Послушай-ка, это ты тогда, на бревнах, агитировал против Голубева?
— Я, Федор Алексеевич, — покорно ответил Сережа.
Сердце старика смягчилось.
— Если хочешь быть человеком среди людей, ты должен понять, что нельзя спрашивать так зло.
— Не обижайтесь, я просто никогда не слышал эти фамилии. Кто этот Короленко и кто такой Горький?
— Писатели. Русские писатели! И оба они пишут о наших братьях — о крестьянах и простых рабочих людях.
— А писателей, — подхватил Костенко, — можно приравнять к натянутой струне на хорошей скрипке. Мы должны прислушиваться к чудесным звукам, к звукам, которые издают эти струны…
— Ага! А Голубев, значит, издает фальшивые звуки, так, что ли, Федор Алексеевич? — вставил свои соображения Николай, друг Сергея.
— Это не писательство, а изрыгания зажравшегося хулигана, — с еще большим возбуждением ответил Гусев.
— Повремените, Федор Алексеевич, — улыбаясь сказал Костенко, — какое-то непонятное сравнение вы привели. Что Голубев — хулиган, а его пропаганда словно паутина — это правда. Он — паук! Плетет и плетет паутину, потом убегает в безопасное место и выжидает, пока муха запутается в его паутине. Тогда паук спешит туда, набрасывается на свою несчастную жертву. Вы поняли, Сергей и Николай?
Молчание.
— Почему вы молчите? Не поняли? — переспросил Костенко.
— Понятно, — недовольным тоном ответил Сергей. — Выходит, мы с Николаем являемся мухами?
Улыбка удовлетворения озарила лицо Костенко.
— Твой Голубев и есть паук. Просто и правильно! — громко рассмеялся Гусев.
— Вот и хорошо, — обрадовался Костенко, — лучше и быть не может.
— А Короленко? А Горький — кто? — почти одновременно спросили Сергей и Николай.
— Дай мне, Петро, ответить… — И Гусев начал медленно разъяснять: — Они, эти писатели, — это как бы трансмиссии на главной машине. Видали, как трансмиссия гонит машину? А они передают свои мысли, нам — рабочим людям, мы же от этого хорошеем, добреем и умнеем. Правильно я пояснил, Петро? — выпрямился старик.
— А что с воззванием? — последовал очередной вопрос.
— С воззванием?.. Да, еще о воззвании надо сказать, — вспомнил Костенко. — Написал его Короленко, напечатали в некоторых газетах, разъяснили народу, какой вред приносят пуришкевичи и наши киевские голубевы, что нельзя одному человеку клеветать на другого…
Сергей неожиданно поднялся и подбежал к двери, чуть приоткрыв ее, тут же быстро захлопнул и тревожно проговорил:
— Петро, там стоит фараон…
Костенко побледнел.
— Один?
— Не знаю.
— Сейчас. — Костенко мигнул Тимке Вайсу: — Пойди ты, узнай, в чем дело.
Тимка надвинул фуражку глубже на лоб, быстро спустился по лестнице на первый этаж и через несколько минут вернулся.
— Там два фараона, — доложил он, — один в форме, а другой в пальто горохового цвета. Конечно, сыщик.
— Товарищи, — Костенко поднял руку, — мы разбираем рассказ писателя Короленко «На реке». Тише! — Из кармана он достал книжонку.
— Мне не хочется слушать короленковские истории, — закапризничал друг Сергея.
Гусев нахмурил брови и сердито взглянул на молодого рабочего:
— Так сиди и молчи, будь человеком среди людей.
Сергей потянул друга за рукав и энергично сказал:
— Не срами меня, Колька, а то подумают, что мы шпики.
— И пусть думают, — Николай отдернул руку. — Меня это не касается…
— А меня касается! — вскипел Сергей, его лицо зарделось. — Мы такие же пролетарии, как он, — указал на Тимку, — и как он, — ткнул пальцем в сторону Костенко.
Николай рассердился, вскочил и выбежал из клуба.
— Не обращайте на него внимания, он неплохой парень… — Сергей стыдливо поглядывал на присутствующих. — Он никому зла не сделает, я хорошо его знаю.
На пороге показался городовой в сопровождении филера.
— Внимательно читают, — пробормотал городовой. — А что читают? — Пройдясь по комнате, он нагнулся к Костенко, взял из его рук книжку и вслух прочел: — Владимир Короленко. Рассказы. Интересные истории? — спросил он, иронически улыбаясь.
— Да, — услышал в ответ. — Садитесь, и вы услышите доброе слово.
— Я уже обученный, — улыбнулся городовой. — Тебе оно необходимо?.. — спросил он Сергея. — Твоя пара сбежала, а ты остался.
— Да, ваше благородие, я остался. Мне интересно послушать.
— Интересно, ничего не скажешь… Так читайте, чего замолчали? А кто является декламатором?
— Я, — отозвался Гусев.
— Ты?.. — городовой выпучил глаза. — Больно ты стар для этого дела.
— Молод, ваше благородие, для этого еще молод! — пошутил Гусев.
— Ты свое уже отдекламировал, — подмигнув, сказал городовой. — Помню тебя…
— Хорошая у вас память, ваше благородие.
— Ге-ге, хорошая, Федор Гусев. В такой поздний час тебе бы уже дрыхнуть под боком у твоей старушки.
Молодежь прыснула.
— Не разлагайте их, ваше благородие, — отозвался Костенко.
— А тебе бы лучше помолчать, агитатор…
Петр положил книжку на стул.
— Садитесь, ваше благородие, — предложил Сергей.
— Гляди, чтоб тебя не посадили…
Сергей плотнее подвинулся к Костенко.
Внимательно заглядывая всем в глаза, филер прошелся по комнате. Он остановился возле Тимки, долго всматривался в его лицо, затем, повернувшись к городовому, сказал:
— Вот этот… чернявенький…
Все стихли. Городовой ближе подошел к Вайсу.
— Пойдешь с нами! — кивнул он в сторону Вайса.
— Никуда не пойду, — энергично ответил Вайс и нарочно начал снимать пальто.
— Одевайся, пойдешь с нами.
Тимка покрутил головой: нет, он не пойдет.
Костенко, Гусев и некоторые другие встали рядом с Тимкой. Напряжение нарастало.
— Почему хотите взять его, ваше благородие? — спросил молодой паренек с нежным, почти девичьим, раскрасневшимся лицом.
— Не твое дело…
Улучив момент, Тимка сорвался с места и в одно мгновение исчез за дверью.
Городовой и филер переглянулись. От злости толстые щеки филера надулись, он даже присвистнул: фью-у-у! Это могло означать: оба мы остались в дураках…
Кто-то рассмеялся.
Одураченные блюстители порядка удрученно оглядывали присутствующих и медленно пятились к выходу.
Рабочие сначала молча улыбались, но после их ухода разразились смехом.
— Товарищи, смейтесь потише, фараоны могут еще вернуться, — спокойно и сдержанно сказал Петр Костенко.
В этот зимний день в редакции «Киевской мысли» Исая Ходошева снова хвалили за его энергию и преданность интересам газеты и ее читателей.
После опубликования воззвания к русскому обществу в журнале «Русское богатство» и перепечатки его многими либеральными газетами видные деятели стали присоединять свои подписи к тем, кто сразу же подписался под воззванием. В московских, киевских, одесских и харьковских газетах появились письма с просьбой присоединить подписи к большим спискам протестующих против диких обвинений в адрес еврейского населения.
В газете «Киевская мысль» в отделе «Кто приехал и где остановился» Ходошев вычитал, что Коцюбинский, прибывший из Чернигова, остановился в гостинице «Россия». Ходошеву было известно, что писатель болен, что летом он был на Капри и посетил Горького. Он, нужно полагать, хоть немного подлечился на южном воздухе, значит, можно наведаться к нему утром и побеседовать, а возможно, и взять интервью — ведь недавно в Петербурге вышел сборник его произведений на русском языке.
Обычно Коцюбинский по утрам работал за письменным столом, но в это утро он даже и не собирался садиться к столу — ему необходимо было повидаться с профессором Стражеско, тот обещал сегодня же показать больного писателя профессору Образцову — своему учителю. Оба медика хорошо знали недуг Коцюбинского, все время наблюдали за ним. Поэтому писатель по приезде в Киев сразу же посетил профессора Стражеско на дому. Тот хоть и нашел улучшение в состоянии больного, все же счел нужным посоветоваться с Образцовым. По мнению Стражеско, Коцюбинскому лучше было бы провести тяжелый зимний период на божественном острове Капри. Именно об этом он и хотел посоветоваться со своим учителем.
Коцюбинский ожидал лошадей профессора Стражеско, которые должны были доставить его в клинику. Но тут раздался стук в двери и в номере появился разгоряченный Ходошев. Он предстал перед Коцюбинским в темно-синем костюме, белоснежной сорочке, на которой чернел изящный галстук.
— Доброе утро, Михаил Михайлович, — поклонился Ходошев.
— Приветствую вас. Садитесь, пожалуйста, — писатель подал руку пришедшему и указал на стул.
В это время сильный ветер распахнул форточку.
— Будьте любезны, молодой человек, прикройте форточку, — попросил Коцюбинский, натягивая на плечи клетчатый плед, перекинутый через спинку стула.
Газетчик придвинул к окну стул, взобрался на него и прикрыл форточку.
— Я немного простужен с дороги, — пояснил Коцюбинский, кутаясь в плед.
— На Капри теперь, безусловно, теплее, — улыбаясь заметил Ходошев.
— Да. Вскоре опять собираюсь туда, там Горький, а близ него всегда тепло, — ответил Коцюбинский. — Но представьте себе, что и там может иногда пригодиться плед, подаренный мне Алексеем Максимовичем. Садитесь, почему стоите?
— Я молод и здоров.
— Очень хорошо, что здоровы, но все-таки садитесь, прошу вас, если хотите о чем-то со мной побеседовать.
Взяв со стола свежий номер газеты «Киевская мысль», Ходошев представился:
— Я — сотрудник редакции этой газеты.
— Очень приятно. А я постоянный ее читатель. Кстати, вчера вечером меня встретил на вокзале знакомый журналист из редакции газеты «Рада» и обещал прийти сегодня утром, но…
— Так пока пришел я, Михаил Михайлович.
— Очень рад. Прошу прощения, как величать вас?
— Ходошев Исай Давидович. Может, я пришел слишком рано?
Писатель подумал, что Ходошев чувствует себя несколько скованно.
— Не стесняйтесь, Исай Давидович. Я ведь не министр или какой-нибудь государственный сановник, всего только литератор, да и то не из Петербурга, даже не из Москвы, а из Чернигова, из глубокой провинции.
— А я из провинциальной газеты, — заулыбался Ходошев и заметил на открытом лице Коцюбинского ироническую улыбку.
Писатель скинул плед с плеч и, словно вспомнив о чем-то, мягким движением погладил оголенный череп и скороговоркой произнес:
— Из провинциальной газеты… А мне известно, что Алексей Максимович с уважением относится к вашей газете. Он помнит, что у вас в редакции работают Войтоловский и Яблоновский…
— Простите, Михаил Михайлович, что перебиваю вас. В нашей газете сотрудничает Бразуль-Брушковский…
— Какой Бразуль-Брушковский?
— Очень благородный человек. Он частным образом занимается расследованием дела об убийстве Ющинского и намерен доказать, что убийство совершил не несчастный Мендель Бейлис, а банда воров в доме чиновницы Веры Чеберяк.
— Рассказывайте, рассказывайте, это интересно. Что-то об этом было в прессе, но хочется знать поподробнее. Кто же этот Бразуль-Брушковский?
— Не знаю — русский он или украинец, — начал Ходошев.
— Это неважно, лишь бы был порядочный и честный человек.
Газетчик красочно и живо рассказал Коцюбинскому то, что он сам узнал от Бразуль-Брушковского, рассказал и о том, как они вместе с Бразулем не раз ходили к приставу Красовскому. Со всеми подробностями он обрисовал «малину» на Лукьяновке.
Украинский писатель внимательно выслушал всю историю и наконец сказал:
— Погодите, погодите, у вас, мне кажется, работает также Всеволод Чаговец?
— У нас, Михаил Михайлович.
— Если не ошибаюсь, он по какому-то поводу обращался к Алексею Максимовичу, — припоминал писатель.
— Весьма возможно, но я об этом не знаю, — пожал плечами Ходошев.
Коцюбинский внимательно посмотрел на своего гостя, а затем тихо спросил:
— Так что же привело вас ко мне в такую метель?
— Что меня привело к вам?.. — задумавшись, переспросил Ходошев. — Вы, Михаил Михайлович, конечно, читали в «Русском богатстве» и в других передовых изданиях воззвание к русскому обществу…
— Знаю, знаю об этом, — перебил его Коцюбинский, — и читал, конечно. Я одобряю воззвание и готов его подписать. — Коцюбинский на миг задумался и продолжал: — Я, безусловно, пожелал бы, чтобы там было написано «и к украинскому обществу»… Понимаете, дело происходит в Киеве, на Украине, но… по сути, это ничего не меняет.
Обдумывая слова писателя, Ходошев, заложив руки за спину, прошелся по комнате, взволнованно сказал:
— Мне понятно, о чем вы говорите, Михаил Михайлович. Народ численностью в тридцать миллионов принято считать «инородцами», как и нас.
— Как вас? — Коцюбинский поднял добрые, внимательные глаза.
— Да. Как вам известно, мы — евреи — причислены к «инородцам» в русской империи…
— Ах да, — улыбнулся писатель, разглаживая концы своих подкрученных усов. — Понял, понял. Вы должны знать, что не только я один подпишусь под воззванием, — я об этом уже думал. Присоединятся и такие мастера сцены, как Мария Константиновна Заньковецкая, Микола Карпович Садовский, Тобилевич. И друзья их не отстанут.
— Блестящая мысль! — обрадовался Ходошев. — Где, по-вашему, теперь играет труппа?
— Где они находятся, хотите знать? Минуточку… Как мне известно, они теперь гастролируют в Петербурге, вся труппа там.
— В Петербурге?.. — как бы про себя произнес газетчик. — Далековато от нас.
— Будь я на вашем месте и в ваших летах, меня бы это не остановило. Разве до Петербурга далеко? Поезд за двое суток доставит вас… Но не забывайте, что речь идет о Заньковецкой! Она, возможно, так обременена театральными делами, что, может, и не знает об этой мерзости, о навете. — Коцюбинский дружески положил руку на плечо Ходошева и сердечно добавил: — Послушайте меня, поезжайте к нашей Заньковецкой, она будет очень рада, что не забыли о ней. А может, она уже и выполнила свой долг?.. Возможно, не знаю…
Ходошев был настолько увлечен подсказанной ему мыслью, что даже не расслышал последних слов Коцюбинского. Попрощавшись, он устремился к выходу.
— Молодой человек, — остановил его писатель, — вы забыли свои заметки.
Ходошев смутился. Взяв из рук Коцюбинского свой блокнот, он бегом направился в редакцию, на Фундуклеевскую улицу. В тот же вечер он уехал в Петербург, полный надежд на встречу со знаменитой украинской актрисой.
На одном из нелегальных собраний социал-демократов студент Яков Ратнер впервые встретился с Настей Шишовой, установившей к тому времени связи со многими товарищами из рабочих кругов. Первая их беседа не была дружеской.
— Вы курсистка?
— Курсистка.
— Петербургская?
— Почему вы думаете, что петербургская? — усмехнулась Настя.
— По одеянию вашему вижу, по тому, как причесываете волосы.
— Была петербургская.
— А теперь?
— Киевская.
— Давно?
— Не так уж давно.
Наблюдая за Настей, Яков заметил ее смущение. Очевидно, она сомневается: рассказывать дальше или нет. А сам при этом подумал: я бы с первым встречным не откровенничал.
— Мне необходимо было поступить на Высшие женские курсы.
Он глянул на нее с укоризной — будет ли она и дальше так откровенна?
— Если б не авторитет моего отца, не приняли бы меня.
— Почему же?
— Почему, спрашиваете? Потому, что мой отец служит в местной судебной палате.
Последовала пауза. Подняв глаза на студента, она заметила, что лицо его как бы потемнело.
— С мнением моего отца здесь очень считаются. — И хотя студент недовольно отвернулся, она все же продолжала: — Да будет вам известно, что некоторые чиновники добиваются знакомства с ним.
— Как звать вашего отца?
— Леонтий Иванович Шишов.
— Шишов?.. Знаю.
— Вы знаете его?
— Нет. Лично не знаю.
— А как же?
Тут Ратнер неожиданно строго заговорил:
— Мне кажется, что вы слишком легко при первой же встрече откровенно и подробно рассказываете о своей семье.
Настя покраснела и сразу не знала, что и ответить; потом поняла: в чем-то студент несомненно прав. Спросила, глядя ему прямо в глаза:
— Что вы хотите этим сказать, господин студент?
— То, что сказал: нельзя вот так сразу выкладывать все сведения о себе.
О, удачное знакомство, нечего сказать, подумала Настя. Этот чернявый низкорослый студент довольно невежливо обошелся с нею. Но в какой-то степени он прав… Поэтому она прикусила губу и смолчала.
— Я думаю, Шишова, вы обиделись на меня, — сказал Яков, пытаясь поймать ее взгляд, устремленный теперь вниз. Ему видны были только светлые вздрагивающие ресницы. — Вы не слушаете?
— Слушаю, господин Ратнер.
— Для вас я, безусловно, не господин, а товарищ…
Такой была первая встреча Якова Ратнера с Анастасией Шишовой. Это было несколько месяцев назад…
Эту встречу с Ратнером Настя запомнила надолго. Сама не зная почему, она упомянула о ней в беседе с Костенко. Петр согласился, что Ратнер прав; как говорится, корчма открыта для всех, а сердце должно быть замкнуто. Осторожность для людей, стремящихся перевернуть старый мир и построить новый, очень важна.
В другой раз Ратнер подсел к Насте, чтобы выяснить ее отношения с братом, студентом университета, но не знал, как подступиться к этому вопросу. Он пробовал завести разговор о семье, но на этот раз Настя отмалчивалась — очевидно, приняла во внимание его замечание при первой встрече. Наконец Яков вплотную подвинулся к курсистке и, наклонившись, шепнул прямо в ухо:
— Анатолий Шишов, студент университета, ваш брат?
— Да, — Настя покраснела.
— Так… — нахмурился Ратнер. — Ваш брат, этот…
Девушка не дала ему договорить:
— Хоть он и мой брат, но ко мне никакого отношения не имеет.
— Он ваш родной брат?
— Родной. Но ведь я не отвечаю за его действия.
— Понимаю, — кивнул Яков, как бы сочувствуя Насте. И все же добавил: — Как же у вас такой братишка?
— «Как же»? — улыбнулась Настя. — По Библии, в утробе матери находились и Каин, и Авель…
— Находились, да, находились, — прошептал Яков.
— История знает много таких случаев.
— Допускаю мысль, что вы так же далеки от вашего брата, как Авель от Каина, — Яков улыбнулся добродушно и дружески. — Правильно я думаю о вас, Настя?
Она опустила глаза, ничего не ответила.
— Почему не отвечаете?
— И так понятно.
Она поглядывает на жесткие волосы Якова, и ей кажется, что теперь они гораздо гуще, что их угольно-черный блеск переходит в темно-синий цвет.
Они вместе вышли на осенне-дождливый простор с нависшими тяжелыми облаками. Неожиданно путь им преградила шумная ватага студентов, и среди них — Анатолий.
— Господа! — воскликнул он. — Будьте свидетелями: моя сестра гуляет с горбоносым иудеем…
Настя стала перед Ратнером, словно пытаясь защитить его от толпы студентов. Но Анатолий грубо оттолкнул ее.
— Дай посмотреть на твоего рыцаря! — кричал он. — Совсем не ожидал встретить тебя с этим… — он явно подыскивал какое-нибудь злое слово, чтобы бросить его Ратнеру.
Настя быстро схватила Ратнера за руку и оттянула его от этой компании.
— О нет, — вопил Анатолий, — ты уж подожди немного, не увертывайся. Расскажи моим друзьям, каким образом ты попала сюда с этим социал-демократом.
Настя даже не взглянула в сторону брата. Изо всех сил ухватила Ратнера за плечо, и оба они стремительно зашагали вперед. Вдогонку им полетели слова полупьяного Анатолия:
— Проклятая изменница!
Вихрем влетел в дом Яша Ратнер.
— Где Нюма? — почти крикнул он.
Возле него сразу очутилась мать.
— А что, Яшенька, разве снова?
— Где Нюма, спрашиваю!
— Мало ли что спрашиваешь! Зачем так горячишься? Он скоро придет… Иосиф, Иосиф! — позвала Клара Осиповна своего супруга.
Зубной врач высунул из кабинета голову в белой шапочке.
— Глянь-ка, Иосиф, что с Яшей…
— Что случилось? Что тебя так взволновало? — Отец в беспокойстве сжал руку старшего сына.
— Да, мы тоже должны знать, — кивает головой испуганно притихшая Клара Осиповна. — Что это творится с нашими детьми, господи боже мой! Все идет вверх дном!
Яков выхватил из кармана сложенную газету, развернул ее.
— Вот вам! Здесь подробно описана вся история убийства Ющинского. Прочтите! Каков этот Бразуль-Брушковский, сущий Пинкертон!
— Как я могу теперь читать, когда там сидит пациент? — отец указал на дверь кабинета. — Расскажи вкратце, о чем здесь говорится.
— Да, да, расскажи нам — о чем?
— Где Нюма? Мне нужен Нюма! — Яша глазами шарил по углам комнаты, словно брат спрятался где-то.
— Приспичило ему… «Нюма»! Зачем он тебе нужен? — недовольно тараторила мать. — Ты пока нам расскажи, что пишут в газете.
— Здесь все сущая правда, о том, как в притоне Веры Чеберяк зарезали Ющинского.
— А что же будет с Бейлисом? — спросил отец. — В таком случае его ведь должны немедленно отпустить.
— Его таки освободят, а что вы думаете! Но не сразу, не мгновенно… — И студент выбежал из дома.
— Яша! — Мать бросилась за ним на лестницу. — Яшенька, куда ты побежал? Нюма ведь скоро придет! — кричала она сыну вслед. Не догнала его, про себя прошептала: — Пустое, ненормальные у меня дети, — и закрыла входную дверь. — Опять, верно, побежал на сходку, — сообщила она мужу, все еще не пришедшему в себя от вести, принесенной Яшей. — Тебя ведь ждут…
— Завтра у меня будет тот, из судебной палаты, тогда узнаю всю правду. Он расскажет мне, — успокоил ее муж и скрылся за дверью кабинета.
«Так он тебе и скажет…» — подумала жена.
Леонтий Иванович действительно рассказал о статье Бразуль-Брушковского, напечатанной в газете «Киевская мысль» 31 мая 1913 года, но не в кабинете зубного врача.
В киевских судебных кругах не читали такие либеральные газеты, как «Киевская мысль», к тому же некоторым казались эти газеты провинциальными, читаемыми только разночинной интеллигенцией, в основном мещанством. В судебных кругах ценили столичную, петербургскую, прессу — «Биржевые ведомости», в крайнем случае московские «Русские ведомости». Большинство даже считало признаком хорошего тона заглядывать в газеты, пропитанные монархистскими, черносотенными идеями. Поэтому читали «Новое время» Суворина, газету, известную своей пропагандой ненависти к революционерам и инородцам, и особенно своими неприкрытыми человеконенавистническими выступлениями против евреев.
Из киевских газет довольно популярен был «Киевлянин». Словно выпавшим в разгаре лета снегом стала появившаяся в этой газете статья, на один день опередившая статью Бразуля в «Киевской мысли». В ней сообщалось, что ученик Софийского духовного училища Андрей Ющинский был убит в «малине» Чеберяк.
В день, когда были опубликованы разоблачения Бразуля-Брушковского, в судебную палату, запыхавшись, вбежал студент Голубев и громко постучал в дверь кабинета Чаплинского. Не застав прокурора, он бросился к соседней двери и, попирая элементарные правила вежливости, распахнул ее и ввалился в кабинет.
— Где Чаплинский, господа?
Василий Павлович Буковский поднялся со своего места и не спеша подошел к двери, открыл ее и указал на следующую дверь в коридоре:
— Вот здесь, господин студент.
— Тот кабинет закрыт, — грубо бросил Голубев, — Чаплинского там нет.
— Так что вам от нас нужно? — поинтересовался Шишов.
— Чтобы сказали, где прокурор судебной палаты!
Шишов сердито поднялся.
— Молодой человек… — начал он.
Но Голубев не дал ему договорить.
— Я — Владимир Голубев, — сказал он, — а как ваша фамилия, господин судья?
— Это Шишов, Леонтий Иванович. Присядьте, пожалуйста, Владимир Степанович, — предложил Буковский.
— Нет времени, господа судьи! Сегодня у нас день траура, мы потеряли генерала на нашем фронте.
— Что это значит? — удивился Буковский.
— А что, не знаете? Умер «Киевлянин»!
— Кто умер, господин студент? — допытывался Буковский.
Прижмурив глаза под очками, Шишов издевательски посматривал на своего коллегу и при этом даже кивал головой. «Ему непонятно обыкновенное дело», — должно было означать выражение лица Шишова. А о разгоряченном студенте он подумал: «Вот он, кумир моего сына. Что-то есть в нем от дикого козла со сломанными рогами, хотя брыкается он довольно сильно…»
— О чем задумались, господин Шишов? Слышите, ваш коллега не понимает того, что газета, постоянно служившая нашим интересам, со вчерашнего дня умерла для нас. Да, да, совсем умерла! — И Буковскому: — Вам надлежало бы знать, господин судья, что «Киевлянин» начал служить нашим врагам, евреям… Как ваше имя?
— К чему вам мое имя, господин студент?
Шишов почувствовал в голосе своего коллеги трусость, это могло вызвать только отвращение. Он отвернулся, но затем, резко подавшись в сторону Голубева, промолвил с сарказмом:
— Фамилия моего коллеги Буковский, а звать его Василий Павлович, если вам угодно это знать, господин студент.
— А вы — Шишов… Очень рад познакомиться, господин Шишов. С вашим сыном я давно знаком, мы очень дружны. Вероятно, он говорил вам.
— Очень рад, господин студент.
— Я не сомневался, что вас это может порадовать. Он довольно удачливый, ваш Анатолий.
«Кукушка хвалит петуха, а петух…» — подумал Шишов.
— Что скажете о вонючих бомбах, господа судьи? — спросил студент, без стеснения развалившись в кресле.
— Вонючие бомбы?.. — не понял Буковский. — Что это за вонючие бомбы?
— Ну, газеты со своими истеричными воплями… Послушайте же, вы должны сказать свое слово против этих еврейских газет!
Взяв со стола Буковского лист чистой бумаги, Голубев продолжал:
— Вот я приблизительно набросаю текст протеста, а вы подпишите.
— Мы сами грамотны, не утруждайте себя, господин студент, — с иронией проговорил Шишов.
— Не каждый напишет так, как я, — все еще горячился студент, продолжая водить пером по бумаге.
— Я ведь сказал вам, господин студент… — повторил Шишов, заметив, что Буковский подмигивает ему, прикладывая палец к губам, призывая молчать.
Шишов подбежал к двери, раскрыл ее и проворно, вовсе не по годам, выбежал в коридор. Через минуту вернулся и сообщил:
— Господин прокурор только что вошел к себе в кабинет.
— Господин Чаплинский? — переспросил Буковский.
— Вы уж сами напишите, господа судьи, — сказал Голубев, отодвинув на край стола бумагу, на которой начал было писать, и быстро вышел.
Шишов взял со стола бумагу и, даже не взглянув на своего коллегу, изорвал в клочки. Затем брезгливо бросил их в корзину, вытащил платок и вытер им руки.
Буковский молча отвернулся от Шишова, но, не выдержав, спросил:
— Чего он хотел, Леонтий Иванович?
Сделав несколько шагов по комнате, Шишов молча взял газету «Киевлянин» и приблизился к Буковскому.
— Понимаете, Василий Павлович, — сказал он, — если уж Пихно и Шульгин осмелились такое напечатать в этом органе, то это означает…
Буковский увидел, что у Шишова загорелись глаза, запылали щеки, поэтому он поднялся и с интересом спросил:
— Что это означает, Леонтий Иванович?
— Это означает, что зря студентик кипятится, а вместе с ним и наш Чаплинский. — И после небольшой паузы, во время которой Шишов смотрел коллеге прямо в глаза, добавил: — Вот так, господин Буковский…
Когда Шишов, успокоившись, опять сел на свое место, он услышал шепот Буковского, тот что-то бормотал себе под нос. Наконец Буковский сказал вслух:
— Собственно говоря, что нам до этого, Леонтий Иванович, какое это имеет к нам отношение?
Шишов даже подскочил от такого замечания. Он выхватил табакерку, набрал щепотку табака, неловким движением всунул в ноздри и сказал:
— Что значит? Очень многое, главное — правда! А правда ведь наша жизнь! Вот что, Василий Павлович, господин Буковский!
Что в этот день творилось в редакции газеты «Киевская мысль»!
Что творилось на улицах!
С раннего утра мальчишки — продавцы газет — сновали по улицам, рынкам и площадям, выкрикивая, что сегодня в газете «Киевская мысль» напечатана статья о том, что открыты настоящие убийцы Ющинского.
Люди, никогда не читавшие эту газету, и те, кто вообще был далек от каких-либо газет, простые люди, совсем неграмотные, хватали по два-три экземпляра — для себя, для родных или соседей. А то как же? Почти уже полтора года весь мир потрясало это темное дело — и вот наконец найдены убийцы! И кто нашел их? Русский журналист Степан Иванович Бразуль-Брушковский. Этот тихий, скромный труженик пера стал героем дня.
Часа в два дня из Киевского окружного суда позвонили в редакцию. К телефону подошел Исай Ходошев.
— Несколько экземпляров? — переспросил сотрудник редакции.
— Да, в киосках невозможно достать даже одного экземпляра.
— А разве ваше ведомство не получает газету? — удивился Ходошев. Но на этот вопрос ответа не последовало.
Когда Ходошев повесил трубку, его подозвал к себе Всеволод Чаговец.
— Мне кажется, — сказал он, — что такой опытный репортер, как вы, Исай Давидович, должен знать, что нашу газету не читают в судебных кругах.
— Я думал, они уже начали читать, — попробовал оправдаться репортер.
— Начали? — рассмеялся Чаговец и обвел глазами комнату. Увидев Лирова, он окликнул его: — Моисей Ильич, а Моисей Ильич!
У Моисея Ильича была привычка смотреть поверх очков. Улыбка его заключала в себе нечто язвительное, желчное. «Лиров улыбается желчью», — говорили о нем. Теперь, услышав, о чем речь, он прижмурил один глаз, за лацкан притянул к себе Ходошева и зло сказал ему:
— Молодой человек, раввина или цадика вы когда-нибудь видали?
— Видал, Моисей Ильич.
— Видали? Так, вероятно, знаете, что свиного мяса он в рот не берет?
— Знаю, Моисей Ильич.
— Тогда вы не должны забывать, что для учреждений, где работают чаплинские, буковские, щегловитовы, наша «Киевская мысль» так же запретна, как свиное мясо для фанатичного набожного еврея. О Голубеве и Пуришкевиче и говорить не приходится. Не забывайте, что в нашей газете упоминаются такие недопустимые и отвратительные для них слова, как социализм, революция. Кроме того, в ней работают такие набожные евреи, как вы, например.
— Или вы, к слову сказать, господин Лиров, — пошутил Ходошев.
— Я? Я давно уже оправдан, а эти слова для меня очень хорошо пахнут. Да к чему мне вам сказки рассказывать, если сами знаете их не хуже меня… Так вот, если разговариваете с таким чиновником, не задавайте ему сложных вопросов.
Послышался хриплый, прерывистый смех. Лиров и Ходошев увидели, что Чаговец хочет спичкой зажечь свою набитую трубку, но она никак не разгорается. Он кашляет, смеясь:
— Так-так, Моисей Ильич, учите, учите нашего Шерлока Холмса, а то он вскоре у самого Щегловитова захочет взять интервью для нашей «Мысли».
— Скажете, плохое интервью я взял у Чаплинского? — Ходошев хотел весь этот эпизод обратить в легкую шутку.
— Да, сенсация номер один! — Лиров поднял указательный палец.
— И какая сенсация! — поддержал его Чаговец.
— Так и говорите, — рассмеялся сам Ходошев.
В это время в комнату вошел священник, сопровождаемый швейцаром.
— Вот этот господин, — сказал швейцар священнику, указывая на Ходошева, — вам пояснит все, что вас интересует. Исай Давидович, выслушайте, пожалуйста, батюшку.
И швейцар вышел.
— Садитесь! — предложил Ходошев пришедшему.
Три газетчика ожидали, что скажет священник.
— Благодарю! — Священник осторожно сел на подвинутый ему стул. Из-под его широко разросшихся бровей выглядывали ищущие глаза. — Я из Лавры, — начал он. — Евстафий меня звать. — Он сильно закашлялся и протянул руку, словно прося воды.
Лиров мигнул Ходошеву: принеси, мол, воды.
— Сейчас, сейчас, батюшка.
— Ничего, пройдет. Астма меня донимает. — Принесенный стакан воды священник отодвинул. — Я хотел бы, молодые люди, познакомиться с автором сегодняшней статьи… С Бразуль-Брушковским хотел бы познакомиться… Скажите, он христианин?
— Сейчас, батюшка, позвоним ему. Какой телефон у Бразуля? — Ходошев поискал в записной книжке. — Сейчас, сейчас, батюшка. Да вот он: 15–63. Сразу же позвоню ему. — Ходошев вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся. — Договорились, он живет совсем недалеко отсюда — в начале Крещатика. Он сказал, если пожелаете подождать, так он скоро придет.
— Я подожду.
Подняв полу серой рясы, священник достал из кармана брюк платок и стал вытирать глаза.
— В прошлом году меня вызвал прокурор, — начал рассказывать он, — прокурор Чаплинский. Позвали меня в дом, что напротив памятника Хмельницкому, и там он со мной долго беседовал об убийцах отрока. Очень тяжелая беседа была. А сегодня я прочитал в вашей газете подробно об этом убийстве. И вот я пришел узнать, так ли все произошло, как в газете повествуется. Ах, господи, какая безумная жертва… Неужели этот Бразуль-Брушковский всю правду знает?.. Меня тогда Чаплинский припугнул… — Священник опять закашлялся.
Газетчики, находившиеся в комнате, внимательно слушали отца Евстафия. Они заметили, что, несмотря на изматывающий кашель, заставляющий его приподыматься на стуле и краснеть от напряжения, он все же крепится и хочет рассказать все то, что мучило и давило его.
Пришел Бразуль-Брушковский, вместе со священником они прошли в свободную комнату, в которой заперлись и долго беседовали.
В двух письмах, полученных Бразуль-Брушковским по его домашнему адресу, его предупреждали: если он не перестанет выступать с разоблачающими материалами против Веры Чеберяк, его уничтожат.
Мужественный журналист не испугался, он показал письмо своему сотоварищу по редакции «Киевской мысли» Исаю Ходошеву.
— Эти негодяи все могут сделать, — встревожился Ходошев.
— Они трусы и теперь побоятся.
— Может найтись фанатик, — твердил Ходошев, — поэтому нужно быть осторожным.
— Выходит, я должен сделаться трусом, прятаться.
— Нет, упаси бог, но не нужно бывать поздно вечером в кафе и ресторанах…
Но Бразуль думал иначе. Наоборот, он нарочно поздно ходил по Крещатику и показывался именно в тех местах, где было множество подозрительных типов.
Однажды он получил письмо за подписью Голубева, в котором тот приглашал Бразуля на конфиденциальную беседу в одно из популярных кафе «Аполло», в четверг вечером. Бразуль не пошел. Однако через несколько дней он снова получил письмо через посыльного в красной шапке, который вручил ему послание прямо посреди улицы… Голубев деликатно предупреждал Бразуля, что речь идет о вопросе чести… и не имеет никакого отношения к убийству Ющинского.
Пойти или не пойти? А что ему терять?.. И Бразуль решил, что один он не пойдет, а возьмет с собой Ходошева — с ним, пожалуй, будет спокойнее. Как бы там ни было… пусть он будет не один.
Исай, естественно, согласился с предложением Бразуля.
— Просто интересно, что там может произойти, — сказал Ходошев. — Терять здесь нечего, но и не знаю, правда, что можно выиграть от такой встречи. С другой стороны, если не по делу, интересующему нас, зачем идти?
— Зато они мною интересуются, — улыбался Бразуль.
— Мне думается, это просто фортель, они хотят заманить нас в сети, — высказал свою мысль Ходошев. — Ведь повидаться-то они хотят именно с тем, кто опубликовал разоблачающий материал. Вот и идут на уловку…
Оба журналиста решили, что все же пойдут на встречу со студентом Голубевым. Узнают, что это за дело чести, о котором упоминается в письмеце.
Кафе «Аполло» на углу Бессарабки и Крещатика уже было переполнено. В общем зале и в отдельных кабинетах сидела разношерстная публика, в основном офицеры местного гарнизона, проститутки и так называемая «золотая молодежь» — разочарованные молодые люди с длинными волосами, мечтавшие стать поэтами-декадентами. Успев напечатать в местных газетах по нескольку скандальных стихотворений, они угасали, как болотные огни. Теперь они ходят по ресторанам и кафе в ночные часы, ловя сенсационные происшествия.
Незадолго до прихода Бразуля-Брушковского со своими провожатыми здесь разыгрался небольшой скандальчик. Какая-то проститутка ухватила за лацканы студентика в потрепанной форменной тужурке художественного института и принялась кричать, что он является отцом ее ребенка. Поскольку публика знала этого студента, инцидент вызвал у посетителей только смех. Но в порядке компенсации ему все же пришлось заказать оркестру несколько танцевальных номеров.
Хозяин кафе — полнотелый мужчина с потным лбом и затылком — ходил между столиками и просил публику вести себя потише. Хриплым голосом он шептал посетителям:
— Конная полиция снует по прилегающим улицам, что-то сегодня беспокойно, господа.
Но почти никто не обращал внимания на предупреждения хозяина.
Когда Бразуль с Ходошевым показались в зале, к ним сразу же подбежал озабоченный хозяин. Он взял Бразуля под руку и хотел отвести в кабинетик в конце зала. А Бразуль отвел руку хозяина и зло посмотрел на его вспотевший лоб.
— Кто вы? — спросил он.
— Вы пришли в мой ресторан и спрашиваете, кто я! — рассмеялся хозяин.
Бразуль вопросительно посмотрел на Ходошева и дал отвести себя в глубину зала. А тут навстречу Бразулю вышел Анатолий Шишов. Увидев Ходошева, он удивленным взглядом смерил его с головы до ног.
— Кто это? — спросил Шишов.
— Со мной пришел, — энергично ответил журналист.
Шишов на мгновение скрылся за дверью кабинетика, но вскоре появился снова и пригласил журналистов войти.
Как только Бразуль с Ходошевым вошли в кабинетик, неожиданно потух свет. Но это продолжалось несколько мгновений, и когда свет снова зажегся — возле них уже стоял студент Голубев. На сей раз его длинные светлые волосы были коротко острижены и даже знаменитый чубчик, по которому его всегда узнавали, тоже был подрезан.
— Мое почтение, господин Бразуль-Брушковский! — поклонился Голубев.
Бразуль слегка кивнул.
— А это кто?.. — спросил Голубев, разглядывая Ходошева зелеными, как у ящерицы, глазами. — О, да ведь это старый знакомый, у прокурора Чаплинского встречались, вспоминаю… — И, увидев ироническую улыбку Ходошева, вскипел: — И тогда у пещеры помяли ваш купол… Но вы на такой должности, господин репортер, что должны привыкнуть. Правильно я говорю?
Ходошев ничего не ответил, только многозначительно взглянул на Бразуля. Оба они молчали.
— Садитесь, господа, — предложил Голубев, но все же не смог удержаться и заметил Бразулю: — Без сопровождения не решились прийти?
Бразуль резко повернулся к Голубеву и спросил:
— По какому это делу чести вы меня пригласили сюда?
— Да, да, господин Бразуль, сейчас объясню.
Удобно устроившись в кресле, Бразуль приготовился слушать…
Студент начал вытаскивать из карманов разные бумаги, пока наконец не нашел помятую розовую бумажку и стал размахивать ею перед глазами журналистов.
— Вот видите, нас, «союзников», считают людоедами, а мы самые благородные люди на свете. Мы уберегли еврейское население от погрома, который православное киевское население хотело устроить за убийство Андрюши Ющинского. Можете спросить полицмейстера, полковника Скалона.
— Простите, Голубев, — Ходошев поднял руку.
— Господин Голубев, — поправил его Шишов, сверкнув широко раскрытыми глазами.
— Господин Голубев, — поправился Ходошев. — Нам известно совсем противоположное: полицмейстер полковник Скалон удержал некоторые ваши горячие головы от учинения погрома.
— Врет он, Скалон. Как всегда. Так вот, если б не мои орлы, летели бы перья по улицам. — Голубев ближе подвинулся к Бразулю: —На этой розовой бумажке вам подписан смертный приговор — за что, вы сами знаете. Но мы отвели злую руку от вас, вот, почитайте… — и швырнул бумажку на стол. Но, увидев над столом протянутую руку Ходошева, Голубев снова схватил бумажку. — Можете нам поверить, господа журналисты, — сказал он и убрал ее обратно в карман.
— Меня не интересуют ваши бумажки. Что вы хотели мне сказать? — спросил Бразуль-Брушковский, поднимаясь с кресла.
— Сидите, сидите, господин Бразуль. Это еще не все. Мы хотим, чтобы вы перестали шантажировать Веру Владимировну Чеберяк.
— И это все? Значит, разговаривать больше не о чем! Пойдем, Исай.
— Подождите, зачем спешить? Неужели испугались? — спросил Голубев.
— Нет, я не боюсь, вы боитесь, — сказал Бразуль и с достоинством добавил: — Вы боитесь правды…
Голубев рассмеялся:
— Слышишь, Анатолий, мы боимся правды, ха-ха-ха! Скажи им, что готов уже обвинительный акт для еврея с черной бородой. Весь мир наш — все прокуроры, все эксперты, все судьи, все министерства, сам господин император… — Неожиданно Голубев тронул Бразуля за рукав: — Садитесь, пожалуйста, Степан Иванович. А вас как величать? — обратился он к Ходошеву.
— Гвоздев, Иван Тимофеевич.
— Как вы сказали?
— Иван Тимофеевич.
— Ах да, Иван Тимофеевич. Анатолий, вели подать… — Голубев подмигнул Шишову, и тот немедленно выскочил из комнаты. — Вот вкусим немного коньяка с закуской… Степан Иванович, к чему нам, русским людям, спорить между собой? Мы вам… — И тут он достал хрустящий чек. — Вот вам…
— Подлец! — воскликнул Бразуль, и не успел Голубев опомниться, как оба — Бразуль и Ходошев — покинули кабинет.
Вернулся Шишов, приведя официанта с подносом, уставленным яствами, и удивленно спросил:
— Где они?
Голубев ничего не ответил, только убрал чек обратно в бумажник.
— Мендель! Мендель! Бейлис! — тормошил Бейлиса его сосед по камере.
Но куда там — Мендель не просыпался, и крики продолжались.
Испуганный сосед стоял перед ним, тянул его за руки, но никак не мог разбудить.
Сосед потянул Менделя за рубаху, попробовал поднять его с постели, закричал над ухом: «Проснись, Мендель!» — но и это не помогло. Тогда он стал тащить Менделя за ноги, всеми силами стараясь поставить его на пол.
И вот Мендель уже сидит на койке, сжав виски руками.
— Что с тобой, Бейлис?
Тяжело дыша, Бейлис, словно помешанный, дико глядит на соседа, вытирающего пот с его лица и раскрытой шеи.
— Успокойся, Мендель…
Чадящий фитилек нырял в грязном масле, давился от угара, от которого сильно закашлялся Бейлис, но вот каганец испуганно рванул слабым огоньком, склонился в сторону и погас.
— Расскажи, Мендель, что с тобой случилось? — допытывался в темноте сосед.
— Злой сон, Гаврило, очень злой…
— Плюнь на всякие сны, чоловиче.
— Сон — наполовину провидец, — прошептал Бейлис.
— Чепуха! Байки! — успокаивал его сосед.
Бейлис все еще вытирал пот и поглядывал на дверь.
Гаврило махнул рукой в сторону двери, как бы говоря этим: они не обращают внимания, будь спокоен.
Но замки забряцали, все десять замков запертой двери, и гнусавый голос надзирателя послышался уже в самой камере:
— Кто это потушил огонь, падлы! — Подлив масла в каганец, он снова забормотал: — Подлецы… подлецы… портят электричество… Ироды! — бросил он на ходу и бочком вышел.
— Более приятных слов он для нас не находит, — сказал Гаврило, прислушиваясь, когда замки перестанут щелкать.
— Ох, какой злой сон, Гаврило, очень злой… — не унимался Мендель.
— Плюнь на сны, говорю же я тебе.
В этот момент слабо загорелась электрическая лампочка над дверью и осветила грязные, вытертые стены камеры. В глазке в двери показались пронизывающие глаза, они проверяли, освещает ли электрический свет всю камеру. Очевидно, глаза убедились, что так оно и есть, и перестали беспокоить обитателей камеры.
— Относительно снов — ты, Мендель, так кричал, так рычал… Вот послушай меня… — Заметив движение Бейлиса, который хотел рассказать свой сон, Гаврило положил руку ему на плечо. — Не надо, Мендель, — сказал он, — лучше выслушай меня.
Хотя Бейлис сидел в тюрьме уже вторую зиму, ему все же было трудно среди ночи определить, который шел час. Время в тюремной камере не чувствовалось. Сколько стража ни требовала прекратить разговоры и уснуть, арестанты не слушались и потихоньку разговаривали, а то ведь можно погибнуть от тоски.
Теперь начал свой рассказ сосед Менделя по камере:
— Я находился тогда в Киеве на заработках. В селе мои пухли с голода, особенно резала мне сердце младшая девочка Ориська — нежная, бледнолицая. «Тату, — просила она, — хлиба!» А где я возьму ей кусок хлеба, когда все село пухнет? А здесь, в Киеве, меня не хотели принять на Южно-русский завод — у меня паспорта не было. И я валялся у своего земляка на Демиевке. Однажды мне приснилось, что я нашел клад и закупил полную подводу ржи. Еду я и везу тяжелую телегу с рожью, еду к себе домой, в село, а навстречу мне выбегают все мои, а впереди — маленькая бледная Ориська, бежит ко мне с протянутыми ручонками, кричит: «Тату, а хлиба прывиз?» И у меня праздник, Мендель, настоящий праздник, можешь сам понять… — Гаврило замолчал.
Прошла минута, две, три — сосед молчит. Бейлису показалось, что он уснул.
— Гаврило! — потихоньку окликнул Бейлис.
А тот молчал. Тишина стала давить, Бейлису было трудно дышать. «Гаврило, Гаврило!» — звал Бейлис, а он все не отзывался. Тут уж Бейлис поднялся со своей койки, поставил ноги на влажный пол, и стоило ему только дотронуться до плеча соседа, как тот снова заговорил:
— И вот я говорю тебе, Мендель, что после такого сладкого сна должна была наступить сладкая явь, не так ли, Мендель?
— Так, так, — подтвердил Бейлис.
— Так можешь выслушать про мою долю… Голодный, пришибленный, я на следующий день ходил по киевским улицам, глядел на богатые витрины магазинов на Крещатике и на Фундуклеевской улице и все время думал о своей Ориське. Из окон глядят на меня свежие рогалики, маком посыпанные, калачи с румяными щечками, и я думаю: какие вкусные… Ах, Мендель, Мендель, ты когда-нибудь голодал? Тяжело это, Мендель, ей-богу. Сердцу больно, когда вспомнишь, что и я сам хлебороб… Думал так, загляделся на хлеб по ту сторону стекла, и… бес его знает — толкнула меня нечистая сила, я протянул руку, стекло разбилось, схватил калач и бежать, бежать… — Гаврило снова прервал свой рассказ.
Бейлис слышал, как тяжело дышит сосед, но молчал, ожидая, пока тот не заговорит сам.
— …и так я прибежал аж в Лукьяновскую тюрьму… — И после небольшой тяжелой паузы: — Вот тебе и сон, сладкий сон!.. Плюнь, Мендель, на сны… — закончил Гаврило и горько рассмеялся и закашлялся так, что не смог остановиться. Кашлял и плевался, плевался и кашлял, пока выплюнул сгусток крови.
— Снова? — сказал сам себе Бейлис. — Что с тобой делать, Гаврило? Ты сам себя не жалеешь. Тебе бы молчать, поменьше разговаривать, несчастный ты человек. А ты говоришь и говоришь…
— Все равно мне помирать, Мендель. Когда ты освободишься — ты, наверно, освободишься, — поезжай в мое село Вчорайше, это недалеко отсюда, повидай мою Ориську и всех моих… Эх, Мендель, Мендель, а ты говоришь — сон… — Он снова закашлялся и выплюнул кровь.
В отчаянии Бейлис припал к двери и начал стучать кулаками.
— Караул! Кровь, кровь на полу…
Стражник посмотрел в глазок и строго предупредил:
— Ша-ша, тише, в карцер посажу, обоих посажу…
Бейлис вернулся к своей койке, взял ослабленную руку крестьянина и без слов, одним только пожатием, успокоил его.
Когда наступило утро и зимний облачный день из-под козырьков послал сквозь решетчатые окна несколько бледных дневных лучей, чахоточный Гаврило Доценко из села Вчорайше опять захотел рассказать про свою маленькую Ориську, по которой он так тосковал. Но Бейлис деликатно отговорил его от повторения рассказа, не потому, что ему нельзя разговаривать много, а потому, что — он показал на глазок в двери — со вчерашнего дня их не выпускают из виду.
Позже, после утренней баланды, которую сегодня принесли раньше обычного, совсем неожиданно, вовсе не по графику, в камеру в сопровождении надзирателя впустили парикмахера. Почти силой он остриг Гаврилу Доценко и побрил его чисто-чисто, совсем не так, как всегда. Бейлис не захотел бриться. Позвали помощника начальника тюрьмы, который дал указание: постричь еврея с черной бородой, чтобы он не походил на медведя, которого цыгане водят по дворам и базарам. Парикмахер, возясь с Бейлисом, шепнул ему на ухо:
— Жди гостей… — Больше он ничего не сказал.
Бейлис, конечно, подумал, что ему дадут свидание с женой или с одним из его защитников. В ту ночь он и глаз не сомкнул, лежал с открытыми глазами, погруженный в раздумья. Арестанту большего не нужно: если он вбил себе что-нибудь в голову, эта мысль изводит его. Неужели он свидится с женой, узнает о своих детишках и о брате… Так долго не виделись и не слыхали друг о друге. Неужели?.. А может, что-либо случилось? Может быть, вскоре начнется суд, сколько еще можно мучиться?
Долго лежал Бейлис с открытыми глазами и считал, сколько прошло дней и месяцев с тех пор, как его забрали из дому, оторвали от должности в цигельне, разлучили с родными — с женой и детьми, со всеми окружающими и оставили без света, без воздуха, без жизни… За что он страдает, за что?.. Разве не ясно, что он не виновен?
Перед глазами Менделя возникла импозантная фигура присяжного поверенного Григоровича-Барского — будущего его защитника, который как-то был у него — ему-то, конечно, разрешили беседу. Защитник объяснил ему, что правые организации, «союзники», хотят создать кровавый навет на еврейский народ, и его, Менделя Тевелева Бейлиса, избрали жертвой. Несмотря на то что защитника Григоровича-Барского сопровождал в камеру один из надзирателей, адвокат повел свою речь так ловко, что сумел объяснить обвиняемому всю игру вокруг предстоящего процесса.
После ухода адвоката, принявшись разбираться и рассуждать о поведанном ему Григоровичем-Барским, Мендель сильно разволновался, он понял, что дело серьезное, — пахнет Сибирью и каторгой. И кто знает — может, и виселицей. У него отнялись руки и ноги, и ему показалось, что конечности больше не служат ему. Бейлис попробовал сделать несколько шагов по камере — нет, не смог. Захотелось протянуть руки — не получилось. Так что ж, уже парализован? Нет, Менахем-Мендель, сын Тевеля! Что это с тобой? Кажется, никогда ты не был беспомощным трусом…
Напрягая все силы, он рывком поднялся с места и выбросил руки вперед, поднял ногу, одну, другую — конечности заработали как раньше, ноги носят и руки двигаются, голова мыслит и рассуждает, сердце бьется, он живет, Мендель, он все переживет, он надеется перешагнуть через мерзкую пропасть горя и пыток. Будь мужествен, мужество лучший и вернейший друг твой. Недаром старая поговорка гласит: мужество потерял — все потерял. Мендель, Мендель, предки наши тяжелые муки пережили… а ты…
Такими мыслями была заполнена жизнь невиновного арестанта под десятью замками в Лукьяновской тюрьме. А высшие чиновники юстиции в России ломали головы, как бы поскорее предать его суду и как бы удачнее осудить его.
Бедный Мендель Бейлис! Пока что ты сидишь в камере вместе со своим чахоточным соседом Гаврилой Доценко и выжидаешь, когда тупые головы судебных дел мастеров, служителей Фемиды, состряпают обвинительный акт против тебя и в основном против твоего народа. Жди, жди, человече, ты в конце концов дождешься этого дня, он уж недалек, он придет!
И Мендель Бейлис ждал.
В один из зимних дней, в самом начале 1913 года, все десять замков быстро открылись. В такие минуты Бейлис бледнел, сердце падало куда-то к ногам и казалось ему, что оно вот-вот остановится. Ноги немеют, отнимаются, дыхание предательски останавливается, в глазах темнеет, словно он вдруг упал в подземелье, где властвует только один цвет из всех цветов в мире — черный.
Обмершего Бейлиса растолкал и поставил на ноги надзиратель.
— Это и есть та птица? — донесся до сознания Бейлиса женский голос.
При свете специально ввинченной большой электрической лампы он увидел нарядную даму с большой, пышной грудью. В холеной руке ока величественно держала лорнет из слоновой кости. Лицо ее выражало одновременно и сдержанную жалость, и брезгливость.
— Вот это Бейлис, мой бог!.. Такой черный, как жук, бррр…
Ее «бррр» резануло по сердцу. Он сразу почувствовал себя крепче, хотя ноги все еще подкашивались. Глаза налились ненавистью и презрением к этому расфуфыренному существу. Невольно у него вырвалось:
— Мадам… — И замолчал. Великий инстинкт самосохранения подсказал ему: лучше помолчать.
— А знаешь ли, Бейлис, кто пришел к тебе? — спросил один из сопровождающих, указывая на даму. — Жена генерал-губернатора…
А какой-то военный с множеством орденов на груди выступил вперед.
— Ты, вероятно, знаешь, Бейлис, что скоро исполняется триста лет, как нашим отечеством управляет династия Романовых, — сказал он. — В ознаменование этой даты будет издан указ его величества — нашего государя императора — об амнистии для разных преступников, в том числе и для убийц и воров. Ты, как большой преступник, также можешь попасть под эту амнистию, можешь на это рассчитывать, если напишешь на имя его величества государя императора прошение о помиловании…
Тишина воцарилась в камере. Военный услужливо смотрел на даму. Высокий, широкоплечий, с седыми бакенбардами, он нагнулся и поднял с тюремного пола нечаянно уроненный ею платочек.
— Нет, нет, — вздрогнула та. Платочек, упавший на пол здесь, она не возьмет в руки.
Один из чиновников, сопровождавших генерал-губернаторшу, взял платочек и протянул его Гавриле Доценко, но тот швырнул его под ноги и потоптал сапогами.
— Ах ты, негодяй! — воскликнул чиновник, и губы у него задрожали.
Дама подняла лорнет к глазам и повернулась в сторону военного.
— Спросите у него, за что он сидит?
— За что ты попал сюда? — спросил тот у Гаврилы.
— За кусок хлеба, ваше благородие…
— За кусок хлеба? Не может этого быть! — зашептали губы женщины. — Жестоко! — сказала она сопровождавшим ее лицам.
— Жестоко, графиня, но справедливо, — отчеканил военный, с удовольствием поглаживая бакенбарды. — Итак, Бейлис, ты понял, что тебе нужно? Дайте ему бумагу и перо, — приказал он.
— Не надо, господин генерал, — сказал Бейлис. — Я невиновен и никаких прошений о помиловании писать не буду. Я уверен, что меня освободят…
— Ишь какой уверенный! — вскипел генерал, ища поддержку у сопровождающих.
— Чудовище! — взвизгнула дама. — Какое упрямство!
Приподняв подол шуршащего платья, она направилась к двери.
— Чудовище! — раболепно подхватили ее сопровождающие и, опустив головы, последовали за дамой.
Тихим зимним вечером к киевскому вокзалу подошел поезд, и из одного из вагонов вышел человек лет сорока пяти. Не глядя по сторонам, он сразу направился к привокзальной площади, нанял сани и попросил отвезти его на Подол.
— На какую улицу? — спросил извозчик.
— На какую? — несколько задумался пассажир. — Сейчас, сейчас… На Межигорскую.
— Какой номер?
— Приедете туда, и я вам укажу.
— Ладно, барин.
Пассажир с маленьким чемоданчиком в руке был одет в черное драповое пальто с меховым воротником, в каракулевую шапку, на ногах его были сапоги с застежкой.
Проехали Бибиковский бульвар, выехали на широкий Крещатик и у Купеческого клуба спустились к Подолу. У Житнего базара пассажир попросил свернуть вправо.
— А вы говорили, на Межигорскую, — заметил пассажиру возница, но ответа не последовало.
Пассажир, упрятав уши под шапку, сделал вид, что не слышит. Возница перегнулся с козел к пассажиру с круглой бородкой и спросил:
— Барин, куда вы хотите заехать?
Ответа не последовало. Через несколько минут возница снова обернулся к пассажиру и снова в свете промелькнувшего фонаря увидел только бородку. Он не мог понять, спит пассажир или нет.
— Что случилось? — наконец спокойно спросил сидевший в санях.
— Хочу знать, куда вас везти.
— На Межигорскую я просил.
— А мы Межигорскую уже проехали… Дальше ехать боюсь…
— Почему?
— Здесь неподалеку сегодня дрались.
— Кто?
— Хулиганы. Били евреев…
— Кто бил?
— Я ведь сказал уже — хулиганы. — После небольшой паузы возница стал негромко рассказывать: — Вероятно, слышали о Бейлисе, так вот, каждый день дерутся на Подоле, вон там, подальше — на Лукьяновке.
— О Бейлисе я слышал. Он ведь сидит в тюрьме. Так почему дерутся теперь?
— А я знаю? Говорят, что Чеберячка натравливает своих молодчиков. Ну вот, я уже и привез вас, барин, обратно на Межигорскую.
— Большое спасибо. Высадите меня здесь. Как раз сюда мне и нужно.
Возница придержал коня. Пассажир достал из кармана монету, подал вознице и слез с саней… Когда он уже шел, вдогонку ему послышался голос возницы:
— Осторожно, барин… Здесь больно много собак, да еще какие собаки!
Вскоре приезжий постучал в дверь одноэтажного домика.
— Кто там? — спросил женский голос.
— Откройте, свой. Не бойтесь.
— А кто же это? — снова повторил голос.
— Здесь продается сено?
Из-за стола поднялся Петр Костенко и подмигнул жене:
— Это ко мне, не пугайся, — и направился к двери.
— Сколько вам нужно сена?
— Один снопик.
Костенко открыл дверь и увидел человека среднего роста, которого сразу же узнал.
— Григорий Иванович, ждем вас уже три дня.
— Раньше не мог прибыть.
— Раздевайтесь, Григорий Иванович, — обрадованно сказал Костенко и лишь теперь подал ему руку. — Это наш депутат Петровский, — сообщил он жене. — Лиза, чего смотришь так удивленно? Познакомитесь, Григорий Иванович, с моей женой. Она у меня сельская.
— В Киеве проживает и все еще сельская? — усмехнулся Петровский.
— Тоскует по дому, по полю и лесу.
— Мне кажется, что Киев достаточно зеленый город, совсем не то, что донецкие шахты, — заметил гость.
Костенко пододвинул стул и усадил гостя.
— Мне непонятно, Григорий Иванович: вы ведь депутат Думы, так зачем такая конспирация?
— Ай-ай, Костенко, вам ли не понимать этого! Лучше конспирация, чем хвост молодчиков и шпионов. Так что нет и не было здесь Петровского, — оглядывая комнату, спокойно сказал Петровский.
— Вы рассматриваете мое жилье, Григорий Иванович. Я им доволен. Мои друзья по заводу живут в худших условиях. В таком большом городе это еще подходящее жилье.
— Огородик при домике — тоже что-нибудь да значит. Несколько вишневых деревьев напоминают мне мой сельский дом, — несмело добавила Лиза.
— Я с моей Домной Федотовной проживал при Щербиновском руднике в гораздо худшем жилье. Было бы здоровье и возможность увильнуть от полиции. Работать и находиться на воле среди рабочих — счастье, — отозвался Петровский.
Через некоторое время, когда Петровский сидел уже за ужином, Костенко осторожно спросил:
— Вы сейчас прибыли из Петербурга?
Гость удивленно посмотрел на Костенко:
— Разве вы не знаете, что мы, группа социал-демократов большевиков и депутатов большевиков из социал-демократической фракции в Думе, были в Кракове у Ленина?
— У нас в Киеве говорили, что это должно произойти в феврале.
— О феврале нарочно был разговор, для конспирации.
— Понял, Григорий Иванович.
— Если понял — хорошо. А теперь, если позволите, я прилягу отдохнуть, а завтра…
— Завтра мы созовем своих.
— И я вам все расскажу… — продолжал Петровский.
Супруга Костенко приготовила постель и о чем-то шушукалась с мужем. Петровский это заметил и догадался, что речь идет о нем.
— Не стесняйте себя, дорогие мои хозяева. — Гость заметил, что Костенко снял со своей постели одеяло и перенес его Петровскому.
— Нет, нет, этого я не допущу… Обойдусь своим пальто. Днем оно мне служит как пальто, а ночью совсем неплохо служит одеялом. Оно длинное, широкое. Поверьте, намного теплее одеяла. Купил его в Кракове. — Гость извлек из кармана жилета расческу и, расчесывая бородку, улыбаясь продолжил: — Этот костюм помогла мне выбрать Надежда Константиновна. Сидит — словно на меня сшит.
— Кто это — Надежда Константиновна? — спросила Лиза.
— Надежда Константиновна — друг и жена Ленина. И самая активная революционерка, — пояснил Костенко. — Правильно я сказал, Григорий Иванович?
— Правильно, правильно. Слышали бы вы, как Надежда Константиновна обучала нас, как нужно воспитывать флегматичных товарищей, как заставить их быть активнее, а горячие головы более спокойными и организованными. О, Надежда Константиновна очень образованная и преданная делу революционерка.
— А Ленин? Расскажите поподробнее о Ленине, — подхватил Костенко.
— Ленин? — восторженными глазами посмотрел Петровский на киевского рабочего. — Мы все удивлялись, восхищались его осведомленностью: живет в Кракове, вдали от России и от Петербурга, а о некоторых событиях гораздо более осведомлен, чем мы, рабочие-депутаты, в Петербурге. Он спросил у меня, как у вас в Киеве живут рабочие, а я не знал, что ему рассказывать. И есть ли какие-нибудь новости по делу Бейлиса? К нам в Петербург доходят разные слухи. Но мы не можем похвастаться такой информацией, какую получает Ленин. Владимиру Ильичу известны, например, многие подробности в связи с запросами депутатов в Государственной думе по делу об убийстве Андрея Ющинского. Однако же, мои гостеприимные хозяева, не пора ли спать?
Достав свои часы из кармана жилета, Петровский положил их на стол вместе с цепочкой. И только тут он заметил учебник «Родное слово», составленный педагогом Ушинским. Петровский вопросительно посмотрел на Костенко: кто это обучается по этому учебнику?
— Моя Лиза. Она ведь прибыла из села безграмотной.
— Она уже читает?
— Да, понемногу.
Глядя на учебник, Петровский вспомнил, как он — четырнадцатилетний паренек, отправился пешком из Харькова в Екатеринослав к брату, работавшему на одном из брянских заводов. Он тоже мечтал устроиться там на работу. Мать — труженица-крестьянка, батрачившая у грозных помещиков Марковых, положила в мешочек хлеб и лук, две пары белья, брюки из домотканого полотна, а он свои книжки и тетради для четвертого класса, который не успел окончить, и с таким багажом двинулся степью в Екатеринослав. Туда же, в мешочек, он засунул учебник Ушинского, точно такую же книжку, что лежит теперь на столе у Костенко.
— О чем задумались, Григорий Иванович?
Петровский глянул на Костенко и улыбаясь сказал:
— Эта книжка вернула меня в мои детские годы…
Костенко и его жена уже уснули, их двухлетняя дочка ворочалась в своей постельке, только Петровский, переполненный воспоминаниями и впечатлениями от своей поездки в Краков, довольный, что благополучно прибыл в Киев, долго лежал в чистой постели с открытыми глазами и думал о завтрашнем разговоре с рабочими: он расскажет им о Ленине и о газете «Правда», что издается в Петербурге на средства рабочих. Сквозь дрему ему снова вспомнилась встреча с Лениным, его поход в Екатеринослав к старшему брату.
…Лишь на десятый день Гриша добрел до Екатеринослава. Он отыскал Брянский завод, где надеялся встретиться с братом Петром, и увидел у ворот множество людей, явившихся сюда в надежде найти работу. За несколько лет в городе, кроме Брянского, появились и другие большие заводы. Екатеринослав превратился в мощный индустриальный центр, поэтому сюда тянулась масса людей, особенно сельских, — после отмены крепостничества крестьяне были не в силах покрывать большие налоги и платежи по выкупу земли. И Гришу Петровского привела сюда нужда — он пришел продавать свои молодые руки.
На завод никого не пускали. И все стояли у заводских ворот. Но вот кто-то сказал, что начальство очень любит, чтобы мужик просил и кланялся. Толпа людей, и вместе с ними Гриша, повернула к красивому двухэтажному зданию, где на одной из дверей была прибита дощечка с надписью «звонок». Кто-то нажал пальцем на кнопку, и сразу же появился длинный рыжеволосый человек в сером костюме из тонкой материи.
— Пожалейте нас, мы прибыли к вашему благородию на работу. Христа ради не прогоняйте нас… — послышались просящие голоса.
Но длинный не захотел пожалеть этих разочарованных людей. Он быстро рванулся вперед, продираясь сквозь плотную стену крестьян, подбежал к калитке и позвонил. Сразу же появился сторож со шлангом в руках и начал обливать толпу водой. Голодные люди не хотели отступать, они все еще не теряли надежду, что получат работу. И тут кто-то более опытный подал мысль, что нужно отыскать мастера, живущего неподалеку отсюда. От него многое зависит. Но ему возразили, что у мастера много собак. Он спустит их на людей не задумываясь.
И растерянные, усталые люди разбрелись кто куда…
Гриша нашел своего брата. Одет он был в грязное тряпье: он работал помощником машиниста на водокачке, вокруг которой лежали горы шлака…
Следующим вечером собрались на Демиезке, на глухой улочке, носившей символическое название Осторожная. Домик, внешне довольно крепкий, был как раз рассчитан на небольшую семью Федора Гусева: он жил со своей женой, которая вела домашнее хозяйство. Федор Николаевич любил шутить: «Что нам нужно, диду да бабе, на старости лет?» На лето дочь подбрасывала им из Умани старшего внука, крепыша с загорелым личиком, ученика двухклассного училища. Федор Николаевич был большим любителем рыбалки и часто брал внука с собой. Жена Федора, правда, за это ворчала на него, недовольная тем, что ей целыми сутками приходится оставаться дома одной. Зато зимой старая была очень довольна: придя с завода, муж большую часть времени проводил дома.
В этот вечер Федор пришел немного взволнованный, но радостный.
— Постели, Прасковья Кирилловна, праздничную скатерть на стол.
— Что у тебя за праздник? — удивилась она.
Ничего не ответив, Федор Николаевич спустился в погреб, открыл бочонок с солеными арбузами и принес в дом две миски зеленоватых плодов. Затем он опять спустился в погреб и вскоре поставил на стол полную тарелку соленых помидоров.
Теперь хозяйка спрашивала уже более настойчиво:
— Хотела бы я знать, Федюшка, что это у тебя за веселье предстоит?
— Эх, Параска, Параска, ты ведь знаешь, я люблю, чтоб все было тихо…
— Все же, — спросила она, — кто должен прийти к тебе?
— Один человек…
— Скажи, Федюшка, не тяни душу.
— Но… — он приложил палец к губе.
— Да разве я тебя не знаю, всю жизнь прожила с тобой в молчании. Никогда нельзя было мне поделиться с соседями, чем ты занят, куда идешь, куда едешь. Я ничего не знаю… Ничего не видала, ничего не слыхала.
— Вот такой я тебя люблю, — рассмеялся Федор Николаевич, и морщины вокруг носа растянулись в улыбке. Он был очень доволен. — В таком случае я тебе скажу: депутат Думы.
— О-го-го, куда хватил! — удивилась Прасковья Кирилловна. Она тоже была довольна своим мужем.
— А что же ты думала, моя старушка, что Федор Гусев вышел в тираж?
Она никогда не думала плохо о своем Феде. Хоть она и мало понимает в его книжках, которые он иногда приносит домой, хоть и не разбирается в листовках, найденных ею на дне сундука, она все же очень высокого мнения о нем и сердится, если сам о себе он скажет иногда полушутя-полусерьезно, что отжил свое и ни на что не годится.
— Мог бы мне доверять, Федя, знаешь ведь меня не один год.
— Сказал же я тебе — депутат Думы.
— Государственной или Киевской? — хочет знать жена.
— Видишь ли, это уже тебя не касается.
— Гляди, нужно покупать у него каждое слово!
— Ты слушай и молчи… — отрезал Федор.
Но тут в дом вошли студент Яков Ратнер и курсистка Анастасия Шишова.
— Садитесь, дорогие мои гости, — встретил их Гусев.
Прасковья Кирилловна подала две табуретки.
Гости поздоровались с хозяином и хозяйкой и молча сели.
Наступал вечер, начали расплываться силуэты деревьев, росших под окном. Немая темнота прокралась вместе с вечерними сумерками, как бы прикрывая тишину, царившую в маленьких комнатушках рабочего домика.
Настя поглядывала на соленые арбузы.
— Может, угостить пока барышню? — шепнула Прасковья Кирилловна мужу на ухо.
Тот недовольно пожал плечами: что женщина может придумать!
В это время пришел Костенко с группой рабочих: рабочие уселись на скамью, которую принесла Прасковья Кирилловна. Сама она подсела к Костенко, с которым была хорошо знакома, и спросила:
— А где тот, кучерявый?
— Тимка? Он скоро придет.
— Тимка Вайс? — вмешался Федор Николаевич. — Без него не обходимся. Именно он должен привести сюда депутата. Поняла?
Прасковья Кирилловна кивнула головой: она, конечно, поняла.
Через несколько минут в сенях послышались шаги.
Гусев направился к двери, тихо открыл ее, зажег спичку и осветил сени.
— Заходите, добро пожаловать, Григорий Иванович!
Увидев Петровского, все встали. Он сделал шаг назад, сказал:
— Что я — генерал какой-нибудь, что вы встаете передо мной?
Все потупили глаза. Федор Николаевич протянул руку:
— Дайте мне ваше пальто.
Петровский снял пальто, Тимка Вайс быстро взял его и вышел в сени стряхнуть снег.
Петровский кинулся в сени, выхватил у Тимки пальто, перекинул через руку, а другой стряхнул снег с шапки. Вернувшись в комнату, он сердито сказал:
— Послушайте, товарищи, я хоть гость у вас, но барином никогда не был. А вы, молодой человек, — обратился он к Тимке Вайсу, — такого больше никогда не делайте.
Присутствующие переглянулись.
— Не обижайтесь, товарищи, но это унижает человека… Не взыщите на меня, но мы не так воспитаны…
— Это обыкновенная вежливость, Григорий Иванович, — оправдывался Федор Гусев, — вы у нас драгоценный гость.
— Что же вы, — вмешалась Прасковья Кирилловна, — напали на человека! Дайте ему в себя прийти!
Замечание хозяйки вызвало смех, и от этого она почувствовала себя вольнее. Движимая добрыми чувствами к гостю, она поднесла ему миску с арбузами и сказала:
— Попробуйте, Григорий Иванович, наши арбузы. Сама солила. Федор ведь всегда занят.
Муж сердито посмотрел на нее.
— А что, я снова сказала что-то не так?..
— Нет, боже упаси, хозяюшка, вы очень хорошо сказали. Я, безусловно, попробую, — при этом Петровский кивал своей большой головой, черные влажные глаза улыбались, успокаивая хозяйку.
Вскоре Федор Николаевич поставил на стол кипящий самовар, и его веселое шипение сделало комнату еще уютнее.
За чаем Петровский рассказал много интересного и важного про партийную конференцию в Кракове.
— Кто руководил конференцией? — спросил Костенко.
— Естественно, Ленин.
— Расскажите, как товарищ Ленин выглядит? — попросил Ратнер, придвигая табуретку поближе к гостю.
Петровский немного призадумался, затем добродушно улыбнулся и начал:
— Как бы вам сказать… Портретов я, безусловно, рисовать не умею и не берусь за такое дело. Среднего роста, блондин, впрочем, темный блондин с большим лбом и узкими всевидящими глазами. Он смотрит на вас и видит все, что делается в вашей душе. Так что ему не солжешь, он сразу поймет… Там был человек, колеблющийся между большевизмом и меньшевизмом…
— Мартов? — спросил старый Гусев.
— Нет, Мартова на краковской конференции не было. Куда ему! Так вот Ленин спросил его прямо: «Вы стоите на нашем берегу или на другом, на противоположном?» И сказано это было твердо, в то же время спокойно и корректно.
— А что дальше? — нетерпеливо спросил Костенко.
— Что дальше? Он не нашелся что сказать… — улыбнулся Петровский. — Так и не дал вразумительного ответа. На следующее заседание человек этот не пришел… — И после короткой паузы он добавил: — Таков Владимир Ильич. С твердой волей и всегда откровенен.
Петровский рассказал также о социал-демократической фракции в Думе, о вопросах, которые она поднимает в русском парламенте. Вот, например, такое важное дело, как рабочее страхование. Весь трудовой люд в нем заинтересован. В прошлом году правительство издало закон о страховании рабочих от несчастных случаев на предприятиях. В действительности этот закон не только не улучшил, но ухудшил положение рабочих — фабриканты и местные власти по-своему истолковывают этот закон, обманывают рабочих.
— И вот мы, рабочие депутаты, сделали запрос в Государственной думе, а там, нужно вам сказать, много вражески настроенных депутатов, ненавидящих трудовых людей и не желающих знать о нуждах и требованиях рабочих. Стоим мы на высокой трибуне, говорим о нуждах рабочего класса, а нам не дают говорить — свистят, шумят, высмеивают. Но мы стоим на своем: народ ведь — это мы…
Доступно, простыми словами Петровский передавал свои впечатления и о некоторых других заседаниях Государственной думы. Все внимательно слушали, словно впитывая его слова.
Давно уже выпили всю воду из самовара, шипение в нем прекратилось, даже зола высыпалась на поднос под остывшим самоваром, а гости еще сидели за столом.
Анастасия Шишова рассказала, в свою очередь, что на многих киевских предприятиях происходят волнения в связи с убийством Андрея Ющинского. Петровский заметил:
— Вчера я говорил товарищу Костенко, что Ленин заинтересовался этой историей. И он несомненно будет писать об этом процессе.
— Григорий Иванович, — включилась в разговор Прасковья Кирилловна, — по базару нельзя пройти, все тебе шепчут на ухо о Бейлисе. Кто он? Говорят, человек с черной бородой…
— Такой же человек, как я, — Григорий Иванович указал на свою бородку. — Можно сказать, что и у меня черная борода.
— Мы, Григорий Иванович, написали воззвание к киевскому населению… — Шишова достала бумагу и протянула Петровскому.
Прочитав, он сказал:
— То воззвание, короленковское, конечно, лучше написано. Мне кажется, что параллельных обращений не нужно.
Ратнер и Шишова переглянулись с видимым удовлетворением.
— Мы так и сделали…
— Очень хорошо. К чему вам новое воззвание? Под тем подписалась прогрессивная русская интеллигенция. Там, правда, не хватает, на мой взгляд, одного: нужно разъяснить народу, как правительство использует предрассудки, ложь и навет на евреев, чтобы отвлечь внимание от революционного движения. Вот этот важный пункт вам всегда надлежит подчеркивать и разъяснять просто, четко и доступно.
— Мы так и делаем, Григорий Иванович, — сказал Костенко.
— И есть успехи?
— Как когда. Массы темны… Убедить порой очень трудно.
— Терпение и еще раз терпение, иначе мы не завоюем доверие масс, особенно людей с предрассудками. Агенты правительства кричат: «Бейте инородцев — малороссов, татар, евреев, гоните их из России, тогда вам, рабочему люду, будет лучше!» Нам нужно простыми, доступными словами рассказывать, что истинными врагами народа являются самодержавие, министры, жандармы, полиция, чиновники… У вас в университете есть социал-демократы? — спросил Петровский Ратнера.
— Есть, но очень мало.
— Мало? Почему?
— Потому что «союзники» оказывают большое влияние на массы.
— А профессура? — спросил Петровский.
— Профессура… Не все хотят вмешиваться.
— Это хуже. Но нужно быть смелее. Вот вы, господин студент, знаете кого-нибудь из профессуры? — Петровский дружески положил руку на плечо Ратнера. — Вы пробовали когда-нибудь заговорить с кем-либо из профессоров о наших социал-демократических принципах, о борьбе с либералами и «союзниками»?
— Не всегда можно рисковать. Я раз провалился с одним профессором политехнического института…
Петровский перебил его:
— Вы ведь, как мне известно, студент медицинского факультета университета и к политехническому институту никакого отношения не имеете, поэтому там и провалились. А вот, например, с профессором Шабановым вы в каких отношениях?
Ратнер и Шишова переглянулись, их лица выразили удивление и одновременно удовлетворение тем, что Петровский знает о профессоре Шабанове.
— Вы знаете Шабанова? — вырвалось у студента.
— Во всяком случае, я слышал, что он против «союзников». Это уже для нас хорошо. Мне кажется, что с ним можно завести разговор.
Расходились довольно поздно. Из дома Гусева в заброшенном переулке на Демиевке в темноту ночи по одному выскальзывали люди и сливались с падающим снегом.
Петровскому пришлось по душе окружение старого рабочего. Он вспомнил большой зал в Таврическом дворце с чуждыми враждебными лицами, которые ни в коей мере нельзя было сравнить с этими простыми людьми — его людьми, на которых он опирался в своей повседневной работе.
В тот день настроение у начальника департамента полиции Степана Петровича Белецкого было необыкновенное. Во-первых, он старался забыть о том, что сегодня день рождения Таисии Георгиевны. Вчера супруга Мария Ивановна предупредила его: если он снова пошлет своей содержанке цветы, так лучше ему… Она не хочет произносить это слово… О, на сей раз она будет зорко следить…
И Степан Петрович был осторожен, как никогда раньше. Кроме того, Таисия Георгиевна, кажется, уже вчерашний день в его жизни.
Во-вторых, в департаменте полиции происходят важные события. Шуточки! Министр юстиции сообщил не только министру внутренних дел, но и ему, Белецкому, лично, что в деле киевского убийства начинается новый этап. Сам монарх запросил министра юстиции, как продвигается киевское дело, предъявлен ли еврею с черной бородой обвинительный акт? Монарху ответили, что эксперты еще колеблются, трудно подобрать верных людей. Монарх сердился, удивлялся: неужели в его стране нельзя найти ученых, настоящих преданных ученых с русской душой?
Сообщению министра юстиции, что, кроме киевского психиатра Сикорского, никто не хочет стать на службу монархии, Николай Второй не хотел поверить. Но министр юстиции заверил императора в том, что министр внутренних дел обяжет Белецкого обеспечить эту сторону дела. И вот Степан Петрович узнал, что самому монарху стала известна его роль в деле Бейлиса и что монарх возлагает на департамент полиции и на него, Белецкого, особые надежды.
Сказать об этом специалисте, стремившемся поставить в России политический сыск на небывалую высоту, только то, что он находчив в своей должности, это значит ничего не сказать. Он был как вымуштрованная опытная собака-ищейка: прошел школу Столыпина, когда тот был губернатором в Саратове, затем учился за границей — во Франции и в Англии у знаменитых заграничных криминалистов. Он был знатоком Шерлока Холмса и Ната Пинкертона, мастером виртуозных афер. Белецкий отличался циничным подходом к людям и событиям, в каждом деле мог найти необходимую зацепку, чтобы достигнуть своей цели и опутать дело сетью неясных, невидимых нитей, которые создали бы эффект, необходимый его хозяевам. А что в предстоящем киевском процессе важны и необходимы указания главного хозяина — Николая Второго — и его ближайших помощников из союза истинно русских людей, Белецкому было ясно. Начальник департамента полиции хотел сделать все, что нужно, все, что подсказывала ему интуиция.
Ему прекрасно было известно, что без прочно подготовленной, хорошо обоснованной экспертизы суд состояться не может. Важно, чтобы эксперты были авторитетными учеными, с именами, известными если не во всем мире, то хотя бы в России. Но как же сделать, чтобы при подборе необходимого эксперта не было провала? Нужно узнать характер ученого, его общественное лицо, политическую ориентацию. Речь ведь идет о деле, которое должно принести облегчение всему политическому курсу России…
Так думал Белецкий, этот пройдоха полицейский сановник, протянувший по всей России тончайшие нити политического сыска.
Еще будучи студентом юридического факультета Киевского университета Святого Владимира, он много раз читал о Фуше — французском министре полиции времен Наполеона Первого. Фуше, считавший своим принципом служить всем богам, продавать всех и вся, только бы беспрепятственно достигнуть своей цели, стал идеалом Белецкого. Уже став директором департамента полиции в России, Степан Петрович представлял себе, будто на нем такой же парик, как у Фуше, такие же сюртук, туфли и чулки, как у его французского предшественника. Возможно, Степан Петрович сможет достичь такой же высоты и получит такое же звание, как и Фуше.
Как только Щегловитов позвонил Белецкому по телефону, директор департамента полиции сразу ответил:
— Ваше благородие, я подыскал подходящего профессора…
— Кого, Степан Петрович?
— Гм… гм… Косоротова Дмитрия Петровича, профессора судебной медицины.
— А-га, депутат Государственной думы Замысловский уже говорил мне, что на этого профессора можно положиться. Действуйте, — закончил министр юстиции.
Значит, нужно вызвать Косоротова к себе. А может, лучше самому поехать к профессору… Нет, не годится! Лучше к себе, в департамент. Это произведет большое впечатление. И кроме того — авторитет полиции…
Когда профессору Косоротову сообщили, что его просят прибыть к определенному часу в департамент полиции Министерства внутренних дел, он сначала заволновался, а потом успокоился, понял: это, верно, по поводу того дела, о котором намекал министр юстиции как-то при встрече у одного знакомого. Щегловитов рассказывал тогда о каком-то процессе, готовящемся в Киеве, который-де не начнется, пока не скажет своего слова русская наука. Тогда же министр сказал профессору Косоротову:
— Только вы, Дмитрий Петрович, можете нам помочь.
— Я?
— Да, именно вы, — твердо ответил министр юстиции.
И теперь Косоротов начал восстанавливать в памяти все, что он слышал о киевском убийстве. Ему даже вспомнились протестующие заявления виднейших европейских ученых киевскому психиатру Сикорскому. И на мгновение он задумался: а может, попытаться избежать беседы, которая возникнет в департаменте… Может, не пойти? А вдруг приглашают его совсем по другому делу, кто знает?
Косоротов только что закончил лекцию. Перед его глазами все еще стоял этот рыжий, веснушчатый студент, не отстававший от него и все интересовавшийся вопросом о так называемом visum reperium, что означает — «акт осмотра». Веснушчатый студент хотел знать, что превалирует в этом вопросе — суд или наука? И сколько профессор ни растолковывал ему, студент все не соглашался с ним, ссылаясь на авторитет известного юриста Спасовича, который утверждал, что суд должен базироваться не только на научных гипотезах и предположениях, а исходить из психологических соображений. Главным, естественно, являются результаты акта осмотра и психологические выводы, вытекающие из практической жизни — из ситуации. Вот на чем настаивал знаменитый адвокат и что доказывал профессору студент.
— Вы отрицаете примат науки?
— Нет, нет, — горячился студент. — В дополнение к научным гипотезам и психологическим выводам важна чистота души и добропорядочность судебного эксперта…
…Почему ему вспоминается этот веснушчатый студент именно теперь, когда он собирается посетить департамент полиции? Словно иглы таранили его сознание энергичные слова студента о добропорядочности, честности и чистоте души при экспертизе. Не иначе как кто-то подослал к профессору того упрямого молодого человека в потертой студенческой тужурке… Образ студента преследовал Косоротова на пути к департаменту полиции.
— Дмитрий Петрович! — обрадовался Белецкий, наклонив перед вошедшим профессором аккуратно причесанную голову с жирными, блестящими волосами.
— Господин Белецкий? — осторожно спросил Косоротов.
— Да, Дмитрий Петрович. У нас обоих одинаковые отчества: меня зовут Степан Петрович. Да-с. Садитесь, Дмитрий Петрович, — он указал на кресло.
Косоротов разгладил оба конца широкой бороды, приподнял полы сюртука и сел.
— Слушаю вас, господин Белецкий.
— В нашем министерстве есть мнение, — сразу приступил к делу Белецкий, — что вы, Дмитрий Петрович, являетесь подходящим кандидатом в эксперты для киевского процесса.
— Что вы хотите этим сказать, господин Белецкий?
Шнурок, на котором держалось пенсне профессора, упал. Он подхватил шнурок правой рукой и перебросил его через ухо.
Белецкий следил за движениями Косоротова и заметил некоторую его нервозность.
— Мы считаем вас наиболее компетентным в этой области науки. Да-с. Как думаете вы, Дмитрий Петрович? — улыбнулся Белецкий.
Профессор ничего не ответил. Помолчав немного, тяжело поднялся, подошел к окну, затем опять сел и спросил:
— Так что же требуется от меня?
Белецкий выдвинул ящик своего письменного стола, достал конверт и придвинул поближе к профессору.
— Вам понятно, что мы хотим от вас?
Косоротое равнодушно смотрел на блестящие волосы Белецкого.
Помедлив, он взял конверт в руки.
— Это только аванс, господин профессор. В Киеве, куда мы командируем вас, вы получите остальное обеспечение.
Когда конверт был уже в широком нагрудном кармане профессора, Белецкий добавил:
— Мне известно, что вас ожидает высочайшая награда.
В течение длительной паузы Косоротов видел улыбающиеся губы Белецкого и немного прищуренные его глаза.
— И в течение всего процесса департамент не забудет вашей экспертизы по этому делу, да-с, да-с…
Немецкий император Вильгельм Второй внимательно изучал мемуары Отто Бисмарка, читал, что-то записывал, часто останавливался, задумывался.
Теплый июньский день распростерся над аккуратно обработанным садом, где необыкновенные экзотические растения, привезенные из далеких тропиков, создавали под окнами императорского замка особую атмосферу спокойствия, уюта и удивительную прохладу.
Одно место в мемуарах Бисмарка особенно привлекало внимание немецкого императора: Бисмарк писал о том, как ему однажды привелось сопровождать царя Александра Второго на охоту в Беловежской пуще, — тогда он был прусским полномочным министром, послом при русском дворе. Случилось так, что Бисмарк отстал от царской свиты и заблудился. Это было в зимнее время, когда стояли сильные морозы. На затуманенный белый лес начали надвигаться темные сумерки. Бисмарк услышал хриплые, тревожные звуки рожков — очевидно, заблудившегося посла разыскивали. Но звуки рожков терялись в гуще леса, как оленьи рога меж ветвей, и безнадежно угасали. Неожиданно — просто чудо! — перед растерявшимся послом выросли крестьянские сани, кривые и тяжелые, с маленьким, сморщенным мужичком, который, несмотря на незначительный рост, обладал мощным голосом.
— Что случилось, барин, чего ты так испугался? — Маленький человечек разглядывал Бисмарка.
— Ты слышишь, — обрадованный Бисмарк начал объяснять крестьянину на ломаном русско-польском языке, — этот рожок далеко-далеко зовет меня.
— Понятно. Садись, барин, в сани.
— Данке шён, — бросил высокопоставленный барин и упал в сани.
Медленно, переваливаясь в санях с боку на бок, оба — крестьянин и прусский министр — ехали по ледовым ухабам и огромным сугробам. И каждый раз, когда лошаденка поскальзывалась, припадая на одну хромую ногу, и сани с высокопоставленным пассажиром подбрасывало, крестьянин хладнокровно говорил: «Ничего, барин!»— и подгонял слабую, продрогшую лошаденку каким-то странным кнутом, который скорее подошел бы для гусей. И снова ухабы и снежные горы, снова качаются сани, и полуокоченевший голос: «Ничего, барин!», который слышался словно издалека, наводил еще больше тоски и страха на прусского посла…
Этот эпизод, судя по тому, какими красками он его описал, очевидно, врезался в память, глубоко запал в сознание Бисмарка. Читая, Вильгельм ощутил страх. Особый страх, когда в сознании отдается: «Берегись русского „ничего“! Это слово может пробить все крепости и все военные стены. Берегись!»
Вильгельм поднялся, прошелся по роскошному светлому кабинету, выглянул из окна в сад, а слова «берегись русского „ничего“» все крутились у него в голове. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, он позвонил, и тотчас же вошел камердинер — высокий человек с необыкновенно большой бородой, расчесанной на густые белые половины, и лицо у него было белое, вытянутое.
— Немедленно позови ко мне… — Вильгельм велел позвать одного из тех, кто занимался у него русскими делами.
— Что случилось, ваше величество? — спросил вызванный придворный.
— Граф… какие новости в России?
— Ваше величество, я вам уже докладывал. Готовится большой процесс.
— Большой процесс. А что за процесс?
— Ритуальный, Россия отдает ему много сил. Империя погрязнет в нем, как в помоях.
— Очень хорошо. Это нам и нужно…
Граф был счастлив, что угодил своему императору. Последнее время Вильгельм был беспокоен, просил подготовить для него сведения об экономическом потенциале России, главное — о материальных возможностях страны.
— Ах да, ваше величество, чуть не забыл: прокурором на процессе назначен Оскар Виппер…
— Виппер?.. — Вильгельм еще шире раскрыл большие глаза.
— Ваше величество, он ведь немец, этот Виппер.
— Великолепно, великолепно, мой любезный граф.
Вильгельм подкрутил свои знаменитые усы, которые так часто изображали фотографы и карикатуристы всего мира. Довольный, он положил руку на плечо графа и заговорил с подъемом:
— Вы мне как-то рассказывали, граф, о нашем бессмертном короле Фридрихе Великом, который в войне против России у крепости… Ах да, я давно хотел у вас спросить, вы читали когда-нибудь вот эти… — он нарочно поднял вверх книгу, чтобы граф увидел, что именно он держит в руках, — вот эти мемуары князя Отто Бисмарка, где очень удачно сказано о России. Никогда не читали? Каждый немец должен их прочитать. А я… — император помолчал, сверкнул большими жестокими глазами, — мой друг в Петербурге… Ники, не знает, что я готовлю для него, он спит спокойно… — Вильгельм рассмеялся приглушенным смехом, закрывая рот большой волосатой рукой. — Он спит спокойно возле своей Алисы… — Вильгельм рассмеялся так, что слезы брызнули из глаз. — Я говорю, граф, что мой друг, всероссийский император Николай Второй… Заметьте, прошу вас, граф, тоже «второй» — хороший для меня признак. Я говорю, Ники не подозревает, что я думаю теперь о нем. Как вы думаете, граф, где он сейчас находится? Я предполагаю, что в Крыму, в Ливадии…
Граф, конечно, не смел перебивать императора, у которого слова сегодня так легко лились из уст, совсем не так, как всегда. Вообще-то император был молчалив. Он никогда не решал какие-либо вопросы, не посоветовавшись со своими консультантами. А сегодня он такой энергичный и решительный. Не иначе, думает граф, какая-то хорошая мысль пришла ему на ум, и это воодушевляет его.
— Где вы сегодня обедаете? — неожиданно спросил император.
— Где? — граф не знал, что ответить.
— Да, где? Почему так долго думаете? Вообще вы обедаете или такого не бывает в вашей жизни, граф?
Граф покраснел до ушей. Что-то пробормотал, потом произнес решительно:
— Ваше величество, я сегодня не обедаю.
— Вы настолько бедны, мой милый граф?.. — рассмеялся Вильгельм.
— Нет, не то, ваше величество…
— Я приглашаю вас сегодня к моему столу, дорогой граф.
— Счастлив, ваше величество. Такая честь для меня. Я счастлив…
Вильгельм велел графу немедленно связаться с немецким послом в Санкт-Петербурге. Но осторожно…
— Поняли, мой милый граф? — добавил он.
Да, граф, несомненно, очень хорошо понял своего императора.
Ухмыляясь, Вильгельм разгладил усы. Его подчиненный не посмел засмеяться, поэтому прикрыл рот большой ладонью.
Через несколько дней после беседы немецкого императора с графом в дверь одного дома на Итальянской улице столицы Российской империи, где проживал помощник прокурора Петербургской судебной палаты Оскар Юрьевич Виппер, постучалась скромно одетая женщина. Служанка впустила ее и провела в кабинет Виппера. Вскоре появился и сам хозяин. Через большие стекла очков он внимательно посмотрел водянистыми глазами на молодую даму.
Их взгляды встретились. Она попробовала улыбнуться, а он ответил строгим взглядом. Тогда она достала письмецо из продолговатой сумочки.
— Господин прокурор, — и подала письмецо, — я представительница парфюмерной фирмы.
— Я не занимаюсь парфюмерией.
— Это мы знаем, мой господин! Но это важно не только для нашей фирмы, но и для вас.
Виппер напряженно смотрел на протянутую руку с письмом.
— От немецкого посла, — сказала она.
— Почему же вы не пришли ко мне в департамент, мадам?
— Это опасно, господин прокурор.
— Опасно?! — удивился он, не спуская глаз с письма, но брать его не решался.
— Прочтите, господин Виппер. Его величество сам император Вильгельм Второй уполномочил нашего посла в Санкт-Петербурге…
Последние слова повлияли на прокурора. Дрожащими руками он распечатал письмо. В глазах его на мгновение потемнело, но он овладел собой.
— Здесь все написано, господин Виппер. Вы ведь немец, господин прокурор…
Он снова развернул бумагу, еще раз перечитал короткие строки, написанные на немецком языке. Закончив, выжидательно посмотрел на даму.
— Здесь написано, что остальное расскажете вы.
— Да, господин прокурор. — И женщина обернулась на дверь.
— Можете говорить, мадам, здесь никто не подслушивает.
— Нас объединяют одни и те же интересы, — начала она. — Во-первых, наша ненависть к евреям. И во-вторых — и это самое главное, — слышите, господин прокурор, самое главное: необходимо, чтобы вы, как главный обвинитель, так усложнили дело, чтобы скандал обрушился на всю Россию, втянул страну, все ее общество, в глубокую пропасть… Чтобы все другие интересы сошли на нет, тогда наш монарх сможет диктовать России свою волю.
Пауза.
— Вы поняли, господин прокурор? Вы ведь немец… — повторила женщина. — Германия этого никогда не забудет, можете быть уверены…
Слова женщины падали словно удары кувалды — тяжелые, убийственные и неожиданные слова.
«…Германия этого никогда не забудет…» — звучало в ушах прокурора.
— В нашем посольстве, — добавила она, — о вас и о вашей жизни все известно. Вы ведь немец…
Опять молчание. Женщина собралась уходить.
— Вашу руку, господин прокурор, — нежно сказала она. — Надеюсь, вам понятно, что нужно делать? Процесс буквально затопит Россию…
Женщина давно ушла, а прокурор все еще сидел в растерянности. Понемногу Виппер пришел в себя. Ему вспомнилось, как еще в детстве пастор в кирхе шептал на ухо: живешь в России, но должен помнить, что ты немец, принадлежишь к чистейшей расе — германской…
Потом и отец ему как-то сказал: «Оскар, Германия имеет наисвятейший и сильнейший гимн: „Дойчланд юбер аллес…“»
…Увидеть бы женщину, что принесла письмо. Нет ее. А письмо она забрала с собою. Он хотел бы сказать ей: он помнит, что он немец, он ненавидит Россию, ее народ, ее обычаи и ее землю…
В тот день в Петербурге было жарко, очень жарко. Так жарко, что и дышать, казалось, было невозможно. Несмотря на то что было лишь начало июня — по старому времяисчислению двадцатое мая, — жара стояла уже несколько дней подряд. Собаки бежали с высунутыми языками, и люди остерегались их. Сотни и тысячи горожан с раннего утра искали прохлады. Даже очень занятые домашние хозяйки оставили свои дела и, забрав детей, устремились за город. В те дни в Петербурге практически приостановилась обычная жизнь, город был парализован, на обычно людных улицах редко встречались прохожие. Под палящим солнцем большой город был почти пуст, распарен, растоплен своими проспектами, улицами, парками и тысячами раскаленных домов. Все истекали потом, просто теряли силы.
Но жизнь никогда не останавливается — ни в жару, ни в холод. Город задыхался, млел, но жил.
В Таврическом дворце, где в последние дни проходили очередные заседания русского парламента — Государственной думы, сегодня продолжались дебаты. Несмотря на сильную жару, здесь, в зале заседаний, было прохладно. Депутаты, представители разветвленной русской общественности, нисколько не страдали от неимоверной жары: десятки вентиляторов, расставленных в зале и в кулуарах, приносили прохладу. И сколько бы ни горячились некоторые депутаты во время шумных дебатов, это, естественно, не отражалось на общей атмосфере зала.
Шло важное заседание: обсуждалась смета Министерства внутренних дел. Русскому правительству нужно было официально выделить из полученных от населения налогов средства на содержание полиции, жандармерии, охранки и их учреждений: тюрем, мест каторги, а также на содержание учреждений, помогающих держать в страхе и подчинении народы, населяющие Россию.
Много выступало депутатов, и правых, и левых. От так называемых либералов-кадетов выступил Родичев, от польского коло — ксендз Мациевич; выступали епископ Анатолий и другие священнослужители, которые широко были представлены в русском парламенте; а от правых — Марков-второй, без которого не проходило ни одно заседание. Где бы он ни появлялся, всюду шумел, галдел вместе с подобными ему — Пуришкевичем, Замысловским и другими.
В парламенте были представители всей страны. Бросались в глаза брожение, внутренние противоречия, рвавшие жизнь народов на куски. Представители различных групп населения спорили между собой: кто объяснялся в любви к монарху — крупнейшему помещику в стране, кто отмалчивался, не высказывая своего внутреннего недовольства, а кто открыто выступал против бесправия и говорил о нуждах беднейших слоев населения, выступал против насилия и принуждения.
При обсуждении затрат Министерства внутренних дел, как на лакмусовой бумажке, проявились настоящие настроения депутатских групп. Большинство правых групп — националисты, священнослужители, центристы, октябристы, кадеты, либералы поддерживали правительство и его требование утвердить смету министерства, призванного стоять на страже порядка в стране, угрожать тем, кто выступает против монархии и хочет свергнуть ее.
— Тюрьмы необходимо строить, — патетически воскликнул один из правых депутатов, — не только для криминальных преступников, но и для тех, кто нарушает установленный порядок, данный самим богом и его представителем на земле — благословенным государем императором Николаем Александровичем…
В большом прохладном зале наступила тишина, когда председательствующий предоставил слово епископу Анатолию. Епископ заявил, что наилучший путь приобщения народов Российской империи к русской цивилизации — это изучение в начальной школе с первого дня русского языка, а не своего родного…
Такая мысль пришлась по душе правым. Небезызвестный Пуришкевич даже встал на сиденье и начал аплодировать, выражая свой восторг. Большинство депутатов, как соратники, так и противники, уже привыкли к восторгам и рычанию Пуришкевича, к его напыщенно-вызывающему виду, к бешеным глазам маньяка, поэтому почти не глядели на него. Но он все равно свое откричал, как кукла с заводным механизмом, которая не перестает пищать, пока не кончится завод. Депутат социал-демократической фракции Думы Григорий Иванович Петровский немного волновался. Перед ним лежал полный текст предстоящего выступления, главные тезисы которого были подготовлены Владимиром Ильичем Лениным еще во время краковского совещания. Позже Ленин затребовал дополнительные материалы с места и еще сильнее сцементировал эту речь.
Постепенно депутат от рабочих начал чувствовать себя увереннее, он помнил, что вскоре председательствующий назовет его фамилию и ему надо будет выступить с достоинством. Перед ним возникли лица украинцев, белорусов, поляков, латышей, евреев, эстонцев, казахов и многих других людей, рассказывающих о своих нуждах. Все эти дополнительные материалы были отосланы Ленину, и все они нашли место в речи рабочего депутата. К тексту Ленина Петровский добавил еще некоторые факты, и речь стала полнее, ярче и убедительнее.
Петровский пробежал глазами текст. Много, слишком длинно. Может быть, сократить? Разве дадут ему столько говорить? Не дали же ему договорить, когда он выступал по вопросу о страховом законе в пользу рабочих, высмеяли тогда его требования, требования депутата от рабочих… До сих пор звенит в ушах смех правых депутатов. «Можете смеяться, господа депутаты, — думал он, — возможно, моя речь не так благозвучна и вы не сможете переварить то, о чем я буду говорить с этой высокой трибуны. Но меня сюда послала Екатеринославская губерния, я обещал своим избирателям, что расскажу сущую правду. Избиратели наказали мне: пойди и скажи о наших страданиях, не пугайся, даже если тебя захотят высмеять, режь правду-матушку, как бы ни была она горька для господ депутатов…»
Петровскому стало легче от этих мыслей. Теперь он смело бросит правду в лица тем, кто, по-барски развалившись, сидит в этом большом зале.
Перегнувшись через стол, председательствующий попросил соблюдать тишину и дал слово депутату от рабочих.
— Мне поручено сказать несколько слов о том, какова позиция нашей фракции по национальному вопросу и как она относится к Министерству внутренних дел… — начал Петровский. — Национальный вопрос в России имеет громадное значение. Один из героев государственного переворота третьего июня, герой контрреволюционной политики… Столыпин старался выкинуть, для прикрытия всякого насилия и угнетения, пресловутое национальное знамя. Он создал партию…
При этих словах в ушах Петровского затрещал звонок Родзянко, но депутат даже не оглянулся и продолжал:
— Это он, Столыпин, создал партию националистов, которая занимает довольно видное место в теперешней черной Думе, и до сих пор национальная политика нашего правительства является боевой программой… Про совет объединенного дворянства, эту боевую силу нашего правительства, говорить нечего… Правые партии, включая октябристов, приветствуют всякие меры угнетения народов — татар, армян, евреев, киргизов, башкир…
Будет вполне уместно, если при обсуждении сметы Министерства внутренних дел, этого главного выразителя официальной национальной политики, я, как представитель пославшего меня социал-демократического пролетариата, остановлюсь несколько на этом и скажу, как к этому относятся сознательные рабочие во всей России, в частности, социал-демократы. Я тем более считаю уместным сделать это, что являюсь представителем одной из многочисленных угнетенных народностей, которые преследуются правительством.
В Екатеринославской губернии 0,7 населения, если не больше, составляют украинцы, которых на официальном языке называют малороссами… («Хохлы!» — раздался голос то ли Маркова, то ли Пуришкевича — в напряженной атмосфере было трудно разобрать.
…В России великороссов сорок три процента, это значит — менее половины населения, а между тем весь остальной народ признан инородцами. Таким образом, большинство населения в России не имеет права и возможности говорить на родном языке, испытывает бесконечное насилие и гнет…
Нигде на земном шаре нет такого дикого средневекового учреждения, как черта еврейской оседлости…
Со стороны правых раздался скрипучий голос:
— Поздравляем! Новый шабес-гой появился в Думе — социал-демократ Петровский.
Петровский бросил мимолетный взгляд в сторону правых и продолжал:
— Миллионные народы терпят бесконечные угнетения от власть имущих… О какой вообще свободе может быть речь в стране, где нет свободы слова… где рабочие и крестьяне являются гражданами третьего и четвертого разряда, где за избранниками народа ходят банды агентов охранного отделения, в стране, где еще можно устраивать такие процессы, как процесс Бейлиса?
Снова раздались возгласы:
— Шабес-гой!
— Я ведь говорил — новый шабес-гой!
— Родной брат Владимира Короленко!
— Оба они малороссы, ненавистные хохлы!
Снова раздался звонок председательствующего Родзянко.
Оратор на трибуне улыбнулся и продолжал:
— …Но помимо средневековых преследований евреев в варварской и дикой стране нашей, преследования родного языка всех наций, как бы особую задачу правительства составляет преследование языков славянских наций — украинцев и поляков… Черносотенцы и их лакеи называют Россию великой славянской державой, быть может, только потому, что в этой великой державе наблюдается самое большое угнетение славянских народностей. Аресты, обыски, штрафы, полицейские преследования за тайное обучение родному языку!..
…В России преследование грамотности и преследование славянских наций в области образования на родном языке принимает неслыханные размеры… Но, господа, если безобразна и крепостнически позорна вообще русская безграмотность, безграмотность, охраняемая и насаждаемая нашим правительством, то она еще ужаснее на Украине…
…Господин председатель бюджетной комиссии в своей речи сказал, что громадная сумма нашего бюджета, три миллиона с лишним, — налоги, собираемые преимущественно с самого что ни есть бедного люда, и из этих именно копеечек создается такой бюджет. В то же время председатель бюджетной комиссии говорит: личная и имущественная безопасность не находятся на надлежащем уровне. На что он намекает, не на то ли, что у нас мало полиции, что нужно больше агентов, больше тюрем? Он не сказал определенно…
…Разжигание национальной вражды — вот девиз нашего Министерства внутренних дел; разделяй и властвуй; разделение в национальном вопросе всех партий, господа, — вот ваша самая главная задача…
Снова раздались раздраженные возгласы на скамьях правых.
Одиноко сидел где-то среди кадетов еврейский депутат Фридман и внимательно слушал речь Петровского. Когда депутат от рабочих упомянул дело Бейлиса и трагичное положение евреев в России, Фридман подумал: «Как этот социал-демократ говорит о нашем народе!.. У него получается лучше, чем у меня. Можно подумать, что этот депутат от рабочих Екатеринослава представляет евреев в русском парламенте, а не я, Фридман Нафталь Маркович, присяжный поверенный из Ковенской губернии!»
Обида на самого себя за свою беспомощность начала одолевать Фридмана. Он глядел на Петровского, на его лицо, которое может быть и жестким, когда он говорит о своих противниках, и добрым, мягким, когда он говорит о своих братьях рабочих и об угнетенных народах России.
Невзирая на гомон правых, Петровский режет остро, как добротным скальпелем, и помимо своей воли его слушает вся Дума.
Григорий Иванович глянул в сторону, где сидели большевистские депутаты — Бадаев, Самойлов и другие, и почувствовал, что они поддерживают его. Он заметил это по выражению их лиц. Бадаев подмигнул ему, как бы желая напомнить, что он, Петровский, не все сказал. Все они были знакомы с речью, написанной Лениным и переправленной большевистским депутатам.
Петровский налил из графина в стакан немного воды, отпил, поставил стакан обратно, который весело звякнул о поднос, и продолжал:
— Вопрос о национальном мире или национальной ненависти имеет коренное значение для русской демократии. Только при полном единстве демократических сил мы можем добиться политической свободы и обеспечить ее; наоборот, национальная травля обессиливает борьбу за свободу в интересах помещиков, в интересах реакции…
— Довольно! — раздалось из зала.
— Господа депутаты! — призывал Родзянко. — Дайте члену Государственной думы депутату Петровскому закончить свое слово.
Депутат продолжал:
— Национальному шовинизму и интернациональному объединению капиталистов рабочие противопоставили свое интернациональное объединение для борьбы против капитализма, против буржуазии…
Гомон заглушил голос депутата. Но он напряг все свои силы и закончил:
— Мы голосуем против сметы Министерства внутренних дел…
Свистки и ругательства со стороны правых провожали Петровского с трибуны.
Гордый, удовлетворенный тем, что он выполнил наказ своих избирателей, Петровский направился к друзьям и соратникам, сидящим в зале императорской Государственной думы.
— Мало вас вешали, господа социал-демократы!
— Мы с вами рассчитаемся!
Петровский не прислушивался к этим диким выкрикам, а смело шагал вперед. Вскоре он попал в объятия Бадаева, Шагова и других большевиков, приветствовавших его мужественное выступление.
Не все, вероятно, заметили, что Родзянко подмигнул октябристу Скоропадскому и сразу же дал ему слово. Крупный помещик, владевший большими имениями на Украине, генерал императорской армии, человек, который был тесно связан с царским двором, Павел Петрович Скоропадский, через несколько лет, в апреле 1918 года, на так называемом «съезде украинских хлеборобов», инсценированном австрийско-немецким командованием, был объявлен «гетманом всея Украины».
И вот на трибуне Государственной думы появился здоровенный, широкоплечий генерал с крупными чертами лица, сверкнул серыми грустными глазами и заговорил грубым сочным голосом:
— Кто это здесь выступает непрошеным защитником нашего малороссийского народа, кто, я спрашиваю? Весь малороссийский народ чувствует и признает себя русским народом, и мы никогда не подумаем причислять себя к инородцам. Малороссы, белорусы и великороссы — один русский народ. Во главе русской Думы стоит внук запорожских казаков — Родзянко. Малороссам не нужно никакой автономии, им нужна единая мощная Россия!..
Родзянко наклонил голову к оратору и начал аплодировать. Это было какой-то демонстрацией против установленного в Государственной думе порядка. Многие депутаты, в основном правые и октябристы, тоже начали хлопать, весь огромный зал потонул в рукоплесканиях.
Петровский долго смотрел вслед удалявшемуся от трибуны «малороссу» Скоропадскому, видел его жирный затылок и большую голову, гордо и важно качавшуюся на мощном туловище. Депутат от рабочих подумал: «И этот родился на той же самой украинской земле, что и тысячи, десятки тысяч других честных украинцев. Какой мерзавец, какой отвратительный предатель!» От ненависти у рабочего депутата сжались кулаки.
Депутат Бадаев, товарищ Петровского по совместной борьбе, заметил его возбуждение.
— Что такое, Григорий Иванович? Что с вами?
— Страшный человек! Монстр! — кивнул он в сторону Скоропадского.
— Хуже Маркова-второго?
— Как одна мать их родила, Алексей Григорьевич, как одна мать…
Через несколько минут взволнованный Петровский шептал Бадаеву:
— Мне кажется, я уже говорил вам, что кроме моего земляка из Екатеринославской губернии, кроме Родзянко, здесь в Думе есть еще один мой земляк — Марков-второй.
— Близкий, душевный друг ваш, Григорий Иванович, — тихо смеялся Бадаев. — Расскажите, расскажите, вы мне никогда не говорили об этом. Но подождите, кажется, объявляется перерыв.
Действительно, первый земляк Петровского Родзянко властно позвонил и объявил перерыв.
— Теперь рассказывайте, Григорий Иванович, — Бадаев взял Петровского под руку, и вместе с другими большевистскими депутатами они пошли в кулуары.
И в одном из боковых залов Таврического дворца Петровский рассказал о своем знаменитом земляке Маркове-втором:
— Он происходит из старого помещичьего рода. Пока не отменили крепостничество, деды и прадеды Маркова владели тысячами крестьян в Курской губернии. Мой дед и моя бабушка были крепостными у этих помещиков-извергов, об этом мне рассказывала моя родная мать. А теперь он, внук тех, кто пытал моих предков, встречается со мной в русском парламенте.
— Потрясающая встреча, — ухмыльнулся Бадаев.
И действительно, Петровского — внука бесправных крестьян-рабов, и Маркова — внука помещиков-крепостников — судьба свела в одних стенах. Оба они сидят в одинаковых креслах и дышат одним воздухом. Но и теперь, как и раньше, между ними лежит глубокая пропасть, идет борьба, схватка, корнями уходящая в глубину русской истории.
— Да, товарищи, я еще не закончил, — продолжал Петровский. — Владимир Ильич Ленин в беседе со мной дал такую справку о Маркове: род Марковых тянется еще с времен Екатерины. Семилетний мальчик по фамилии Марков был возведен в ранг благородных и получил прозвище «оспенный». Это отличие мальчик «заработал» — ему привили оспу, чтобы использовать лимфу для императрицы. В те времена прививка оспы считалась очень опасной — и, чтобы показать пример своим подчиненным, императрица первая приняла прививку оспы, и об этом был объявлен специальный манифест. В настоящее время употребляют оспенный соскоб от телят или коров и платят за это копейки, а во времена Екатерины взяли лимфу у Маркова и за его «труд» дали звание дворянина.
Все рассмеялись, а Бадаев сказал:
— А наш «оспенный» Марков до сих пор болеет оспой и всех депутатов хочет заразить…
— Не только депутатов — он всю Россию хочет заразить, — отозвался другой депутат.
Звонок председателя оборвал разговор, депутатов приглашали в зал.
— Марков направляется к трибуне, — шепнул Бадаев, — поспешим к своим местам.
— Ваш земляк, Григорий Иванович. Глядите, как растрепаны у него волосы.
— И красный, как свекла.
— О-го-го, как злится этот курский соловей.
Депутаты от рабочих не успели еще сесть на свои места, а Марков уже стоял на трибуне и, сверкая глазами, требовал у председателя призвать публику к порядку.
— Господа депутаты Государственной думы, — начал Марков. — Для нас имеются три святыни: православная вера, царь — неограниченный самодержец — и русский народ. Мы — сторонники народности, сторонники идей, объявленных нашим монархом 17 октября. …Неправильную здесь нарисовали картину. Евреи в России словно чужеродное растение, питающееся соками других растений. То же самое и украинцы, стремящиеся отделиться от россиян…
Господа депутаты, нам придется воевать против революции не с кадетами, не с трудовиками, не с меньшевиками и даже не с эсерами. Все вместе взятые они схожи или с Керенским — этим адвокатом, или с Сазоновым — книгоиздателем, или с другим каким-нибудь конторщиком. Нам предстоит борьба с социал-демократической рабочей фракцией — с большевиками и им подобными…
— Выгнать большевиков из Думы!
— Лишить их депутатских прав!
Маркова эти возгласы подбодрили, и он заговорил еще горячей.
— К сожалению, к ним прислушиваются рабочие, к ним прислушиваются бунтовщики из инородцев. Это они являются кочегарами революции — подбрасывают в котел бесчисленное количество угля, чтобы паровоз мчал побыстрее, и не только к конституции. Они накачивают больше пара, чтобы паровоз мчал побыстрее к революции.
— Изгнать большевиков из Думы!.. — рвали глотки правые.
Пятерка депутатов от рабочих спокойно и с достоинством глядела на озверевшую публику — на реакционеров Государственной думы.
Петровский был счастлив: он оправдал святой наказ своих избирателей-рабочих, он приблизил свершение революции.
Часть третья
Конец сентября в Киеве стоял прекрасный — сухая, солнечная, безветренная погода ласкала и радовала. Тепло окутало город, опоясало площади и улицы солнечными лучами, которые проникали во все щели. Окрашивали позолотой бронзовые каштаны и серебристые тополя, которые словно стражи стояли вдоль разлинованных тротуаров и строгих бульваров. Верхние этажи домов тянулись в синеву небесной дали, где с писком сновали заблудившиеся ласточки.
Но жителей восхитительного южного города менее всего интересовала осенняя красота природы, их внимание привлекала трагедия, которая должна была разыграться в окружном суде. Газеты извещали, что двадцать пятого сентября начнется слушание дела о таинственном убийстве Андрея Ющинского и что на скамье подсудимых окажется еврей с черной бородой, служащий кирпичного завода Зайцева — Мендель Бейлис.
Из газет также было известно, что обвинителем на процессе назначен помощник прокурора Петербургской окружной судебной палаты Виппер, гражданскими истцами — присяжные поверенные Замысловский и Шмаков, защитниками — петербургские присяжные поверенные Карабчевский, Грузенберг, Зарудный, Маклаков и киевский присяжный поверенный Григорович-Барский. Что же касается заседателей — будет подобран специальный состав. О председателе суда упоминалось только, что это очень опытный пожилой человек, что его специально направили в Киев для ведения этого процесса.
Некоторые газеты намекнули, что роль Чаплинского, хоть он лично и не выступит обвинителем на процессе, еще не завершена. Подчеркивалось даже, что он был главным режиссером при подготовке процесса и поднялся в своей карьере на более высокую ступень именно потому, что подыскал — вернее, подставил — лиц, показания которых были направлены против человека с черной бородой, Бейлиса. А теперь, когда главным обвинителем на процессе выступит Виппер, что будет делать Чаплинский, к чему сведется его роль? И вот — говорилось — его режиссура еще не закончена. Все доносы, рапорты полиции о воззваниях и стачках в знак протеста против процесса — все это попадает в руки Чаплинского, а он уже принимает соответствующие меры. Для него, для этого низменного карьериста, теперь, накануне процесса, особенно хватает дел…
За день до начала процесса студент Политехнического института Станислав Ромашко постучал в дверь зубного врача Ратнера и спросил Якова. Дверь открыла мадам Ратнер, мать Якова, и первое, что ей бросилось в глаза, — эполеты на плечах студента, на которых под русской буквой «А» серебрились две ровные полоски. Женщина сразу же поинтересовалась, что это означает. Добродушный, полнощекий парень ответил, что Политехнический институт, в котором он имеет честь учиться, носит имя царя Александра Второго.
— А теперь, мадам, — смелее заговорил студент, — я прошу сказать мне, где я могу найти Яшу?
Женщина слегка покраснела, но не отставала от студента:
— Я скажу, но сначала объясните мне: зачем вам понадобился мой сын?
Ромашко улыбнулся, и от этого лицо его стало еще симпатичнее. Он колебался — ему было ясно, что о деле, по которому он пришел к Яше, не может быть и речи, даже одно лишнее слово может навредить.
— Меня удивляет, что мать такого разумного парня, как Яков, может разрешить себе задать такого рода вопрос, — ответил он тихо.
Подобного ответа женщина не ожидала.
Она почувствовала себя неловко, но попробовала выйти из создавшегося положения:
— Как звать вас, молодой человек?
— Стасик.
— А фамилия?
— Ромашко.
— Мать есть у вас?
— Да.
— А отец?
— Нет, умер.
— Так вы должны понять, что я тоже мать и каждый шаг моего сына меня интересует… — И после небольшой паузы, во время которой женщина вглядывалась в зрачки Стасика, она продолжала: — Очень тревожное время теперь… А может быть, вы из голубевских босяков?
Стасик рассмеялся.
— Нечего смеяться, господин студент. Яша мой уже несколько раз приходил из университета побитый… Скажите, у вас в Политехническом тоже есть белоподкладочники?
— Есть, мадам, есть. Но вы не беспокойтесь, я не из тех.
— Кто же вы?
— Студент… как бы вам сказать? Совсем наоборот, я против тех собак…
— Ну, если так, я скажу вам, где находится мой сын. Сейчас, минуточку… — Размахивая руками, она поспешила к кабинету мужа, зовя на ходу: — Яша, Яшенька, к тебе пришли.
Она распахнула дверь кабинета, и Стасик увидел Якова.
— Мама, ты извини, — Яков взглянул на мать умоляющим взглядом, впустил Стасика в кабинет и закрыл дверь. Через несколько секунд он выбежал за дверь, успокаивая мать: — Ты, мама, не волнуйся, ему нужно кое о чем поговорить со мной.
— У тебя, мой сын, вечно какие-то секреты… А где секрет… — Она не договорила и надувшись поплелась в соседнюю комнату.
Как только студенты остались одни, Ромашко вынул из бокового кармана студенческой тужурки сложенный лист бумаги.
Яше было известно, что готовилась листовка социал-демократической группы Политехнического института, призывающая к протесту против дела Бейлиса и против национальной политики царизма. Поэтому он не удивился, увидев листовку, напечатанную на пишущей машинке и размноженную на гектографе.
— Читай, Стасик, вслух, — предложил он. — Да, подожди… — Он подошел к двери и прикрыл ее плотнее.
— Отец твой не придет? — Стасик кивнул в сторону бормашины. — Здесь ведь его кабинет.
— Думаю, что не так скоро. А если и придет, так держи вот книгу, — и он передал гостю учебник по внутренним болезням.
— Да он сразу поймет, что это липа. Меня ведь выдает моя форма, — улыбнулся Стасик.
— Не поймет. Мы скажем, что ты хочешь перейти из Политехнического в университет на медицинский факультет.
— Вместо инженера сделаться врачом? Чепуха! Легкомысленно!
— Другого оправдания пока не вижу. Читай, отец не заявится, — нетерпеливо настаивал Яша. Забрав листовку, он читал про себя.
Сверху крупным шрифтом было напечатано:
«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ТОВАРИЩИ!
Стараниями реакционной клики мы вынуждены два года быть свидетелями гнусного дела, над которым усердно работали все темные силы России.
Теперь это дело проходит свою последнюю фазу. Из чайных „Союза русского народа“, после долгих мытарств по канцеляриям прокуроров и других подложных дел мастеров, руководимых министром юстиции Щегловитовым, при благосклонной поддержке продажных профессоров господ Сикорских, полагающих, что наука должна служить орудием для угнетения и одурачивания масс, — дело переходит наконец в суд.
Каков бы ни был исход, история нашей правящей банды обогатилась еще одним преступным делом. Снова делается попытка одурачить массы призраком кровавого навета, давно отвергнутого наукой, и снова протестует вся демократическая Россия против кровавого оружия, направленного одним концом против еврейского народа, другим концом обращенного против всей борющейся России. Ведь только с целью расколоть российскую демократию и создано это кошмарное дело. Реакционная клика испугалась чуда, которое совершила первая российская революция, объединив демократию всех наций, населяющих Россию; она дрожала, наблюдая, какой отклик находит мощный призыв рабочего класса „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ в сердцах миллионных масс российских рабочих. И на борьбу с этим великим явлением мировой истории ополчился Столыпин, темный творец националистической политики, пытающийся разжечь вражду между отдельными нациями.
Товарищи! С тех пор как началось дело Бейлиса, со всех сторон раздаются протесты. Начинающийся процесс сосредоточит на себе внимание всего мира. Поднимем же свой голос и забастовкой 25 сентября выразим свой протест против позорного процесса.
Долой царизм с его кровавой политикой!
Да здравствует российская революция, объединяющая всех угнетенных без различия национальностей!
Долой антисемитизм! Да здравствует единение национальностей и грядущее братство народов!
Социал-демократическая группа КПИ».
— Молодцы! Должен тебе сказать, Стасик, что наша группа в университете тоже составила воззвание. Мне известно, что рабочие и служащие южнорусского машиностроительного завода Гретер-Криванек тоже не дремлют. Великолепно! Если только все удастся, это будет мощной демонстрацией против процесса и его организаторов.
Студент из Политехнического был счастлив. С сияющим лицом и блестящими глазами он несколько раз прошелся по кабинету, вдруг остановился и мечтательно произнес:
— Идея, Яша! Но ты должен мне помочь…
— Чем?
— Секундочку, мне кажется, было бы здорово, если б к началу процесса в городе, на улицах, а также в самом зале суда была распространена вот эта листовка.
— К чему?
— Для эффекта… И не только для этого, она понизит тонус всех судейских чиновников. Они не будут так заносчивы, когда почувствуют, что народ не с ними.
— Ты так думаешь?
— Так думаю я, и многие из нашей группы, безусловно, думают так же.
— Неплохая идея, — согласился Яша, — но было бы еще лучше, если бы рабочие киевских предприятий, и не только киевских, тоже протестовали. Забастовка! О, это было бы великолепно!
Студенты подогревали друг друга, рисуя картины возможных действий. Во всяком случае, листовки должны попасть в руки широких масс — на этом они сошлись.
Яша даже высказал мысль, что Настя Шишова с помощью отца, вероятно, достанет билет хотя бы на первое заседание суда, а потом сможет сделать так, чтобы листовки попали куда следует.
— Хотя ты же знаешь, Стасик, там будет строго провентилированная публика — высокие чиновники, городская администрация, военные, а на них не влияют такие честные слова.
За несколько дней до начала процесса Петр Костенко получил из петербургской редакции «Правда труда» письмо с приложением воззвания, которое позже было опубликовано в той же газете, что и резолюция, принятая на рижских заводах. Поняв, что нужно сделать с воззванием, Костенко сразу же созвал некоторых рабочих завода Гретер-Криванек к Федору Гусеву на Демиевку. «Неплохо было бы познакомить с этим воззванием все цеха, — подумал он, — но это опасно». В дни, предшествующие началу процесса, полиция, охранка и жандармерия — эта святая троица — были особенно внимательны и напряженно следили за каждым мало-мальски значительным рабочим сборищем. Вот даже сегодня, когда Костенко в перерыве подошел к группе рабочих во дворе, возле них немедленно появился Никифор Пилипенко — уродливый тип с большими ушами и широким, распластанным носом, его рабочие давно считали чужаком, держали под подозрением.
— Иди, иди, тут тебе нечего нюхать, уходи подальше, — спроваживали его.
Пилипенко что-то пробурчал, отошел в сторону. Но через минуту снова вырос возле Костенко и его товарищей.
— Где тебя не сеют, там ты вырастаешь, гнилой гриб, — накинулись на него рабочие.
Петр Костенко повернулся и поманил Пилипенко пальцем.
— Скажи, Пилипенко, ты когда-нибудь собирал грибы в лесу?
— Собирал, агитатор, собирал.
— Так ты должен знать, что есть такой гриб, который называют поганка… Так вот этот гриб-паразит и ядовит, и вонюч.
Рабочие рассмеялись, окружили Пилипенко и стали насмехаться над ним.
А тот и в ус не дул, таращил глаза, будто ничего не понимал.
— Понимаешь, Пилипенко, о чем Петро тебе говорил? — спросили у него.
— Нет, — повертел он головой, и широкие ноздри его раздулись, словно хотели вдохнуть побольше воздуха.
— Тяни, тяни своими паршивыми ноздрями, — заговорил Павлов, солидный, пожилой рабочий. Схватив Пилипенко за шиворот, он приподнял его, приговаривая: — Костенко говорил, что от такого гриба воняет… Понял? Убирайся отсюда и не порть воздух. Сколько раз тебе говорено, чтобы сюда носа не совал, а ты все лезешь! — Павлов оттолкнул его так, что «гриб» откатился далеко от рабочих.
— Я вам, агитаторы, покажу «поганый гриб»…
— Покажи, покажи! Кыш-кыш отсюда, — похлопывал в ладоши добродушный Павлов. Затем повернулся к рабочим: — Я сегодня сам видал, как он крутился возле Кулябко, когда тот появился в механическом цехе, чтобы что-нибудь пронюхать.
— А что, Кулябко сегодня был здесь? — переспросил Костенко. — Надо соблюдать осторожность, — сказал он, а затем уже более спокойно: — Попрошу вас сегодня вечером зайти к Гусеву в Острожный переулок. А теперь расходитесь.
Когда Костенко, Тимка Вайс с Павловым и другими рабочими вышли из заводских ворот, они заметили, что Пилипенко припал к щели в заборе. Павлов мигнул Костенко: ему, мол, хочется подойти к этому парню и, пока он так занят подсматриванием через щель, дать несколько пинков. Но Костенко повертел головой — нет, не стоит связываться с поганым грибом. Придет час и для него, а теперь очень уж напряженное время.
Недалеко от заводской территории рабочим повстречались Николай и Сергей — та пара молодых рабочих, которых Костенко начал приближать к своей группе, и он решил пригласить их к Гусеву.
— Сережа, Микола, приходите сегодня к Федору Николаевичу.
— Какой такой Федор Николаевич?
— Ну, к Гусеву, знаете ведь, где он живет.
— А что там будем делать? — спросил Сергей.
— Приходите — увидите и услышите.
После ухода молодых ребят Тимка выговаривал Костенко:
— Не нужно было приглашать их, к чему они тебе? Не знаешь, что ли, — ненадежные ребята.
— Надо приблизить их, из них выйдет толк.
— Могила исправит, — отрезал Тимка.
— Какой ты горячий, Тимка! Тебя бы послушать, мы бы многих от себя оттолкнули.
— Знаешь, Петро, мне думается, что в нашем деле нужно быть более разборчивыми, не каждому можно доверять…
— То правда, не каждому… Отбирать нужно — это правда. Но та пара, мне кажется, прислушивается к нашим разговорам, поэтому можно рискнуть. Нам дорог каждый человек, — горячился Костенко. При этом у него запылали щеки и он, по обыкновению, потер их сильной рукой. — Понимаешь, Тимка?
— Я того же мнения, — сказал Павлов. — К примеру, знаете того, рыжего, из механического цеха? На первый взгляд, кажется, диковат, неорганизован. А в действительности, когда я стал присматриваться к нему, я понял, что он положительный парень. Я как-то дал ему почитать брошюру Дикштейна «Кто чем живет», он прочитал, попросил еще что-нибудь в этом роде… А ты, Тимка, возможно, не решился бы рискнуть, — закончил Павлов.
Тимка был недоволен замечаниями Костенко и Павлова.
И тут Павлов увидел, что к ним приближается тот рыжий парень с большими глазами.
— Сказать ему, чтобы пришел к Гусеву? — спросил Павлов у Костенко.
— Скажи, если уверен, что придет.
— Сам ведь считаешь, что нужно рисковать и смелее привлекать людей.
— Да, рисковать, только осторожно…
Павлов пошел вперед и окликнул рыжего:
— Товарищ, подожди немного.
Федор Гусев ожидал гостей и предупредил Прасковью Кирилловну.
— Ты не обижайся, Федя, если что-нибудь спрошу, — осторожно затеяла она разговор с мужем. — Тот, из Петербурга, тоже придет?
Муж ответил не сразу, она заглянула ему в глаза и виновато добавила:
— Я-то думала о том депутате, который был недоволен, когда отряхнули его пальто.
— Петровского вспомнила?
— Да, да, именно его.
Гусев поближе подошел к жене и строго сказал:
— Мне кажется, тебе хорошо известно: не люблю, когда ты пытаешься узнать то, чего ты знать не должна.
— Что ж, Федюшка, ты ведь не выставишь меня за дверь, когда твои люди придут? — поинтересовалась жена.
— Нет, конечно нет. Но я хочу, чтобы ты не спрашивала лишнего.
— Все равно узнаю, — улыбнулась старая, вынимая из шкафа праздничную скатерть.
— Вот это я люблю, дорогая моя.
— Очень хорошо. Ты бы не сердился на меня ни с того ни с сего.
— Не сержусь, и ша. Пусть и петух не пропоет.
Оба старика остались довольны.
Через несколько минут Прасковья Кирилловна вспомнила:
— А что же подать на стол?
— Яблоки, — сказал Гусев.
— Я как раз сегодня обтрясла то дерево, у забора, — обрадовалась она и тут же выдвинула из-под кровати корзину с яблоками. — Одно в одно!.. И больше ничего, Федюшка?
— Еще что у тебя есть?
— Больше ничего у меня нет.
— Выходит, Федор Гусев больше ничего не может поставить на стол?
Дверь широко раскрылась, вошли Тимка Вайс с Павловым. Они принесли большие свертки с грушами.
Хозяйка обрадовалась:
— Видишь, Федюшка, а ты волновался, что, кроме своих яблок, больше нечем будет потчевать друзей.
Положив груши на стол, Тимка попросил у хозяйки две вазы, и вскоре в них пирамидой были уложены душистые груши.
— Что скажете, Прасковья Кирилловна, мог бы я быть официантом в ресторане?
— Ты, кучерявый, — она посмотрела на мужа, не сердится ли он, что разговаривает слишком громко, — ты мог бы быть даже хорошим поваром.
— Откуда вы знаете, Кирилловна?
— Чувствую, что ты все умеешь делать. По твоим глазам чувствую.
— В таком случае дайте мне таз, и я сейчас сварю варенье из этих груш.
— Не надо, Тимка, не показывай своего мастерства, — вмешался Гусев.
Когда в доме Гусева было уже полно народа, Костенко с сожалением сказал:
— Для такого сборища нам бы большой зал или хотя бы наш инструментальный цех.
— Повремени, Петро, придет время, будем собираться и в зале Купеческого клуба, — улыбаясь сказал Гусев.
— Несомненно, — отозвался Ратнер.
— После революции все залы будут нашими, — мечтательно согласился Павлов.
Этот добродушный рабочий вообще считал, что империя Николая Второго распадется сама по себе и не придется терять и капли крови. По этому поводу у них часто возникали споры с Тимкой Вайсом.
— Без крови не возможна ни одна революция! — утверждал горячий чернобровый парень. — Помнишь пятый год? Кровавая война между Россией и Японией вызвала недовольство народа, и народ восстал. И теперь, вероятно, так произойдет… — Перебив самого себя, он обратился к Костенко: — Слышишь, Костенко, Павлов думает, что перевороты происходят легко, точно прогулка по парку.
— Теперь не время для таких серьезных бесед. Мы пришли сюда с другой целью, — сказал Костенко.
По правде говоря, не все знали, с какой целью они собрались. Поэтому Петр Костенко сначала рассказал, что двадцать пятого сентября в Киевском окружном суде начнется процесс над невинным человеком.
— Больше двух лет подготавливает русская реакция этот процесс и… Но я лучше прочту вам письмо, полученное мною.
Костенко вынул из кармана сложенный лист папиросной бумаги. Он осторожно развернул его, разложил и разгладил на скатерти и медленно, фразу за фразой, начал читать:
— «Мы, рабочие разных наций и различных политических взглядов, составная часть российского пролетариата, не можем равнодушно молчать, когда на скамье подсудимых сидит в лице Бейлиса весь еврейский народ. Наше самосознание и человеческое достоинство заставляет нас откликнуться на это столь дикое явление. Мы не намерены защищать еврейский народ от грязного и дикого навета средневековья, потому что считаем ниже человеческого достоинства и классового самосознания оправдывать кого-либо и защищать от столь диких и бессмысленных обвинений. Мы хотим лишь указать, что русская реакция состряпала дело Бейлиса, чтоб отвлечь внимание широких народных масс от настоящих причин их бедствий и от истинных врагов. Но нас это не страшит, ибо одновременно с судом над Бейлисом происходит и другой суд: суд над его обвинителями, этот суд не подвластен бюрократии. Националистические „ученые“, которые злоупотребляют наукой для своих темных целей, не выступают в качестве „экспертов“; профессиональные воры не фигурируют в качестве свидетелей. Это суд сознательного пролетариата, которому чужда националистическая травля и который видит в этой травле продукт человеконенавистничества, продукт ужасного бесправия всех народов России, и еврейского в частности. Протестуя против этого дикого обвинения, мы подчеркиваем, что только с изменением существующего режима в этой стране исчезнут плоды этого режима — кровавые наветы».
Закончив чтение при абсолютной тишине, Костенко не был уверен, что все поняли прочитанное. Он видел, что к Гусеву нагнулась его жена, и услышал ее вопрос: «Это о том еврее с черной бородой?» Гусев кивнул: «Да, о Бейлисе».
Поднялся Сережа, он немного помялся, затем спросил:
— Ты читал, что нарочно создали процесс Бейлиса, чтобы нам, простым людям, заморочить головы, чтобы мы не чувствовали наши личные беды. О каких бедах идет речь?
Кто-то усмехнулся вслух.
— Нечего смеяться, товарищи. Вопрос Сережи требует ответа, — объяснил Костенко. — Ты скажи мне, Сережа, ты ни в чем не нуждаешься? Живешь в хорошей квартире?
— В общежитии вместе с другими рабочими я живу.
— Вот видишь, отдельной комнаты у тебя нет, — громко сказал Тимка.
— Тише, не все сразу, — попросил Костенко и снова обратился к Сергею: — А твой товарищ Микола имеет жилье? А одежда хорошая у тебя есть?
— Мне лучшего не нужно, — пожал плечами Сережа.
Тимка опять рассмеялся.
— Видишь ли, братец, это ты уже неправду говоришь, — посуровел Костенко. — Ты повтори перед всеми, что тебе безразлично, как ты живешь. Подумай, прежде чем ответить.
Молодой рабочий понял, что сказал что-то не то, начал вилять, но Костенко уже не отставал от него:
— Скажи мне, Сережа, всю правду: ты доволен, что живешь как собака, а твои хозяева — Гретер и Криванек — разъезжают в каретах?
— В роскошных автомобилях, — добавил кто-то.
— И живут на прекрасных дачах…
— В Швейцарию едут, в горы, по заграницам. А ты, Сережа, работай, трудись по двенадцать часов в сутки в цеху, и нет у тебя чистой постели, куда голову склонить. А если хочешь погулять со своей девушкой, не во что тебе одеться…
— Понял, понял, Костенко, не агитируй меня больше! — закричал Сергей.
— Ага, понял, — обрадовался Тимка.
— Но при чем здесь несчастный Бейлис? — спохватился Сережа.
— Да, мы и спрашиваем: при чем здесь несчастный Бейлис? — весело подхватил Павлов. — Теперь, товарищи, я уверен, что до вас дошло.
— Так ты слышал: хотят нарочно забить наши головы процессом, чтобы забыли о своих заботах… — пояснил Микола.
— Вот-вот, он понял суть дела, — обрадовался Костенко.
Довольно улыбаясь, Костенко протянул руку к стоявшим на столе яблокам, достал одно с розовой щечкой и подал Сергею.
— Если на то пошло, ешь яблоко.
Взяв яблоко, Сергей надкусил его крепкими зубами и сразу же взял со стола другое для друга, для Миколы, сидевшего в раздумье напротив него.
— На, возьми, корешок, если ты понял, о чем Костенко говорил.
— Понял, — подтвердил Микола и откусил яблоко.
Затем Яков Ратнер рассказал о листовке, выпущенной социал-демократической группой Политехнического института:
— Здесь имеется новый пункт, которого нет в письме, прежде прочитанном Костенко. Это пункт об однодневной забастовке двадцать пятого сентября, когда начнется процесс. Мне известно, что и в других городах выпущены такие же листовки. Будут ли бастовать — в этом нет уверенности, — заключил студент.
— Призыв к забастовке тоже важная демонстрация против процесса, — сказал Костенко. — Пусть организаторы позорного дела знают, что мы, народ, против этого.
— Правильно, — подтвердили все, — это тоже очень нужно.
Настя Шишова заверила, что много листовок будет распространено среди рабочих и всего населения, люди должны знать, что происходит в России. Сама она будет присутствовать на первом заседании суда и обеспечит распространение листовок в зале. Настя достала билет — билет пошел по рукам, все разглядывали его, потом вернули Насте.
Павлов обернулся к рабочему Стрижаку, сидящему рядом с ним.
— Ты понял, Стрижак?
— Честное слово, понял, — ответил тот улыбаясь.
Удовлетворенный, Павлов подал Стрижаку грушу, а тот немедленно впился зубами в сочный плод.
В комнате стало душно, керосиновая лампа начала постепенно меркнуть.
— Знаете, — предложил хозяин, — давайте мы потушим лампу и откроем окна. Душно у нас.
Через открытые окна хлынула волна свежего воздуха, и сразу стало легче дышать.
Ближе подплыл лунный серп и рожками предсказывал, что завтра будет ясный, тихий день.
С раннего утра вокруг здания суда было полным-полно людей. В «присутственных местах», где находился областной суд, были размещены не только судебные, но и другие учреждения.
У слонявшихся здесь людей не было пригласительных билетов на первое заседание, но всякий думал — авось удастся каким-нибудь путем проникнуть в зал.
Вокруг здания порядок поддерживали конные и пешие полицейские. Кое-кто из публики нашептывал своим знакомым и соседям, что неподалеку, во дворах, находятся знаменитые казаки на конях и с пиками в руках. Но эту версию о казаках никто не проверял. Достаточно и того, что здесь беспрестанно дежурило с полсотни полицейских. Взад и вперед сновали переодетые жандармы, всякий раз возникавшие там, где образовывались группки в несколько человек. Одинокие прохожие подозрения не вызывали, а вот небольшие компании уже становились опасными для властей…
В первый день процесса люди старались ходить в одиночку, ни с кем не заговаривая. Некоторые присаживались у подножия памятника Хмельницкому. Не раз раздавалась знаменитая полицейская команда «разойдись!». Но ничего не помогало, народа прибывало все больше и больше.
Кто был на улице в этот сухой, солнечный день? В основном простолюдины — ремесленники: сапожники, портные, столяры, жестянщики, бросившие свои плохонькие верстаки и стекавшиеся сюда, к зданию суда. Время от времени прибегали и приказчики небольших магазинов, оставляя полки с товаром на попечение старших, заручившись разрешением последних на отлучку.
Людей интересовал не только сам процесс, им хотелось поглядеть — поглядеть, кто во что одет, кто что говорит…
В этот день несколько раз здесь появлялся и Липа Поделко. С Подола он поднимался фуникулером, проходил несколько раз по площади, глазами ища внука — гимназиста Михеля, и с тяжелым сердцем спускался тем же фуникулером, а потом трамваем добирался домой, к верстаку.
— Уже началось судилище, — рассказывал Липа повстречавшемуся знакомому, — и кто знает, сколько это продлится? — А заканчивал он так: — Я верю в справедливость и в то, что Мендель будет оправдан.
Люди проходили с сомкнутыми губами, боясь и слово вымолвить, так они были напуганы.
Несколько раз появлялся на площади и Нюма Ратнер. Он рыскал глазами, прислушивался, но люди молчали, устремив взгляд в сторону каменного здания… Дома только и сообщил, что начался суд.
— А что делает Бейлис? — допытывалась мать.
Откуда знать ему, Нюме, разве он заходил в зал? Стоят люди на улице и глазеют.
— А что говорят?
— Что люди могут сказать? — удивлялся гимназист. — Стоят и молчат.
— Ах, стоят и молчат, зачем же тогда тебе туда ходить? Еще стукнут булавой по голове, — беспокоилась мать и умоляла сына не ходить туда больше и не рисковать.
Не будет Нюма прислушиваться к просьбе матери, у него свое на уме: ему нужно знать настроение людей, столпившихся у здания суда, да и на улице есть дело. Нюме надо выведать, находятся ли на улице голубевские орлята и как они себя ведут. Старший брат Яша попросил его все узнать и обо всем рассказать ему. Нюма предполагает, что собранные сведения Яша и его товарищи посылают в Петербург. Яша, конечно, не расскажет младшему брату, как и кому они пересылают сведения, это — конспирация, Нюма понимает все, поэтому он и не пытается узнать то, о чем ему не говорят. Он знает свое: пронюхать, выведать и обо всем сообщить старшему брату. Кроме того, Нюма знает, что Яша связан с курсисткой. Девушка эта, с точеным носиком и серыми проницательными глазами, очень изящна. Одета она в клетчатую куртку с большими карманами, в которые она прячет руки и в дождливый день, и в хорошую погоду. Ее отец, судебный чиновник, часто приходит к отцу лечить зубы. Но однажды к отцу пришла курсистка и сказала, что ее отец болен и не сможет прийти. Но Нюма прекрасно понимает, что это был только повод для встречи с Яшей… Нюме также известно, что, кроме курсистки, к брату иногда заскакивает тот рабочий, блондин, одетый как городской интеллигент. Забегает он к ним только в сумерки, чтобы не заметила мать. Дверь ему открывает Нюма — он по стуку узнает, кто идет. Блондин шмыгнет на несколько минут к Яше, а потом Нюма же выпускает его тихо-тихо, даже дверь не скрипнет.
Последние несколько недель до начала суда блондин почему-то приходил чаще. Нюма так же тихо открывал ему дверь и тихо выпускал его. А если мать, случалось, услышит и спросит: «Кто это там, Нюма?» — отвечал: «Это я, мама, не беспокойся».
Но может ли мать в такое время не беспокоиться, если она хорошо знает обоих своих сыновей? Она тут же бежит к двери, чтоб самой посмотреть, но там уже никого нет.
— Знаю, — испытующе глядит мать на Нюму, — это был тот вихрастый блондин, который и раньше приходил к Яшеньке и разговаривал больше всех.
— Почему ты так думаешь, мама? — Нюма хочет успокоить мать.
— Не говори, Нюмочка, материнское сердце нельзя обмануть. Помоги, Господь, чтобы у Яшеньки все обошлось благополучно, ведь теперь такое ужасное время. Только вчера приходил околоточный и спрашивал, не ночует ли кто у нас, не собираются ли здесь студенты… Гляди, Нюмочка, чтоб не накликали на нас беду. Говорят, что процесс начинается, поэтому вся полиция и жандармерия на ногах.
А в зале окружного суда с затаенным дыханием ожидали начала процесса.
В первых рядах сидели зеленые и синеватые мундиры с начищенными до блеска пуговицами, чиновники разных гражданских ведомств. Несколько дальше, в следующих рядах — господа в визитках и в костюмах всех цветов, со свежайшими воротничками и модными галстуками с булавками, украшенными драгоценными камнями. Запах духов, исходивший от нарядных дам с лорнетами в руках, наполнял весь зал…
Одна из дам была крайне недовольна тем, что пристав привел и посадил в первом ряду жену Бейлиса — высохшую женщину с изможденным потухшим лицом. Отшатнувшись от нее, словно от прокаженной, дама быстро пересела на другой ряд.
В проходах и между рядами нагло шныряли молодые люди в студенческих мундирах и в хорошо подогнанных тужурках, на лацканах были значки с двуглавым орлом.
Солнце давно уже покинуло зенит, и присутствующие в зале начали терять надежду на то, что заседание суда вообще состоится. Более нетерпеливые уходили, потом опять возвращались на свои места, где они оставляли кто платочек, кто книгу, кто пригласительный билет в знак того, что место занято.
— Который уже час? — спросил старый генерал у своего соседа в первом ряду — очевидно, чиновника.
— Больше двух часов, господин генерал.
В этот момент двери у судейского стола шумно раскрылись и появился судебный пристав. Разгладив пышные усы, он провозгласил:
— Прошу встать, суд идет!
И вслед за этими словами появился председатель окружного суда Болдырев — крепкого сложения человек с приподнятыми плечами и широкой раздвоенной бородой. С его жирной шеи свисала массивная тяжелая цепь, которая почти касалась большого стола, обитого материей. Приподняв ее над столом, он тяжело опустился в кресло. За ним вошли и расселись по своим местам судьи, тоже с массивными цепями, поблескивавшими на груди.
Место прокурора занял обвинитель — помощник прокурора Петербургской судебной палаты Оскар Юрьевич Виппер.
В глубине, в креслах для коронованных судей, заняли места представитель Министерства внутренних дел, специально присланный на процесс чиновник по особым поручениям Бенедикт Антонович Дяченко, рядом с ним — прокурор Киевской судебной палаты Чаплинский и другие представители прокуратуры и магистратуры.
Справа от коронованных судей за отдельным столом заняли места присяжные заседатели. Это были в основном простые крестьяне в скромной одежде — в темных кожушках и маринарках неопределенных цветов, с заросшими головами и заросшими лицами, некоторые были подстрижены скобкой. Все они выглядели забитыми, тихими людьми, насильно согнанными из окрестных сел. Кто-то был одет по-городскому, но бедно. Среди них только один чуть-чуть походил на интеллигента — очевидно, это был мелкий городской чиновник.
Гражданские истцы — Шмаков, Замысловский и помощник Шмакова — Дурасевич сели впереди присяжных заседателей, вплотную придвинувшись к их скамьям.
Защитники Бейлиса — Грузенберг, Карабчевский, Григорович-Барский и Зарудный — сидели несколько поодаль.
После того как судебный пристав предложил гражданским истцам отодвинуться от скамей присяжных заседателей, раздраженный Замысловский поднялся и сердито спросил у председателя суда, кто так распорядился. Замысловского поддержал Карабчевский, заявив, что и защитники придерживаются того же мнения, что гражданские истцы не должны сидеть так близко к присяжным заседателям: присяжные заседатели могут услышать все их разговоры.
Председатель вежливо спросил у гражданских истцов, не возражают ли они, чтобы сесть рядом с защитниками. На это Шмаков сердито бросил:
— Поскольку защитник Карабчевский боится, что нас, — он указал на себя, Замысловского и Дурасевича, — могут подслушать присяжные заседатели, то мы боимся, что нас могут подслушать защитники.
Карабчевский рассмеялся и заверил, что разговоры между Шмаковым и Замысловским их не интересуют.
Председатель попросил чиновников успокоиться, и все сели.
Заняли свои места и эксперты, прибывшие на процесс из других городов: московский казенный раввин Мазе, профессора — Бехтерев, Тихомиров, Павлов и другие. Среди них выделялся ташкентский католический ксендз Иустин Пранайтис, сидевший в отдалении от других экспертов.
Журналисты, репортеры разных российских и иностранных газет, находившиеся на втором этаже, напряженно разглядывали в бинокли этого седовласого высохшего старца с заостренным лицом и тонкими-тонкими губами. Очки в золотой оправе скрывали водянистые, бесцветные глаза ксендза. На его заостренных плечах красовалась роскошная сутана, на которой горели ордена. Пранайтис держал перед глазами какую-то книгу и делал в ней пометки толстым карандашом.
Наконец послышался голос председателя, обращенный к судебному приставу:
— Прошу ввести обвиняемого.
Из небольшой двери в углу вывели Менделя Бейлиса и посадили за перегородку, стоявшую на возвышении напротив судебного стола. По обе стороны стали два конвоира с саблями наголо.
Растерявшийся Бейлис глядел в зал. Казалось, он никого не видит — глаза его, черные и глубокие, блуждали поверх притихшей публики, угольно-черная бородка дергалась, губы — дрожали.
Послышалось всхлипывание. Это жена Менделя Бейлиса, сидевшая в первом ряду, прикрыв рот платочком, едва сдерживала рыдания.
В напряженной тишине было слышно, как один из студентиков со значком на лацкане, стоя в проходе, шептал своему приятелю, что он сам видел, как привезли сюда Бейлиса в черной карете, окруженной конным конвоем спереди, по бокам и сзади.
— Тише, — раздалось из зала.
Зазвенел председательский звонок, и Болдырев обратился к Бейлису:
— Вы — мещанин, обвиняемый?
Встав, Бейлис тихо ответил:
— Мещанин.
— Сколько вам лет?
— Тридцать девять.
— Вы постоянно проживаете в Киеве?
— В Киеве.
— Законнорожденный?
— Да.
— Вы еврей?
— Да, еврей.
— Грамотный?
— Да.
— Женатый?
— Да… да.
— Дети у вас есть?
— Есть у меня дети… пятеро.
— Чем занимаетесь?
— Служащий.
— Имеете какое-нибудь состояние?
— Ничего не имею.
— Вам известно, что среди обвинителей выступит помощник прокурора Петербургской судебной палаты?
— Мне это известно.
— Господа защитники выступают с вашего согласия?
— Да.
В это время со своего места тихо поднялся Яков Ратнер, за ним Настя Шишова, и оба направились к выходу.
В том же ряду как с цепи сорвался студентик со значком на лацкане узкого пиджачка. Он выбежал на середину зала и позвал:
— Господин пристав!
Разгоряченная Настя шла за ускорившим свой шаг Ратнером и шептала:
— Тише, не торопись, только тихо…
Подскочившему приставу студентик тыкал в лицо листовку, поднятую с того места, где сидел Ратнер.
— Посмотрите, это же крамола… Задержите вон того студента в университетской форме, поскорее задержите его… — кипятился воспитанник Голубева.
У пристава потемнело в глазах при виде листовки. Он бросился вслед за Ратнером. У самой двери молодая женщина нечаянно наступила на подол своей же юбки каблуком и с приглушенным вскриком упала приставу на грудь. А Ратнер тем временем исчез.
Пристав не растерялся и задержал молодую женщину, вывел ее из зала.
— Вы последуете за мной, мадемуазель, — сказал он ей.
Настя оглянулась и, убедившись, что Ратнера уже нет, спокойно ответила:
— Вы не имеете права меня задерживать, господин пристав.
— Это мы выясним, а пока идемте со мной. — Увидев, что девушка ищет выход, чтобы скрыться, он добавил: — Вам ничего не поможет, не нарушайте порядка, — и грубо взял ее за руку.
Настя смотрела по сторонам, надеясь, что кто-нибудь заступится за нее и тогда она под шумок смогла бы исчезнуть. Но вокруг она видела только чиновников и студентов-белоподкладочников со злыми, фанатичными лицами. Поняв, что сопротивляться бесполезно, она пошла за приставом, который привел ее в какую-то комнатушку и оставил возле нее полицейского.
Через несколько минут листовка была уже в руках прокурора Чаплинского. Бегающими глазами он впился в листовку, призывающую киевских рабочих и служащих к однодневной забастовке в знак протеста против процесса. Озверевший Чаплинский на глазах менялся в лице. Пристав прошептал ему что-то на ухо. Прокурор поднялся и последовал за приставом. Тот привел его в комнату, где сидела задержанная курсистка.
— Кто вы такая? — спросил Чаплинский.
Курсистка ничего не ответила.
— Пока не скажете, кто вы и кто этот студент, распространявший листовки, мы не отпустим вас. У нас есть на это право.
— Это незаконно. Я напишу министру юстиции.
— Ого, мадемуазель… А знаете ли, что мы с вами находимся во дворце справедливости? Мы знаем свои права и обязанности.
Курсистка рассмеялась, и чем сильнее нарастал гнев Чаплинского и чем сильнее он злился, тем громче смеялась она.
В это время в комнату ворвался Анатолий Шишов и, подойдя к Чаплинскому, выпалил:
— Господин прокурор, я все время следил за нею.
— А вы кто, господин студент? — спросил Чаплинский, разглядывая мундир.
— Я — Анатолий Шишов, родной брат задержанной.
Настя с презрением посмотрела на брата, затем отвернулась от него.
— А какое отношение вы оба имеете к Леонтию Ивановичу? — спросил Чаплинский.
— Леонтий Иванович наш отец, — бодро ответил студент, — наш родной отец, господин прокурор.
— Вот как… Забавно! — Чаплинский кивнул приставу, подзывая его к себе, и прошептал ему что-то на ухо.
Не оглядываясь на молодое поколение Шишовых, прокурор быстро вышел.
— Подлец! — крикнула Настя Анатолию после ухода прокурора. — Мне стыдно быть твоей сестрой.
— Зато ты обрадуешь нашего отца, — хладнокровно ответил Анатолий и вышел, оставив сестру с приставом.
Как всегда в это время, Серафима Гавриловна легла бы уже спать, но поскольку мужа и обоих детей еще не было дома, она решила дождаться их. Что же такое случилось? Серафима Гавриловна знала, что в городе сейчас неспокойно. Прислуга, вернувшись утром с рынка, принесла тревожное известие: усиленный полицейский конвой шарит по улицам и разгоняет прохожих по домам. В некоторых домах даже обосновались конные казаки с пиками в руках. Не позволяют собираться группами.
Серафима Гавриловна радостно встретила мужа:
— Ну, слава богу, хоть ты благополучно вернулся.
— А что случилось? — удивился Леонтий Иванович.
— Дети наши еще не пришли!
— Придут, уже не маленькие, — успокоил Леонтий Иванович взволнованную жену.
— Какая-то тревога у меня на душе…
— Успокойся и ложись отдыхать.
Но она не легла и после того, как Леонтий Иванович поужинал и, просмотрев газеты, прилег на диван в столовой. Часов в двенадцать, услышав сквозь легкую дремоту, что жена все еще ходит от одного окна к другому, он медленно поднялся с дивана, взглянул на карманные часы. «Действительно, уже поздно», — подумал он, а потом спросил у жены:
— Их все еще нет?
— Нет ни Насти, ни Анатолия.
— Обоих? Странно, — он пожал плечами и хотел уйти в спальню.
— Не понимаю, — сказала Серафима Гавриловна, — как ты можешь спокойно спать, если с детьми что-то случилось.
— Почему ты думаешь, что что-то случилось?
На этот вопрос Серафима Гавриловна не ответила. И начала натягивать чепец.
— Вот так, готовься ко сну и не выдумывай нелепостей.
— Нелепости… это отец позволяет себе так говорить? — Подняв встревоженные глаза на настенные часы, она проговорила: — Скоро час ночи… Говорю тебе, Леонтий, у меня на сердце неспокойно.
Недовольно посмотрев на жену, Леонтий Иванович вышел.
Надев чепец, Серафима Гавриловна села на стул с намерением дождаться хотя бы кого-нибудь из детей.
Вскоре прозвенел звонок. Серафима Гавриловна торопливо направилась к двери. Перед ней предстал Анатолий с глупой улыбкой на пьяном лице.
— Где Настя? — спросила мать.
Этот вопрос слегка отрезвил парня.
— Настя? Почему ты спрашиваешь меня о Насте? Спроси у прокурора Чаплинского.
— Что ты болтаешь? — почти вскрикнула мать. — Леонтий, пойди-ка сюда поскорее!
Послышалось шарканье домашних туфель. В столовой, куда Леонтий Иванович вошел вслед за женой и сыном, сразу стало очень светло. Это поднялась прислуга и зажгла большую люстру.
— Что за иллюминация? — Леонтий Иванович закрыл глаза руками. — Выключите!
Серафима Гавриловна быстро погасила большую люстру и с отчаянием проговорила:
— Послушай, Леонтий, что говорит Анатолий. — Взяв сына за руку, она подвела его к отцу. — Рассказывай.
— Что там рассказывать? — нагло ответил он. — Она крамольница. Я сам сказал об этом Чаплинскому…
— Что ты сам сказал?! — нетерпеливо, что было совсем не характерно для него, крикнул Леонтий Иванович. — Глянь, — кивнул он жене, — он ведь едва стоит на ногах, твой Илья Муромец… — Леонтий Иванович схватил сына за руку и потащил к дивану. — Садись и рассказывай толком.
— Сейчас. — От того, что отец вел себя так необычно, Анатолий несколько пришел в себя, вытаращил глупые глаза и начал рассказывать: — Настя хотела спасти своего кучерявого кавалера — студента Ратнера. Листовки они распространяли… пристав задержал их, а Чаплинский… — Анатолий замолчал.
— Что, что Чаплинский, говори скорее!..
— Я сказал ему, кто она… фамилию назвал.
— Негодяй! — воскликнул отец и дал сыну пощечину.
Тот схватился за щеку и выбежал из комнаты, а Леонтий Иванович ушел к себе.
Серафима Гавриловна в ужасе закрыла лицо руками. Постояв немного, она направилась в спальню.
— Леонтий, я думаю, завтра тебе необходимо повидаться с Чаплинским.
— Оставь меня, пожалуйста, в покое…
— Как это оставить тебя в покое, ведь Настя арестована.
— Если арестована, то завтра я выясню…
Больше Леонтий Иванович не захотел разговаривать, он разделся и лег в постель. Серафима Гавриловна тоже улеглась. Часы пробили три.
Утром супруги не сказали друг другу ни слова. Молча позавтракали, выпили кофе. Серафима Гавриловна все же не выдержала и спросила собравшегося уходить мужа:
— Леонтий Иванович, не забудь узнать о Насте.
— Не надо мне напоминать. Я все хорошо помню…
Едва за Леонтием Ивановичем закрылась дверь, прислуга спросила у Серафимы Гавриловны, почему барышня не ночевала дома.
— Осталась ночевать у знакомой. Она позвонила по телефону, — пробормотала Серафима Гавриловна и ушла в комнату сына.
— Поднимайся, Анатолий, отец уже ушел в суд.
Протрезвевший после сна, сын молча оделся, умылся, молча позавтракал и молча направился к выходу. У дверей мать задержала его:
— Куда ты сейчас идешь?
— В университет.
— А вчера так поздно тоже был в университете?
— Что было вчера, не помню, — ответил он, отвернувшись, и вышел.
Был солнечный осенний день. Вынув из кармана синий билет-пропуск на сегодняшнее заседание суда, Анатолий задумался: «В суд идти или в университет? Нет, раньше в суд, — решил он. — Авось Голубеву пригожусь…»
В перерыве после утреннего заседания Леонтий Иванович старался встретиться с Чаплинским. Он нарочно несколько раз прошелся перед глазами прокурора в судебной комнате, пока наконец, будто случайно, столкнулся с ним.
Шишов, конечно, ждал, что прокурор первым заговорит об интересующем его вопросе, но Чаплинский своей лисьей хитростью рассчитал, что отцовское сердце не выдержит и он сам спросит, что произошло с его дочерью. Но Шишов не спрашивал.
— Вы присутствуете все время на заседаниях? — поинтересовался Чаплинский.
— Да, с самого начала.
— Интересно?
— Несомненно!
— Какой эпизод, по-вашему, самый впечатляющий, Леонтий Иванович?
— Какой эпизод?.. — задумчиво переспросил Шишов.
— Да, какой эпизод? — И поскольку Шишов не отвечал, прокурор продолжал: — Я подскажу вам… Тот, когда злостные крамольники распространяли свои преступные листовки, и ваша дочь… — Чаплинский замолчал.
— Что? Моя дочь…
— Вам очень хорошо известно, что ваша дочь участница этого безобразия.
— Я об этом не знаю…
— Не знаете?
Пауза. Оба смотрели так, словно видят друг друга впервые в жизни.
— Может быть, переговорили бы со своей дочерью? Возможно, вы бы убедили ее, чтобы она рассказала, каких преступников она хотела выгородить, опираясь на ваше имя.
— На мое имя?.. — Шишов понял провокационный маневр Чаплинского. — Где теперь находится моя дочь?
— В комнате предварительного следствия. Не беспокойтесь, Леонтий Иванович, зла ей никто не причинит.
Шишова обдало потом. Заметив, что он растерялся, Чаплинский добавил, словно подливая масла в огонь:
— Не пугайтесь, Леонтий Иванович, если она ни в чем не виновата, с нею ничего не случится.
— Вам прекрасно известно, Георгий Гаврилович, что я не из пугливых.
— Я это знаю… Так вот, если хотите, можете встретиться с дочерью. Где находится комната предварительного следствия, вам известно.
Ничего не ответив, Шишов слегка поклонился и хотел уйти, но Чаплинский остановил его:
— Леонтий Иванович, мне кажется, что такому уважаемому старому судейскому работнику уже пора уйти в отставку…
Шишов побледнел и молча вышел.
В разбитом душевном состоянии Шишов остановился неподалеку от здания суда, и поднявшийся вдруг ветер хлестал его по разгоревшимся щекам, теребил бороду. Солнце закрыло темные тучи, он скорее почувствовал это всем своим естеством, чем увидел. Инстинктивно закутался в мундир и посмотрел на небо. Густая, темная стена нависла над ним, тут же полил дождь, звонко ударяя по каменной мостовой, прибивая пыль, по деревьям, срывая с них редкие листья, которые мокрыми комками катились к его ногам.
Шишов стоял и думал: как он может теперь идти домой, если там, «у них», в одиночестве терзается его любимая дочь.
На углу Прорезной улицы его нагнали дрожки со знакомым кучером. Шишов сел в них.
— Куда прикажете везти?
— В жандармское управление, в предвариловку, и побыстрее.
Знакомый извозчик удивленно посмотрел на пассажира.
— Так вы, Леонтий Иванович… туда? В такой дождь?
— Погоняй, Кузьма. В жизни всякое случается…
Извозчик подгонял лошаденку и смутно думал: правда, в жизни всякое случается…
У жандармского управления Шишов быстро соскочил с дрожек. В передней он первым заметил дежурного. Объяснив ему, по какому поводу пришел, Шишов попросил разрешения на свидание с дочерью.
— Да, есть у нас такая, — сказал дежурный и позвал начальника рангом выше.
Появившийся офицер с подкрученными усиками и улыбающимися глазками попросил Шишова подождать — он пойдет спросить. По возвращении он попросил Шишова последовать за ним и повел Леонтия Ивановича в тот самый подвал, где несколько дней содержали Бейлиса.
Увидев в полутемном подвале отца, Настя опешила. Первые секунды они молча стояли друг против друга. Сюда, в подвал, доходил шум дождя, слышались раскаты грома. Леонтий Иванович все еще стоял возле двери и, тяжело дыша, напряженно смотрел на дочь.
Когда глаза его привыкли к темноте, царившей в подвале, — ее разрезал лишь слабый луч света, падающий из двухстекольного окошечка под самым потолком, — он приблизился к дочери, стоявшей у стены подобно каменному изваянию.
— Дочь моя, зачем ты покрыла позором мою старую голову?
— Как можешь ты, папа, так говорить? Ты ведь служитель правосудия… — И после небольшой паузы добавила: — Ты всегда учил меня человечности и порядочности.
— Это правда, дочь моя. Этому я учил тебя. Но ты скажи мне. В операции по распространению листовок ты действительно принимала участие или только тот студент?
Она ответила не сразу, но потом с вызовом произнесла:
— Не только один студент, папа, десятки, сотни…
— Так… А задержали только тебя?
— Не знаю… это мне как раз и хотелось бы знать.
— Только тебя, — сказал отец и тихо добавил: — Пока…
На это дочь радостно ответила:
— Это для меня очень утешительная весть. Спасибо тебе, папа.
— Эх, Настя, Настюша… — вздохнул Шишов и тихонько добавил: —Ты, дочка, идешь опасным путем…
— Зато справедливым, папа. В этом я уверена.
— Ты так думаешь?
— Да, надеюсь и верю.
Настя склонила голову к плечу отца.
— Крепись, Настенька.
— Я крепка и спокойна! — последовал ответ.
Чем дольше Шишов стоял здесь, слушая свою дочь, тем слабее становилось чувство боли и сильнее — чувство гордости за дочь, обладающую таким характером и таким открытым для доверия к людям и к добру сердцем… Тяжело было ему оставлять ее в одиночестве, и он сказал ей об этом.
— Нет, папа, я не одинока, нас много, очень много.
— Но… — спазмы подступили к горлу отца, — пока ты одна сидишь здесь.
— Отпустят, никуда не денутся. У них нет никаких оснований для моего ареста, нет… Скажи об этом маме.
— Да, правильно, нет. Но… — Кому, как не Шишову, так хорошо были известны все ходы Чаплинского… — Крепись, дочка, — добавил он.
— Я крепка. Скажи об этом маме. Утешь ее.
Шишов вышел на улицу, на которой вновь светило солнце. Он увидел группу детей, веселящихся на улице, оставленной дождем. Он и сам не знал, почему ему показалось, что высокая девушка, шагавшая впереди детей, очень похожа на его Настю.
Напротив здания окружного суда, на углу Софиевской и Владимирской улиц, помещался небольшой ресторанчик со звонким названием «Древняя Русь». Хозяин этого ресторанчика, Филарет Харлампиевич, некогда мечтавший стать актером, и непременно драматическим, безнадежно выглядывал за стеклянную дверь и бормотал про себя: «Почему, Господь, ты так наказал меня, что никто не заходит, почему?»
Недаром роптал владелец ресторанчика. Посетителей действительно не было, а ведь именно здесь можно было достать самые дорогие выдержанные вина известнейших в мире фирм, а также изысканнейшие закуски.
Однажды сюда забрел прибывший в Киев журналист из видной петербургской газеты. Попробовав несколько сортов вин, с особым почтением поданных гостю Филаретом Харлампиевичем, журналист удовлетворенно произнес:
— Я прославлю ваш ресторан…
Филарет Харлампиевич был счастлив слышать это и стал подавать все новые и новые вина. Журналист жадно пробовал их и подогревал хозяина:
— Прима, Филарет Харлампиевич, прима! Я в нашей петербургской газете буду всячески рекламировать ваш ресторан.
Журналист этот, как оказалось, был из черносотенной газеты. Он действительно написал заметку о ресторане «Древняя Русь» и о необыкновенных винах, которые ему там подавали. После этого в ресторан зачастили голубевские ребята — не столько ради хороших напитков, сколько ради названия «Древняя Русь». Но после нескольких дебошей, во время которых пьянчуги били оконные стекла, дорога сюда для них была закрыта. И ресторанчик опять опустел.
Так длилось очень долго, «Древняя Русь» ожила в дни процесса Бейлиса. Еще недели за две-три до начала процесса там снова начали показываться голубевские орлята. Один из студентов даже высказал претензии к его владельцу:
— Почему ресторан занимает всего три маленькие комнатушки, Филарет Харлампиевич? Раздвиньте стены и расширьте ваше жилье.
— Мое жилье, — ответил владелец ресторана, — очень просторное, в центре города, на Крещатике. Там все для меня, а здесь, в «Древней Руси», — все для души. — Он знал, как потрафить черносотенному студенту.
Когда начался процесс, Филарет Харлампиевич добился разрешения повесить в проходе большое объявление, написанное старославянским шрифтом. В объявлении говорилось, что ресторан «Древняя Русь» будет рад принять уважаемую публику. Тут были перечислены необыкновенные блюда и изысканные вина, заготовленные для посетителей.
Филарет Харлампиевич благодаря связям с голубевцами добился открытия буфета в самом здании суда. Это был своего рода филиал ресторана «Древняя Русь». Две красивые, нарядно одетые девушки-буфетчицы старательно привлекали внимание посетителей буфета не только к блюдам, имевшимся в буфете, но и к самим себе, служили как бы живой рекламой ресторана. Не один раз случалось, что кто-то из судебных чиновников или из присутствующих на процессе слегка перекусывал в буфете, а потом, раздразнив аппетит, направлялся в ресторан на углу Софиевской и Владимирской улиц.
Доступ к буфету и к ресторану имели все, кроме присяжных заседателей — двенадцати человек, которые на протяжении всех тридцати четырех дней продолжавшегося судилища были изолированы от окружающего мира. Присяжных заседателей сторожили тайные агенты, полицейские, жандармы. Кормили присяжных в отведенной для них комнате, там же они и спали, там же и совещались.
С первых же дней суда Исай Ходошев стал частым посетителем ресторана «Древняя Русь». Здесь он иногда встречался с людьми, которые были ему нужны.
Однажды в ресторан пришел пожилой человек, которого Филарет Харлампиевич раньше никогда не видал.
— Кто вам нужен? — тихо спросил хозяин.
— Мне нужно встретиться с одним человеком.
— С кем?
Пришедший хотел увильнуть от ответа.
— Здесь не место для встреч, — сердито сказал Филарет Харлампиевич. Ему странно было видеть у себя в ресторане еврея.
В этот момент пришел Ходошев и по-приятельски приветствовал Филарета Харлампиевича.
— А, реб Липа, — обрадовался Ходошев, увидев Поделко, и извинился за опоздание.
— Ничего, хорошо, что пришли. Хозяин, — старик головой показал в сторону Филарета Харлампиевича, — недоволен, что я сюда пришел.
— Не беспокойтесь, реб Липа. Если пришли ради меня, он больше вас не тронет. Так вот: Марголин передал мне для вас билет на одно из заседаний суда, — и Ходошев протянул ему билет.
— Покорно благодарю. А на какой же день?
— Здесь все написано.
— Написано, очень хорошо.
— Пойдемте, я провожу вас.
— Мне к фуникулеру — несколько шагов отсюда, а потом трамвай довезет меня почти до дома.
Владелец ресторана долго смотрел вслед посетителям, особенно еврею-ремесленнику. Ведь Филарет Харлампиевич обещал Голубеву следить и прислушиваться к разговорам, сообщать ему обо всем. Вот он и выполняет ту невинную миссию.
В этот день ресторан посетила также Вера Чеберяк, и не одна — с бледным мальчиком лет двенадцати. Увидев их, Филарет Харлампиевич подошел к Чеберяк и пригласил в отдельную комнату.
— Здесь вам будет уютно и удобно, Вера Владимировна, — сказал хозяин, зажигая электрический свет. Чувствовалось, что он ожидал этих гостей.
— Благодарю.
Она вошла в комнатку, таща за руку мальчонку.
Небольшого роста, худенький, в тесном костюмчике, мальчишка испуганно присел на стул, пододвинутый ему Филаретом Харлампиевичем.
— Сиди, сиди, Назарик, не дрожи, — сказала Чеберяк.
— Мне холодно…
Мальчик рванулся было к входной двери, но там его задержал хозяин ресторана, который осторожно взял его за руку и подвел к Вере Чеберяк.
— Не бойся, тебе зла здесь не причинят, — мягко уговаривал он ребенка. Увидев, что мальчик не успокаивается, он подошел к буфету, достал кисть винограда, положил на тарелку и подал ему. — Возьми, попробуй.
Рядом уже стояла Вера Чеберяк, она добродушно сказала:
— У себя дома ты, вероятно, такого никогда не видал.
Мальчик промолчал.
Вера Чеберяк, повернув мальчика за плечо, усадила его рядом с собой. Хозяин принес бутылку вина и закуску.
— Скажи, Назарик, фамилия твоя Заруцкий? — спросила Чеберяк.
Мальчик кивнул.
— Это ты играл с моим Женькой?
— Да.
Она налила рюмку вина и выпила.
— На, выпей тоже немножечко. Не бойся, я провожу тебя домой. Я знаю, где ты живешь…
— Не надо, тетя, я сам дойду, я не боюсь.
— Ты молодец, что не боишься. Ты уже мужчина. А ну, покажи свои мускулы — о, сильные, как у моего Женьки…
— И у Андрюши были сильные мускулы, — сказал Назарик.
— Да, и у Андрюшки.
— Сильный парень был Андрюшка, сильнее Женьки. Я помню, тетя.
— Что еще помнишь?
Пауза. Настороженный мальчик смотрел испуганными, несколько затуманенными глазами. Он будто чего-то ждал. Для чего тетя затащила его сюда? Он боялся ее, но сам себя успокаивал: ничего плохого она ему не сделает.
Чеберяк ничего и не собиралась ему делать, она только хотела кое-что узнать от него. От своей дочурки Людмилы она знала, что этот худенький мальчик очень упрям, с характером; и именно его вызвали свидетелем в суд. И вот Вера Чеберяк хочет с ним поговорить, пока он еще не выступил в суде.
— Что ты скажешь, Назарик, когда у тебя спросят об Андрюшке?
— Ничего не знаю, тетя, не знаю, — ответил он и снова попытался уйти.
Но от Веры Чеберяк так скоро не уходят — если она этого не хочет.
— Куда спешишь?
— Домой, на Слободку, — ответил он смело.
— Я провожу тебя домой.
— Не надо. Не хочу.
— А чего ты хочешь?
— Не знаю…
— Ешь, Назарик, не глупи, — она придвинула к нему колбасу, сыр.
— Я не голоден.
— Ну, чтобы есть виноград, не нужно быть голодным.
Правой рукой он отщипнул несколько ягод и положил в рот.
— Возьми еще, не стесняйся. Правда, вкусно?
Съев кисть винограда, он отодвинул пустую тарелку.
— Филарет Харлампиевич, — позвала Чеберяк, — будьте добры, есть у вас еще виноград?
Через минуту галантный хозяин принес крупную кисть на большой тарелке.
Мальчик смотрел на виноград далеко не равнодушно, но не дотронулся до него.
— Ну а вина, немножко вина тебе не хочется выпить?
Назарик молчал. Не дотрагивался до рюмки, даже не смотрел на нее.
— Ты помнишь, как еврей с черной бородой тащил Андрюшку? — спросила Чеберяк.
Мальчик промолчал.
— Ты совсем не кавалер. Я с тобой разговариваю, а ты не хочешь отвечать. Как тебе не стыдно!
Назарик снова ничего не ответил.
— Некрасиво, Назарик. Так ты ведешь себя и со своим дедом, и с бабушкой, и с мамой?
А мальчик молчал.
— Был бы ты моим сыном, я бы… — от злости она прикусила губы.
— Я не был бы вашим сыном.
— Как бы ты у меня заговорил!
— Нет, — сказал Назарик, — вы бы ко мне не прикоснулись.
— Почему ты так думаешь? — мягко спросила Чеберяк.
Тут мальчик набрался мужества и внезапно выпалил:
— Я не видел человека с черной бородой… не видел!
— А я говорю тебе, что видел… ты так и должен сказать, когда тебя спросят в суде… — приказным тоном выпалила Чеберяк.
— Неправда, тетя! — Назарик рванулся и побежал.
Липа Поделко не был набожным евреем, но, как и каждый еврей тех времен, он выполнял все обычаи и правила, по субботам и праздникам ходил в синагогу. Вполне естественно, что в судный день такой человек, как Липа, всегда ходил в синагогу и искренне молился.
Этот судный день был для него особенно тяжелым. Обычно в такой день евреи вымаливают у всевышнего добрый год для себя и для своих домочадцев. Судный день того года был особенно страшным для всех евреев Российской империи, не говоря уже о еврейском населении черты оседлости: Киевской, Волынской, Подольской губернии на Украине и Минской, Витебской, Гомельской — в Белоруссии. Ими овладел особый страх. Что сулит им этот год? Всех угнетало тяжелое обвинение, выдвинутое черносотенцами против Менделя Бейлиса. Они понимали, что обвинение против Бейлиса — это обвинение против всех евреев Российской империи.
Поэтому все правоверные евреи, особенно проживающие в Киеве, своими молитвами надеялись вымолить у всевышнего благополучный приговор для несчастного Бейлиса, терпящего адские муки за весь народ.
На пюпитре, у которого молился Липа Поделко, кроме молитвенника, лежал белоснежный платочек — на всякий случай, если слеза обожжет глаза.
С утра, в первой половине дня, Липа еще чувствовал, что слезы готовы вот-вот пролиться, но во второй половине дня на сердце уже так накипело, что во время перерыва, когда многие вышли на улицу подышать свежим сухим воздухом, он набрался храбрости и сказал одному из молящихся:
— Знаете, реб Ицхок, о чем я подумал? Мне кажется, не нужно плакать, как это делает большинство прихожан, а наоборот, нужно одеться в лучшее платье и всем вместе пойти к зданию суда и требовать, протестовать…
— Почему в лучшее платье? — спросил реб Ицхок. — В порванную одежду — это понятно, пусть они, палачи, видят, что мы в трауре, что мы плачем… — Реб Ицхок разгладил свою красивую бороду, готов был заплакать.
— Нет, не плакать нам надо, реб Ицхок, чтобы враги радовались нашему горю, наоборот, мы должны им показать, что мы сильны, что верим в справедливость и правосудие.
— Николку, русского царя, напугаете, что ли, своей силой… Вас всех, как собак, прогонят от здания суда… А скорее, скажу я вам, реб Липа, вас вовсе схватят и посадят в кутузку рядом с Бейлисом: вот тебе, реб еврей, за то, что бунтуешь.
В это время к синагоге пришел внук Липы, гимназист, и принес деду капли на случай, если ему вдруг станет плохо.
Липа взял бутылочку, протянул ее своему собеседнику, сказав:
— Возьмите, реб Ицхок. Для вас, который хочет плакать и рыдать, эти капли как раз пригодятся.
Реб Ицхок совсем не обиделся на Липу, только пробормотал:
— Во все времена у нас были люди, готовые пойти на самопожертвование…
— Это было в старину, — возразил жестянщик Липа, — сейчас отвечают ударами на удары. Не нагибают головы, а сопротивляются, как только могут. Вот так, как сделали со Столыпиным…
Реб Ицхок, к которому обращался Липа, оглянулся по сторонам и сказал:
— Гвалт, как может человек это говорить в такое тревожное время!
— Не тревожьтесь, почтенный человек, — вмешался в разговор внук Липы, — не думайте, что небо уже достигает земли. Вы бы послушали, как сапожник Наконечный сегодня отвергнул все, что выдумал фонарщик Шаховский…
— Откуда тебе известно?
— Я только что оттуда. Что там творится! Дедушка, я после перерыва туда пойду. Твой билет я уже использовал, но мне обещали дать еще билет.
— Слышите, реб Ицхок! Так что, нужно плакать?..
— Значит, есть бог на свете.
Жестянщик посмотрел набожному еврею в глаза и многозначительно сказал:
— Есть еще люди на свете, настоящие люди…
— Бог есть на свете!
— А я говорю, люди есть на свете, люди.
— А бог? Удивительно, чтобы жестянщик был таким неверующим!
Реб Ицхок сердито повернулся к Липе спиной и медленно поплелся обратно в синагогу, в тесноту и духоту, где пахло освежающими каплями и слезами плачущих.
А Липа Поделко? Он решил, что не сможет дождаться конечной молитвы, он должен быть возле здания суда. Его внук говорил, что там творится нечто ужасное, так и ему хочется пойти и послушать, быть поближе к месту, где решается судьба Бейлиса. «Уйти преждевременно в такой страшный день? — рассуждал жестянщик. — Подумай, Липа, подумай хорошенько, ты ведь грешный человек. Тебя ведь проклянут люди вроде того осторожного, степенного прихожанина реба Ицхока. Они ведь подумают, что ты, Липа, не выдержал поста и поэтому убежал, не дождавшись конечной молитвы — ниле, убежал до того, как показалась первая звезда — предвестница, что наступил вечер и можно уже отойти от пюпитра, у которого ты целый божий день молился и выпрашивал хороший и счастливый год».
Но желание именно в этот грозный день быть поближе к тому несчастному человеку, к Бейлису, победило традиционные мысли. Почему-то все суставы Липы налились особой силой. Он почувствовал, что его место там, возле суда, а не здесь, в душной синагоге, где особенно гнетут его вон те заплаканные, растерянные и беспомощные молящиеся.
Липа словно почувствовал в своих руках огромный молот. Ему показалось, что не только ему одному станет легче, если он будет стоять у здания суда, он тем самым облегчит состояние и Менделя Бейлиса. Потому что и он, Липа, мог бы точно так же, как сейчас Мендель, сидеть за страшной решеткой, но судьба смилостивилась над ним, вместо него, Липы, схватили Бейлиса, так же пытали бы, как пытают теперь Бейлиса.
Липа должен сам для себя уяснить, правильно ли он поступит, если не дождется, пока на темном бархате неба засветится первая звезда, а сразу направится к зданию суда, чтобы быть поближе к пострадавшему. «Но ты ведь, Липа, постился целый день, у тебя может закружиться голова, да и под ложечкой у тебя сосет. Ну, это не причина, от голода человек так быстро не умирает, у Бейлиса пост гораздо тяжелее! Говорят, он со вчерашнего вечера, с кол-нидре, ничего не ел. Так почему же ты, Липа, думаешь о еде! Черт тебя не возьмет, Липа, не умрешь, пойди, пойди, пойди!»
И он пошел. Вот он уже приближается к зданию суда. В предвечерней тишине Богдан Хмельницкий на своем буйном коне залит лучами заходящего солнца. Вокруг памятника стояли сотни людей. Липа заметил, что здесь находятся не только евреи, но и много православных. Он услышал такой разговор:
— Теперь дает показания Наконечный…
— Кто этот Наконечный? — спросил какой-то чиновник.
— Тот, по прозвищу «лягушка».
— Вы ошибаетесь, господин, — вмешался другой, в рабочем фартуке, очевидно только что покинувший верстак. — Наш брат рабочий не может плохо говорить о невинном человеке.
— Ваш брат, ваш брат… — передразнил его чиновник. — И кроме ваших братьев есть еще порядочные люди в России.
— Например, вы, господин, — сердито сказал человек в фартуке.
— Да, представьте себе, например, я… — И чиновник отошел.
А там, в зале суда, давал показания Михаил Наконечный, сапожник, иногда прирабатывавший писанием для кого-нибудь ходатайств, прошений. Среднего роста, блондин со спадающими на лоб и даже захватывающими часть чисто выбритого лица волосами. В нем сразу можно было узнать настоящего русского мастерового. Одет он был в темный костюм из дешевой материи и чистую рубашку. Одной рукою он часто приглаживал, прижимал светлые длинные волосы, а другую держал в накладном кармане короткого пиджачка. Человек этот своим видом производил очень хорошее впечатление. Говорил он приглушенным басом, которым отлично владел. Поэтому его было приятно слушать.
А рассказывал он вот что: он сосед Веры Чеберяк. Когда случилось несчастье с Андрюшей, фонарщик Шаховский хотел убедить его, что не в доме Чеберячки убили мальчика, а утащил его еврей с черной бородой. Но, как объяснял сапожник Наконечный, Шаховский — человек недобрый, он способен на все. Доверять ему нельзя, так как Шаховский как-то сказал: «Я впутаю Менделя в это дело». Подлинные его слова: «Пришью Менделя к делу».
Последняя фраза свидетеля громом раскатилась по залу. Обвинители начали переглядываться: у Шмакова задрожали набухшие мешочки под глазами. Замысловский схватился за стакан с водой. А Виппер — тот нервно приподнялся и снова сел на свое место.
— Я решил, — гремел по залу бас Наконечного, — рассказать всю правду, моя совесть не позволяет, чтобы страдал невинный человек.
При этих словах Бейлис всем туловищем подался вперед, уперся в перегородку, стал вглядываться в глубокие, честные глаза Наконечного. Бейлис почувствовал, что за эти четыре дня, которые он просидел здесь, под охраной двух солдат с саблями наголо, впервые упомянули его имя в таком контексте. Сердце не выдержало, он расплакался и, всхлипывая, опустил голову.
Тишина в зале стала еще более напряженной, все смотрели на подсудимого за перегородкой.
Председатель нагибался к своим коллегам-судьям — очевидно, совещался: может быть, объявить перерыв? Но вскоре Бейлис овладел собой, ладонью вытер глаза и гордо поднял голову, будто сам себе сказал: «Мендель Бейлис, что ты распустил нюни?»
Далее Наконечный заявил, что дочка Чеберяк соврала, рассказывая, будто, когда она играла с детьми, какой-то дядя с черной бородой схватил Андрюшу Ющинского и куда-то потащил его. Если б это было так, через какой-нибудь час вся улица уже знала бы об этом.
— Я говорю открыто, такого не было, потому что там стоял забор. Не знаю, проверяли ли это, но я обратил внимание следователя, что этот забор поставили еще в ноябре тысяча девятьсот десятого года и что дети никоим образом не могли туда проникнуть. Это мне очень хорошо известно.
— Почему же ваша четырнадцатилетняя дочка Дуня говорила, что двенадцатого марта дети качались на мяло? — спросил председатель.
— Этого не может быть. А если мой ребенок так говорил, так ее напугали… — Наконечный сделал паузу, побледнел, затем обратился к председателю суда: — У меня больное сердце, и я возбужден, прошу… — Он протянул руку, и ему подали стакан воды. Слышно было, как он глотал воду, и видели, что кадык его быстро-быстро шевелится.
Когда он поставил стакан обратно, он заявил громко и твердо:
— Тогда, в день убийства, дети не могли качаться на мяло, потому что завод Зайцева, и не только завод Зайцева, но и другие соседские территории находились по ту сторону высокого забора — и туда, на мяло, я повторяю, дети не могли проникнуть.
Замысловский как-то по-особому вытянул свое продолговатое лицо и спросил, сверля свидетеля проницательными глазами, будто хотел насквозь продырявить его:
— Почему же все-таки ваша девочка говорила у следователя, что вместе с нею были Женя и Людмила Чеберяк, а также Андрюша Ющинский?
— Это только потому, что мое дитя напугали, пригрозили. Так она сама мне рассказала.
Замысловский качал головой, сердился и что-то бормотал, его губы шевелились, но никто не слышал, о чем он говорил. Один только Виппер смотрел на своего коллегу и кивал головой. Он встал, взял стакан воды, и было слышно, как прокурорские зубы стучали о стакан.
На лице Грузенберга засияла довольная улыбка, заулыбались и его коллеги — Карабчевский, Зарудный, Соколов и Григорович-Барский.
Немой диалог между обвинителями и защитниками еще продолжался, пока председатель суда совещался с коронованными судьями.
А присяжные заседатели во главе со своим старшиной разглядывали простого ремесленника Наконечного, гордо, с достоинством стоящего перед судом и причинившего своими уверенными и честными показаниями немало неприятностей обвинителям. Они даже пробовали ставить свидетелю мышеловки, но благодаря светлому своему разуму он ловко обходил их и уверенно шагал дальше.
Следующим вызвали свидетеля Шмакова.
Неожиданно председатель спросил у свидетеля:
— «Лягушка» — это ваше прозвище?
— Да.
Шмаков надул жирные желтые щеки и ворчливо выдавил из себя:
— Прошу прислушаться и обратить внимание на то, какими сведениями располагал судебный следователь: Бейлис боялся Наконечного…
Поднялся Грузенберг и объяснил:
— Господин председатель! Из обвинительного акта видно, что известный арестант Козаченко принес записку и утверждал, что, по мнению Бейлиса, нужно отравить «лягушку»…
Бейлис улыбнулся. Впервые за все четыре дня суда.
Уже давно наступил вечер, а жестянщик Липа Поделко все еще стоял у здания суда, дожидаясь, когда выйдет его внук и расскажет ему, что там происходит, а потом и они пойдут домой. Из синагоги все давно уже вернулись, а старушка его будет беспокоиться: куда он мог запропаститься? С ума спятил Липа, подумает она, — ушел из синагоги еще до конечной молитвы, до ниле, и нет его. Что ж, со своей старушкой он как-нибудь договорится, но что скажут эти реб Ицхоки, они ведь его будут преследовать, эти божьи слуги.
Липа заметил, что вокруг него засуетились: толпа подвинулась ближе к зданию, где на всех трех этажах во всех комнатах горел свет. Липа навострил уши, чтобы услышать, о чем толкуют люди. Сегодня, говорят, была сенсация: сапожник Наконечный стоял перед судьями как герой, он хотел доказать, что Мендель не виноват…
Присматриваясь к публике, выходившей из суда, Липа заметил и своего внука, а рядом с ним — еще двоих. Приблизившись, внук увидел дедушку.
— Зачем ты здесь? — спросил он.
Но Липа уже терял силы от голода, он и ответить не смог.
— Почему молчишь, дедушка? Ты еще домой не ходил?
Липа не мог раскрыть рта.
— Дедушка, а дедушка! — не на шутку испугался Михель.
— Ничего, дитя мое, — едва выдавил из себя дед. — Я рад, что ты уже и расскажешь мне, что было там, — Липа рукой указал на освещенные окна.
— Хорошо, очень хорошо. Но пусть вот он тебе расскажет… — Михель потянул за руку Ходошева.
— Это тот человек, о котором вы мне рассказывали? — заговорил второй, вышедший вместе с Ходошевым.
— Да, господин Шолом Аш. Познакомьтесь! Реб Липа, вы когда-нибудь слышали о таком писателе, как Шолом Аш?
— Шолом… О Шолом-Алейхеме я слышал, — несмело сказал Поделко. — А впрочем, о Шоломе Аше… тоже слышал, как же? — И после небольшой паузы: — Где вы живете, в Киеве?
— Нет, в Варшаве.
— Ах, в Варшаве, там, где Ицхок-Лейбуш Перец?
— А вы читали что-либо из произведений Переца?
— Да, конечно… конечно, читал, и плакал, и смеялся.
— Что именно вы читали?
— «Бонце швайг». Тоже… Тоже суд, с председателем, обвинителем и добрым защитником, как здесь с Бейлисом.
Писатель оживленно толкнул Ходошева:
— А вы, молодой человек, хотите убедить меня, что наш народ не читает своих писателей.
— Да, евреи, расскажите же мне о выступлении сапожника Наконечного? Говорят, пока он единственный, кто выступил в защиту Бейлиса, — просил Липа Поделко.
— Пойдем, дедушка, скорее домой, по пути я тебе расскажу, — сказал Михель.
Старик поднял голову к сверкающим звездам и проговорил, обращаясь больше к самому себе, чем к спутникам:
— Тяжелый день был сегодня, дорогие мои, до сих пор и маковой росинки у меня во рту не было. — И после паузы: — Но Бейлису, безусловно, тяжелее, чем мне.
— Правильно, реб Липа, пойдите себе здоровеньким домой и подкрепите сердце.
Оставшись наедине с Ходошевым, Шолом Аш попросил:
— Поведите меня куда-нибудь в ресторан, нужно перекусить. Мы тоже ничего, или почти ничего, в рот не брали, хотя буфет там, в суде, довольно богатый. Вы видели, как Шмаков уплетал за обе щеки?
Писатель и журналист рассмеялись.
— Чтобы пойти в хороший ресторан, нам придется спуститься вот по этой улице к Крещатику, — сказал Ходошев. — Но здесь, совсем рядом, есть ресторанчик, где тоже можно найти всякую всячину, особенно вина прекрасных марок.
Недолго думая, Ходошев открыл дверь ресторана «Древняя Русь».
— Мое почтение, — приветствовал Ходошев хозяина, — как живется, Филарет Харлампиевич?
Тот принял актерскую позу, правую руку положил на левую сторону груди и пробасил:
— Я счастлив видеть вас! А как идут у вас дела, Шерлок Холмс из «Киевской мысли»?
— Дела хороши. Вот я привел к вам нового посетителя, писателя Шолома Аша из Варшавы.
— Шолом Аш? Минуточку… Не он ли автор драмы «Бог мести»?
— Совершенно верно, Филарет Харлампиевич.
Хозяин ресторана выпрямился, протянул писателю руку и торжественно произнес:
— В одном провинциальном театре, где ставили вашу драму, я играл роль Ейкеля Шабшовича, господин писатель! Это было на заре моей туманной юности!
— Очень приятно! — Шолом Аш пожал Филарету Харлампиевичу руку, слегка наклонив голову. От его изящной стройной фигуры повеяло достоинством и манерами городского жителя. — Так чем же будете нас угощать, господин ресторатор?
— Чем? Например, отбивной. Но мне кажется, господин Аш, что вы не едите свиного мяса?
— Я не религиозный человек, — широко улыбнулся Аш, показав ровные, красивые зубы, особенно выделявшиеся под черными усами. — Но на ночь глядя лучше было бы съесть яичницу из двух яиц и стакан чаю с пирожным.
— А вино, какое вино вам подать?
— Вино? Это уже мой коллега закажет, — ответил Аш, посмотрев на Ходошева.
— Коньяк было бы неплохо — высший сорт, — сказал Ходошев. — А для себя я попрошу отбивную.
Хозяин подозвал официанта и велел ему подать заказанные блюда и названные напитки.
Вскоре пришли две пары и уселись в двух противоположных углах зала.
Ходошев с Ашем перешли в другую комнату, удобно уселись и завели разговор.
— Как считаете, господин Аш, чем закончится процесс?
— Хотите взять у меня интервью? Рано еще говорить об этом. Я буду писать о процессе, о выводах по этому процессу, — ответил Аш на родном языке.
— Мне приятно разговаривать по-еврейски, хотя я работаю в русской газете и все репортажи веду на русском языке и пишу на русском. Но язык моей бабушки мне не чужд.
— Так добже, как сказал бы варшавский еврей, — улыбнулся Аш.
— Замечательно, как сказал бы киевский еврей, — подхватил Ходошев. — Мне все же хотелось бы знать ваше мнение, господин Аш.
— Все-таки для интервью?
— Нет, нет, не беспокойтесь, просто как мнение Шолома Аша.
— Вы, очевидно, считаете меня знаменитостью и думаете, что мое мнение превыше всего?
— Вы, несомненно, широко известный писатель, но на сей раз мне самому хочется знать ваш взгляд на процесс.
Официант принес ужин. Выпив немножко, оба повеселели.
— Хотите знать мой взгляд на процесс… — начал Шолом Аш. — Народы мира превратили нас в пробный камень для своей совести. По отношению к нам они измеряют свою совесть, потому что тем, кем был Дрейфус для Франции, может стать Бейлис для России. По исходу дела Бейлиса лучшие люди мира могут увидеть, как обстоит дело с совестью, правами человека в России. Кто знает, может быть, воспламенится совесть русского народа. Дрейфус и Бейлис — это наша судьба…
Аш замолк. Ходошев неотрывно смотрел ему в глаза, словно хотел прочесть что-то на его одухотворенном лице. Он ждал, когда Аш продолжит, и тот, расправившись со своим блюдом, развивал мысль дальше:
— Мы должны стать не жертвами правосудия, а борцами за правосудие. Вы поняли, коллега?
— Я хорошо понимаю, что вы говорите.
— Большой радостью, которую принесет нам борьба, должна быть победа, которая объединит не только евреев, но и другие нации. Объединит все нации в одно кольцо. Вот вывод, который можно сделать из процесса Бейлиса.
Несколько минут оба молчали. Ходошев обдумывал услышанное и наконец сказал:
— Большой радостью, которую должен принести процесс, вы говорите, должно явиться кольцо… которое объединило бы нас в одну нацию. Неужели вы думаете, что и я, и вы, и этот простой человек из народа — Липа Поделко, который хотел пожертвовать все свое имущество… Вы хотите сказать, что бедный мастеровой должен объединиться с Бродским, с сахарозаводчиком, в борьбе за справедливость?..
— Да, я думаю, что на первом этапе должны объединиться все простые люди и прогрессивно мыслящие представители высшего сословия. А потом история сама все расставит на свои места, — сказал Аш.
— Само по себе ничто не расставляется, — возразил Ходошев.
Снова оба умолкли. Несколько позже Аш произнес с особым ударением:
— Недаром вы работаете в «Киевской мысли»!
— Что вы хотите этим сказать?
— Так рассуждают социал-демократы — во всяком случае, те, которые маскируются под социал-демократов.
— Это же совсем не так плохо, господин Аш.
— Возможно…
Они распрощались с хозяином ресторана и вышли на улицу.
На фоне светлого лунного вечера памятник Богдану Хмельницкому, казалось, устремился к небу, освещенному мерцающими звездами.
Ночью, после обыска, когда жандармы перевернули в доме все вверх дном, мадам Ратнер сказала мужу:
— Они никаких улик не нашли!
Насмерть перепуганный хозяин дома, несомненно, был доволен, что ничего не нашли, но куда делся сын? Отец с матерью не спускали вопрошающих глаз с младшего сына.
— Ты, Нюмчик, наверно, знаешь, куда делся Яша, а? — допытывалась мать.
Гимназист пожимал плечами и вертел головой: не знаю. Он знает только то, о чем слышал в гимназии: ищут студентов, которые распространяли листовки с призывом к забастовке в знак протеста против сфабрикованного процесса над невиновным человеком.
— Ищут студентов… Где же может быть Яшенька? — простонала мать.
— Наверное, на сходке, — высказал предположение отец.
— Ну да, разве теперь бывают сходки, о чем ты говоришь, Иосиф!
— Именно теперь происходят сходки, — настаивал на своем муж.
Утром, сразу после завтрака, Иосиф Ратнер начал одеваться, чтобы уйти.
— Куда? — спросила жена.
Куда? Он думает пойти в судебную палату, авось что-нибудь узнает от своего знакомого — пациента… он спросит…
— Чего спрашивать, у кого спрашивать? — тревожится жена. Пациенту больше нечего делать, кроме как разговаривать в такое время с Иосифом Ратнером. К тому же что он может знать о Якове? — Ни с кем не надо говорить. Не бери в голову, Иосиф, и не ходи никуда. — Она потянула с мужа пиджак. Она ни за что не отпустит его к судебной палате, это опасно.
— Почему опасно?
— В тревожные дни лучше не ходить в такие учреждения, как полиция, суд…
Ратнеры сидели на кушетке в столовой, а служанка собирала со стола.
— Смотрите, — сказала девушка, — Нюма забыл взять с собою завтрак.
Сверток с завтраком действительно лежал на краю стола.
Отец подхватился, чтоб отнести сыну завтрак в гимназию, но жена не разрешила ему: не надо этого делать, она боится за мужа… Нюма не помрет с голода без завтрака.
Стук в дверь. Оба встрепенулись.
— Стучат, Иосиф.
— Слышу, Клара.
— Я пойду открывать.
— Нет, сиди, сама пойду.
Дверь открыла служанка, и они увидели Настю Шишову.
— Смотри, Клара, это та самая курсистка, которая…
— Иосиф, у меня тяжелое предчувствие…
Настя сразу направилась к кабинету Ратнера, а Ратнеры, глядя друг на друга непонимающими глазами, молча, с бьющимися сердцами, пошли следом за неожиданной гостьей.
В кабинете Настя, не проронив ни слова, уселась в зубоврачебное кресло и тихо сказала:
— Иосиф… не знаю вашего отчества… Вы знаете, кто я?
— Как же, барышня, сколько раз вы были у нас в доме! — отозвалась мадам Ратнер. Выждав немного, она беспокойно-тревожным голосом спросила: — Где Яша?
— По этому поводу я и пришла к вам.
— Где он?.. Не выматывайте душу.
— Сейчас… — Настя достала из сумочки вдвое сложенную записку. — Вот, он все написал.
— Где мои очки, Иосиф?
— Сейчас… — Отец взял записку из рук девушки, развернул ее и прочитал: «Дорогие родители! Я вынужден был уехать из Киева. Не беспокойтесь. Не могу написать вам, где нахожусь. Узнать обо мне вы всегда сможете у Насти. Яша».
Когда каждый — и отец, и мать — прочитали записку, Настя забрала ее из рук матери и на их глазах порвала на мелкие кусочки.
— Что вы делаете?
— Так надо. Ради Яши и ради вас… — пояснила Настя.
Родители переглянулись, недоумевая.
— Так надо?
— Да.
Пришел из гимназии Нюма. Увидев Настю, он сразу понял цель ее визита.
— Молодой человек, — обратилась Настя к гимназисту, — вы никогда не видали меня у вас в доме…
Кивком Нюма дал ей понять, что ему известно, о чем она говорит.
— Будьте уверены! — сказал гимназист с такой решимостью в голосе, что эта фраза вызвала у курсистки улыбку.
Попрощавшись с Ратнерами, курсистка ушла.
Кивнув в сторону младшего сына, отец произнес:
— Понимаешь, Клара, он тоже с ними…
— Кто?
— Я имею в виду Нюму.
Больше суток продержали Настю в предвариловке жандармского отделения, но потом отпустили домой, так как по существу против нее не было никаких улик. И теперь отец с матерью начали оберегать дочь от всяческих опасностей. Отец особенно привязался к ней после беседы, состоявшейся между ними в подвале предвариловки.
Настя без особого труда добилась, чтобы отец давал ей билеты на заседания процесса, «сколько душе будет угодно», именно так выразился отец. И Настя по возможности тактично пользовалась доверием отца.
Получив на ближайшее заседание сразу три билета, Настя с большой осторожностью разыскала Костенко и Тимку Вайса, передала им два билета, а третий оставила для себя. Между собою они договорились, что там, в зале заседаний, они ни при каких обстоятельствах не покажут вида, что знают друг друга, даже если им придется сидеть рядом.
Небольшой зал Киевского окружного суда в тот день, казалось, был набит порохом. Атмосфера была накалена, и казалось, вот-вот произойдет взрыв. На этом заседании в качестве свидетелей допрашивали сестер Екатерину и Ксению Дьяконовых.
Допрос происходил крайне напряженно. Екатерина Дьяконова — худощавая молодая женщина с заостренными чертами лица — рассказывала страшные вещи: двенадцатого марта она зашла к Вере Чеберяк и застала хозяйку дома возбужденной. Детей не было дома. Свидетельница заметила трех мужчин, шнырявших из комнаты в комнату. «Кто это там у тебя?» — спросила Дьяконова у взволнованной Чеберяк. «Мои знакомые хлопцы», — ответила та. И когда же «знакомые хлопцы» ушли, Вера Чеберяк заметалась по квартире, не находя себе места. Провожая Екатерину Дьяконову, Чеберяк попросила ее прийти ночевать, так как муж работал тогда в почтовом отделении ночью, а оставаться одна она боялась. И сама не знает почему, что-то ее пугает… Дьяконова согласилась и пришла к Чеберяк вечером. Вообще Дьяконова иногда шила для Чеберяк белье — наволочки, наперники, а случалось, и модное платье. Вот совсем недавно Дьяконова сшила ей несколько наволочек на подушки.
Спали обе женщины на одной кровати, а ночью — так рассказывала Дьяконова на суде — она почувствовала в ногах мешок с чем-то твердым. Позже, когда в пещере нашли мертвого Андрюшу, ей пришло в голову, что, возможно, это было его мертвое тело. Позже она подумала, что таинственная беготня «хлопцев» из одной комнаты в другую тоже, очевидно, была связана с мешком. Даже теперь, в зале суда, дрожь пробегает по ее телу — определенно в мешке было тело убитого мальчика, Андрюши Ющинского. И поэтому она не может больше молчать.
Прокурор Виппер, а также Замысловский и Шмаков спросили молодую женщину, почему она не рассказала об этом на допросе у следователя Машкевича. Дьяконова ответила, что, во-первых, она тогда боялась Веры Чеберяк, которая неоднократно угрожала ей, а во-вторых, теперь, после того как она присягнула, она не хочет брать на себя грех и рассказывает все, что помнит и что было на самом деле.
Свидетельница стояла перед судом и смотрела прямо в глаза председателю.
Особенно вызывающе вел себя Виппер. Он не был спокоен, это можно было заметить по выражению его лица. Во время выступления свидетельницы он часто срывался с места, быстро садился снова или же оставался стоять в угрожающей позе, опираясь на пюпитр и слегка наклонив голову. Он часто делал какие-то заметки карандашом, жесты его были четкими и размеренными— по всему чувствовалось, что это в высшей степени практичный и опытный чиновник, умеющий держать себя в суде. Этот человек знал себе цену.
Теперь, во время допроса Екатерины Дьяконовой, которая после присяги хотела очиститься перед судом и перед самой собой и рассказать всю правду, этот петербургский чиновник-немец решил во что бы то ни стало дискредитировать Дьяконову перед присяжными заседателями — ему хотелось, чтобы они взяли под сомнение ее показания. Виппер волновался, глаза его в паузах между вопросами и ответами метали молнии. Говорил он громко, порой переходя на крик, потом внезапно понижал голос почти до шепота. Так старался он вывести Дьяконову из равновесия. Однако она четко и смело отвечала на все его вопросы.
Тут обвинители решили зачитать показания свидетельницы, которые она давала следователю Машкевичу.
На середину помоста выдвинули кованый ящик, до сих пор стоявший под прикрытием недалеко от присяжных заседателей. В ящике хранились вещественные доказательства. В руках председателя появились пожелтевшие фотографии.
Петр Костенко и Тимка Вайс сидели в зале рядом, а Настя Шишова впереди них. Любопытствующая публика тянулась вперед, кое-кто вставал со своих мест, чтобы разглядеть фотографии. Тут послышались недовольные голоса:
— Садитесь, садитесь, вы нам мешаете.
Пристав держал перед глазами свидетельницы фотографии:
— Вот этот — Латышев, или, как его называли, Рыжий Ванька, — послышался голос Дьяконовой. Ее узкое раскрасневшееся лицо даже не дрогнуло. Глаза ее впились в другую фотографию: — А это — Сингаевский, родной брат Веры Чеберяк. А этот — Рудзинский. Этих троих я видела в тот страшный день в доме Веры Чеберяк.
Казалось, будто воздух в зале суда накалился.
Костенко пробормотал:
— Ты слышишь, Тимка?
Тимка кивнул: он слышит и понимает, что здесь происходит.
Опознанием фотографий подлинных убийц Ющинского заседание суда не закончилось. Из ящика достали кусок наволочки, которую нашли рядом с мертвым телом Ющинского. Эта наволочка стала теперь объектом многих разговоров и толков на суде.
Наволочка переходила из рук в руки и скрупулезно рассматривалась прокурорами и адвокатами, судьями и присяжными заседателями. Присяжные заседатели ощупывали каждый сантиметр — искали следы крови Ющинского.
Послышался голос председателя:
— Вы, свидетельница Дьяконова, видели, из какого материала наволочки у Чеберяк?
— Видела.
— Что это был за материал?
— Мадаполам.
— А вышивку на наволочках видели?
— Видела.
— А других не видели?
— Больше с вышивкой не было.
— А каким цветом была сделана вышивка?
— Черным с красным.
На куске наволочки, который подали Дьяконовой, как раз была такая вышивка, и она узнала ее.
Тишина в зале стала тягостной, невыносимой. Тимка Вайс достал из кармана пачку папирос, вынул одну, зажал зубами. Другой рукой он потормошил сидящего рядом Костенко:
— Что здесь делается, Петро?
— Спокойно, Тимка, во всем разберутся… Спокойно!
— Смотри, Бейлис встал с места.
За деревянной перегородкой на цыпочках стоял Бейлис. Дрожащими руками он упирался в перила, чтобы лучше видеть и слышать, тянулся вперед.
— Ах, ах! — раздавалось с разных концов зала. Люди были просто ошеломлены показаниями свидетельницы.
— Выходит, этой наволочкой заткнули рот несчастному мальчику? — спросил Карабчевский.
— Этой, — ответила свидетельница.
Зал покачнулся в глазах у Бейлиса…
Возбужденный Тимка Вайс уже представлял себе, как Виппер, Замысловский и Шмаков закрывают лица руками от стыда. А подле примостился всполошенный петушок — Дурасевич, который поглаживает встрепанные волосы, и по лицу его стекает пот…
Но тут из кованого сундука вытащили продырявленный у края кусок бумаги, которую тоже нашли в пещере возле трупа Андрея Ющинского. Бумагу, наверно, потеряли те, кто втаскивал труп в пещеру. А возможно, бумага просто прилипла к подошвам кого-нибудь из убийц… Подали ее Дьяконовой.
Дьяконова взяла бумагу в руки, подняла к глазам и сказала:
— Да, это точно такая же бумага, на какой мы писали, когда играли в летучую почту у Веры Чеберяк.
Свидетельница рассказала, что еще до убийства Ющинского она приходила к Вере Чеберяк, в доме которой заставала Латышева, Рудзинского, Сингаевского, Мандзелевского и других. Они представлялись студентами, врачами, фельдшерами или чиновниками разных ведомств.
Бумажка пошла по рукам и вернулась обратно к приставу, тот осторожно положил ее среди других немых свидетелей в углу сундука. Затем пристав достал из сундука пару мальчиковых ботинок и показал свидетельнице.
Екатерина Дьяконова рассказала, что когда-то видела эти ботинки на Андрее Ющинском, а после убийства — на ногах девочки Веры Чеберяк. Когда свидетельница Дьяконова как-то при встрече с Верой Чеберяк спросила, не Андрюшины ли это ботинки, Чеберяк побелела как мел и дрожащими губами пролепетала: «Ты с ума спятила, хочешь потопить меня и себя?»
На тут же проведенной очной ставке Чеберяк всячески отнекивалась, говорила, что ботинки принадлежали ее сыну Жене.
Председатель спросил у свидетельницы:
— Откуда вам известно, что ботинки эти Андрюши Ющинского, а не Жени Чеберяка?
— У Жени ботинки были на пуговицах, а у Андрюши — не резинке.
— Откуда вам известно, что у Жени были только одни ботинки?
— Вся улица знала, что у Жени были только одни ботинки.
Все увидели, как вскипела Вера Чеберяк. Ее глаза зло блеснули, на нижней губе показалась капля крови, которую она быстро вытерла платком.
Со скамьи, где сидели присяжные заседатели, поднялся старшина — человек плотный, с мясистым лицом и остроконечной бородкой. Обращаясь к председателю, он попросил вызвать из комнаты для свидетелей мать Ющинского и показать ей эти ботинки. Она точно скажет, говорит ли свидетельница правду.
Тут же Замысловский задал свидетельнице какой-то несуразный вопрос, и все поняли, что он это сделал нарочно, чтобы отвлечь ее внимание от ботинок.
— Каналья! — вырвалось у Тимки.
Настя Шишова услышала возглас Вайса. Она стала оглядываться по сторонам, строго посмотрела на Тимку, как бы говоря: «Тише, ты в своем ли уме, Тимка?»
Костенко незаметно потянул Тимку за рукав: если он будет так горячиться, оба они вынуждены будут уйти. Тимка кивнул: он возьмет себя в руки.
Тем временем появилась мать Ющинского — женщина лет сорока. Она напряженно смотрела на председателя, а тот предложил ей встать на свидетельское место напротив Дьяконовой.
Заметив в руках у пристава ботинки, она невольно потянулась к ним и пошатнулась: перед глазами ее предстал живой Андрюшка.
Старшина присяжных спросил вполголоса:
— Что было на ногах вашего Андрюши, когда он в последний раз ушел из дома, — сапоги или ботинки?
— Ботинки.
— Какие?
— Кожаные с резинками.
По залу пронесся тяжелый вздох. Было едва слышно, как Болдырев спросил у старшины:
— Вы удовлетворены?
— Вполне.
Следующий день опять принес сенсацию: перед судом прошло несколько свидетелей, у которых хотели выяснить разницу между хасидами и миснагидами (противниками хасидизма). Для толкования этой важной религиозной проблемы были вызваны эксперты: ксендз Пранайтис, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, известный гебраист Иван Гаврилович Троицкий; профессор Петербургского университета — ориенталист-семитолог Павел Константинович Коковцев; московский казенный раввин Мазе. Перед тем как эксперты выскажут перед судом свое ученое мнение по высокой проблеме, Виппер со своими помощниками по обвинению, Замысловским и Шмаковым, прижмут к стене двух обыкновенных евреев — Дудмана, старосту киевской синагоги, и Мордхая Жука — совмещающего одновременно обязанности шамеса и кантора в синагоге. И вот у этих двух обыкновенных прихожан молельного дома хотели добиться истины: они должны были объяснить, что такое хасид и что такое миснагид. Особенно наступал Шмаков, который при одном только упоминании о хасидах начинал кипятиться. Его сонные глазки, словно залитые воском, сразу оживают и мечут молнии. Он принимается терзать свидетеля вопросами. Перед судом и присяжными он проявляет незаурядные познания — не всем понятны запутанные религиозные подробности, о которых обыкновенные евреи, занятые пропитанием семьи, не хотят знать.
Были вызваны в суд и так называемые цадики. Обвинители имели возможность выказать свою осведомленность в вопросах хасидизма, когда перед судом предстал свидетель Файвель Шнеерсон, сосед Бейлиса, торговавший сеном и соломой. Ему было за тридцать, он прихрамывал на одну ногу после ранения в русско-японской войне, в которой принимал участие как простой солдат. Именно факт получения ранения на войне дал ему повод истребовать для себя право на жительство в Киеве. Он получил разрешение на прописку в Слободке, на окраине Киева, где ночевал; столовался же он в семье Бейлиса. Родом Шнеерсон был из Любавича, где проживал известный любавичский раввин. И поскольку Шнеерсон был однофамильцем широко известного Залмена Шнеерсона — вожака хасидов (благочестивых), обвинитель, главный специалист по вопросам хасидизма, присяжный поверенный Алексей Шмаков, прямо-таки напал на торговца сеном и соломой, пытаясь доказать присяжным заседателям, что еврей с черной бородой вместе с хасидом Шнеерсоном и цадиками-хасидами сгубили мальчика Андрея Ющинского.
— Вам известно, что Бейлис принадлежал к хасидам?
— Не знаю.
— Он раввинист или хасид? Он принадлежит к раввинистам или хасидам?
— Не знаю. Мне сдается, ни к тем, ни к другим.
— А отец Бейлиса был хасидом?
— Отца его я не знаю.
— Вы не помните?
— О его отце я вовсе ничего не знаю.
— Не знаете?
— Нет, не знаю.
— Ваш отец цадик? А что это означает, знаете?
— Не знаю.
— Выходит, вы понятия не имеете о том, что ваша семья из знаменитых цадиков?
— Не знаю об этом…
А как возрадовались обвинители, когда разнюхали через своих агентов и доносчиков, что на завод к Зайцеву приходили два еврея с бородами и пейсами, в длинных сюртуках… Вот это, наверно, те, кто вместе с приказчиком Зайцева — с Бейлисом — убили христианского мальчика. Это, наверное, те «два цадика» — так прокурор Виппер и его помощники назвали евреев Ландау и Этингера.
Обвинители готовились встретиться с вызванными из-за границы свидетелями. Предположительно Ландау и Этингер — два набожных еврея — происходят из рода знаменитого Залмена Шнеерсона, или, по крайней мере, связаны с ним. Само имя Шнеерсона вызывало страх у судей, у председателя суда, у присяжных заседателей…
Прокурор и его помощники убеждали: вот увидите, что за персонажи эти два цадика, с которыми братается Бейлис! Уже по их внешнему виду можно будет о многом судить — страшные люди с налитыми кровью глазами, с бритвами в зубах. Кто не знает их, этих существ, пугающих на улицах женщин и детей, даже слабонервные мужчины убегают и прячутся от таких страшилищ. И эти дикие существа ходят по нашей земле и отравляют воздух вот уже сколько лет! Они убивают детей — сегодня здесь, а завтра там… Наконец-то они пойманы, их приведут сюда, в Киевский окружной суд, пока что свидетелями, и пусть весь мир убедится в том, что необходимо освободить человечество от таких фанатиков-убийц.
Продажные служители пера живописали в черносотенной прессе, стараясь подготовить общественное мнение в столице России, в больших и маленьких городах и местечках, пытались доказать, что Киевскому окружному суду удалось вывести на чистую воду двух цадиков, которые прятались за границей. И весь мир увидит злодеев, которые вместе с хасидом Менделем Бейлисом совершили гнуснейшее преступление двадцатого столетия.
С затаенным дыханием весь мир дожидался того дня, когда перед судом появятся эти два страшных цадика, — и вот дождался…
В тот день в зале суда особенно бросались в глаза молодчики со значками на лацканах пиджаков. Они старались занять лучшие места в первых рядах среди высокопоставленных дам — жен высших чиновников и служащих администрации юго-западного края. Опытный глаз наблюдателя мог уловить, что многие из этих дам, особенно жены «союзников», переглядывались с прокурором Чаплинским, который, как обычно, сидел за спиной председателя суда Болдырева. Чаплинский, незаметно для окружающих, подмигивал своей пышнотелой жене, которая сидела в первом ряду, широко раскинув свое пышное платье.
И вот ввели молодого человека, одетого по последней моде в темно-синий костюм, белоснежную сорочку и экстравагантный галстук. Свежевыбритый, элегантный, как актер, молодой человек оставил на щеках ниже висков только шпонки, опускавшиеся вниз к коротко подстриженным усикам. Лицо его озарялось иронической улыбкой. Никто в зале, кроме, конечно, защитников Бейлиса, не знал, что этот молодой человек занимается литературой, музыкой, пишет оперетты, две из которых с успехом прошли в парижском Театре оперетты, но здесь, в России, их не захотели ставить из-за вульгарности, легкомысленности и даже неприличности содержания.
Как только свидетель, который походил на одного из персонажей своих оперетт, вошел в зал — пронесся ветерок смеха. Кого это сюда вызвали? Все ожидали увидеть настоящего цадика — глубоко религиозного человека, патриархального еврея с бородой и пейсами, со страшными глазами, одетого в замасленный сюртук. А тут — на тебе! — молодой человек, только что из Парижа. Ландау — так его зовут. Учился в Киевском политехникуме, но не окончил его.
Смех напал не только на публику, пришедшую посмотреть на диковинку, но и на судебных чиновников и присяжных заседателей. Вон тот старший крестьянин с жирным лицом и рыжими волосами нагнулся к соседу, и оба, удивляясь, пожимали плечами: вот так цадик, которым их пугали! Франт какой-то — из тех молодых людей, что ищут развлечений. Вот тебе и цадик! Но нужно еще послушать, какие он даст показания.
Из-за спины Болдырева Чаплинский растерянно глядел на жену. Она же глазами спрашивала у него: «Это и есть тот страшный цадик, Жорж? Что это делается у тебя в судебной палате?». На ее напарфюмеренное лицо набежала тень: ей стыдно было смотреть на мужа. «Что случилось, Жорж, это евреи нарочно тебя подвели, прислали не настоящего цадика, который должен был раскрыть глаза присяжным заседателям?» А они, присяжные, растерянно улыбались друг другу. «Погляди, — как бы говорил ее взгляд, — погляди, Жорж, на прокурора Виппера, твоего петербургского коллегу, на гражданских истцов — Шмакова и Замысловского… У Шмакова нижняя губа опустилась еще ниже, от удивления он даже высунул язык. Жорж, он выглядит побитой собакой. Остатки волос на голове от неожиданности встали дыбом». Она нарочно исподволь посмотрела на защитников — они смеялись, давились от смеха, и больше всех Грузенберг и Карабчевский.
Послышался голос председателя:
— Свидетель, что вы можете рассказать по этому делу?
— Я ничего не знаю, — прозвучал молодой голос.
Тут Грузенберг вставил вопрос:
— Где вы постоянно проживаете, господин Ландау?
— Постоянно проживаю за границей.
После того как выяснилось, что свидетель редко приезжает к матери и к родным, проживающим здесь, и что последний раз он был в Киеве в тысяча девятьсот одиннадцатом году, то есть как раз тогда, когда дети Чеберячки выдумали, что они видели у Бейлиса евреев с большими бородами и пейсами, а сыщики установили, что на завод к Зайцеву приходил этот самый Ландау и еще какой-то цадик Этингер, Грузенберг неожиданно спросил:
— Где вы остановились и… извините, есть ли у вас право на жительство в Киеве?
— Да, — ответил свидетель, — только не на дворцовом участке.
— А у вашей матери есть право жительства на Дворцовой площади?
— Да, но я вынужден был прописаться на другом участке.
— Где же вы прописались?
— На старокиевском участке.
— На какой улице?
— Кажется, на Фундуклеевской.
Тогда отозвался прокурор Виппер:
— Не можете ли вы объяснить, как это так получилось, что у вас есть право жительства в Киеве, но не на Дворцовой площади?
— Я сам не знаю.
— Скажите мне, что это за комедия, вы проживаете на Дворцовой площади, и все об этом знают, а прописывают вас на Фундуклеевской улице?
— Я лично пропиской не занимался.
— Вы совсем не интересовались этим? Я хотел выяснить, для чего это было сделано?
— Не знаю, для чего это сделано.
С места сорвался защитник Бейлиса Григорович-Барский и сказал:
— Я хочу просить, господин председатель, чтобы вы объяснили господам присяжным заседателям, что в Киеве евреи имеют право жительства не на всех участках и что это не комедия, а трагедия.
— Объясните мне, господин Ландау, — вступил в допрос Карабчевский, — вот вы — человек, приехавший из-за границы, не смогли добиться, чтобы вас прописали в собственный дом вашей матери?
— Пропиской занимался дворник.
— А там, где вы действительно были прописаны, вы никогда не проживали?
— Нет, не проживал.
Председатель громко спросил:
— Вы купец? Окончили высшее учебное заведение?
— Не закончил.
— А ваши родные?
— Все мои братья закончили высшие учебные заведения, а моя мать потомственная почетная гражданка.
— Господа присяжные судьи, — обратился председатель к заседателям, — евреи, не получившие высшего образования и не принадлежащие к купцам первой гильдии и проживающие на основании других прав, не имеют права жительства на всех участках города Киева.
Находящийся вместе с другими журналистами на хорах Ходошев подумал: «Точно как ты, Шайкеле Ходошев из местечка Ходорков, не имеешь права жительства в Киеве на всех участках. Гордись, Шайкеле, что ты такой уважаемый гражданин своего любимого Киева». Ему хотелось подойти к первому встречному товарищу по перу и поделиться своими мыслями, но он подумал: «К чему это? Разве мне от этого легче станет?.. Хорошая метла нужна для них…»
В зале зашушукались. Виппер с помощниками, а также помощник Шмакова молодой Дурасевич даже приподнялись со своих мест.
В ряду защитников Бейлиса Карабчевский многозначительно посмотрел на своих коллег и подмигнул Грузенбергу, словно говоря: «Дурак — из бани вон… Как нравится вам председатель?»
На это же заседание был приглашен и второй свидетель — цадик Этингер. Так как он не владел русским языком, к нему приставили доверенного переводчика с немецкого, и свидетель давал показания на этом языке.
Как только Этингер показался на свидетельском помосте, по залу снова пронесся разочарованный шепот: это второй цадик?.. Больше всех растерялись обвинители. Так обмануться! От смущения Шмаков спрятал свое красное лицо.
После того как Этингер предстал перед судом, Шмаков поглядел на своего помощника, а тот, задрав голову, хотел узнать у своего идейного руководителя и учителя: что сие означает? Где настоящий цадик с бородой и пейсами, на которого было возложено столько надежд, что именно он поднимет колесницу обвинения на высшую ступень, а оттуда, с высоты, колеса ее спустятся и врежутся в этих российских юристов, защитников, поломают им ребра, чтобы хруст был слышен по всей России, по всему свету… А тут… пред ними предстал нарядный молодой человек, химик, образование получил где-то в Австрии, постоянно проживает в галицийском городе; сюда приезжает в гости к сестре, к жене Марка Зайцева. Последний раз Яков Этингер гостил у сестры в декабре тысяча девятьсот десятого до января тысяча девятьсот одиннадцатого года. Тогда он приехал по делам. Его фирма торгует хлебом и древесиной, о чем свидетельствуют штемпеля в его заграничном паспорте, поставленные соответствующими полицейскими органами. Выходит, что он был в Киеве до убийства Ющинского. А ему хотели приписать, что он является тем, кто подготовил убийство. Оказалось, что он никогда Бейлиса в глаза не видал, что он даже не слыхал, что такой человек, как Мендель Бейлис, существует на свете.
Прокурор Виппер пытался выяснить у этого галицийского купца, что ему известно о хасидах, о цадиках. Но Этингер ничего не знал, он в жизни никогда не был ни у хасидов, ни цадиков, знать ничего не знает. Переводчик, который для Этингера переводил вопросы прокурора, улыбался его ответам.
— Спросите свидетеля, — обратился Виппер к переводчику, — не известно ли ему, что одним из вожаков хасидов является Залмен Шнеерсон, не слышал ли он такую фамилию?
— Никогда не слыхал, — последовал ответ.
Галицийский купец Яков Этингер пожимал плечами, он никак не мог понять, с какой целью его потревожили, вызвали из родного города в Россию, в Киев, куда он только два раза приезжал к родным или по делу фирмы «Этингер и сын».
Поздний вечер. К концу идет один из последних дней октября. Удивительным показалось появление в стенах Киевского окружного суда двенадцатилетнего мальчика Янкеля Орендаря.
В то время не было еще мощных юпитеров и рефлекторов, ослепляющих глаза. Но в этом дворце богини Фемиды обыкновенный электрический свет был настолько ярок, что некоторые непроизвольно щурились и даже закрывали глаза — особенно один из присяжных заседателей, крестьянин в летах, подстриженный в скобку. Вообще он почти все заседания продремал, только время от времени открывал глаза, словно просыпался от тяжелого сна. Но когда судебный пристав привел в зал перепуганного, худенького мальчика, сонный крестьянин открыл глаза и стал удивленно оглядываться. Этот присяжный заседатель чутьем простого, честного человека понял, что происходит нечто непозволительное. Привести ребенка!.. Сюда… Так поздно… Для него, крестьянина из украинского села, жившего в бедности и нужде, это был совсем чужой еврейский ребенок. Но чего хотят здесь от мальчика? То, что еврей с черной бородой сидит на скамье подсудимых, ему, крестьянину, понятно: возможно, он совершил что-то преступное. Но зачем тащить сюда ребенка? Так думал присяжный заседатель. За то время, что он здесь находится и сквозь дремоту прислушивается к происходящему, ничто его так не взволновало, как появление этого маленького мальчика. Вот и прислушивается крестьянин, слышит голос судейского чиновника со спесивой одутловатой физиономией, чьи большие усы делают его похожим на морское животное. Как называется это животное? Когда-то он это знал, но забыл. Рядом с этим чиновником сидит молодой, тоже надутый, и старается походить на старшего. Например, прежде чем заговорить, старший чиновник ладонью поглаживает пышные усы, и молодой тоже проводит рукой по тому месту, где у мужчин растут усы…
И вот присяжный заседатель услышал голос молодого судейского чиновника:
— Скажите, свидетель, у вас было ружье?
— Ружье? Пугач!.. — еле слышно ответил маленький, худенький мальчик и быстро заморгал испуганными глазами. Председатель суда попросил мальчика повторить сказанное. Мальчик сжался, как ежик, на которого нападают, выставил острые плечики, и все в нем стало острым и напряженным — он защищался от того типа с тестообразным самодовольным лицом.
Чиновник допытывался у мальчика-свидетеля, стрелял ли он из своего пугача в голубей. Ему известно, что пару голубей мальчик купил за десять копеек и тех же голубей продал Андрюше за двадцать копеек. На это мальчик ответил не сразу и от растерянности втянул небольшую голову в плечи.
Дурасевич даже поднялся с места и со злостью в голосе повторил вопрос о голубях, которых мальчик купил за десять копеек и продал за двадцать.
— Да, да, продал за двадцать, — детский голос падает в зал и перекликается с воспоминаниями крестьянина: мальчиком он тоже вскармливал голубей, менял их, покупал и продавал, так что же в этом плохого?
Присяжный заседатель этого не понимает. Он замечает, что Дурасевич поглядывает в сторону присяжных заседателей, взгляд его торжествующий, довольный. Что он хочет этим сказать? A-а… крестьянин понимает: он поймал мальчика на том, что тот заработал десять копеек. Так вот чем провинился этот чернявенький худощавый ребенок, который дрожа стоит, словно под прицелом сотен глаз, и не может спрятаться от града вопросов, которые сыплются на него. И тут в допрос вмешался адвокат Карабчевский, красивый, стройный человек с благородным лицом, которое с самого начала привлекло внимание присяжного заседателя.
Спокойным изящным жестом Карабчевский подобрал упавшие на лоб волосы и мягко обратился к мальчику:
— Скажите мне, свидетель, вы долго держали голубей до того, как продать? Долго их кормили?
— Месяц, — послышался слабый робкий голос.
«Ага», — обрадовался присяжный заседатель. Он почувствовал, что многие в зале вздохнули свободнее. Он увидел вокруг себя довольные улыбки, только у морского страшилища — у Шмакова — лицо потемнело и большие опущенные усы начали двигаться.
— Значит, вы ничего не заработали? — спросил тот же мягкий голос.
— Нет, ничего.
— А игрушку, пугач, вы подарили Андрюше?
— Да, подарил.
Крестьянин обрадовался и посмотрел на Дурасевича, который сидел точно сдувшийся воздушный шарик, простреленный детским пугачом. А навел детский пугач адвокат с благородным лицом.
Еще один напряженный день процесса. Председатель Болдырев просто изводил сегодня защиту своими беспрерывными замечаниями. Он перебивал и обрывал задаваемые вопросы в самые решительные моменты, когда кто-нибудь из защитников прижимал свидетеля обвинения. Сколько профессионального такта и выдержки понадобилось защите при таком поведении председателя суда! Адвокатам пришлось нелегко, особенно Грузенбергу — единственному еврею из всех защитников Бейлиса.
Сегодня на суде давала показания Вера Чеберяк. Как она выкручивалась, эта то ли пианистка, то ли фельдшерица-акушерка, под градом вопросов, которыми ее засыпали Карабчевский и Зарудный, Григорович-Барский и Грузенберг! Как она вертелась, извивалась, словно змея, которая продолжает вертеться и извиваться, если отрубить ей хвост или даже кусок туловища.
Казалось, что близится конец, еще мгновенье — и ее припрут к стенке. Но тут вмешивается председатель, не дает отрубить змее отвратительную голову. И змея выворачивается, выскальзывает из рук защиты и продолжает шипеть. Это была борьба! С одной стороны — необычайный интеллект, блестящий ум лучших адвокатов, с другой — нечестная игра.
После тяжелого дня в зале суда Грузенберг прилег отдохнуть. И, лежа на своей кровати в первоклассном отеле, он перебирал в уме все моменты сегодняшнего заседания. Напротив адвоката, на другой кровати, отдыхала его красавица супруга, не захотевшая отпустить прославленного мужа одного на этот тяжелый процесс. Ее предупреждали, что киевские «союзники», во главе с главным заводилой, студентом черносотенцем Голубевым, охотятся за светлой головой Грузенберга…
Роза Гавриловна каждый день приходила вместе с Грузенбергом на заседания суда, высиживала до конца и вместе с ним возвращалась в гостиницу. Сегодня она не выдержала — усталая, издерганная, ушла, не дождавшись конца заседания. В глубоком сне она теперь тяжело дышит и, верно, видит во сне процесс, слышит мудрые вопросы, замечания мужа и его коллег, от которых гражданские истцы Замысловский и Шмаков, председатель суда Болдырев извиваются, как змеи…
А что снится Грузенбергу? Он не спит, он только закрыл глаза и погрузился в легкую дремоту воспоминаний. Он видит Санкт-Петербургский зал окружного суда в 1903 году, ровно десять лет тому назад, когда на скамье подсудимых сидел студент Киевского политехнического института Пинхос Дашевский, который с финским ножом в руках бросился на организатора кишиневского погрома — на Паволаки Крушевана — и тяжело его ранил. Бледный, истощенный, с небритым лицом, Дашевский смотрел в одну точку. Он, вероятно, вспомнил, что не захотел стрелять в погромщика из револьвера, потому что за Крушеваном по улице шла женщина с двумя детьми. Дашевский побоялся, что может, не дай бог, попасть в нее или детей. В последнюю минуту он решил воспользоваться финским ножом. Его целью было не убийство. Он хотел, чтобы весь мир узнал: за погромы и насилия еврейская революционная молодежь, несмотря на то что не одобряет индивидуальные акты мести, все же будет расплачиваться кровью.
Тогда, на петербургском процессе, Грузенберг смотрел в чистые, одухотворенные глаза Дашевского и думал о старом библейском изречении: око за око, зуб за зуб. Как адвокат, человек закона, он, Грузенберг, не признавал этого принципа, но покушение на черносотенца, совершенное Дашевским, было ему по душе. В его сердце кипела обида за страшные издевательства, стыд и страх, которые претерпевал еврейский народ; раны подвергнутых погромам были его ранами; истязания и издевательства требовали мести. И вот Дашевский стал тем кулаком, что ударил погромщика и облегчил мучения народные.
Лежа теперь в номере киевской гостиницы, Грузенберг вспоминал слова прокурора, обвинявшего идеалиста Дашевского. Обвинителем тогда выступал многообещающий обер-прокурор Щегловитов, нынешний министр юстиции Российской империи — Иван Григорьевич Щегловитов, мозг и организатор процесса Бейлиса.
И еще один символический факт: гражданским истцом пострадавшего погромщика Паволаки Крушевана выступал печально известный адвокат Шмаков, тот самый, что сидит теперь в зале суда напротив Грузенберга. Своими маленькими заплывшими глазками он словно спрашивает у каждого: «А Шнеерсона вы знаете, Файвеля Шнеерсона знаете?» Бегающие глазки Шмакова ищут еврея с бритвой в зубах. Они смеются, когда им кажется, будто присяжные заседатели, эти простые русские и украинские люди, которых силой пригнали сюда, молчаливо соглашаются с ним, с этим зажравшимся помещиком, ненавидящим свой родной народ так же, как и так называемых инородцев.
И тогда, на процессе Дашевского, Шмаков крайне агрессивно выступил против инородцев, его речь претендовала на обвинение всего еврейского народа. И тогда, десять лет назад, фигура Шмакова наводила на петербуржцев страх своей монументальной неуклюжестью. До сих пор Грузенберг находит утешение в том, что это заплывшее страшилище было не в состоянии повлиять на присяжных заседателей и Дашевского осудили только на пять лет. Это, возможно, произошло потому, что благородный русский адвокат Миронов выступил тогда с блестящей защитной речью, да и Грузенберг внес свой вклад в дело защиты Дашевского своим продуманным и прочувствованным словом…
…Теперь ему опять хочется поскорее почувствовать силу совести русского народа, совести присяжных заседателей, когда прозвучит: нет, не виновен…
Мысли Грузенберга прервали стоны супруги: «Ося, Ося!» — позвала она. Грузенберг сорвался с постели, подбежал к жене и стал успокаивать ее. Она открыла глаза и протянула руку:
— Ося, что с тобой случилось?
— Со мной ничего не случилось, но что с тобою? Почему волнуешься, Роза?
— Ложись спать, — попросила она.
— Ты права, — сказал он и начал раздеваться. Позевывая от усталости, он говорил: — Тяжелый сегодня был день. Какая это бестия…
— Кто?
— Вера Чеберяк.
— А я думала — Болдырев.
— Болдырев? Оба они как будто из одного теста сделаны. Они друг друга стоят… — И после еще одного зевка: — Спать, спать, Оскар Осипович. Нужно хорошенько отдохнуть!
Этого никто не ожидал. На одном из заседаний суда вдруг поднялся прокурор Виппер и сказал, что он хочет сделать внеочередное заявление.
— Так как пресса необъективно освещает ход судебных заседаний, — сказал Виппер, — сюда следует закрыть доступ представителям прессы.
При этом он сослался на какую-то неясную статью кодекса.
В зале суда установилась тишина, словно здесь не было ни живой души, как на заброшенном кладбище, куда годами не ступала нога человека.
— Вот посмотрите, что себе позволяют! — В накаленной тишине снова прозвучал раздраженный голос Виппера, он развернул газету: — Видите, карикатура на меня… Злой шарж! — Он сорвался со своего места и направился к судейскому столу с газетой в руках.
В тишине прошуршала газета, с пренебрежением брошенная на стол.
Снова установилась тишина, были слышны только шаги прокурора, направлявшегося к своему месту. Шаги угрожающе предвещали: а ну-ка попробуйте не согласиться со мною! Строгие глаза, прикрытые пенсне, Виппер вперил в судейский стол и, не дождавшись мгновенной реакции, потребовал обсуждения своего заявления.
Даже опытный, умный председатель суда несколько растерялся. Это было видно по тому, как вздрагивала его раздвоенная борода, как хитрые глаза шарили по лицам судей. Он хотел, очевидно, понять, как они восприняли дикую выходку прокурора. Но судьи, опустив глаза, молчали. «Им стыдно, что ли?» — подумал Болдырев. В его судебной практике такого еще не было. Его растерянный взгляд искал поддержку идейных друзей — Замысловского и Шмакова, но и их заявление прокурора застало врасплох.
Неожиданно с места поднялся Грузенберг и попросил показать ему газету. Председатель схватил в руки газету, словно обрадовался, что может избавиться от нее, и быстро передал защитнику. Грузенберг развернул газету, и все начали разглядывать карикатуру.
Вдруг Карабчевский громко рассмеялся.
— Господа, господа… — проговорил председатель. Он хотел призвать к порядку защитников.
— Я прошу слова, — вызвался Грузенберг. — Нас удивляют нападки прокурора на прессу. Но поскольку заявление было сделано человеком, почувствовавшим себя обиженным карикатуристом, я считаю необходимым сделать разъяснение…
Весьма возможно, что Болдырев еще не пришел в себя от необычайного заявления прокурора, поэтому он внимательно прислушивался к тому, что хотел сказать адвокат.
— Представьте себе, — Грузенберг снял пенсне и показал им на стену над головой судей, — что на этой стене я нарисую, скажем, осла. Обыкновенного осла. И прохожий какой-нибудь скажет: «Глядите, ведь это прокурор Виппер…»
В этот момент Болдырев спохватился и зазвонил.
— Разрешите мне, господин председатель, закончить свою мысль. Так кто же обидел прокурора — я, который нарисовал осла, или прохожий, который разрешил себе сказать, что в моем простом, бесхитростном рисунке он будто бы увидел черты… уважаемого судебного работника… Всем ясно, что виноват прохожий. То же самое происходит теперь в суде. Художник нарисовал осла, а наш уважаемый Оскар Юрьевич хочет в этом рисунке узнать самого себя…
Грузенберг надел пенсне, выставил накрахмаленную грудь и, глядя сверху вниз на раздраженного Виппера, строго спросил:
— Значит, вы подтверждаете, что эта карикатура изображает вас и что в стихах, подписанных под карикатурой, затрагивается ваша личность?..
Звонок председателя не смог остановить смех, разорвавший тишину. Все смеялись, удивляясь находчивости Грузенберга. Смеялись соратники-защитники, и громче всех Карабчевский, — и противники — Замысловский, Шмаков и даже Дурасевич. У него из глаз текли слезы, и он вытирал их цветным платком. Из зала хлынула новая сильная волна смеха, затопившая даже скамьи с присяжными заседателями; они исподволь поглядывали на надутого прокурора Виппера, несчастного и растерянного.
Когда суматоха в зале несколько улеглась, послышался слабый голос Болдырева:
— Объявляю перерыв на тридцать минут.
Во время небольшого перерыва пристав, которому было поручено наблюдение за присяжными заседателями и за галеркой, где размещались представители прессы, подошел к председателю суда и прошептал ему на ухо:
— Ваше высокопревосходительство, в Киев приехал Короленко, он добивается разрешения пройти в зал суда.
Густые растрепанные брови Болдырева поднялись выше на лоб, вертикальные борозды над носом углубились:
— Короленко?.. Какой Короленко?
— Писатель, Владимир Галактионович, — ответил пристав.
— Ах, Короленко… Впустите его. Впрочем, подождите, попросите его прежде пройти ко мне в кабинет.
Пристав ушел, но вскоре вернулся.
— Уже, ваше высокопревосходительство.
— Что «уже»?
— Впустил его.
— Вы сказали, что я приглашаю его к себе?
— Сказал, но он на это ничего не ответил.
— Как?
Пристав развел руками.
— Вы, верно, не очень вежливо попросили его…
— Что вы? Почему так думаете? Я еще раз пойду скажу ему…
Довольный, Болдырев кивнул головой, взяв при этом в руку золотой брелок, свисавший с часовой цепочки, и ласково погладил его мягкими пальцами.
— Напомните ему, напомните, — повторял он.
Но писатель в этот день так и не зашел к Болдыреву, что очень обидело чиновника. Однако пришлось стерпеть.
На следующий день председатель специально послал пристава в корреспондентскую ложу сообщить Короленко, что, в виде исключения, председатель разрешает ему, только ему, спуститься в зал и занять место в первом ряду. На это пристав принес такой ответ:
— Он хочет остаться среди товарищей по перу, ваше благородие.
Других попыток общения со знаменитым писателем Болдырев не предпринимал.
Увидев Владимира Галактионовича на галерке, братья газетчики обрадовались, и каждый по-своему приветствовал его. Солидный русско-еврейский писатель С. Ан-ский (Ш. Рапопорт), писавший репортаж специально для малоизвестной провинциальной бердичевской газеты «Южная молва», подмигнул Ходошеву и кивнул головой в сторону Короленко:
— Сама правда шагает, и ничто ее не остановит…
— Правильно, правильно! — обрадовался Ходошев этим словам.
После небольшой паузы он, сверкая смеющимися глазами, спросил у Ан-ского:
— Семен Акимович, мне знакома эта фраза, но не помню, откуда она.
— Сотруднику «Киевской мысли» надлежит помнить, кто произнес ее, — заметил Ан-ский.
— Не помню, Семен Акимович, признаю свою отсталость.
— Это сказал Эмиль Золя во время процесса Дрейфуса, — сообщил Ан-ский.
Они заметили, что Короленко примостился в углу ложи и рисует что-то на широком листе бумаги. Короленко выглядел усталым, его густая шевелюра местами приобрела цвет блестящей золы, и от этого лицо его с желтоватым оттенком казалось свежее. Глубокие глаза, в которых светился проникновенный ум, привлекали внимание Ан-ского и Ходошева.
Закончив рисунок, Короленко поднял сияющее лицо и сказал своим соседям:
— Узнали, кто это? — Он, очевидно, не был уверен, что рисунок понравится журналистам.
Ходошев взял в руки рисунок, показал Ан-скому и другим.
— Кто это, Семен Акимович?
Ан-ский присмотрелся к рисунку и пояснил:
— Не узнаете Пранайтиса? Видите — черный высокий мистик стоит у кафедры. Справа, у ног ксендза — черт, а возле чертика — шило, молоток, клещи и… а это что такое, сам не знаю. Ага, железная перчатка — орудие, которым мучили, пытали и издевались над жертвой, причиняя ей страшные физические страдания. А внизу, видите, цитата из писанины Пранайтиса: «Без пыток правды не добиться».
— Инквизитор! — вырвалось у Ходошева.
— А что вы думаете, много есть еще не свете таких… — сказал Ан-ский.
Короленко приехал из Полтавы на процесс больным, даже с температурой, но он скрывал это от окружающих. Каким образом об этом узнал адвокат Грузенберг, трудно догадаться. Во время перерыва, когда публика устремилась из зала в коридор, где стоял Короленко, окруженный группой людей, писатель постарался поскорее выбраться оттуда. Но тут появился Грузенберг с большим портфелем под мышкой, наполненным разными бумагами.
— Пойдемте ко мне в гостиницу, там вы немного отдохнете. — И Грузенберг взял писателя под руку.
— Я живу в «Франсуа» на Фундуклеевской улице, — сказал Короленко, вежливо отказываясь от приглашения Грузенберга.
— Я уверен, что вы чувствуете себя неважно, Владимир Галактионович.
— Откуда у вас такие сведения?
— Это секрет, — подмигнул ему адвокат, а из-под пенсне улыбались умные глаза, — мне сообщили. Мы, адвокаты, должны все знать…
Короленко уважал своего старого знакомого, известного адвоката, и понял, что если Грузенберг, у которого во время процесса каждая минута была на учете, задержался в кулуарах, значит, дело серьезно.
— Познакомьтесь, это доктор Соболев, — Грузенберг представил Короленко высокого, полнотелого человека. — Не сопротивляйтесь, Владимир Галактионович. Мы, защитники, попросили доктора Соболева взять вас под свое наблюдение, просили от имени и всех ваших почитателей…
— Та-та-та, вам хорошо известно, что я не люблю пышных фраз. Не думайте, что я одинок, я приехал не один. Моя жена и дочь сопровождали меня сюда, не хотели отпускать одного.
— Прошу передать от меня привет Авдотье Семеновне, супруге вашей. А как зовут дочь?
— Ту, которая с нами, зовут Софьей.
— Софье Владимировне мои лучшие пожелания.
Короленко хотел освободиться от неожиданной опеки и исчезнуть, но Грузенберг взял портфель под левую руку, а правой задержал Короленко за локоть.
— Та-та-та, — сказал он, скопировав интонацию Короленко, — мне трудно догнать вас. Не отрывайтесь от нас. Я ответствен за вас перед моими коллегами. Карабчевский просто съест меня… Доктор Соболев, помогите мне, а то я выгляжу в глазах Короленко агентом подозрительного учреждения. — И сразу же заговорил другим тоном: — Чтобы не забыть! Я должен рассказать вам историю о Пранайтисе.
Лицо Короленко просияло:
— О Пранайтисе? Рассказывайте, это должно быть интересно.
— Владимир Галактионович, вам надо было видеть, как Пранайтис, когда мы всем составом суда спускались в пещеру, где был найден труп Ющинского, на обратном пути вылезал из пещеры при свете карманного фонарика. Высокий, черный, чудовищно серьезный, он медленно, рачком выбирался из страшной пещеры. В этой картине средневековый ужас, суровая темнота и черный страх. Картина эта просилась на полотно.
— Мне хочется знать, дорогие мои господа, — обратился Короленко к Грузенбергу, Соболеву и подошедшим двум журналистам, — слышали ли вы о том эпизоде биографии Пранайтиса, когда наш уважаемый эксперт выступал в роли шантажиста… — Короленко нагнулся к уху Грузенберга: — Он просто жулик, честное слово, просто жулик.
— Расскажите, расскажите, Владимир Галактионович, — просили подошедшие журналисты.
— Еще в 1894 году один человек обратился в петербургскую багетную мастерскую с просьбой позолотить раму для картины. За позолоту нужно было заплатить только один рубль. Случилось так, что из-за чьей-то неосторожности картина в мастерской сгорела. Клиент поднял шум, заявив, что картина эта не что иное, как шедевр семнадцатого века, ее автор — великий испанский живописец Мурильо. И он потребовал компенсацию — три тысячи рублей. Владелец багетной мастерской отказался выплатить такую сумму денег, но в результате торга они потом сошлись на тысяче рублей. Выплатили этому человеку пятьсот рублей наличными, а на оставшиеся пятьсот рублей выдали вексель. При этом клиент заявил, что это была картина из коллекции покойного русско-католического митрополита Александра Гинтовта. Когда хозяин багетной мастерской навел справки, оказалось, что такой картины в коллекции Гинтовта никогда не было. И больше — картина не имела никакого отношения к творчеству Мурильо. Понимаете, владелец картины просто шантажировал багетного мастера и нечестным путем хотел выманить тысячу рублей. Но братья журналисты разнюхали про это дело, расследовали его, и оказалось, что владельцем этой картины был католический ксендз Иустин Пранайтис.
— Интереснейшую историю вы нам рассказали, Владимир Галактионович!
— Эта история, дорогие мои господа, опубликована в одном из приложений к петербургской газете. Вот какой птицей является эксперт Пранайтис.
На мгновение Короленко опустил веки: у него потемнело в глазах, закружилась голова. Это сразу заметил Грузенберг и кивнул врачу.
Соболев быстро и осторожно взял руку писателя, пощупал пульс. Но Короленко тотчас высвободил свою руку и пошел вперед, словно с ним ничего не случилось. Адвокат догнал его:
— Так мы идем, значит, отдыхать, Владимир Галактионович? — улыбаясь сказал он.
— Благодарю, дорогой мой адвокат. Я чувствую себя довольно прилично, не беспокойтесь.
Грузенберг не захотел больше докучать писателю, распрощался с ним и ушел.
Тот октябрьский день вопреки календарю выдался не осенним, а, как часто случается в это время в этом краю, необыкновенно теплым и ярким. Легкий ветерок, блуждавший по улицам, принес аромат убранных полей и фруктовых садов. Люди, одетые еще по-летнему: мужчины — в светлых костюмах, дамы — в пестрых платьях, занятые своими заботами и радостями, спешили по своим делам.
На Фундуклеевской улице, напротив оперного театра, около редакции газеты «Киевская мысль» часто останавливались прохожие в ожидании специального сообщения о процессе. Распространился слух, будто с приездом писателя Короленко процесс повернет в другую сторону, в пользу Бейлиса. Поговаривали, что знаменитый писатель привез новые материалы, которые должны раскрыть комбинации «союзников» и официальных организаторов процесса. Ожидали, что поворот в ходе процесса должен произойти не только благодаря вмешательству Короленко, но под давлением определенной части передовой русской интеллигенции.
Прохожий — солидный мужчина — внес ясность во все эти «говорят». Имелось в виду известное сообщение, опубликованное еще в 1911 году во всех либеральных русских газетах. Естественно, что этот документ был известен больше в кругах интеллигенции, а широкие массы, простонародье, мало что о нем знали. Что-то слыхали, конечно, но смысл чаще всего искажался. Поэтому возник слух, будто Короленко привез новые материалы, которые должны помочь освободить Бейлиса, а на скамью подсудимых посадить действительных виновников, настоящих преступников.
Неожиданно возле редакции «Киевской мысли» появился Короленко, и через несколько мгновений его уже окружили и буквально засыпали вопросами. Но что мог он ответить жаждущему народу?
— Правда ли, что Веру Чеберяк вчера арестовали?
— Сознался ли Петр Сингаевский, брат Чеберячки, что он соучастник убийства Ющинского?
— Прокурор Виппер от стыда ночью убежал за границу — это правда? Говорят, в Германию сбежал…
Окруженный толпой, Короленко стоял в большом кругу, добродушно разглядывая публику, и улыбался: почему думают, что он может ответить на все эти вопросы?
— Кто же, если не вы, Короленко? — сказал рослый гимназист, у которого только-только начала пробиваться полоска золотистых усиков на верхней губе.
Писатель сразу обернулся к гимназисту, взял его за руку.
— Вы — еврей? — спросил он.
— Нет, Владимир Галактионович, я русский, — молодые, гордые и немного озорные глаза озарились ярким светом.
— Где вы учитесь?
— Во Второй гимназии. В последнем классе.
Со стороны раздался пискливый мальчишеский голосок:
— Он дрался с Голубевым…
Стали оглядываться, кому принадлежит этот голосок, а в это время гимназист ушел.
— Я ничего не знаю… — сказал Короленко окружившей его публике. — Читайте газеты… — добавил он, намереваясь выйти из круга.
— Расскажите что-нибудь, расскажите, — просили люди.
Но тут появился городовой и настойчивым нудным «проходите, господа» разогнал всю публику.
Несколько минут люди еще шли за писателем, но вскоре рассыпались по разным улицам, а Короленко в своей темно-зеленой пелерине тихо шагал дальше.
В этот погожий день писателю захотелось спуститься к Днепру. И поскольку оставалось еще много времени до начала послеобеденного заседания, он подозвал извозчика и велел ехать к реке. Там, сидя на берегу, — мечтал Короленко — он сможет продумать первый фельетон, который намеревался написать о процессе. Но ему не сиделось на одном месте, и он стал взбираться на Владимирскую горку. Когда он уже добрался почти до памятника святому Владимиру и стал разглядывать серебряную гладь Днепра, из его головы улетучились все мысли о задуманном очерке. Он дал своему воображению возможность плыть по водам Днепра, следя за каждой рыбацкой лодочкой, качавшейся на волнах.
Стоит Короленко на берегу, глядит вдаль и забывает, для чего, собственно, он прибыл в этот старый город. Ему вспоминается одна далекая сибирская речушка, во много раз меньше этой мощной реки. Многое связано у писателя с этими воспоминаниями.
Глядя теперь на широкий, полноводный Днепр, Короленко не чувствует себя одиноким и затерянным в необозримых просторах. Ему казалось, что за его спиной стоят люди с крепкими руками, люди, несущие в своих сердцах помощь, будящие надежду и гордость за человеческое достоинство и красоту.
На судебное заседание Короленко вернулся бодрым и радостным. Его сопровождало доброе лицо рослого гимназиста с гордыми, смелыми глазами.
В те дни, когда процесс был в самом разгаре, из местечка Малин в Киев прибыл адвокат Исаак Рудницкий, который был дружен и тесно связан с одним из защитников Бейлиса — с присяжным поверенным Григоровичем-Барским. Дмитрий Николаевич очень обрадовался своему старому другу, адвокату из Малина. Рудницкий часто прибегал к помощи и советам киевского юриста по разным делам, связанным с Киевской судебной палатой. Просьбы и поручения Рудницкого Григорович-Барский всегда выполнял аккуратно и квалифицированно. И теперь он очень тепло встретил гостя.
— Как проходит процесс? — спросил Рудницкий. — Расскажите что-нибудь интересное.
— Вчерашний эпизод останется в истории судебной практики как образец совершенства человеческого разума, — с удовольствием рассказывал Григорович-Барский. — На такое способен один Карабчевский, и только ему одному, королю адвокатов всей России, могут быть позволены такие ходы…
— Неужели? Почему ему одному? — удивлялся Рудницкий.
— Почему ему одному, хотите знать? Потому, что он Карабчевский. Ведь он пользуется исключительным авторитетом в высших петербургских кругах. Так слушайте: вчера на процессе произошел, собственно говоря, необычайный спектакль, — начал свой рассказ Григорович-Барский, — спектакль, который пришлось играть действительным судебным работникам, адвокатам, прокурорам. Уважаемая публика, находившаяся в зале, в основном состояла из чиновников, полицейских агентов, купцов, журналистов и небольшой части городских мещан. Все были поражены. Так аплодировали — просто оглушили зал, несмотря на то, что в суде строго запрещено аплодировать.
…Прокурор Виппер и гражданские истцы Шмаков и Замысловский допрашивали Бейлиса, хотели разузнать, как у обвиняемого распределялось время в тот знаменитый день — двенадцатого марта, когда убили Андрея Ющинского.
Малинский адвокат сразу был захвачен этой историей, не отрывал глаз от Григоровича-Барского, который продолжал рассказ:
— Ну, скажем, Бейлис встал утром, умылся, помолился, позавтракал, пошел к себе в конторку, выписывал ордера. Потом приехали крестьяне на подводах, и он выдал им выписанный кирпич; позже Бейлиса вызвал к себе управляющий; еще позже пришло время обеда, и так далее, и так далее — до следующего утра. Время за сутки было расписано буквально по минутам и даже по секундам — где, когда Бейлис стоял, сидел, писал, ходил или… Один из судей составил даже точную диаграмму, но… выпадали только тринадцать минут. Суду не было ясно, где был Бейлис эти тринадцать минут, на что он потратил эти тринадцать минут, если не на еду, питье, писанину, на выдачу кирпича или на разговоры с крестьянами, завозящими древесину или вывозящими кирпич. Что делал человек с черной бородой эти тринадцать минут, где он пропадал это время?
Долго морочили себе головы, рассуждали, думали и передумывали и никак не могли подсчитать — куда делись эти несчастные минуты.
«Бейлис, а Бейлис, где вы были, куда уходили из конторы между часом и двумя часами дня?»
Этот вопрос председатель Болдырев задавал Бейлису и всему суду, но ни Бейлис, ни другие участники суда не могли ответить на него.
«Объясните, Бейлис», — словно тяжелое облако висело в зале суда и давило на присутствующих.
Вам надо было видеть, Исаак Маркович, — продолжал Григорович-Барский, — как на галерке вокруг Владимира Короленко собрались представители прессы и не сводили взоров с человека с черной бородой. А тот растерянно глядел в одну точку, словно прося: «Помогите мне… Чего хотят от меня? Не помню, как я могу поминутно все помнить? Может быть, я именно тогда…»
Мендель Бейлис смотрел на своих защитников, прося что-то подсказать ему. «Господи боже мой, — шептали его бледные губы, — чего от меня хотят, если я все же не помню!»
И в этой накаленной атмосфере послышался пискливый голосок самого молодого обвинителя — Дурасевича:
«Ясно, что в эти тринадцать минут Мендель Бейлис…»
Под взглядом председателя Дурасевич осекся и не посмел закончить свою страшную мысль.
Все же? Что значит, что человек не может вспомнить? Не столетия, не десятилетия прошли с тех пор — всего два с половиной года.
В растерянности зала Киевского окружного суда встал стройный, красивый Николай Платонович Карабчевский — некоронованный король русских адвокатов.
«Ваше превосходительство, господин председатель, — раздался его сильный бархатный голос, — есть у вас карманные часы?»
Лохматые седоватые брови Болдырева от такого неожиданного вопроса взлетели вверх.
«Есть, господин защитник, а что?» — председатель достал из жилетного кармана часы.
«Я попрошу вас положить часы на стол и накрыть их бумагой».
Председатель выполнил просьбу Карабчевского — положил часы на стол. В зале слышали, как шуршала бумага в руках председателя, и видели, как он накрыл часы бумагой.
Повторяю вам, Исаак Маркович, — снова пояснил Григорович-Барский, — что такую смелость может разрешить себе только Карабчевский. И Болдырев послушался его.
«Благодарю вас, господин председатель, — сказал адвокат. — Теперь я побеспокою вас вопросом: как долго находятся у вас эти часы?»
«Как долго? Это свадебный подарок родителей моей супруги».
«Приблизительно сколько лет тому назад?»
Болдырев растерянно посмотрел вокруг, затем поднял глаза к потолку, словно вспоминал или высчитывал.
«Сейчас скажу вам точно, господин адвокат… Тридцать восемь лет».
«Благодарю, господин председатель».
Всем корпусом Карабчевский повернулся к присяжным заседателям, которые тоже сидели как на горячих углях, не сводя глаз с адвоката и с председателя.
«Прошу вас, господа присяжные заседатели, запомнить, — сказал Карабчевский, — что сказал господин председатель: часы у него уже тридцать восемь лет. Теперь будьте добры, — обратился он снова к председателю Болдыреву, — скажите нам, сколько раз в сутки вы пользуетесь вашими часами?»
«Сколько раз? Ну, не меньше десяти — пятнадцати раз в день».
«Благодарю, господин председатель».
Болдырев облегченно вздохнул, он не ожидал больше вопросов от адвоката.
А Карабчевский снова спросил:
«Простите, господин председатель, на ваших карманных часах есть секундная стрелка?»
«Секундная стрелка? — переспросил председатель и заморгал глазами. — Секундная стрелка… сейчас… сейчас».
«Мы ждем, господин председатель, мы никуда не торопимся».
«Нет! — выпалил Болдырев. — Нет у моих часов секундной стрелки!»
«Нет, вы говорите. Итак, у ваших часов нет секундной стрелки. Будьте любезны, ваше высокопревосходительство, передайте мне ваши часы».
Снова прошелестела бумага, председатель взял часы и передал адвокату.
Карабчевский в свою очередь взял часы в руки, взглянул на них, и лицо его прояснилось. Он поднял правую руку с часами и обратился ко всему составу суда торжественным голосом, причем ни один мускул не дрогнул на его лице:
«Господа судьи! Прошу вас быть свидетелями, что у часов господина председателя как раз имеется секундная стрелка».
По залу прокатилась волна хихиканья.
Председательствующий звонко призывал к спокойствию и вниманию.
«Уважаемые господа, уважаемый председатель суда, — снова раздался мощный голос адвоката. — Тридцать восемь лет находятся у вас карманные часы, десятки раз ежедневно вы смотрите на них — и все же не смогли запомнить точно, есть ли на циферблате секундная стрелка. А вы хотите от этого человека, от Бейлиса, который томится в тюрьме два с половиной года, чтобы он помнил и сказал бы вам точно, куда у него делись тринадцать минут того несчастного дня, когда судьба его…»
Последних слов адвоката уже не было слышно. Зал потонул в аплодисментах, шквал рукоплесканий пронесся по залу.
На галерке Владимир Короленко в окружении многих журналистов и репортеров с удовлетворением показывал рукой на председателя Болдырева, стоявшего со звонком в руках. Смущенным выглядел председатель, захлебнувшийся звонок выпал из его дрожащей руки.
Я убежден, Исаак Маркович, — закончил Григорович-Барский, — что в стенографическом отчете о процессе этот эпизод не будет фигурировать. Запомните эти мои слова!
От удовольствия он громко смеялся, заражая своим смехом и малинского адвоката.
Как-то под вечер за несколько дней до начала процесса в кабинет председателя Киевского окружного суда Болдырева зашел Чаплинский и рассказал, что по распоряжению полицейского департамента выделены два жандармских унтер-офицера специально для обслуживания присяжных заседателей.
— Так не забудьте, Федор Алексеевич, распорядиться, чтобы приготовили для них форму судебных курьеров, — добавил Чаплинский.
Согласно кивая и улыбаясь в бороду, Болдырев спросил:
— А усы у них как у жандармов?
— Этого я не знаю, — улыбнулся Чаплинский.
— Придется их сбрить.
— Почему?
— Сбрить, сбрить, Георгий Гаврилович.
— Понял, Федор Алексеевич, я это обеспечу…
Именно тогда Чаплинский конфиденциально сообщил председателю суда, что для наблюдения за присяжными заседателями выделено также с десяток филеров.
— Такой штат мое ведомство не сможет содержать, бюджет наш лопнет, — возмутился Болдырев.
— Помилуйте, Федор Алексеевич, для этого есть полицейский департамент с собственным бюджетом, — успокоил его прокурор.
Председатель суда согласился.
Во время перерыва между утренним и дневным заседаниями один из судебных курьеров, светловолосый ловкий парень с живыми глазами, бегал в буфет за всякими яствами для заседателей. На широком подносе принес он еду и, насвистывая какой-то мотивчик, сказал:
— Вот тебе, Тертичный, заказанная тобою фасоль, а тебе, Перепелица, твое любимое блюдо — горох с салом. Ешьте, братишки, и не завидуйте друг другу.
Пристав отозвал курьера в сторону и сделал ему замечание:
— Послушай, комик, почему тыкаешь им?
— А что? — вытаращил он веселые глаза.
— Они ведь уже в летах, в два раза старше тебя.
— Черт их не возьмет, — ответил веселый блондин и снова побежал в буфет.
Тихо открылась дверь, и в комнате присяжных заседателей появился Голубев.
— Вам кого? — К нему немедленно подошел человек с низким лбом и глубоко запавшими глазками, одетый в судебную форму не по размеру.
Голубев отозвал субъекта в сторону, показал свой значок на лацкане и стал что-то шептать ему на ухо. Человек с низким лбом кивнул Голубеву: он может делать все, что понадобится.
Отвернувшись от филера, Голубев направился прямо к Мельникову — старшине присяжных заседателей.
— Михаил Дмитриевич, — сказал он и, вытянув из кармана свежий номер газеты «Двуглавый орел», сунул ее в руку Мельникову, — вот это прочтите всем вашим…
— Добро, Владимир Степанович.
Увидев карикатуру в газете, Мельников широко улыбнулся.
— Правда, хорошо нарисовано, Мельников? — спросил обрадованный Голубев. Ведь именно он был редактором этой газетенки.
— Здорово! Ангелочки тащат Бейлиса к себе на небо и кричат: «Ты давно уже наш, Мендель, почему ты до сих пор на земле? Мы давно ждем тебя».
Вокруг старшины заседателей собрались все присяжные, и каждый хотел рассмотреть принесенную газету. Тогда Голубев достал еще несколько экземпляров, которые пошли по рукам.
Судебный пристав, прикрыв входную дверь, недовольно вертел головой: «Вас могут здесь заметить, Владимир Степанович, будьте осторожны». И, делая вид, что он действительно недоволен гостем, взял его за руку и потянул к двери.
— Одну секундочку… — Голубев вырвался из рук пристава. Он увидел среди присяжных заседателей знакомого городского извозчика, Савву Федоровича Сосницкого, и направился к нему: — Очень хорошо, что и ты среди присяжных, сам бог избрал тебя на эту святую должность. Ты уж, Саввушка, будешь действовать как следует…
— Знамо… мы знаем, что нам делать… — по-воровски подмигнул Голубеву Сосницкий.
Студент выскользнул из комнаты, вход в которую был строжайше запрещен.
Здесь присяжные заседатели были обособлены от всего мира, особенно оберегали их от защитников Бейлиса.
Но вот сюда проскользнул какой-то человек и незаметно остановился в углу. Это был один из двух, присланных на процесс из полицейского департамента. Ему, сотруднику органа Министерства внутренних дел «Вестник полиции», надо было видеть и знать, чем занимаются присяжные заседатели и что они усваивают.
Один из сотрудников полицейского департамента — Павел Никандрович Любимов, франтоватый молодой чиновник с бледным, желтоватым лицом и холодными глазами, выделялся своим странного вида носом с широкими вывернутыми ноздрями. Казалось, такой нос создан не для дыхания, а только для принюхивания; другого, смуглолицего, звали Венедикт Антонович Дьяченко.
Дьяченко спросил у одного из заседателей, понимает ли он, что происходит на заседаниях суда. И когда заседатель пожал плечами и огрубелой рукой показал на лоб, мол, не все он понимает, Дьяченко обнажил в улыбке свои желтые зубы.
— Нужно, чтоб вы поняли главное: что человек с черной бородой виновен… — сказал он, делая ударение на последнем слове.
Подняв тяжелую заросшую голову, заседатель сказал:
— Как бог мне подскажет, — и отодвинулся от незнакомца.
Оба присланных из Петербурга чиновника не пропускали возможности завязать разговор с заседателями, всегда обозленными и недовольными. Они никак не могли примириться со своим положением исключенных из жизни. В этой комнате они ели, спали, как арестантов, их выводили несколько раз в день во двор — проветриться. Они были прикованы к скамьям и выслушивали всякие истории, которые мало интересовали их. Порой они даже не вполне понимали, о чем идет речь.
Оба чиновника должны были ежедневно писать в свой департамент о своих впечатлениях и наблюдениях за присяжными заседателями. Поэтому они приставали к ним, расспрашивали об их настроениях. Но при этом нередко получали отпор.
Особенно напористым оказался Дьяченко. Как надоедливая муха, он бросался на свою жертву, въедался в душу своими вопросами, пока наконец один из заседателей не рассердился и не отвернулся от чиновника со словами: «Прочь, злыдень». Чиновник покраснел, глаза его зло заблестели. Он захотел какой-нибудь гадостью отплатить крестьянину, но тот, рассерженный и испуганный, отодвинулся и начал креститься, что-то шепча дрожащими губами.
Не получив необходимых ответов, подосланные сотрудники все равно не переставали рапортовать полицейскому департаменту, что «простые „мужики в сермягах“ не понимают сути процесса над человеком с черной бородой».
Но, несмотря на такое мнение чиновников, «мужик в сермяге» все же имел свое собственное мнение, сложившееся настолько, насколько он вообще мог понять все это сложное дело. Мужик надеялся на свой внутренний голос, голос души.
Журналисты и газетчики немало удивлялись тому, как писатель Короленко ежедневно на протяжении многих часов рассматривал присяжных заседателей, буквально буравя глазами каждого, внимательно изучая меняющиеся выражения их лиц.
— Обратите внимание, коллега, вон на того крестьянина, похожего на сфинкса, — сказал Короленко Ходошеву. — Видите — как бы обрубленный нос, глубокие, бездонные глаза… заросший лоб, рыжая борода. Вроде бы он носит серьгу в правом ухе.
— Он, возможно, казак, из донских казаков.
— Нет, как бы он попал сюда, из донских? Очевидно, правнук запорожских казаков. Он украинец из-под Киева, из деревни Борщаговка. Тертичный его фамилия, — рассказывал Короленко.
— Откуда вам известны такие подробности? — удивлялся Ходошев.
— Узнавал, — тихо ответил Короленко. — А вот тот, возле Тертичного, из села Гостомель — Олийник его фамилия. Тоже вроде сфинкса. Мне думается, он замкнут в самом себе. Будьте спокойны, переодетый жандарм, который недавно вертелся вокруг присяжных, ничего от него не добьется. Гляньте, как он вертится и рыщет глазками. Возьмите бинокль, только постарайтесь, чтобы пристав не заметил.
Короленко передал Ходошеву бинокль и продолжал нашептывать:
— А вон тот, возле Олийника, с подстриженными волосами, это Сосницкий — извозчик у «союзников», особа, близкая Григорию Опанасенко. Вы знаете, кто такой Опанасенко?
— Знаю, Владимир Галактионович.
— Вчера я был у Сосницкого в доме, разговаривал с его женой и дочерью. Интересно, что домашние Сосницкого недовольны тем, что этот «деятель» является присяжным заседателем. Обе женщины просто стонали. «Его подкупили, он не виноват, — плакала жена, — ему велели…»
— Как же вы проникли к дом извозчика, Владимир Галактионович?
В это время объявили перерыв, и представители прессы направились вниз.
— Коллега, — услышал Ходошев, — у меня к вам просьба. Не сможете ли вы завтра сопровождать меня в Борщаговку к родным Тертичного?
Журналист, конечно, сразу принял такое заманчивое предложение: еще бы, сопровождать писателя…
— С величайшим удовольствием, Владимир Галактионович, — произнес Ходошев.
— А если так, приходите завтра к семи часам утра в гостиницу «Франсуа». Постучите в дверь моего номера, я буду ждать вас. Только тихо, чтобы не разбудить жену и дочь. Понятно?
— Хорошо, Владимир Галактионович.
— На всякий случай захватите с собою плащ, — посоветовал писатель.
— Если будет дождь, может быть, отложим поездку? — осторожно спросил Ходошев.
— Ни в коем случае! — твердо ответил Короленко. — Послезавтра я, возможно, поеду в другое село. Вообще работы много и здесь, в Киеве.
Окрыленный Ходошев направился домой — ему нужно встать завтра ранехонько и не опоздать к Короленко.
На станции Борщаговка пассажиры сошли с поезда. Короленко был одет в простой охотничий костюм: высокие сапоги с широкими голенищами выше колен — на плечах пелерина, через левое плечо наперевес ружье, а на голове парусиновая шапочка с блестящим козырьком — такие носили управляющие помещичьими владениями в глубине Полесья. Рядом с ним шагал репортер «Киевской мысли» в спортивном костюме и с хлыстом в руке, словно он только что слез с коня; репортер был тоже в охотничьей шапочке, только с зеленым пером.
Увидев у себя в Борщаговке эту пару, крестьяне думали, что это заблудившиеся охотники, разыскивающие путь к станции.
Уже при первой же встрече с крестьянами Ходошева поразило то, с какой легкостью Короленко изъясняется на украинском языке.
— Пусть вас, коллега, не удивляет, — объяснил Короленко, — я вырос на Волыни и хорошо помню ее язык.
Вскоре оба сидели в доме у Тертичного, куда их проводила одна крестьянка.
— Сидайте, добродии, — дружелюбно предложила жена Тертичного, женщина с красивым видным лицом. Трудно было угадать, чего больше в ее больших тихих глазах — боязни или гостеприимства? — Может, выпьете молока, я только что подоила корову.
— Щиро дякуемо, с удовольствием выпьем, — ответил Короленко, сняв шапочку и положив ее себе на колени. — А вы будете, коллега?
— Не откажусь, — кивнул Ходошев.
Подав вместе с крынкой молока свежий хлеб, женщина села напротив гостей. В это время со двора прибежал румяный мальчонка и сразу же подошел к Ходошеву, ручонками дотронулся до перышка на шапке.
— Не тронь, Ванюша! — закричала женщина.
— Ничего, он не испортит, — сказал Ходошев. — Возьми, Ваня, — гость сам подал ему шапку с пером и посмотрел на Короленко: правильно ли он поступает, чтобы заслужить доверие крестьянки?
— Это мой внучек. Дочь у нас умерла. Когда зять женился на другой, мы не захотели отдать единственного внука мачехе и взяли его к себе, — рассказала женщина о несчастье, постигшем их на старости.
— А старик? — Короленко задал вопрос, который интересовал его прежде всего. — Где ваш хозяин? Наверное, на заработках в городе.
— Нет, пане, мы вовсе не так бедны, чтобы ему пришлось отправиться на заработки. Боронь боже, мы живем совсем заможно, но… — лицо женщины скривилось, — но его арестовали.
— За что? Он совершил преступление? — быстро спросил Короленко.
— Нет, пане, вы не понимаете, о чем я говорю, — она сделала паузу, словно ища сочувствия. Потом поднялась, подошла к двери, прикрыла ее и начала рассказывать шепотом: — Как-то пришел к нам околоточный с жандармами, с приставом и насели на моего мужа: «Ты должен, Михайло, поехать в город, в Киев, и там быть судьей. Будут судить одного изувера, — она оглянулась на дверь, — человека, который убивает детей». Пойди, Ванюшка, на двор, я позже тебя позову. — Женщина взяла мальчика за плечо, тихо открыла дверь и легонько подтолкнула его, а сама вернулась к ним. — Михайло мой не захотел ехать в город, он старый и больной. «Если не поедешь, Тертичный, мы посадим тебя в застенок. Он и тебя может зарезать, как Ющинского на цигельне…» А Михайло заупрямился — не хочет, не нужно ему. И тут пришел к нему священник, не из нашего села, из Киевской лавры — Синкевич. Мы поставили самогон и куличи добротные, как на пасху, выпили и гуляли всю ночь, а назавтра Михайла увели…
— Почему же вы так убиты горем? — спросил Короленко. — Он скоро вернется, ваш Михайло.
— Люди приехали из города и рассказали, что Михайло сидит взаперти за решеткой, говорят, долго еще будет там сидеть. Что там с ним, один бог знает… И что там с ним делают?..
Выпив молока с хлебом, гости поднялись, позвали мальчика, гулявшего во дворе, подарили ему небольшой рожок, на котором Короленко сыграл известную песенку.
Женщина перекрестилась, поблагодарила панов, не миновавших ее хаты, и показала им кратчайший путь до железной дороги.
— Если будете в Киеве, я бы просила вас сходить повидаться с моим Михайлом и сказать ему, чтобы он крепился и что его Приська ежедневно молится за него. Еще скажите ему, что Ванюшка здоров и ждет благополучного возвращения деда домой… — Тут женщина расплакалась.
— Почему же вы плачете, Приська? — спросил Короленко.
— Полиция там пытает моего Михайла… Я знаю, они всегда так поступают с честными людьми.
На улице Короленко сказал Ходошеву:
— Приська говорит, что ее Михайло честный человек. Возможно, если б руководитель киевских «союзников» — поп Синкевич не вовлек бы этого заможного мужика в свои сети, он бы… Но не это я хотел сказать. Понимаете ли, коллега, уголовный отдел Киевского окружного суда, который судит теперь Бейлиса, специально подобрал таких присяжных заседателей — самых отсталых, темных крестьян, которые плохо понимают рассматриваемые на суде вопросы. При разборе же других уголовных дел, когда судят воров, убийц, жуликов, присяжные заседатели — интеллигенты: профессора, учителя. А Бейлиса судят простые мужики. Возможно, это честные люди, но они напуганы проклятым ритуалом, от которого отдает средневековьем и кровью… Сидят они, с широко открытыми глазами и навостренными ушами, подхватывая все злые слова, в адрес несчастного человека с черной бородой, на которые не скупятся Виппер, Шмаков и другие монстры.
Короленко и Ходошев быстро шагали по узкой дорожке, которая змеилась по песочным взгорьям. Писатель долго рассказывал о тайной агитации «союзников» и полицейского аппарата накануне процесса. Располагая некоторыми фактами о том, как подбирались присяжные заседатели, он напишет и опубликует в прессе статью. Ему конечно же известно, какой вой подымут правые против него в своих подлых органах, но он к этому уже привык. Чтобы это остановило его — ни в коем случае! Пусть они брешут, а он будет делать свое дело. Нельзя такое замалчивать.
— Видали, как охраняют присяжных от злого глаза? — под конец спросил Короленко.
— Видал, Владимир Галактионович.
В тот же день перед началом дневного заседания Ходошеву пришлось быть свидетелем одного инцидента: Короленко вмешался в спор репортера с полицией. Дело было так: корреспондент не так давно созданного русского кинематографического общества хотел запечатлеть несколько эпизодов процесса. Корреспондент с киноаппаратом на треноге стоял у входной двери в зал суда и просил разрешения пройти. Строгий блюститель порядка, высокий человек с большими закрученными усами, своими огромными руками рванул треногу и толкнул корреспондента в грудь:
— Нельзя, куда лезешь?
Корреспондент, очень ловкий молодой человек, сперва просил по-хорошему, потом рассердился и вновь попытался протолкнуться в зал. Полицейский, однако, не пускал. В конце концов корреспондент потребовал вызвать пристава. А когда пристав явился, спор разгорелся по-настоящему.
— Запрещено! — категорически отрезал пристав и приказал полицейской страже выставить корреспондента.
Но корреспондент был не из тех, от кого можно тихо избавиться. Он отсюда не уйдет, сказал корреспондент, — он должен сделать то, что ему поручено, а потом уж уйти. Это необходимо фирме, в которой он работает.
— Я вас арестую, молодой человек, — кипятился пристав, сверкая злыми глазами.
Именно в этот момент появился Короленко и заступился за корреспондента. Увидев, что в данном случае уговоры бесполезны, Короленко предложил приставу:
— Проведите меня к Болдыреву, я повидаюсь с ним до начала заседания. — А корреспонденту он сделал знак, чтобы тот подождал.
Пристав хорошо запомнил, что председатель суда некоторое время тому назад через него передал Короленко приглашение занять удобное место в зале.
Пристав повел писателя к кабинету Болдырева и сказал:
— Подождите, я сейчас, — а сам вошел в кабинет.
— Ваше высокопревосходительство, — бормотал пристав, — тот кудлатый хочет повидаться с вами…
— Какой такой кудлатый?
— Ну, писатель из Полтавы, который на галерке.
— Ах, Короленко! Где же он?
— За дверью, ваше высокопревосходительство.
— Болван! — закричал Болдырев, быстро расчесал красивую бороду, подошел к двери и шумно раскрыл ее. — Прошу вас, Владимир Галактионович…
Короленко переступил порог.
— Садитесь, пожалуйста, — Болдырев указал на стул.
— Я очень тороплюсь, господин Болдырев. Сейчас я только по одному вопросу — почему не пропускают в зал представителя кинематографа?
— Для чего, Владимир Галактионович?
— Как для чего? Для истории.
Холеною рукою председатель инстинктивно взялся за цепь на груди и с подобострастной улыбкою слегка наклонил голову.
— Если вы просите, Владимир Галактионович…
— Я не прошу. Я говорю, что это необходимо.
— Для кого необходимо, Владимир Галактионович?
— Я уже сказал, ваше высокопревосходительство.
— Гм… гм… — И председатель велел судебному приставу пропустить корреспондента с аппаратом.
Когда ксендз Пранайтис докладывал на процессе о проведенной экспертизе, среди других был затронут очень важный вопрос: издавали ли русские епископы соответствующие буллы о ритуальных убийствах у евреев? Как было известно среди ученых, религиозных историков и писателей, еще папа римский Иннокентий IV в XIII столетии издал буллу, в которой совершенно отрицал факты ритуальных убийств у евреев. Католический же эксперт, «крупнейший специалист» по еврейской религии, иезуит Пранайтис без всякого стыда отрицал, что священнослужители когда-либо осуждали недостойные предрассудки.
Через несколько дней после показаний эксперта Пранайтиса выступал Шмаков, который пытался убедить присяжных заседателей, будто «ссылка на буллы не имеет никакого значения». «Отец Пранайтис, — говорил он, — разъяснил, что булл, в которых было бы запрещено обвинять евреев в такого рода преступлениях, никогда и нигде не было. Их не только не было, их не могло быть. А уж если отец Пранайтис сослался на этот факт, никто этого отрицать не может. Защита, так блестяще здесь представленная, определенно не пропустила бы такой случай и, конечно, доказала бы, что такая булла, и не одна, бесспорно была».
В перерыве, после речи Пранайтиса, Александр Сергеевич Зарудный, который основательнее других защитников Бейлиса изучал материалы по ритуальным вопросам, делился своим мнением с Оскаром Осиповичем Грузенбергом. Он утверждал, что, когда в Киев прибудут копии папских булл, тогда защита сможет свести на нет ложные доводы Пранайтиса, убедить Шмакова и других, кто опирается на неверную экспертизу ксендза.
— Но почему же этих копий до сих пор нет? — удивился Грузенберг.
— Почему они еще не прибыли, я не знаю, — ответил Зарудный. — Как мне известно, лорд Ротшильд из Лондона еще за четыре дня до начала процесса в письме к руководителю по вопросам иностранной политики в Ватикане кардиналу Мерри дель Валь просил снять точные копии папских булл, опубликованных в литературе, так как ксендз Пранайтис на процессе может отрицать, что они когда-либо были изданы. Лорд Ротшильд просил сравнить снятые копии с оригиналами, которые хранятся в Ватикане, и удостоверить правильность копий.
Долго еще беседовали защитники, удивлялись и никак не могли понять, почему до сих пор не прибыли из Ватикана в киевский суд папские буллы.
Они так и не прибыли, да и не могли прибыть во время процесса, а защитники, ожидавшие их, так и не узнали причину задержки.
А произошло вот что.
Кардинал Мерри дель Валь аккуратно выполнил просьбу лорда Ротшильда, снятые копии он сверил с оригиналами и заверил своей подписью. Об этом он сообщил в письме одному известному финансисту еще пятого октября. А все документы вместе с перепиской между Ротшильдом и кардиналом лондонская газета «Таймс» опубликовала пятнадцатого октября.
Но для того, чтобы эти сенсационные документы стали действительными в русском суде, русский посол в Ватикане должен был своей подписью заверить подпись кардинала. Когда же документы попали к русскому послу Нелидову, он решил задержать эти важные бумаги, чтобы предотвратить опровержение экспертизы Пранайтиса, ведь киевский процесс должен вот-вот закончиться. А чтобы оградить себя от возможных нареканий, царский посол придумал вот что: он потребовал проставить на каждом документе слово «дубликат». Процедура эта, безусловно, займет определенное время, процесс же тем временем закончится, и Пранайтис останется при своем…
Свой замысел царский посол раскрыл в письме к министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову. Вот что он, между прочим, писал:
«…Но обстоятельство это позволило мне завести об этом предмете разговор со статс-секретарем.
Кардинал подчеркнул, что в ответе своем лорду Ротшильду он ограничился чисто внешней стороной вопроса, подтвердил точность представленных ему копий, отнюдь, однако, не имея в виду высказываться по существу поставленного Ротшильдом вопроса. „В этом отношении, — говорит кардинал, — была в толковании приведенных документов допущена в печати явная натяжка. Одно дело запрещать, чтобы на евреев без достаточных улик не было возводимо обвинение в ритуальном убийстве, а другое — отрицать, что евреями когда-либо были убиваемы и даже замучиваемы христиане. Последнее церковь никак не может отрицать…“»
Весьма возможно, что Нелидов намеренно исказил слова кардинала, а это только лишний раз доказывало, что католическая церковь поддерживала политику обмана царским правительством русского народа. Но как бы то ни было, когда Сазонов получил письмо Нелидова, он решил как можно скорее доложить об этом императору. А министру иностранных дел хорошо было известно, что Николай Второй интересуется киевским процессом, поэтому он в тот же день попросил аудиенции и был немедленно принят.
— Что случилось? — царь выпучил свои невыразительные глаза.
— Ваше императорское величество… — бодро начал министр и доложил царю историю с копиями папских булл. Он заметил, что царские щеки слегка зарделись, обычно холодные глаза заблестели. Царь был доволен.
Неожиданно Николай Второй поднялся, направился к окну и, с удовольствием потирая руки, сказал:
— Вы заметили, Сергей Дмитриевич, какой сегодня необыкновенный день выдался в Петербурге. С самого утра! Это совсем не характерно для нашей столицы!
— Вы правы, совершенно правы, ваше величество!
Немного наклонив голову, Сазонов улыбался.
Уже несколько лет прокурор Виппер замечал, что утром, когда он садился в фаэтон, и вечером, когда возвращался с судебного заседания, на глаза ему попадается одна и та же женщина. Где-то прокурор уже видел эту женщину, но не мог вспомнить — где и когда.
Отъезжая, от повернул голову назад, долго и упорно смотрел туда, где на тротуаре, недалеко от гостиницы «Франсуа», остановилась женщина.
«Что ей от меня нужно?» — подумал в это утро прокурор и снова обернулся, но успел увидеть только сиреневый шарф на голове женщины. Концы шарфа развевались на ветру, издали они казались крыльями, которые могут унести женщину куда-то далеко…
А вечером, когда он отпирал дверь своего номера, он вдруг снова увидел подле себя ту же женщину.
— Разрешите, господин Виппер, войти к вам.
— Прошу вас.
Не успел прокурор оглянуться, как женщина оказалась в его номере, она протянула ему руку и с удивлением спросила:
— Вы не узнаете меня?
Виппер вгляделся в ее лицо, несколько секунд раздумывал, затем неуверенно произнес:
— Узнаю… и не узнаю…
И тут он вспомнил о множестве писем, полученных им из Германии. Сегодня он получил письмо из Касселя от полковника Оберста Гельвига, в которое была вложена вырезка из газеты с весьма резкой заметкой «Размышления о киевском процессе», в которой упоминалось и о существовании ритуальной версии.
— О чем вы задумались, господин Виппер?
Услышав голос женщины, прокурор как бы оглянулся:
— Я? О вас, мадам. Где я вас видел?
Лишь теперь посетительница стянула лайковую перчатку и улыбаясь ответила:
— Этим летом в Петербурге, у вас в доме по Итальянской улице…
— Ах да… вспоминаю…
— Очень хорошо. Так вот, господин Виппер, или, как называют вас русские, Оскар Юрьевич. Местный немецкий консул Эрих Геринг просил меня передать вам вот что: получено письмо от нашего кайзера Вильгельма Второго, в котором говорится, что ваше поведение на процессе… — Сердитый и тяжелый взгляд Виппера прервал монолог женщины, она остановилась, но лишь на несколько секунд, и снова продолжала: — …Что вы слишком благосклонны, что нет у вас немецкой строгости и глубины. Вас предупреждали: необходимо по возможности осложнить дело. — Женщина прервала свою речь, но не отвела красивых, будто искушающих глаз от прокурорского лица.
А он в те мгновения?
Настоящий шторм чувств и мыслей пронесся в его мозгу. Ему хотят диктовать? Ему, знаменитому прокурору Петербургской судебной палаты, можно даже сказать — представителю министерских кругов, хотят… Но гостья прервала его мысли, повелительным, властным голосом спросила:
— О чем вы теперь думаете, господин Виппер?
— О чем? — вырвалось у него.
— Да, о чем, господин прокурор? Почему вы молчите?
— Скажите откровенно, что вам угодно, мадам? — его голос несколько окреп.
— Господин консул хочет напомнить вам, что ваш дед, ваш отец — были немцами и что вы… тоже немец.
— Помню, мадам.
— Господин консул просил также напомнить, что ваш отец, проживая в Российской империи, всегда честно служил немецкому монарху и нашему отечеству и что вы не должны изменять заповедям вашего отца и…
Петербургский прокурор поднял руку, давая понять, что не хочет больше разговаривать на эту тему.
— Так что? — молодая дама нежно склонила голову. — Мне можно передать господину консулу, что вы не забыли о вашем происхождении и о вашем долге?
Ничего не ответив, Виппер подошел к письменному столу, вынул из ящика пачку дамских папирос и предложил своей собеседнице:
— Вы курите?
— Нет. Какой же ответ мне передать господину консулу?
Виппер закурил, глубоко затянулся и склонил голову.
— До свидания, господин Виппер.
— До свидания, мадам.
Трудно сказать, выполнил ли прокурор Оскар Юрьевич Виппер то, в чем был так заинтересован немецкий кайзер Вильгельм Второй. Прокурор, несомненно, сделал все, чтобы как можно сильнее запутать дело Бейлиса — это было видно по тем сложным казуистическим вопросам, которые он задавал или пытался задавать свидетелям и экспертам. Но защита в лице опытнейших адвокатов искусно отводила выпады прокурора и каждый раз любыми способами тушила огонь, который Виппер хотел раздуть. Журналисты и газетчики не раз описывали в своих отчетах и репортажах, как гордый Виппер после таких словесных состязаний с защитниками оставался стоять у своей кафедры бледный и опустошенный, как он без конца пил из графина воду, утоляя жажду. Его потухшие глаза за стеклами пенсне выглядели тогда растерянными и жалкими, а сухое лицо становилось болезненно желтым. Даже присланные из Петербурга чиновники полицейского департамента в своих рапортах Министерству внутренних дел отмечали необыкновенную нервозность Виппера. Однажды они даже сообщили, что господин прокурор от злости и беспомощности скрежетал зубами.
Да, обвинитель хотел скрыть скрежет зубов от своих противников, от защитников. Не один раз выходил он в боковую комнату при зале суда, служившую местом отдыха для судей, обвинителей и защитников, а там просил судебного пристава принести его любимый лимонад. Сколько господин прокурор выпил воды и лимонада! Это даже дало повод одному сатирику того времени после обвинительной речи Виппера сочинить стихи о том, что в речи прокурора чувствовалась «крепость лимонада и сладость кипяченой воды…».
Дождь усиливался. Такие сильные дожди редко случаются осенью, когда хлеба уже в закромах, а фрукты в погребах. Дождь хлестал с необыкновенной силой, вода заливала железные крыши, каменные мостовые и мощеные тротуары. Настоящий потоп, а не дождь! Водосточные трубы стонали, дрожали, звенели и давились шумными потоками. Водная стихия захлестнула большой город с уснувшими улицами.
Каштановое дерево, стоявшее возле гостиницы, в которой остановились супруги Грузенберг, старчески согнуло свои тяжелые, наполовину оголенные ветви. Ветер почти сломал его. Уличный фонарь, что стоял напротив, бросал на дерево бледное пятно света, вырывавшее его силуэт из темноты.
Было уже два часа ночи. Они стояли у окна вдвоем — Грузенберг и его жена — и даже не думали о сне. Роза Гавриловна, собственно говоря, не спала уже третью ночь подряд: накануне того дня, когда Оскару Осиповичу надлежало выступить на процессе со своей речью, потом — после первой части начатой речи, и теперь — после третьего дня, когда он закончил свою речь. Она все еще была так взволнована и раздражена всем виденным и слышанным на процессе, что боялась — ее больное сердце может не выдержать. Ее киевские родственники советовали не присутствовать при выступлении мужа, звали ее к себе, хотя бы днем побыть с ними, немного забыться. Однако Роза Гавриловна предпочла остаться одна, так ей было легче собраться с мыслями.
Теперь, когда в городе бушевала стихия, Грузенберг стоял возле жены, держал ее руку в своей влажной руке и все рассказывал о своей речи, о переживаниях до и во время выступления.
— От детей сегодня пришло письмо, — сказала Роза Гавриловна.
— Кто пишет — Соня или Юра?
— Оба они пишут.
— Что пишут?
— Соня была простужена, а Юра из-за нее не пошел в гимназию.
— Так что?.. — механически спросил он.
— Не пошел в гимназию… Юра.
— Ах, Юра… — Грузенберг все еще был занят своими мыслями. — Так слышишь, Роза, Виппер в своей речи сказал, что он недоволен русским народом, упрекал его в недостатке мужества. А я на это ответил, что мне непонятны такие слова; чтобы сказать виновному, что он преступник, мужества не требуется. А если так сказать о безвинном, несмотря на то что абсолютно ясна его невиновность, — то это уже не мужество, а нарушение присяги. Избави господи русского судью от такого мужества. Слышишь, Роза, это я говорил почти в конце своей речи. Меня слушали при абсолютной тишине.
— А раньше что ты говорил, Оскар? — Роза Гавриловна смотрела на мужа с любовью, смешанной с чувством жалости, она сочувствовала ему. А его лицо пламенело, точно раскаленное железо.
— Что я говорил раньше?.. Не знаю, о каких моментах тебе рассказать, на двух заседаниях ведь говорил! Господа присяжные, сказал я, еврейский народ не нуждался бы в моей защите, но вы ведь слышали, как ксендз Пранайтис обвинял именно народ, и вы слышали, какие доказательства и толкования он приводил. Слушая все это, я страшно страдал, и в это же время я испытывал чувство гордости и счастья, что среди православных священников, среди православных ученых не было ни одного — во всяком случае, здесь, на суде, — кто бы от своего имени, как священник, или православный русский человек, или русский ученый, поддержал эти страшные, немыслимые бабьи сказки — кровавый навет на целый народ. Это счастье, что ни одного такого не было.
— А о Сикорском ты забыл, Оскар?
— Подожди, и о нем я говорил, но позже. Послушай, что я сказал. В эти дни, когда многие переживают точно такие же страдания, как я, пусть они узнают, пусть запомнят, пусть расскажут своим детям и внукам, что православная церковь относится снисходительно к евреям, что православная церковь знает об их законах и обычаях и никакого зла в них не находит. Она ничем не обидела евреев и их религию, а это большое утешение, господа присяжные заседатели. Я горжусь, что могу высказать это перед христианами. Могу сказать, что среди всего того, что я здесь пережил, это явилось единственным светлым лучом, это были единственные минуты счастья и утешения…
— А о Сикорском что ты говорил? — напомнила ему Роза Гавриловна.
— Сейчас… Если врач, вместо того чтобы заниматься медициной, вместо того чтобы найти рану и лечить ее, начинает говорить о ритуальных убийствах, о том, что он верит в ритуальные убийства, о том, как нужно судить, и о выдуманных процессах средневековья, — это все что хотите, но не судебно-медицинская экспертиза, все что хотите, но не наука. Когда я слушал слова профессора, я подумал о том мыслителе, который твердил, что если средний путешественник едет в Россию, он обычно возвращается с теми же познаниями о жизни страны, с какими он приехал. Потому что у него есть уши, чтобы слышать только то, что он хочет слышать, потому что у него есть глаза для того, чтобы видеть только то, что он хочет видеть…
Грузенберг замолчал, прислушиваясь к шуму ливня. Неожиданно молния осветила пространство у окна и вырвала из темноты каштановое дерево. Его ветви, как руки, взметнулись вверх — казалось, что они были объяты пламенем. И вдруг Роза Гавриловна воскликнула:
— Я ослеплена, Оскар… — и закрыла глаза руками.
— Успокойся, дорогая, ты скоро прозреешь, дай бог, чтобы это случилось и с присяжными заседателями.
— Будь уверен, Оскар, они прозреют…
— Дай бог, моя дорогуша, как говорится: твоими бы устами да мед пить. — И после паузы: — Мне кажется, Роза, что когда Виппер выступал или допрашивал свидетелей, он как бы выключал живую мысль и у судей, и у присяжных заседателей. Поверь мне, что эти простые люди просто тупели от его выкрутасов. Я следил за этими мужичками и замечал, как туманились их глаза, честное слово, Роза!
— Меня интересует, что ты говорил о Бейлисе.
— О Бейлисе… Я говорил так просто, что меня понимали русские люди из народа, которым надлежит вынести приговор, к ним, моя дорогая, было обращено мое окровавленное сердце. Если бы Короленко слышал излияния этого кровоточащего сердца, он бы строго насупил свои большие шелковые брови и выговорил бы мне так: «Господин адвокат, не говорите так красиво; проще нужно говорить, естественнее, тогда сильнее будет влияние на присяжных». Но я, моя дорогая, не мог сдержать свою боль.
— Ну, ну, возьми себя в руки, не принимай близко к сердцу, успокойся!
— Да, теперь слушай, что я сказал: Бейлис принадлежит к тому классу, который должен быть дорог каждому православному так же, как и каждому еврею. Он ведь честный труженик, не знавший покоя ни днем, ни ночью, он трудился не меньше, чем трудятся все крестьяне и извозчики, чем работают все рабочие. Вы здесь слышали, что он вставал иногда в четыре часа утра, ведь в шесть начинался рабочий день на цигельне. И так с шести утра до шести вечера ни минуты покоя. Помните, свидетели нам рассказывали, что даже во время обеда, если к нему стучали, он оставлял обед и выбегал, чтобы не задерживать подводы. Здесь проходили свидетелями христиане. Кто они, эти христиане? Рабочие, извозчики. Что они рассказывали? Вы сами знаете, господа присяжные, что, когда человек в беде, всегда находятся такие, которые вспоминают, что когда-то их обидели. Но вы не слышали ни одного такого голоса. Посмотрите, как тепло, с каким сочувствием и человечностью отзывались рабочие об этом несчастном, прибитом, наполовину раздавленном человеке. Вы не слышали ни одного плохого слова о нем.
Вспомните о детях, которые здесь проходили свидетелями по делу. Было очень трогательно, когда маленькая Евгения Волошенко на вопрос о Бейлисе удивленно посмотрела на скамью подсудимых. Ее спросили: «Он гнал вас, обижал, оскорблял?» На это она рассмеялась и ответила: «Нет, никогда не обижал». Никто из взрослых, никто из детей, которых вызвали сюда, и полусловом не пожаловался на Бейлиса, и все же он сидит на скамье подсудимых после двух с половиною лет лишения свободы в тюрьме. За что, я спрашиваю? Чем провинился этот человек?
— Оскар, тише, не горячись так, — Роза Гавриловна вытерла пот со лба мужа, усадила его на стул и снова начала рассказывать о детях.
Но Грузенбергу, который всегда был добрым отцом, теперь было не до детей. Он снова переживал весь пафос своей речи на суде.
— Знаешь, Роза, мои коллеги защитники имели ко мне претензии, почему я так патетично и даже истерично закончил свою речь.
У жены сильнее забилось сердце. Тяжелее стало дышать. Теперь уже у нее выступил пот. Ослабевшим голосом она спросила:
— А что такое ты сказал?
— Сейчас, сейчас! — Грузенберг развязал галстук, снял накрахмаленную сорочку.
Супруга забрала вещи из его рук и положила на стул.
Адвокат встал у того же стула, оперся руками на спинку — и голос его зазвенел:
— Я уверен, я тверд и надеюсь, сказал я, что Бейлис не погибнет. Он не может, не должен погибнуть. Но если я ошибаюсь, возможно, вы, присяжные заседатели, помимо всякой логики, последуете за страшным обвинением… Так что я могу вам сказать? Всего двести лет прошло с тех пор, как наши предки по таким же обвинениям гибли на кострах инквизиции. Покорно, с молитвой на устах, они, ни в чем не виновные, шли на смерть. Так чем же вы, Мендель Бейлис, лучше их? Так и вы должны пойти. И в дни каторжных страданий, в дни тяжелых испытаний, когда на вас будут давить исступление и горе, — крепитесь, Бейлис. Повторяйте чаще молитву: «Слушай, Израиль, наш бог, единый бог…»
Страшна гибель наших предков, но еще страшнее то, что еще возможны такие обвинения сейчас, при свете разума, совести и закона!..
Воодушевленная, окрыленная Роза Гавриловна потянулась к мужу, обняла его и притянула к себе.
— Отлично! Браво, Оскар! — воскликнула она.
Грузенберг медленно высвободился из объятий жены и тихо сказал:
— Они правы.
— Кто прав? Кто? — удивленно спросила она.
— Коллеги… Я не должен был, дорогая.
— Что не должен был? Не понимаю.
— Я не должен был давать присяжным заседателям такой козырь, будто мы сомневаемся в том, что они вынесут оправдательный приговор. Я не должен был, нельзя было… Коллеги правы. Перед такими простыми, непосредственными людьми, как присяжные, мне нельзя было заканчивать этим.
— Успокойся, Оскар, успокойся. Я говорю тебе, что ты выступил превосходно, сильно, красиво и достойно. Во всяком случае, главное ведь было сказано, и все будет хорошо, хорошо и хорошо.
— Дай бог! Твоими устами да мед пить! — сказал он несколько успокоенный, лег в постель и стал прислушиваться к шуму дождя.
После того как председатель завершил свою речь, которую честные, объективные наблюдатели оценили как слишком субъективную, такую, которая может сбить с толку присяжных заседателей, дезориентировать их, направить на неверный путь, — на несколько минут стало тихо. Но только на несколько минут.
Каждый, кто тогда присутствовал в Киевском окружном суде, отреагировал на свой лад. Короленко пробормотал как бы про себя: «Пахнет кровью, невинной кровью…»
— Вы что-то сказали, Владимир Галактионович? — спросил Ан-ский, который сидел возле писателя.
— А? Что вы говорите?
— Мне показалось, это вы что-то говорили.
— Да я не говорил, я подумал, вслух подумал… Простите, коллега, мы ведь знакомы с вами, но у меня так помутилось в голове, что не припомню вашей фамилии.
— Я — Ан-ский.
— Ах да, Семен Акимович. Простите, у меня потемнело в глазах, в мозгу, в сердце — всюду стало темно, коллега.
Ан-ский заметил, что Короленко пошатывается, ищет опоры протянутой рукой. Тогда Ан-ский подмигнул Ходошеву, тот взял Короленко под одну руку, а Ан-ский под другую, и так они оба осторожно сошли с писателем с лестницы и усадили его в комнатке, прилегающей к буфету. Короленко носовым платком вытирал выступивший на разгоряченном лице и шее пот.
— Может, Владимир Галактионович, вы поедете в гостиницу?
— Нет, — возразил писатель, — хочу видеть, как передадут присяжным вопросы. А когда они уйдут в свою комнату для совещания, тогда, возможно, я и поеду домой и буду ждать радостной вести.
Ан-ский с Ходошевым переглянулись — и каждый из них хотел спросить у Короленко, почему он не хочет дождаться приговора здесь, в здании суда. Короленко ответил сам, не дожидаясь вопроса:
— Мне будет тяжело, господа, дожидаться здесь. Кто знает, сколько будут совещаться заседатели после такого резюме… — У писателя вырвался стон. — Я этого не выдержу, это свыше моих сил, если приговор будет таким… я боюсь, что они его засудят… Если поможете мне, я пойду…
Опираясь на Ан-ского и Ходошева, Короленко медленно направился к выходу.
Прощаясь, Короленко молча пожал руки провожатым. Усталый, надломленный, но с надеждой в печальных глазах, писатель все же улыбнулся:
— Я верю, коллеги, в светлую совесть моего народа, я верю…
Когда Короленко зашел к себе в номер и не застал ни жены, ни дочери, он медленно разделся, лег в постель и, сам не зная почему, вспомнил, какой печальный вид был у защитников Бейлиса. Особенно ему запомнился Грузенберг в то время, когда председатель суда произносил свою недостойную речь. Между петербургским адвокатом Грузенбергом и писателем Короленко завязался мысленный разговор:
«Я видел по вас, Оскар Осипович, что вы думаете, будто вы одиноки в своем трауре…»
«Угадали, Владимир Галактионович. Меня просто пришибла такая двуличная речь председателя. Не перебивайте меня, прошу вас. С точки зрения законности это противозаконная агитация… Что касается тех — прокурора и гражданских истцов Замысловского и Шмакова, я понимаю, что они представляют государственное мнение, они представители черносотенных русских кругов. Но председатель — он обязан и должен представлять подлинную законность, суд, который должен быть человечным, объективно неподкупным, святым, без претензий, иначе зачем же устраивать такие процессы; ведь это зрелище — не словесное состязание между обвинителями и защитниками, на котором публика ждала бы фейерверка молниеносных мыслей с той и другой стороны. Здесь ведь речь идет о достоинстве и чести русского суда, о судьбе всего древнего народа, поэтому председатель, олицетворяющий святилище, называемое русским судом, должен быть честным в своих действиях…»
«В этом, Оскар Осипович, и состоит ваша ошибка. Вы думаете, будто здесь речь шла только о достоинстве и чести русского суда или только о судьбе еврейского народа. Речь идет о достоинстве и чести всего русского народа, его лучшей части — интеллигенции и ее совести. А тут, я думаю, наш народ скажет свое веское слово. Мне известно, что наше правительство и весь аппарат его насквозь прогнили, но теперь это меня не интересует. Хоть я не социалист, я все же верю, что такое правительство долго не сможет руководить такой большой страной, народ освободится от своих властителей. Человек труда, крестьянин, рабочий, раньше или позже скажет свое слово…»
«Понимаю, что вы думаете, Владимир Галактионович».
«Не перебивайте меня, Оскар Осипович. Не в русском суде здесь дело и не в том, что Болдырев нарушил святые основы судебного дела. Вы должны понять, что Болдырев тот же представитель русского правительства, что и Виппер, и Замысловский, и Шмаков, — они одного поля ягоды. Поэтому он и сам — наглый, фальшивый человек — не мог говорить иначе, чем Виппер и Замысловский. Он вынужден был говорить так, как они, иначе он больше не смог бы служить своим хозяевам…»
Писатель понял, что его мысли-слова произвели на адвоката впечатление, Грузенберг переменился — на молочно-белом лбу показались глубокие борозды, щеки его зарделись, свет, шедший из широко раскрытых, миндального цвета больших глаз менялся, как менялось и состояние его души, в которой теперь все бурлило и кипело.
Грузенберг, судя по всему, хотел возразить Короленко, защитить основы суда, которому он отдал всю свою жизнь, весь свой внутренний мир. Но не посмел сделать этого, потому что слишком уважал Владимира Галактионовича, чтобы возражать ему теперь. Короленко между тем продолжал:
«Вы еще должны понять, уважаемый друг Оскар Осипович, в чем состоит наша трагедия, трагедия русских людей, русских интеллигентов. Процесс Бейлиса обнажил гнилостность нашей государственной системы, и вы увидите, что наши простые люди из народа скажут свое веское слово. Поймите, господин адвокат, что совесть — высшая мера взлета и падения…»
Короленко вдруг увидел Грузенберга задумавшимся, застывшим в молчании.
…Полтавскому монаху, как некоторые называли Короленко, стало легче от того, что он поговорил, пусть мысленно, с петербургским адвокатом. Когда жена и дочь пришли в номер, Короленко уже спал и во сне видел добрый конец киевской трагедии.
В последний день, когда должны были вынести приговор, у здания суда толпились и прохаживались тысячи людей. По рассказам свидетелей, на площади, где высится памятник Богдану Хмельницкому, в тот день можно было насчитать десятки тысяч человек. Но большинство из них не стояло на одном месте, людей что-то беспокоило. Площадь вокруг здания суда была схожа с морским портом, к берегу которого прибиваются, затем откатываются штормовые волны, кипучие течения поднимаются на высоту нескольких этажей и спадают, словно в пропасть.
Атмосфера в здании суда была напряженной. Публика сидела как на угольях, терпение истощалось.
Весь состав суда во главе с председателем по закону вынужден был ожидать, когда из отдельной комнаты появятся присяжные заседатели и прочитают решение, которое они приняли на тайном совещании.
В одном из средних рядов зала сидели Настя Шишова и Петр Костенко. Последний был одет в новый элегантный костюм и белоснежную рубаху с изящным галстуком. Поди узнай в этом нарядном, чисто выбритом молодом человеке обыкновенного рабочего. Настя тоже была достаточно нарядна: в светло-зеленом костюме в светлую полоску, сшитом по последней моде. Гладкие волосы ее были зачесаны за уши, на которых поблескивали серьги. Отличное впечатление производила эта пара, которая как будто и не проявляла особого интереса к тому, что здесь происходит. В действительности же они тяжело переживали томительные минуты перед вынесением приговора.
А там, в святая святых Киевского окружного суда, откуда ждали голоса совести, происходило вот что.
По требованию некоторых присяжных заседателей в одном из углов их комнаты повесили несколько икон, у которых днем и ночью горели лампады. Один из переодетых жандармов специально наблюдал, чтобы масла в лампадах было достаточно, чтобы лики святых на иконах всегда были освещены и улыбались молящимся. Поскольку большая часть присяжных была глубоко верующей, то перед выходом на заседания суда они с увлечением крестились, произносили молитвы, низко кланялись перед иконами.
Теперь, когда им надлежало сказать решающее слово, старшина присяжных прочитал своим собратьям первый вопрос: доказано ли, что двенадцатого марта 1911 года в Киеве, на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из зданий кирпичного завода убили тринадцатилетнего мальчика Андрея Ющинского?
Старшина просил хорошо подумать до голосования.
— Уже, подумали? — тяжело упал голос старшины.
— Я еще нет, я еще не знаю… — ответил крестьянин с рыжей длинной бородой и длинными рыжими бровями. Он закрыл глаза и стоял так несколько минут, сомкнув губы. Перекрестившись, он сел в сторону, словно желая, чтобы обошлось без его ответа. Но ответить было необходимо, без этого отсюда никого не выпустят.
— Да или нет — ответьте! — прогремел голос старшины.
— Да, — падает грубый голос.
— Да, — послышался еще один голос.
— Да, — прозвенел тонкий голосок.
— Да, — прохрипел еще кто-то.
— Да, — ответил сиплый голос.
— Да, — тихим голосом произнес еще один заседатель.
— Ну а ты, Михайло? — снова рычит старшина.
— Да, — услыхали голос Михайла.
— Значит, запишем, что доказано.
На опросный лист легли слова, написанные ломаным почерком:
— Да, доказано.
Тишина горит вместе с огнем в лампадах у икон. Она пламенеет, тишина, в ушах присяжных крестьян, призванных решить судьбу человека с черной бородой, сидящего за перегородкой на своем раскаленном месте. Из его глаз, из напряженных и печальных глаз летят искры. Человек ожидает нетерпеливо, плачет про себя и молится. Возможно, он теперь произносит главу из талмуда, которая в эти минуты пришла на ум. Кто знает?
А здесь, в совещательной комнате, снова раздается голос старшины:
— Теперь выслушайте внимательно последний вопрос, на который вы должны дать ответ: если событие, записанное в первом вопросе, доказано, виновен ли в этом мещанин из города Василькова Киевской губернии Менахем-Мендель, сын Тевье Бейлиса, тридцати девяти лет от роду, виновен ли в том, что заранее обдумал и вместе с другими, которых следствие не нашло… …Все слышали вопрос?
— Я прошу еще раз прочитать, — отозвался рыжий заседатель.
Соседи сердито посмотрели на него: зачем затягивать, все и так вполне ясно…
Нет, ему, этому рыжему крестьянину в потертой маринарке, ему неясно. Поэтому старшина, жирный человечек с гнилыми зубами, вынужден еще раз прочитать весь текст второго вопроса. Рыжему крестьянину показалось, что вместе со страшными словами из его рта слышен противный запах, раздирающий нос и все внутренности.
— Так я спрашиваю: виновен или не виновен? — снова гремит голос старшины.
— Да, — рычит грубый голос.
— Да, — говорит еще один.
— А ты, Михайло?
Рыжий крестьянин в потертой маринарке стремительно бросился к иконе, упал на колени и почти истерическим голосом закричал:
— Я не могу!.. Не могу обвинить невиновного!..
Испуганные, с тенями страха в глазах, крестьяне оглянулись и увидели, что у коллеги трясутся плечи и весь он лихорадочно дрожит. И раздался его хрипловатый голос:
— Нельзя… бог не велит…
Ошеломленные присяжные смотрели на своего старшину, который в озлоблении готов был броситься на рыжего.
— Встань! — крикнул он. — Не притворяйся дурачком, Михайло.
А Михайло лежал на полу; его трясло как в лихорадке.
— Не трогай его… — подошел ближе другой присяжный, худой, с блестящими черными волосами и бородой, как у Христа. — Видишь ведь, он разговаривает с богом, — и обиженно посмотрел на старшину.
В это время Михайло поднялся с пола, встал на дрожащие ноги, качнулся и воскликнул:
— Нет, не виновен!
— Могу я так записать? — уже мягче проговорил старшина, поглядывая на присяжных.
— Запиши, запиши: не виновен… — прозвенело несколько голосов.
Чернявый подошел к подоконнику, схватил оттуда круглый хлеб, положил его на край круглого стола, крепко зажмурил глаза и начал ходить вокруг стола. Про себя он решил: если после семи кругов он с закрытыми глазами попадет в хлебину, значит, Бейлис виновен. А если не попадет, тогда не виновен.
Все крестьяне-присяжные, особенно рыжий, с напряжением следили, как он, словно заколдованный, кружил с закрытыми глазами, считая круги и шепча что-то бледными губами. Он протянутыми руками щупал вокруг себя воздух, боясь дотронуться до края стола. В тишине все вокруг него затаили дыхание и видели, как вдруг жилистая натруженная рука его бессильно опустилась на голый стол, и этот тощий человек издал ликующий вопль:
— Не виновен! Сам бог за Менделя! Не виновен!
Тощий крестьянин подскочил к старшине и закричал:
— Запиши: не виновен!
В это мгновение извозчик Сосницкий потряс чернявого за плечи:
— Что ты болтаешь и кричишь — не виновен! Он виновен!
Присяжный оттолкнул его и крикнул:
— Заберите от меня этого черносотенца…
Сосницкий намеревался замахнуться и ударить чернявого, но тут вмешался по-городскому одетый низкорослый человек с пышными усами, бывший крестьянин, служивший теперь контролером в городском трамвае. Большими длинными и сильными руками он отбросил в угол извозчика и сказал:
— Андрей Григорьевич, зачем гаданье, не бабы! И без твоих хлебов ясно, что Бейлис не виновен. Разве не понятно? Старшина, запиши и мой ответ: не виновен! — произнес он твердо.
И эти слова прозвучали так сильно, что старшина даже возразить не смог.
— Хорошо, Иван Алексеевич, записал, — покорно ответил он.
Вслед за Иваном Алексеевичем отозвались другие присяжные:
— Запишите: не виновен!
— И меня тоже: не виновен!
Весы Менделя Бейлиса качнулись в сторону жизни…
Присяжные во главе со старшиной вышли в зал, ожидающий приговора.
После того как старшина присяжных объявил: «Не виновен!» — председатель Болдырев обратился к Бейлису:
— Вы свободны и можете занять место среди публики.
Бледный, испуганно-возбужденный, с дрожащими руками и подкашивавшимися ногами, человек с черной бородой бессильно упал на скамью. Вокруг него была пустота…
Впереди прояснялся для него новый мир, совершенно новый…
На площади у здания суда все взоры присутствующих были устремлены на ступеньки, ведущие в суд. Каждый раз распространялся какой-нибудь слух: присяжные уже вышли из своей комнаты и прочитали перед судом ожидаемую весть. Или: объявление приговора затягивается, потому что приговор тяжелый, обвинительный — Бейлис осужден на вечную каторгу.
В такой толпе Липа Поделко был так же заметен, как иголка в стоге сена. Он хотел найти внука и от него узнать что-нибудь о Бейлисе.
Липа Поделко видел уже Бейлиса закованным в цепи, в серой арестантской одежде. Плачущими, печальными глазами он как бы спрашивал: «Почему жребий пал на меня, а не на тебя, Липа? И ты ведь мог быть на моем месте, или мой сосед Симха, который вьет веревки, или столяр Зайвл, портной Хаим — покорно-надломленные и безвинно забытые шагали бы, точно как я, в арестантских одежках царской законности, склонив головы, с ранеными сердцами шагали бы на погибель и страдания».
«Крепитесь, Бейлис, — шептал Липа Поделко, — если хотите, я надену ваши одежки, а вы останетесь здесь, на моем месте, и смотрите, глядите и слушайте, как „союзники“, голубевские ребята, бегают запыхавшись и кричат: „Бейлиса осудили на вечную каторгу… Нет, смертный приговор через повешение. Вот здесь, возле памятника Богдану, поставят виселицу для него…“»
Давно наступил вечер, он принес с собою мерцающие звезды на небе и свежий ветерок с Днепра, долетающий даже сюда, к зданию суда, и на улицы, спускающиеся к Крещатику, к городской думе. Ветерок разносил по дворам и большим домам необычайный страх и тревогу, которые могут разыграться, чуть только из здания суда вылетит страшная весть… Но эта страшная, темная весть не пришла.
На возвышении у подъезда здания суда, куда были обращены взоры тысяч людей, находившихся на Софиевской площади, показался защитник Бейлиса Зарудный. Он поднял руки и воскликнул:
— Бейлис освобожден!
Словно ракета, это известие взлетело вверх и начало передаваться из уст в уста:
— Освободили, оправдали Бейлиса!
Жестянщику Липе Поделко вдруг показалось, что вечерние синие сумерки превратились в яркий дневной свет, а темное небо отступило перед солнечными лучами, светившими вместе со звездами; ему показалось, что взошло солнце, стало светло во всех уголках, и все стоявшие здесь услышали радостную весть:
— Бейлис освобожден!
И эта радостная весть разнеслась, казалось, по всему свету…
Слегка отдохнув, Короленко вышел на балкон второго этажа гостиницы. В сумеречном движении на улице он почувствовал не совсем обычный ритм и такое оживление, какого он не замечал за все свое пребывание в Киеве. В необычном движении писатель увидал что-то совсем небывалое и в высшей степени многозначительное.
— Алло, алло! — закричал Короленко, увидев возле гостиницы Ходошева, и замахал рукой. Но, поняв, что журналист спешит к нему, Короленко быстро, совсем по-юношески, вбежал в комнату, выскочил в коридор и по лестнице спустился навстречу Ходошеву.
Запыхавшийся молодой человек произнес одно только слово:
— Освобожден!
У старого писателя лицо засветилось, глаза увлажнились.
— Народ мой не осрамил нас, — сказал он и, выдержав паузу, добавил: — Понимаете, молодой человек, что значит совесть?..
Жена и дочь тоже бежали ему навстречу.
— Поздравляю! — кричали они одновременно, обнимая Короленко.
Потом все поднялись по лестнице в номер, Короленко достал бутылку с вином, налил каждому по рюмке и предложил:
— Давайте выпьем за торжество светлой совести!..
Выпив и поставив рюмку на стол, Короленко подошел к журналисту, положил ему руки на плечи и, глядя прямо в глаза, радостно сказал:
— Такие минуты не забываются!..
Эпилог
Эстер сидела и плакала.
— Чего же ты плачешь? Папа ведь уже дома, — сказал старший мальчик.
Бейлис был занят с гостями, пришедшими поздравить его… Все же он выбрался из дружеского круга и быстро подошел к жене:
— Почему плачешь? Я ведь уже с вами, дома.
Но она не переставала плакать, плечи у нее дрожали, она всхлипывала.
— Перестань, Эстер. Успокойся. Теперь незачем уже плакать.
А она все плакала. Веки ее покраснели и разбухли.
Пришедшие соседи, родственники, знакомые — все с удивлением смотрели на Эстер: почему она плачет, ведь ей нужно радоваться, этой настрадавшейся, так быстро состарившейся женщине!
От радости плачет Эстер. Никак не укладывается в ее голове, что Мендель ее здесь, свободен.
Зашел священник, в длинной, до самых пят, рясе, — через многочисленных гостей пробирался к Бейлису. Этот человек с большими бровями на широком лице хотел что-то сказать, губы его сложились в трубочку.
— Мендель… — в конце концов заговорил священник, — прости нас. Мы перед тобою провинились…
— В чем провинились, батюшка? — удивленно спросил Бейлис. — О чем вы говорите?
— Перед тобою. Ты безвинно страдал, а мы плохо заступались за тебя. Да, да.
— Все уже в прошлом, батюшка.
— Да… — Он схватил руку Бейлиса и поцеловал, быстро повернулся и направился к выходу.
Находившиеся в комнате люди смотрели ему вслед. Одна женщина перекрестилась.
— Видели глаза батюшки? — сказала она. — Как у Иисуса. Добрые, всепрощающие.
Сюда, в тесный дом, непрестанно входили люди, приносили с улицы лучи солнца, дуновение ветра…
Пробрался сюда и Липа Поделко, наряженный в праздничный сюртук. Он пробрался к Бейлису, встал, рукой распушил бороду и усы и долго, пристально смотрел на него.
— Я хотел поглядеть на вас, реб Мендель, — сказал Липа, — и сказать вам: благословен будь тот, кто освобождает арестантов…
— Кто вы такой? — спросил Бейлис.
— Такой же еврей, как и вы.
— Как и я?
— Да, точно такой. Будьте же освобождены от своеволия и страха… — Липа повернулся и пошел прочь уверенным размашистым шагом.
А потом пришли Настя Шишова, Петр Костенко и Тимка Вайс. Эстер Бейлис сразу узнала Костенко и Вайса и, вытирая заплаканные глаза, прошептала мужу на ухо:
— Мендель, это те, которые приходили к нам зимой… Вчера я тебе о них рассказывала.
— Понимаю… — Бейлис смотрел на рабочих, словно он раньше где-то видел их.
— Вы знаете нас, господин Бейлис? — спросил Костенко.
— Не знаю, но теперь буду знать…
И Довидл вспомнил, что эти рабочие тогда, в зимний день, навестили их осиротевший дом. Он подошел к ним, доверчиво улыбаясь.
— Помнишь нас, мальчик? — спросил Тимка Вайс.
— Конечно. Вот этот дядя говорил, что он сидел…
— Правильно, — кивнул головой Костенко, оглядываясь на присутствующих.
— Вы тоже сидели? — спросил Бейлис.
— Сидел, только не думайте, что из-за навета.
Настя Шишова протянула Бейлису букет цветов и пожала ему руку.
— Господин Бейлис, моему отцу неудобно прийти сюда — он судья. Он просил передать вам привет и пожелать… — Она не закончила фразу, так как на пороге появился Владимир Короленко.
— Короленко! — крикнул кто-то. — Короленко пришел!
Все находившиеся в комнате замолчали. Они увидели, как Короленко подошел к Бейлису, обнял его, прижал к широкой груди и сказал:
— Вы отняли у нас много здоровья, Бейлис, теперь вы должны долго жить…
Когда Короленко ушел, Довидл спросил:
— Кто этот человек, папа?
— Владимир Короленко — народный писатель, — ответил один из присутствующих.
— Короленко — один из тех, кто заступился за честь России, — добавил другой.
Киев — Ирпень
1960 — 1965
От автора
В романе «Преступление и совесть» я не ставил перед собой цели полностью отобразить знаменитый процесс Бейлиса. Моя основная задача — воссозданием исторических образов вскрыть «механику» подготовки и организации царским правительством и некоторыми правительственными учреждениями дела, тянувшего назад, к самым позорным судилищам испанской инквизиции.
Кроме подлинных исторических лиц и главных героев романа, живших и действовавших в изображенное в романе время, я вывел также некоторые вымышленные персонажи, играющие свою роль в уточнении исторической атмосферы и одновременно в различных сюжетных ходах. Эти персонажи, как правило — собирательные образы, поставлены автором в естественные жизненные ситуации, что и не дает им возможности выходить за пределы вероятности.
В сюжетных целях автор разрешил себе, правда, изредка, небольшие хронологические смещения в биографиях некоторых действующих лиц. Однако сделано это настолько осторожно, что фактическая сторона дела от этого не страдает.