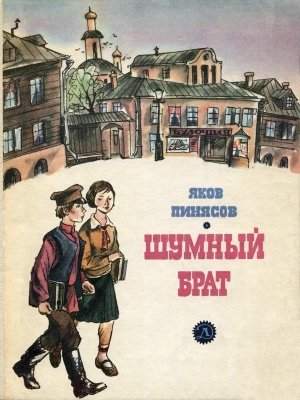
Путь-дорога
Высокое, высокое небо. Бескрайнее, широкое поле. Пустынная, длинная дорога, у которой нет конца. И по этой дороге плетётся моя бабушка, а за ней я, резвясь, как жеребёнок. То прыгну в придорожную канаву, то взбегу на бугор. То снова вернусь.
Тихо бредёт бабушка, хотя и на трёх ногах. За третью у неё суковатая палка — клюка из дикой яблоньки. А у меня на плече прутик. И на нём вторые лапти. Одни на мне, тоже новенькие. Обула меня бабушка в дальний путь. Сама аккуратно обернула портянки, сама зашнуровала оборки, чтобы не потёр я в дороге ног. Лапти эти для праздников. Обычно с весны до осени я бегал босиком. Сплёл мне их покойный дедушка. Плёл крепко, из отборного лыка, в четыре слоя, чтобы я его долго-долго помнил. Одни точно по ноге, другие с запасом, на рост. Вот они красуются на прутике, жёлтые, любо-дорого глядеть!
Другого имущества у меня нет. Мне легко-легко. А бабушке трудно. У неё наш общий узелок с харчами. Да ещё узелок с бельишком и полотенцами для меня.
— Давай, бабушка, понесу!
— Не торопись, внучек, твоя дорога длинней, сиротская твоя поклажа потяжелей.
От таких слов мне хочется плакать. Всегда становится очень грустно, когда бабушка меня жалеет.
Её бы жалеть нужно — она старенькая. А меня-то что? Вот увидел бабочку — и за ней. Заметил ящерку — ив погоню. И счастлив. Даже на скучной дороге мне весело.
Сказка про меня
А когда надоедает бегать, я к бабушке:
— Расскажи сказку!
— Вот сядем полдничать — расскажу.
— А сейчас?
— На ходу слова теряются, — улыбается бабушка.
И мне тревожно. А вдруг растеряет она свои волшебные слова, которые я так люблю слушать, тогда что?
Молчу. А бабушка шепчет что-то про себя, а потом говорит:
— Сам ты — моя горькая сказка. Тяжки мои годы, лучше бы мне лежать, чем идти… Да не могу тебя бросить — сказочку мою недосказанную.
И блестящие росинки начинают капать из-под её тёмных приспущенных век. И от этого мне всегда делается очень печально. Тогда бабушка смахивает слезинки и рассказывает сказку, которую я знаю наизусть.
— Жили-были на свете старик и старушка. Старик караулил барский сад, старушка помогала господской стряпухе мыть посуду…
— Заколдованный был сад, яблоки в нём сладкие для богатых, я для бедных горькие, — добавляю я.
— Горькой была и доля стариков: поумирали детушки, некому было поберечь их старость, — кивнув мне, продолжает бабушка. — Но в одну тёмную ноченьку нашёл старик под берёзкой подкидыша. Жалостно пищал он. Как птенчик, выпавший из гнезда. Обрадовались ему старики, назвали Сашком и стали воспитывать. Шустрым рос Сашок. И когда спрашивали, чей он, бабушка с дедушкой отвечали: «Берёзкин!» Так и объявилась у него фамилия.
— Берёзкин! Берёзкин! — кричу я, подпрыгивая. Мне всегда радостно узнавать, откуда у меня взялась такая весёлая фамилия.
— Так бы они и жили не тужили, воспитывали внучка. Да занемог названый дедушка и помер… А бабушку богачи прогнали… Куда им идти? Как жить? Одна дорога — побираться. Просить под окнами хлебушка кусочек у добрых людей. Так бы оно и было. Да теперь не старое время. Теперь есть Совет. Совет и о старых и о малых заботится…
Совет представляется мне добрым, богатым дядей. Но как к нему «ход» найти, не знает даже моя названая бабушка.
Вот и ведёт она меня к своей племяннице, к тётке Надие́, которая при школе живёт. Говорят, грамотная стала. Всё знает. Учительнице помогает учить детей.
Уж она-то определит меня, лишь бы дойти до неё.
Хитрей меня даже суслики
Какой я? А я ещё себя мало знаю. Бабушка говорит — глупый, слабый ещё, а мне не верится.
Какой же я слабый, если с одного маха прутиком любому репью-врагу голову срублю! Какой же я глупый, если любую сказку понять могу? И даже загадки отгадываю. Вон одна показалась вдали. «Крыльями машет — улететь не может». Это мельница!
Я хитрый: могу хлебцем поросёнка подманить, потом прыгнуть ему на спину и покататься.
И не маленький: упаду, зашибусь, а не заплачу!
Далеко вперёд ушла бабушка. Я нарочно отстаю — попугать хочу. Пусть хватится, а меня нет… Вот крик поднимет: «Сашок, Сашок, Сашенька!..»
И вдруг вижу чудо — на ровном жнивье тут и там стоят живые столбики. И чуть колышутся. И посвистывают. Один свистнет — послушает. Другой откликается.
Как припущусь на свист! А столбик раз — и пропал. Стоял вот здесь — и нет его. А на этом месте бугорок и в земле дырка. Ага, вот он куда спрятался! А ну поймаю его!
И давай копать. Вначале руками. Стало больно. Новыми дедушкиными лаптями гребу, они твёрденькие. Пот глаза заливает, земля лицо порошит — ничего, знай копаю.
Забыл я про бабушку.
Она кричала, не докричалась и, собрав все силы, поспешила назад.
— Вот ты где! Что делаешь?
— Постой, бабушка, ещё немножко… Сейчас я его поймаю! Вот он где, живой столбик, сидит!
И копаю, копаю резвей, чем соседский Полкан, когда корки хлеба в запас зарывает.
Насилу оттащила меня бабушка.
Упираюсь:
— Пусти, ещё чуть-чуть, и я до него доберусь!
Засмеялась бабушка:
— Не поймаешь ты его, глупый, у суслика норка с двумя выходами. Ты здесь копаешь, а он вон где сидит да посмеивается.
Увидел я суслика, посвистывающего невдалеке, и так на хитреца обиделся, что чуть не заплакал!
Тетя Надия
— Какой ты страшный, какой грязный! Как же я тебя тёте покажу? — сокрушалась бабушка.
Хорошо, что перед большим селом, куда мы шли, оказался родник под раскидистыми вётлами. Здесь бабушка умыла меня ключевой водой. Мы отдохнули, поели печёной картошки, макая её в соль и запивая вкусной ключевой водой. В горле пощипывало и ломило зубы.
— Будь умным, тётю слушайся, — наставляла бабушка, приглаживая мои вихры. — Сирота должен всех слушаться, у него родни нет, заступиться некому.
А потом мы долго ещё шли. И отдыхали, и снова шагали, а село как заколдованное. Вот оно видно, стоит на взгорье, красуется высокой церковью, а всё не приближается.
Да наверно, и силы наши поубавились. Бабушка через несколько шагов отдыхает. Да и я уже не вьюсь вокруг жеребёнком, а плетусь позади.
И голова кружится, оттого что пыль, поднятая порывами ветра, забивается в нос и противно пахнет овечьим помётом.
Наконец мы идём селом.
Здесь живут и мордва и русские. И когда бабушка спрашивает дорогу, ей отвечают по-разному: и по-русски и по-нашему.
Бабушка и так и так понимает. И я тоже. Это хорошо — знать и по-своему и по-русски.
А тётю мы не застали дома. И долго сидели на пороге школы. До самого вечера. Вдруг подлетела шумно, как порыв ветра, красивая женщина, одетая по-русски, и стала обнимать и целовать нас, говоря по-мордовски:
— Вот и хорошо. Вот вы и пришли, мои милые!
Это была моя тётя Надия.
Еще один гость
Потом мы пили чай из сияющего, как месяц, самовара. С настоящим сахаром вприкуску. Потом меня уложили на белую-белую простыню, на мягкую подушку, укрыли тёплым одеялом.
Уж я спал-спал да и проспал, как ушла куда-то по делам моя добрая тётя. Оставила бабушку сторожить школу. Потом и бабушка ушла, оставив меня за караульщика. Чтобы не скучал, дала целую горсть орехов.
Я сидел на крыльце, разбивал камешком орехи. И вдруг подошёл солдат. В старой шинели. С костылём под мышкой.
— Здесь живёт Надежда Алексеевна?
— А тебе зачем? — спросил я, догадавшись, что так зовут мою тётю Надию по-русски.
Солдат возвращалось с войны много. И много вот таких, с костылями. Окончились две войны. Одна — германская, другая — гражданская. Это я знал тоже.
— Ты что, родня ей? — спросил солдат. И, видя, что я молчу, настойчивей: — Ты чей?
Я бойко ответил:
— Берёзкин!
— А где у тебя отец, мать? — настойчиво выспрашивал солдат.
— Не знаю, меня под берёзкой нашли.
Солдат понимающе крякнул. Закурил. Погладил меня по голове. Хотел уйти. Потом достал из кармана кусок сахара:
— Возьми, настоящий.
Я взял сахар, а взамен высыпал ему в ладонь горсть орехов.
— Ну, будьте здоровы, — сказал солдат и повернулся уйти. И вдруг что-то блеснуло в его глазах, как у бабушки, когда она готова заплакать. — Ты не говори ей, что я спрашивал… Скажи так: прошёл мимо какой-то солдат…
И он похромал прочь от школы, опираясь на костыль. Солдат недалеко ушёл, когда подбежала тётя Надия. Она не подходила, она подбегала, и всегда меня охватывало ветерком, идущим от её платья.
— Кто это был?
— Прошёл мимо какой-то солдат!
Тётя не поверила. Она вся вытянулась, привстала на цыпочки, силясь разглядеть и угадать, кто же это был.
— Миша?! — крикнула тётя Надия неуверенно. Солдат приостановился.
— Миша, куда же ты?! Миша! — И последнее слово она крикнула так, что солдат вернулся.
И они стали смотреть друг на друга, не здороваясь, тёмными глазами.
— Твой? — спросил солдат про меня.
— Мой! — тряхнула головой тётка, и глаза её блеснули на солдата так сердито, что я поёжился. — Ну и что же? Ну если и мой?
— Поверила, что убитый? Не ждала?
— Не верила! Ждала!
Лицо солдата исказилось, словно от боли. Мне показалось, что он сейчас заплачет, как маленький. И тётка тоже догадалась об этом и утешила его, как маленького. Притянула голову, поцеловала в лоб:
— Это же приёмыш, глупый. Такой же сирота, как ты!
И солдат так обрадованно заулыбался, словно узнал что-то весёлое.
Он остался. И полюбил меня. Хотя иногда вспоминал, смеясь, что я чуть-чуть не отвадил его от тёти.
Красная свадьба
Дядя Миша до войны был молодым и красивым. Он был женихом тёти Надии. Она плакала, провожая его на войну. А встретила с радостью. Хотя вернулся он безногим, она его любила. И уважала. Потому что солдат Миша защищал Родину. Он был храбрым, не боялся смерти. Теперь тётя Надия даст ему счастье. Так все говорили.
И до свадьбы и на свадьбе. Свадьбу они играли, как у нас говорят, не по-старинному, а красную, без попов.
— Попы только веселье портят своим видом, — сказала тётя Надия.
— Хватит, они меня уже отпевали в братской могиле! Когда первый раз тяжело раненного чуть не закопали… Меня от них тошнит, — сказал солдат Миша.
На красной свадьбе не полагалось ни вопить, ни плакать. Много играли на гармониках и пели.
Посажёным отцом был какой-то военный, посажёной матерью — учительница.
Они все говорили, что солдат и Надия должны расти, хотя они и так не маленькие. Все поздравляли их, все радовались, глядя на их счастливые лица. И всем и мне было очень весело. Я решил: когда вырасту, тоже обязательно сыграю красную свадьбу.
После свадьбы я стал звать солдата дядей Мишей. А он меня в шутку иногда называл тётиным сынком. И тогда мы оба смеялись. Он был хорошим другом, но у него были свои большие дела. То с мужиками землю делил, то в Совете заправлял.
Русский мальчик Гриша
Ещё в первый день моего появления на улице меня окружили мальчишки. И для первого знакомства испробовали, каков я, не побегу ли жаловаться.
Один дал мне тумака, другой — подножку.
Но я уже знал уличные правила — ябедам и маменькиным сынкам на улице жизни нет. Кровь из носа я унял, полежав на спине, и никому жаловаться не стал.
Только этого было мало. Меня ещё столкнули с обрыва в речку. А я не умел плавать, никогда ещё не купался в глубокой реке. Но, пуская пузыри, захлёбываясь, я всё равно не кричал. Заметив, что я тону, меня вытащил крепкой рукой какой-то беловолосый мальчишка с удивительно тёмным лицом.
— Чей такой? Почему тонул? — спросил он по-русски.
— Тёти Надии, — ответил я по-мордовски. — Плавать не умею, вот и тонул.
— Ладно, — сказал паренёк тоже по-нашему, — я тебя научу. — А ребятам крикнул по-русски: — Отстаньте от него, я его беру в товарищи! Как тебя звать, парень? Саша? Сашок! — Он протянул руку.
— Здравствуй! — Я стиснул его ладонь. Мне до того было радостно, что русский мальчик так же говорит по-нашему, как по-своему. И другие ребята понимали здесь по-мордовски, но почему-то отвечали мне только по-русски. Я спросил об этом Гришу, так звали моего защитника.
Он ответил:
— Важничает кулачьё! — и скривил губы в презрительную усмешку.
Я тоже усмехнулся и стал презирать кулачьё. Мы пошли вместе с Гришей поиграть, чтобы крепче подружиться. Зашли в сельскую кузницу, где работал его отец. Гриша частенько помогал ему, то раздувая горн, то поддерживая полосу раскалённого железа. Приучаясь к отцовскому делу, он рос крепышом. Был самым сильным и смелым среди ребят улицы.
Мы долго играли в кузнеца и подручного в кузнице, которая в праздник пустовала. Досыта назвонились в железяки, ударяя разными молотками. Наглотались пыли, раздувая горн без огня. Всласть вымазались сажей. Потом бегали в речку отмываться.
Это был самый счастливый день моей новой жизни. А ночью я бредил, метался, у меня был жар, и тётка дала мне выпить такой горький порошок, что я вспотел, и всё прошло.
Мордовский парень Андрон
Моей дружбе с Гришей кое-кто позавидовал. Это был плотный, коренастый паренёк, по имени Андрон, а по прозвищу «Конопач». На его скуластом лице смешно лепились красные веснушки.
— Охота тебе с чумазым в пыли возиться, пойдём со мной на луг, Учителкин! (Мою тётю Надию здесь звали «учителка», а меня стали звать «Учителкин».) За конями пойдём!
На плечах у Андрона звенели удилами две уздечки. Можно ли было отказаться? За конями!
Мы нашли их на лугу стреноженными. Встреченный приветливым ржанием, Конопач быстро снял путы. Накинул уздечки. Подсадил меня на пегую лошадь, сам ловко, как зверёк, вскочил на гнедую. И мы поскакали.
Конопач сидел на коне свободно, как на лавке. Задирал босые ноги, откидывался назад. Мог ехать задом наперёд. А я трясся, держась за гриву. Как же он хохотал, когда я свалился!
Раза три он снова подсаживал меня на пегашку, словно нарочно, чтобы посмотреть, как я буду падать.
Пегашка каждый раз останавливалась и жалостливо на меня поглядывала. А Конопач взвизгивал от радости.
И я не обижался. Покорённый ловкостью и лихостью Андрона, готов был ещё раз свалиться с коня для его удовольствия.
В синяках и ссадинах явился во двор Андрона, где поджидал его дедушка Кцрясь.
— Ай, ай, ай, — пожалел меня Кирясь, — как же это ты так отделался, Учителкин?!
Промыл мои ссадины и синяки квасом, дал напиться и уложил в телегу на мягкое, свеженакошенное сено.
Он взял нас с собой на пашню.
Пегашка везла. Гнедка бежала в пристяжке. За нами пылила соха, повёрнутая горбом вверх. И резво носилась собачонка, вспугивая жаворонков.
Я нежился на сене, полёживая в телеге, забыв про синяки и царапины.
Затем мы пахали. Пахал дед Кирясь, вцепившись в соху руками и удерживая её в борозде. Пегашка тащила соху. А гнедая следом — борону. Мы с Андроном по очереди водили её в поводу.
А когда надоело и ноги стали заплетаться, увязая в мягкой пашне, отдали повод деду. Кирясь подвязал его к сохе, и лошадь отлично обошлась без нас.
Мы стреканули в ближайшую рощу. Здесь Конопач стал лазать по берёзам, разорять грачиные гнёзда и набрал полный картуз грачиных яиц.
Развели костёр и стали их печь.
— Вот наедимся! — радовался Андрон. — Дармовые!
Но пиршество наше не удалось. Все яйца оказались насиженными. Внутри уже были крошечные синие грачата.
Подъехавший на дымок костра дед Кирясь стал ругать нас. Ухватил рыжего за ухо. Но Андрон увернулся и закричал, что пожалуется отцу.
И выполнил свою угрозу. Откуда ни возьмись, подкатил на лёгкой тележке, запряжённой озорным жеребчиком, отец Андрона, по-уличному прозвищу «Губан», по фамилии Абрамов.
— Ты моего сына не тронь! — погрозил он старику кнутом. — Он тебе не родня и не ровня, понял?
И дед Кирясь молча поклонился. Оказывается, он был у Абрамовых батраком, а не настоящим дедушкой.
Сам Губан не пахал, не сеял, разъезжал по деревням, скупал пеньку и сало. А потом подороже продавал.
Не мужик, не купец. Таких на деревне звали прасолами.
Сына своего за дружбу со мной Губан похвалил:
— Это хорошо, играй, играй с Учителкиным.
А мне сказал:
— Держись за своих, мордовских, а Гришку ты брось, он тебе не ровня.
У меня два языка
Осенью мы пошли в школу. И хотя Гриша и Андрон были постарше меня, мы очутились все вместе в первом классе. Конопач был оставлен на второй год по лености, а Гриша пропустил одну зиму по болезни.
Учить нас пришла старая учительница, которая была посажёной матерью на красной свадьбе. А с ней вместе моя названая тётя. Оказывается, Надия была помощницей у неё, помогала растолковывать мордовским ребятам русские слова.
Старая учительница была в простом платье, а Надия вошла в класс такая нарядная, что хотелось зажмуриться. Мордовский костюм сверкал на ней красными узорами и яркими блёстками. На шее бусы. Вокруг лица пушились, играли радугой селезнёвые пёрышки.
— Здравствуйте, дети, — сказала старая учительница по-мордовски, а потом стала разговаривать по-русски.
А Надия объяснила, что она рассказывает нам, как мы будем учиться по русскому букварю, подставляя под каждым русским словом свои слова, пока не получим буквари на родном языке.
Прежде у мордвы не было своей письменности, а теперь она будет. Советская власть всех сделает грамотными, всех научит новой жизни. Кто был самым последним, станет самым первым!
Ой, как хорошо! Вот Надия, она была сторожихой при школе, а вскоре поедет на курсы и станет учительницей. При Советской власти у неграмотной прежде мордвы будут свои учёные!
Это Ленин так обо всех заботится.
Мы захлопали в ладоши. Закричали «спасибо». Нам понравилось, что мы будем учёными. А когда все утихли, Андрон вдруг сказал:
— Зачем мне учиться по-мордовски? Отец мне велел хорошо узнать русский!
— А затем, чтобы хорошо знать два языка, — улыбнулась ему тётя Надия. — Все мордовские ребятишки будут учить не только мокшанский, но и русский язык. Неужели ты хочешь быть отсталым?
Конопач угрюмо молчал, опустив глаза.
— Что вы скажете, дети, лучше, когда два языка?
— А у меня уже два языка, два! — закричал я по-мокшански, потом повторил по-русски.
— И у меня тоже! — крикнул Гриша.
— Вот видишь, у всех по два языка, а если у тебя, останется один, бедней всех будешь, а ведь ты из богатой семьи, — пошутила учителка.
Андрон покраснел так, что все веснушки в один блин слились. И ничего не ответил. А на большой перемене прижал меня в угол и стал грозить:
— А ну, держи язык за зубами, не высовывай! У кого два — один отрежем!
Мне стало страшно. А две девочки, услышав такое, заплакали. И на другой день на занятия побоялись прийти. И ещё несколько ребятишек не пришли. Прослышали, что в школе их будут бить, казнить, языки резать.
Когда тётя Надия рассказала всё это дяде Мише, солдат поднял шум в сельсовете. И Губана, который научил своего сына Андрона запугивать ребятишек, желающих учиться на родном языке, призвали к ответу.
А всё-таки Андрон мне грозил иной раз тихо, когда нас не слышали:
— Смотри у меня, двуязычный… Когда-нибудь один да отрежу! — и показывал исподтишка острый ножичек из косы, которым резал себе сало.
Зачем Андрону знать русский
И вот как чудно́ получилось: любил я Гришу, а водился всё больше с Андроном. Боялся его и не мог отстать. Куда он звал, туда шёл. Чего велел, то делал.
Придумал он учителку дразнить. Как только станет она писать на доске слова, повернётся к нам спиной, сейчас он прицелится и шлёп на доску бумажную жвачку.
Она оглянется, а он сидит как ни в чём не бывало. И велит мне нажевать и плюнуть. И вот жую и плюю. Никто меня не выдаёт. Всем смешно, что я сержу свою тётю, а она не догадывается.
Подойдёт к Грише, к Андрону, велит открыть рты. Ничего нет. А у меня полон рот жвачки, но ко мне не подходит. Не может и подумать, что проказит её собственный племянник. И всё это очень смешно.
А то начнём «лётчиков» пускать. Свернём бумажную трубочку, нажуём кончик, прицелимся и — раз! — приклеим к потолку.
Тётя Надия и сердилась и даже просила весь класс не озорничать. И однажды чуть не заплакала:
— Как вам не стыдно?
И нам стало стыдно. Но шалить мы, наверно бы, не перестали, если бы не Гриша. На перемене он заманил нас с Андроном за школьный сарай. Дал Андрону подзатыльник. Дал и мне так, что я закачался.
— И ещё дам, если плеваться не перестанете!
Я стерпел, а Конопач разревелся:
— Батьке скажу! Он тебя велит выгнать. Школа мордовская, а ты русский! Зачем тебе знать по-мордовски?
— А тебе зачем знать по-русски? — подступил к нему Гриша. — Мне для дела, чтобы лучше вместе с мордвой работать. А тебе-то на что?
— Как — на что? Батька говорит, плохо будешь русский язык знать, не сумеешь с русскими купцами торговать — обманут!
— Ишь ты, всё у вас для выгоды, кулачьё! — И Гриша презрительно усмехнулся.
Ангельский голосок
Однажды пришёл в школу регент[1] церковного хора. Высоченный дяденька, по прозвищу «Алилуй». Он был так высок, что даже, разговаривая с тётей Надиёй, сгибался.
— Разрешите опробовать голоса ваших мальчиков?
— Давно пора, начальство рекомендовало ввести уроки пения.
— Также и граждане требуют, — сказал Алилуй.
И стал пробовать голоса при помощи гнутой железки. Стукнет ею об угол стола, поднесёт к уху и слушает. А нам велит разинуть рот и тянуть: «А-а-а!»
Гришин голос ему понравился. Сильный, чистый. А у Конопача оказался глухой, хриплый. Забраковал. А мой голос так понравился, что все уже ушли, а он меня всё петь заставлял. Уж я тянул, тянул, вытягивал «а», голова заболела. Алилуй увидел, что я бледен, положил ладонь на голову и погладил:
— Ангельский у тебя голосок, мальчик. Радуйся!
И с тех пор от меня не отставал. Мало что в школе больше других петь заставлял, стал водить за собой в церковь, на спевки. И Гришу тоже.
В церкви было холодно, сыро. Со стен глядели страшными глазами сердитые дядьки. Так бы и убежал. Мы с Гришей ходили неохотно, а Конопач сам навязывался. Хотя его и не просили, на все спевки приходил. И чтобы хора не портить своим хрипачом, только рот разевал, а звук проглатывал.
И Алилуй не прогонял его почему-то.
Регенту помогал с нами управляться попов сын, Толька. Толстый, белый, с тяжёлыми руками. Если шлёпнет, на ногах едва устоишь. Всех бил, меня тоже. Гришу не трогал, побаивался. И Андрона не бил.
И вот чудно́: над всеми мордовскими ребятишками посмеивался, но с Гришей, хоть и русский, не водился, а с Андроном дружил.
— Почему? — спросил я как-то Гришу.
— Да потому, что богач богача видит издалеча, — пошутил Гриша. А потом пояснил: — Андрона сюда не по голосу взяли, а по отцовской глотке. Губан на Алилуя накричал. Моего, дескать, сына от пирогов не имеете права отталкивать. Теперь все равны!
— От каких пирогов? — удивился я.
— А вот кончится пост, подойдёт пасха, будем все хором за попами из дома в дом ходить, божественное петь. Люди нам пирогов накидают целые возы. Потом делить будем. Как же им, кулакам, в такой делёжке не участвовать?
Делёжка пирогов меня заинтересовала. Рассказал я про это дома тёте учителке, рассказал бабушке, которая тоже жила при школе.
Тётя Надия пожала плечами. Не понравилось ей это.
А бабушка обрадовалась:
— Вот хорошо, вот ладно! Это счастье тебе. Имея ангельский голосок, умей им пользоваться!
Пироги уплыли!
Приманили пироги не меня одного, все наши ребятишки о них мечтали. А Толька-попович, рассказывая, какие в богатых домах праздничные пироги пекут, раззадоривал наш аппетит.
Оказывается, есть в селе такие богатые дома, что из одной белой муки булки выпекают. Да ещё изюму туда сыплют. Да ещё миндаля. Да ещё, бывает, и орехов.
Поповичу лучше знать — всегда вместе с отцом ходит по богатым домам, всякие булки пробовал.
На иных бывает сахарная корочка. А на других даже сахарные барашки.
Все мы, слушая его байки, облизывались. Андрон от нетерпеливой жадности даже похудел.
«Уж если ему за хриплый голос пирогов дадут, мне за мой ангельский наверняка лучшие куски достанутся», — думал я. И вкладывал на спевках такое старание, что регент меня то и дело по голове гладил.
И вот долгожданные дни наступили. Вместе с весной, с разливом, пришёл и православный праздник пасха. Досталось тут нам, хористам. День и ночь пели, спевались. Даже со школьных занятий нас Алилуй в церковь уводил. И в праздник всё пели, чуть с ног не валились. Совсем одурели. И уже не понимали, что тянем, все слова смешались.
И так пирогов нам хотелось, что вместо заученного, но непонятного «Святися, святися, Новый Иерусалиме» сбивались и пели: «Святися, святися, пирог испекися!»
Алилуй иной раз прислушается и хлопает нас по затылкам:
— Цыц, озорники! Что за чушь несёте?
Чуть живых, на заплетающихся ногах потащил он нас, малышей, по приходу. Мало того, сами едва шли, мы ещё помогали тащить кресты, хоругви, неудобные тяжёлые иконы.
Ничего, терпели. И в чистых горницах богачей пели, и в подметённых дворах, если в дом не пускали, голосили. Из последних сил тянулись. Подбадривались, поглядывая на пироги. Шла за нами покрытая чистой дерюжкой телега. В неё и складывали выпетые нами пироги. Лошадью правил кривой церковный сторож, с крючковатым носом, как у филина.
Он принимал пироги, яйца, крашеные и некрашеные. Складывал их в лыковые кошели. Подносили ему и выпить, и нос его краснел всё больше.
Когда телега наполнилась, сторож завернул поповского сытого коня и уехал. Потом вернулся, и ещё раз телега наполнилась. Мы уже в уме подсчитали, по скольку же нам достанется пирогов. Помногу. Была забота, как донести.
Окончилось наше шествие только к вечеру. Охрипшие, обалдевшие, похудевшие, поторопились мы в церковь на делёжку. Один другого обгоняя, в рысь перешли. И иконы и хоругви на себе тащили — ничего. Откуда и силы взялись! Казалось уже совсем и духу в нас не осталось.
Вбежали в пустынную церковь, а пирогами что-то и не пахнет. Сложили хоругви, расставили иконы. Посмотрели туда-сюда — нет пирогов. Даже крошек от них не видно.
Пришёл сторож посмотреть, не растеряли ли мы церковное имущество, ухмыльнулся и говорит:
— Тю-тю, уплыли!
Анафема
Не сразу мы поняли, кто и куда уплыл. А сторож засунул в нос нюхательного табаку, чихнул и добавил:
— Правильно, теперь уж доплыли!
Обступили мы его, заголосили. Спрашиваем с него, больше не с кого. Поп загулял у богатеев, и дьякон с ним, и регент Алилуй тоже. И Толька-попович куда-то исчез.
— Откупил все пироги у нашего попа Губан Абрамов. Сплавил по реке в богадельню. По-теперешнему — в дом престарелых. И перепродал втридорога. Вот так, мои милые.
— Да как же это? Даром я рот-то разевал, что ли? — обозлился Андрон.
— Это ты, хрипун, с отца спрашивай. Глядишь, на твою долю оставлено!
— А на Сашину долю? — подступил к сторожу Гриша. — У него же ангельский голос!
— Так зачем же ему пироги? Ангелы — существа бесплотные, святым духом питаются, — рассмеялся кривой сторож.
Все мы чуть не заплакали. А Гриша обозлился.
— Ах так, — сказал он, — айда, ребята, попитаемся святым духом! — и ударом ноги распахнул двери в алтарь.
Это было запретное место. Там поп с дьяконом колдовали. Там они, чтобы никто не видел, в разные ризы переодевались. И нас туда редко пускали. Но Гриша знал, что есть там спрятанное вино для причастия. И просвирки. Пышечки такие, которыми верующих оделяют.
Залетели мы в алтарь, нашли сундучок с просвирками, расхватали в один миг. А Гриша бутыль сладкого вина достал и давай причащать нас, наливая в серебряную ложку.
Сторож бросился отнимать, а пьяные ноги заплетаются. Споткнулся, упал. Поднялся, опять упал. Схватил метлу, мы — в разные стороны.
И такой пошёл визг, хохот, какого в этой церкви вовек не слыхали.
Сторож за нами гоняется, злющий, как дьявол, а мы, как чертенята, визжим и по всем закоулкам носимся.
За таким занятием и застали нас поп и дьякон, пришедшие разоблачиться, снять праздничные ризы и одеться по-домашнему. Дьякон увидел нашу потасовку со сторожем да как взревёт:
— Анафема!
Долго потом над нами, певчими, все сельские ребятишки смеялись. Да и взрослые. А дядя Миша-солдат больше всех.
— Ну, ангельский голосок, сладок ли поповский пирожок? — спрашивал он насмешливо.
— А я почём знаю! — отвечал я, чуть не плача.
— Ну как же, теперь ты знаешь поповскую механику. Ловко они обдувают православных!
Все мы, обманутые мальчишки, так обозлились, что устроили поповскому Тольке тёмную. Накрыли его нашими одежонками и поколотили.
В церкви больше не пели. И регента дразнили:
— Алилуй, поповский холуй!
Отшельники
Почему я не мог отстать от конопатого Андрона, и сам не знаю. Ведь его отец нас обманул, перекупил у попа и сплавил праздничные пироги.
Мне больше нравился Гриша, и лучше бы мне дружить с ним. Но Грише некогда было играть, он всё чаще помогал отцу в кузнице. А у Андрона было вдоволь свободного времени, на него батраки работали.
И вот что ни день, то какая-нибудь забава: на выдумки Конопач был горазд. И это влекло меня.
Ну какой мальчишка откажется, если ему, например, предложат пожить в тайной пещере? Такую мы выкопали с Андроном в обрывистом берегу реки.
Залезть в неё можно было только из-под берега, под саживая и подтягивая друг друга. Так в ней хорошо, соломка постелена, мягко. А поверх — старая овчина, изъеденная молью. И кусок разбитого зеркала у нас вставлен в глиняный угол. И смотрит на нас, как голубой глаз. В пещерке полутьма, а в нём небо отражается. И так хорошо лежать тихо-тихо и смотреть, как внизу ласточки носятся. Между нами и водой — туда, сюда. Кажется, вот-вот крылышками воды коснутся… Особенно интересно, когда тебя ищут и не находят, кличут и не докличутся.
— Саша! Сашок! Сашенька! — зовёт бабушка то ласково, то тревожно, то жалобно.
И так её жалко, сердце надрывается, а сдерживаешься. Губы закусишь, а молчишь. А голос то удаляется, то приближается. Весь измучаешься, весь истомишься, пока бабушка уйдёт.
А потом скатишься под берег комочком. Забежишь наперёд, встретишь её у самого дома:
— Вот он я, бабуся!
Обрадуется, обнимет, поцелует в голову:
— А я-то, глупая, на речке тебя ищу!
И хочется признаться, а не признаёшься. И так интересно жить с тайной в груди. Понимаешь, что делаешь что-то нехорошее, обманывая бабушку, чуешь, что судьба тебя за это накажет, и нет сил остановиться.
Однажды подстерегла нас в пещерке беда. Задремали мы с Андроном на старой вонючей овчине, наевшись до отвала сушёных яблок, которые он стянул из дому, и проснулись от чего-то ужасного, непонятно страшного. Пещерка наша вся содрогалась. Земляной потолок её обваливался. На лица наши сыпались комья глины. И мы не могли открыть запорошённых глаз, слыша над собой какой-то зловещий рёв. А когда сообразили, что это роет над нами землю копытами и ревёт, пуская пену, яростный бык Бодай, мы так и выкатились вон. Скатились прямо в речку. И, как лягушата, прыг-скок подальше.
Только тогда успокоился Бодай, когда и след наш простыл. Пастух никак не мог его отогнать. Оказывается, если бык почует под землёй что-нибудь живое, он приходит в бешенство. Не знаю уж почему. Ещё бы чуть — пещерку он обрушил и нас бы придавил. Больше мы туда не прятались.
Шмелиный мёд
Ну кто из мальчишек откажется, если предложить добыть из-под земли мёду?
Никто не откажется.
Я знал и раньше, что есть земляные пчёлы. Они похожи на обыкновенных, но живут не в ульях — на пчельниках, — а гнездятся в земле. Если за ними последить, можно увидеть, как они исчезают в маленьких, чуть заметных дырочках среди трав, на дерноватых местах. И вот если покопать, можно докопаться до их гнезда.
Оно небольшое. Так, сероватый комочек, а в нём соты. Мёду в них совсем немного. Больше цветочной пыльцы. И когда мы его высасывали, всегда плевались. Он был кисловат.
Но зато сами добыли. Не выпросили. Андрон был лихим добытчиком. И очень этим гордился. Не то что грачиные яйца пёк, он даже лягушек жарил.
— Ничего, вкусные. Батька говорил, заграничные буржуи их едят заместо курятины!
Земляного мёду поел он на своём веку немало. И вот захотелось ему отведать, каков мёд у шмелей. Они ведь покрупней пчёл. Наверно, и мёду у них в кладовых побольше. И он повлёк меня на добычу шмелиного мёда.
Где они прячут свой сладкий клад, мы никак не могли уследить, сколько ни гонялись за летящими домой шмелями. А вот гнездо шершней мы отыскали.
На опушке леса, под старым, расщеплённым дубом, была в плотной земле словно просверлённая, круглая дыра. В неё то и дело сваливались с неба большущие полосатые шершни. Они такие же чёрно-жёлтые, как осы, только в несколько раз крупнее.
Уж наверное, у них есть что пограбить!
Мы вооружились обломком топора, старой, выщербленной лопатой и приготовились к делу.
Побаиваясь острых жал шершней, Андрон решил их затравить дымом. Мы набросали на вход в гнездо сухих дубовых листьев, сучьев, навоза и подпалили.
Шершни, вначале яростно гудевшие и бившиеся под землёй, затихли.
— Готово, испеклися! — довольно засмеялся Конопач. Разгрёб золу и угли, приложился ухом к земле. — Давай копай.
Только мы начали копать, откуда ни возьмись — шершни. Это те вернулись, которые на добычу улетали. Они сразу поняли, что к чему.
Как начали на нас налетать да как начали жалить с размаху. Жала у них большие, острые, как шильца, и крепкие. Не такие, как у пчёл, не отрываются. Жальнут раз, вытащат и ещё жальнут!
Сквозь штаны и рубахи как огнём прожигают!
Взвыли мы — и бежать. Да разве убежишь, когда у тебя две ноги, а у них по две пары быстрых крыльев! Уж мы и по земле катались, и на четвереньках в высокую траву прятались, и в каком-то болоте кувыркались. Но оно было мелкое: голову спрячешь, зад наружу. А шершень тут как тут!
Никогда я так не орал. И не слышал такого звона в голосе у Андрона. Мой ангельский охрип, а его хриплый очистился. Звенел, как медная труба.
Живы мы остались, но вкус к даровому мёду потеряли. Андрона лечила бабка, завернув в холстины, смоченные рассолом. Меня спасал фельдшер. И бабушка тоже завёртывала в мокрые простыни. Распухли мы так ужасно, что вместо глаз были щёлочки. Вместо носов — пуговки. Поили нас с ложечек, как младенцев.
И всё-таки от дружбы с Андроном я не отстал.
Прощай, село, здравствуй, город!
Так проходили мои годы: в ученье и в уличных забавах. Знаний прибавилось. Я уже бойко читал, писал и считал. И даже стал помогать старой учительнице, заменял тётю Надию, когда она ездила на курсы. Проверял тетрадки первоклашек, когда перешёл в третий класс. Но ум всё не созревал, и по-прежнему я был способен на самые глупые забавы. И не без помощи Конопача, конечно. С кем поведёшься, от того и наберёшься.
Наша дружба с Гришей почти замерла. Хотя сердцем больше всех ребят любил его, играл я по-прежнему с Андроном. Он всё больше стал брать надо мной верх. И что он затевал, тому я подчинялся.
Так дожили мы до того дня, когда окончив четыре класса сельской школы, собрались учиться дальше. В бывшей городской семинарии открылся интернат для мордовских детей.
— Прежде там готовили попов, затемнителей мозгов, а теперь будут готовить учителей, просветителей народа. Гордись, Сашок, понимай, куда едешь! — сказал мне дядя Миша-солдат. — Будешь командиром культурного фронта!
Мне очень захотелось стать командиром культурного фронта. Просто не терпелось скорей-скорей ехать в город на учёбу. Призывали туда детей бедняков и не принимали детей богатеев и кулаков. Я гордился справкой, что сирота и бедняк. С печатью сельсовета и подписью дяди Миши.
Меня тётя собрала быстро, бабушка благословила радостно, а Гришу отец не пустил:
— Хватит, выучился! Ему головой не работать. Молотком стучать — умные руки нужны.
И как ни спорил с ним дядя Миша-солдат, как ни уговаривала тётя Надия, ничего не помогло. Кузнец был упрям. Я поехал учиться дальше, а Гриша остался в селе при кузнице.
Повёз меня в город Губан. Сам предложил. Всё равно ему по делам надо, жалко, что ли, мальчишку подсадить. Чего же, веселей ехать будет!
Дядя Миша купил мне в подарок новенькие сапоги, сильно и приятно пахнувшие свежим дёгтем. Тётя Надия — пиджачок городского фасона. А бабушка перешила дедовы штаны. Они были из крепкого, как кожа, какого-то «молескина», дед ещё в женихах их носил, и мне пригодились. На картуз дали денег Абрамову, и он пообещал купить «наилучшейший». И не обманул — при въезде в город купил у какого-то знакомого купца такой картуз, что жалко носить его было, страшно запылить. Козырёк лаковый. Сам из зелёного сукна. На маковке кожаная кнопка. Ни у кого такого не было. Даже у его собственного сына Андрона. Вот как удружил мне Губан!
Вместе со мной ехал и Конопач. Тоже в город. А зачем? Его же не посылали учиться на учителя? Но у него был такой же деревянный сундучок, как у меня. Только мне дядя Миша-солдат сделал его сам и не успел покрасить, а у него был базарный, расписной, весь в цветах.
Но я не завидовал. Это Конопач должен был завидовать. На мне был великолепный картуз, а на нём какая-то старая солдатская фуражка с оторванным козырьком. На мне пиджачок, на нём домотканая рубаха. На мне новые сапоги, на нём лаптишки. Да не новые, подковыренные.
Со стороны поглядеть, так это он сирота, а я кулацкий сынок. Смешно мне было и непонятно.
Старые знакомые на новых местах
Вот он, интернат для мордовских ребят. Большое кирпичное здание. Окна узкие, длинные. Потолки сводчатые. Лестницы чугунные. Бежишь по узорчатым литым ступеням, а они гудят: бум-м, бум-м, бум-м!
Все называют этот дом по-старому — семинария. Хотя вьётся над крыльцом красный флаг, на колоколенке над ним всё ещё возвышается крест. В семинарии была своя небольшая церковь. Теперь в ней зал для собраний. Алтарь служит сценой. Удобно играть спектакли. И кулисы есть, и занавес ловко повешен — поперёк царских врат, которые куда-то исчезли. Икон тоже нет. А святые, нарисованные на стенах церкви, ещё остались, их замазали мелом. Сквозь белёсые полосы проступают косые взгляды их страшных глаз.
Но мы не боимся! Мы здесь хозяева. В зале всегда шумно, а на большой перемене в особенности. Здесь то и дело идут собрания. Бурные, шумливые. До чего же любим мы погалдеть, покричать «долой», «неправильно». Или похлопать в ладоши изо всех сил.
Казалось бы, чего нам спорить? Все мы приехали сюда из разных сёл — дети бедноты, мордовские мальчишки и девчонки, — чтобы хорошенько выучиться и потом учить других.
Ясно? Да не совсем. Вначале я удивился, когда вместе со мной вошёл в интернат и занял соседнюю койку в общежитии, поставив под неё свой расписной сундучок, Андрон. Оказывается, у него тоже была справка сельсовета. А главное, он сумел в своём бедном наряде так прибедниться, что его бы приняли и без справки.
Но больше всего меня удивила встреча с Толькой-поповичем. Он был тут как тут. И уже в старшем классе. И так освоился, что щёлкал младших по затылкам. «Москву» показывал — поднимал за уши. Ходил в заводилах.
Когда нужно было навести порядок, загнать ребят, расшалившихся на перемене, в классы или созвать на собрание, обращались к нему.
Попович лихо командовал, затрещины так и сыпал. И мне по старому знакомству охотно отпускал. Попытался я с ним задраться, да где там — сила моя была слабей. Как пожалел, что нет со мной Гриши, что вместо него Андрон. Тоже мне друг: проказничать — так вместе, а защитить — так нет его!
Я в тисках дисциплины
С самого начала Андрон меня перехитрил. Ему выдали казённое обмундирование, а мне нет. Потому что он был плохо одет, а я хорошо. Как же он надо мной смеялся! Я злился, а поделать ничего не мог. Не ябедничать же на него.
И ещё раз он меня перехитрил. На уроках сидел таким тихоней, что его оставили на задней парте, вдвоём с толстым, спокойным мальчишкой, который постоянно жевал то пряники, то урюк, то ещё что-то. Прозвали его «Пряничным».
У него отец был лавочником, и сластей у толстяка всегда был полон сундук. У меня слюнки текли, когда я слышал, как два приятеля жуют!
А я, показав свою резвость, сразу попал на заметку к нашей классной руководительнице Глафире Ефимовне. Она посадила меня на первую парту, чтобы я был всегда у неё на виду. Да ещё рядом с девчонкой. И сказала:
— Оля, поручаю тебе Берёзкина, постарайся его дисциплинировать!
Оля стала меня дисциплинировать:
— Берёзкин, не вертись! Берёзкин, вынь руки из карманов! Не гнись, Берёзкин, сутулым учителем будешь, школьники станут смеяться! Берёзкин, внимание! Пропустишь интересное!
Ну просто беда! Зажат с двух сторон. Вместо одной стало у меня две классные руководительницы. Одна строже другой. Оля строже.
Дулся я на неё, а ничего поделать не мог. Говорила Оля всё правильно. Чего же хорошего горбиться? Ссутулишься — и вправду школьники потом смеяться будут. Пропустишь интересное — пожалеешь.
А уроки были один интереснее другого. География, история, русская литература. Как и где люди живут, как прежде жили. Разве это не интересно? А мне повертеться хочется. Уж как-нибудь да нашёл бы минутку — Оля не позволяет.
— Тсс, слушай про Полежаева, он же наш земляк был, жил в Мордовии! — одёргивает Оля.
И я слушаю, забыв проказы, про тяжкую судьбу поэта Полежаева.
— Тсс, как интересно про Лермонтова!
И я затаив дыхание слушаю про Лермонтова.
Замечательно преподавала нам русский язык и литературу Глафира Ефимовна.
Чтобы лучше усваивали красоту русского языка, она задавала нам заучивать наизусть много стихов. Оле это было легко — она их давно знала. У неё отец учитель в русской школе, мать тоже русская. А мне потрудней.
— Ну давай помогу, — говорила она. — Ты слушай, слушай и запоминай!
И, отведя меня в дальний угол двора, во время большой перемены начинала читать стихи. И всегда такое, что я рот раскрыв слушал и забывал побегать и поозорничать с ребятами.
А что Андрон? Андрон, видя, как меня Оля дисциплинирует, только посмеивался да пожёвывал. Его сосед по парте не приставал к нему со стихами, а кормил пряниками.
Ссора из-за Лермонтова
Однажды из-за стихов у нас с Олей произошёл ужасный спор. Она обожала Лермонтова и хотела, чтобы я выучил наизусть поэму «Мцыри». Но ведь это же для меня всё одно что гору сдвинуть! Я взмолился. Попросил задание полегче.
— Хочешь «Колыбельную»? Изволь! — И она насмешливо стала напевать:
Я хотел удрать, но она схватила меня за руку:
— Нет, ты послушай, какие прекрасные слова!
— А моя бабушка лучше пела. В нашей колыбельной песне слова сильней!
— Слова неграмотной бабушки лучше лермонтовских? Да как ты смеешь!.. — И Оля потащила меня к Глафире Ефимовне.
— Наши слова лучше, лучше! — упорствовал я.
И напел, как напевала мне бабушка.
— Ну и что же тут сказано! — выслушав, спросила Глафира Ефимовна: она по-мордовски знала плохо.
— А то, что нам понятней: «Спи, малютка, ночка очень тёмная, дай и мне поспать. Завтра я накормлю тебя вкусными лесными орешками. Поймаю тебе пташечку».
— А дальше что? — заинтересовалась Оля.
— А дальше про то, что изба наша плоха, отец погиб в бою и с войны не вернётся. Малютке надо вырастать сильным, чтобы защитить свою мать и свою родину.
— Слова очень хорошие, — сказала Глафира Ефимовна.
Она была всегда справедлива.
— А припев какой! Тю-тю, лю-лю, бай! — обрадовался я.
— Так, значит, по-твоему, Лермонтов сочинял хуже любой мордовской бабушки? Неправда!
Слёзы так и брызнули из Олиных глаз.
Она — в одну, я — в другую сторону. Оля обиделась за Лермонтова, я — за свою бабушку.
Тайна «Интернационала»
Мы с Глафирой Ефимовной очень огорчились. Я — тем, что напрасно поссорился, теперь мне совсем от Оли житья не будет, а Глафира Ефимовна — тем, что Оля показала себя такой невыдержанной.
Мне ночью плохо спалось. Как мы встретимся после такой ссоры? И вдруг вижу: бежит Оля весёлая и ещё издалека кричит:
— Извини меня, пожалуйста, Саша! Вчера я была неправа!
Я так удивился, у меня, наверно, был такой смешной вид, что Оля расхохоталась. И объяснила:
— Вчера я рассказала про нашу ссору отцу, и папа сказал: «Напрасный спор, у каждого народа своя колыбельная песня. И все они по-своему выражают прекрасное». Да, да, да! И знаешь, что ещё он сказал? Что слова лермонтовской колыбельной тоже народные, поэт назвал её «Казачья колыбельная». Интересно ведь?
— Очень интересно!
— Папа говорит, что даже «Интернационал» каждый народ поёт по-своему. Мотив один — пролетарской революции, а слова у каждого народа свои. Верно?
— Верно! — обрадовался я.
И как это я раньше не замечал? Ведь я знал два языка и мог петь «Интернационал» и русскими и мордовскими словами. И много раз певал и так и эдак и не замечал разницы. А разница была.
— Знаешь, Оля, по-русски: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов», а по-нашему: «Ой, вставайте, несчастные, вечно босиком ходящие, среди голодных самые голодные! Наши сердца, кипящие ненавистью, постоянно на битву нас зовут». Интересно?
— Ой, как интересно, Саша! Наверно, и у немцев, и у французов, и у англичан тоже есть свои слова для «Интернационала»? Давай научимся многим-многим языкам!
— Давай, Оля!
На этом мы помирились. И в знак примирения стали петь «Интернационал». Оля по-мордовски, я по-русски. В знак вечной дружбы.
Мотив был один, голоса наши сливались, никто не замечал этого, и нам было любо, что у нас есть своя тайна.
«Шумбрат, геноссен Пальмин!»
Учился я прилежно и вести себя старался примерно: очень хотел стать двуязыким, а теперь — многоязыким учителем. Но то и дело попадал на заметку как озорник.
Так уж мне не везло. И, как нарочно, когда я хотел сделать доброе дело, вот тут-то и попадал в озорники. Посудите сами! Однажды на крышу интерната, откуда ни возьмись, свалился белый голубь. Сел на карниз и словно приклеился. Всю большую перемену ребята пытались его согнать. А он сидит себе и поглядывает. Не боится ни комков земли, ни палок. Совсем ручной!
— Постойте, ребята, ещё в окна попадёте! — Я притащил лестницу от сарая и полез. Вот, думаю, и голубя спасу и окна сохраню. Ведь не все метко кидаются.
Приставил к стене лестницу. Высоченная. Добрался до последней ступеньки. Ещё чуть — и достану. Голубь сидит, ждёт меня. Подскакиваю, тянусь, никак не дотянусь.
Ребята смеются, подбадривают. Держат внизу лестницу. Я подпрыгиваю.
А снизу вдруг директорским голосом:
— Это что такое?!
Ребята — кто куда. Лестница как поедет вниз по стене. Я вместе с ней и ухнул. И прямо на директора, вышедшего на крыльцо проверить, что за шум.
Так на него и засел. И вцепился с испугу прямо в его кудри пятернями, как репей…
Ну и в тот же день заседание педагогического совета. О поведении Берёзкина. Есть предложения исключить как злостного хулигана. Уронил лестницу на директора. Засел верхом, устроив посмешище…
Честное слово, он же сам лестницу уронил, спугнув державших её ребят. И вовсе я не хотел засесть на него верхом, не маленький, я на настоящих конях ездил.
Сколько ни оправдывался, только подбрасывал солому в огонь.
И если бы Глафира Ефимовна не вступилась, быть бы мне исключённому.
Много таких случаев было. А однажды такое чудо-юдо получилось. Шли мы по какой-то тихой улице, не помню, по какому делу. Улица самая обыкновенная. Дом, забор, снова дом и снова длиннющий, высоченный забор, утыканный сверху гвоздями.
Шли и, конечно, во все щёлки заглядывали: интересно, что за такими заборами? За высоченными?
Представьте, ничего хорошего — бурьян да крапива. Зачем крапиву огораживать? Чтобы прохожих не жгла?
И вдруг за одним забором красуются цветы.
— Ой, как я люблю флоксы! — воскликнула Оля.
— А вот, Берёзкин, и не достанешь! Здесь не такие заборы, как у вас в деревне! — подзуживают ребята.
А надо сказать, я только что хвалился умением лазить по садам.
Что мне забор, что гвозди! Сейчас накину на гвоздик пиджачок, он крепкий, из чертовой кожи, а сам, разувшись, как кошка, босыми ногами — раз-раз, и готово.
Вот они, цветы, вот мои цепкие руки. Наломал каких-то белых и красных — большущий веник. И обратно. И вдруг за спиной — шум, голоса… Поторопился я и как-то так неловко перемахнул, что спиной проехался по забору. И тут же почуял, как кто-то железной хваткой сцапал меня за шиворот. И я повис между небом и землёй.
Вишу, болтаю ногами, размахиваю букетом. И ни туда ни сюда. И вверх меня не тянут и вниз не спускают.
А ребята, вместо того чтобы помочь, так и покатились со смеху по траве. Даже Оля уткнулась лицом в ладони — никак не переборет смех.
Оказывается, это здоровущий гвоздь меня поймал за шиворот. Зацепилась за него тесёмка-вешалка моей домотканой рубашки. Мордовская ткань крепка, а тесёмки из неё быка удержат. Вот и вишу на заборе с букетом цветов.
И тут вдруг из-за угла какие-то люди. Ребята — врассыпную. Одна Оля храбро осталась. Улыбается и говорит прохожим:
— Шумбрат, геноссен Пальми́н!
— Ого, в одной фразе три языка! — рассмеялся Пальмин. — Мордовское приветствие «шумбрат»— по-нашему «здравствуй», немецкое слово «геноссен»— по нашему «товарищ» и моя русская фамилия!
— Наша Оля решила стать многоязыкой учительницей, — говорит его спутник, человек в очках и в шляпе.
Я сразу догадался, что это Олин отец, и стал такой красный, словно меня обварили.
— А это что за явление? — Завидев меня на заборе, он протёр стёкла, словно не поверил своим глазам.
— А это отрадное явление, — усмехнулся Пальмин, — свидетельство культурного роста мордвы. Прежде мордвину не пришло бы в голову воровать цветы, а теперь вот — извольте! Мордовский мальчишка, прирождённый садолаз, вместо яблок тащит из сада букет флоксов!
Так они рассуждают, стоя передо мной, а я всё вишу, как картина.
— Да отцепите вы его, пожалуйста! — взмолилась Оля.
Пальмин легко приподнял меня под мышки и снял с гвоздя, как пальто с вешалки. Потом снял мой пиджак и отдал. Ничего плохого не было, меня и пальцем не тронули, но слава… Ох и пошла обо мне слава! Пальмин чуть что, как только заходила речь о культурном росте мордвы, всё рассказывал о мальчишке-цветолазе, заменившем старинного садолаза. И этим мальчишкой был я.
Уж лучше бы меня отхлестал крапивой хозяин цветов. Так не повезло: попался на глаза не кому-нибудь, а секретарю горкома партии! Вот кто был Пальмин. Запомнились мы друг другу на всю жизнь.
И теперь, встречаясь, здоровались.
Я говорил: «Шумбрат, геноссен Пальмин!»
А он отвечал: «Салют, шумный брат!»
Олин отец, преподававший русский язык в школе второй ступени, тоже не молчал. После того как он разглядывал меня, сняв очки, как картинку на заборе, — всем учителям города рассказывал, будто среди диковатой прежде мордвы появился какой-то необыкновенный рыцарь, рождённый революцией. Он без коня, на своих двоих перескакивает утыканные гвоздями высоченные заборы и дарит цветы юным девам!..
И хотя он не называл моего имени, я-то знал, про кого это сказка, и сгорал со стыда.
А вдруг все — и дядя Миша, и тётя Надия — узнают, какая про меня слава идёт?
Андрон преуспевает
Я сгорал от стыда, а Оле нравилась вся эта история. Она даже стала ко мне относиться как-то ласковей. Меньше одёргивала и дисциплинировала. Подбегая к школе, издалека уже кричала:
— Здравствуй, шумный брат!
Ей из всех мордовских слов уж очень понравилось наше приветствие — шумбрат! Она говорила:
— В нём что-то и от шума леса, и от всеобщего братства! Ты вообрази: давние-давние, дикие времена. Густые, дремучие темниковские леса. Хищные звери вокруг, разбойники. Верхушки леса тревожно шумят. Идёт одинокий человек и человека боится при встрече. И вдруг раздаётся: «Шумбрат!» И сразу человеку радостно, хорошо от такого приветствия…
Оле нравилось не только «шумбрат», она искала и находила и другие красивые слова в нашем языке, потому что хотела его изучить, чтобы нести людям добро.
А вот Андрон совсем для другого изучал русский язык. Только и делал, что учил наизусть стихи и отрывки. Иначе ему бы не избежать отцовской розги: отец его сам в интернат наведывался. И учителей дотошно спрашивал, как успехи Андрона, хорошо ли они учат его сына.
Андрон злился, но учился упорно. Как злой конь: пахал поле, закусив удила, так что кровь из губ текла. И вскоре он стал знать даже больше русских слов, чем я. И часто ловил меня на этом.
Однажды моемся в бане, и вдруг он кричит:
— Берёзкин, можешь ли ты одолжить ребятам свой таз?
— Могу, пожалуйста, — отвечаю, не заметив подвоха.
Снова ребята, особенно такие, как Пряничный и прочие подкулачники, радостно хохочут. Ведь слово «таз» по-мордовски означает «чесотка».
Андрону доставляло великое удовольствие искать и находить в русском языке такие двусмысленные слова, при помощи которых можно людей дурачить.
Вначале я не понимал, для чего, зачем. А потом вспомнил. Ведь он и русский изучает неспроста, а для ловкости в торговле. Большие знания ему нужны для лучшего обмана.
По-разному люди наукой могут пользоваться!
«Березкин. не отсеивайся!»
— Советская власть — добрая власть, — говорила мне бабушка.
И верно, чего уж добрей: собрала нас, сирот, бедняцких мордовских ребят, самых последних, чтобы сделать первейшими людьми — учителями.
Крышу над головой дала, кормит, поит, обувает и одевает. И всё бесплатно. А учит как! Самых лучших преподавателей к нам приставила.
Взять нашего директора Иерихонова. На него посмотреть-то поучительно. Одет в чистый костюм, при галстуке, на носу золотые очки с цепочкой. Поперёк жилета ещё одна цепь, и на ней часы — золотая луковица, посмотрит и точно скажет, который час.
Он всё знал. Ну всё, что есть на свете, что было и что будет. Иначе как бы он управлял всеми другими учителями?
Они все ему первые кланялись. И географ Фивёйский, и историк Картавин, и Глафира Ефимовна, и даже самый старый, седой преподаватель мордовского языка Пургасов первыми приветствовали Иерихонова. Пургасова царская власть в Сибири в кандалах держала. За то, что ходил по деревням, записывал мордовские песни и сговаривал крестьян требовать школ для мордовских ребят, чтобы учились на родном языке.
В революцию он героем стал, белых бил и гнал. Ставили его там, в Сибири, большим начальником. А он на родину потянулся, как только узнал, что открылась школа для подготовки учителей. Говорили, что это ему партия посоветовала.
А Глафира Ефимовна? Она у нас в Мордовии в ссылке была. Сама родом из прекрасного города Киева. После революции вольной птахой могла на родину улететь. Ан нет — она тут нужнее. В Киеве образованных людей много, а у нас нехватка таких. Кто же лучше её преподаст мордве русский язык? Ведь она с этим народом в горе подружилась — зачем же бросать его в радости? И осталась там, где нужней, потому что она коммунистка.
Казалось бы, только учись да радуйся.
Мы бы и радовались, кабы не кулацкая зависть. Чужое счастье богачам ненавистно. Вот они, злыдни, и стали пропихивать в интернат своих детей. С чёрного хода, обходом, обманом к нашему пирогу припускать.
Вначале тихо, тайно исподволь стали кулацкие сынки кусочки откусывать. А потом всё наглее, нахальнее. И вот уж хотят сожрать весь пирог, нас локтями отталкивают. Да как ловко!
А мы, бедняцкие дети, стали из интерната уходить.
— Отсеиваются дети бедноты, отсеиваются… — разводил руками наш директор, вздыхая горестно.
Словно мы были полова, мякина да сорняки, которые отсеивают во время веяния на ветру. Подбросят повыше на лопате — тяжёлое зерно на ток падает, а вся эта шелуха по ветру летит.
Две девочки в няньки нанялись. Трое мальчишек — кто в лавочки на побегушки поступил, кто к сапожнику в ученики, кто к паяльщику в подмастерья.
Наши учителя встревожились. И Пургасов, и Глафира Ефимовна. Даже Оля. Она очень переживала это бедствие. И всё твердила мне, всё упрашивала:
— Берёзкин, держись, пожалуйста! Пожалуйста, не отсеивайся, Берёзкин!
«Кукушкины дети»
Ну отчего же это получалось, чепуха такая? Чего же это дети бедняков не ценили того, что давала им новая власть?
— Плохая подготовка сказывается, — утверждал директор. — Неспособность бедноты к умственному труду. Следствие вековой отсталости!
Пришёл в интернат товарищ Пальмин, позванный Глафирой Ефимовной и Пургасовым. Поговорил со всеми педагогами. И почти все винили самих отсеивающихся ребят. И ученики-де неважные, и озорники они…
Пальмин слушал, задумался. И вдруг увидел из окна меня, пробегавшего мимо учительской.
— Шумный брат! — позвал он меня. — На минутку.
Я подошёл.
— А почему же этот озорник не отсеялся? — спросил у педагогов Пальмин, указывая на меня. — Как он учится?
Педагоги ответили, что учится Берёзкин хорошо.
— Странно, странно… — проговорил Пальмин. — Вот вам и представитель бедноты, неподготовленный к умственному труду. Что-то он не подтверждает вашего правила!
— Из всякого правила бывают исключения, — сказал директор и посмотрел на меня зло.
— Так почему же ты не отсеялся, Берёзкин? — обратился ко мне Пальмин.
— Потому что я хочу быть командиром культурного фронта!
— Ответ точен. А почему же другие отсеялись, скажи нам, Берёзкин!
— Вы сказку про кукушкиных детей слышали? — спросил я, не отвечая на вопрос.
Пургасов усмехнулся, а другие не поняли. Они мордовскую сказку не знали.
— Так вот, бабушка мне рассказывала, как обманула кукушка маленькую птичку мухоловку. Подлетела бездельница к её гнезду. Раззавидовалась, какое оно тёпленькое до хорошенькое, пухом выстеленное, и говорит мухоловке:
«Счастливая ты, снесла четыре яичка, выведешь четверых птенчиков. А у меня яичко только одно. Как его высиживать? Как на нём сидеть? Сделай доброе дело, возьми его пятым. Положи в самый дальний уголочек. Глядишь, и мой птенчик выведется. Уж я за ним тогда прилечу. Уж я тебя тогда поблагодарю. Всем твоим деткам по большущему червяку принесу». Мухоловка разжалобилась и приняла кукушкино яичко. Ну, а там знаете что случилось? Кукушонок как вывелся, как в силу вошёл, так и повыкидывал всех мухоловкиных птенцов из гнезда…
Педагоги прослушали сказку в молчании. Глафира Ефимовна — в тревоге. Пургасов — усмехаясь. А Пальмин — постукивая пальцем по столу.
— Может быть, ты скажешь, Берёзкин, кто же это у нас в роли кукушонка? Или даже кукушат? Как их имена и фамилии? — строго обратился ко мне Иерихонов.
И все педагоги посмотрели на меня строго.
— А я вам не ябедник! — крикнул я. Вскочил — и вон из учительской.
Глафира Ефимовна потянулась было за мной, но Пальмин остановил её.
Вскоре он ушёл. И на этом всё кончилось.
Тайна «отсеивания»
В тот день кончилось. А вообще-то оно ещё только началось, наше побоище с «кукушатами». Вы уже, конечно, знаете, кто они: Андрон, попович Толька, щекастый Пряничный и другие подобные.
Вот так же, как Андрон, явились они в интернат с подложными справками, в обносках. Притворились, примирились, а потом так приспособились, что захватили все тёплые местечки и вошли в силу.
Мы не замечали, чтобы им особо потворствовали педагоги, но вот завхоз Бахйлов явно держал их сторону.
Противный это был тип. Мы его прозвали «Захвост». Однажды он вёз нам продукты на лошади и был так пьян, что едва на ногах стоял. Сидел на телеге и, уронив вожжи, держался за хвост лошади.
Бахйлов только и делал, что добывал продукты и никак не мог накормить нас досыта. Хотя сам ходил и постоянно икал от излишней сытости.
Толстый как бочонок, с утра он наливался пивом в соседнем ларьке. Долго стоял, держась в хвосте очереди, а потом жадно утыкался в кружку, опустив в пену вислые усы.
Кто он был, откуда? Наверно, без роду без племени, потому что не любил никакой народ. Над всеми смеялся.
Был у нас паренёк из Пензы. Так Бахилов его дразнил: «Эй, пензя, поймал язя́, которого есть нельзя!» Был мальчик из-под Рязани. И его завхоз поддразнивал: «У вас пироги с глазами: их едят, а они глядят». Жил Бахилов в Мордовской республике, а хозяев её презирал. Как только надуется пивом, так потешается над нами:
«Эй вы, учёные, давно ли в лесу пенькам молились, медведя за попа почитали?»
И хохочет, что ловко унизил нас, мордву.
И словно оттого что не мог сосчитать правильно, получал и распределял продукты так, что на всех не хватало.
Я постоянно ходил голодным. То мне супу не досталось, то каша вся вышла, пока моя очередь дошла, — её уже расхватали те ребята, что посильней. Да лишку съели те, что похитрей, кто ближе к раздаче. Правой рукой у малограмотного завхоза стал грамотный попович Толька. А его помощниками — Андрон да подобные ему мордастые, кулакастые парни.
Кто побогаче, вроде Пряничного, те домашней снедью ещё поддерживались, а бедноте, вроде меня, приходилось туго.
И не только в еде, нам даже спать было хуже. Наш Захвост ввёл порядок: «Койка — казённая, постель — своя». Прекрасные матрасы, чистые простыни, байковые одеяла он стелил только, когда начальство должно было посетить школу. Прошло оно, и тут же отбирал всё. Сразу, чтобы не запачкали.
Сынки богатеев не тужили, у них и полушубки, и тулупчики, и ватные одеяла, а мы, беднота, и дрогли, и ёжились, и ворочались с боку на бок на голых досках в долгие ночи.
Не каждый такое вытерпит. Вот и стали бедняцкие ребята отсеиваться… А места их не пустовали — на их места, откуда ни возьмись, появлялись новые «кукушкины дети».
Признаться, и я держался из последних сил. Жаловаться не любил. Просить — тоже. Да и чем мне могли помочь родственники? Тётя Надия в эту зиму уехала в Саранск на курсы, чтобы стать настоящей учительницей. Дядя Миша-солдат и сам был не богат, и ей помогал, да ещё моей бабушке. Да я бы и постеснялся просить у него. Ведь все знали, что о нас Совет заботится. И всё нам бесплатно. И всего вдоволь.
Наверно, и другие ребята стыдились пожаловаться. И уходили один за другим, отсеивались.
«Не отсеивайся, Берёзкин, не отсеивайся!» Эх, Оля, знала бы ты, как это трудно. И как нелегко при всём этом быть весёлым.
Хотя я и шумный брат, а на голодный желудок да не выспавшись и шуметь не хочется.
Однако я крепился. Не жаловался. Никому. Даже Оле.
Шумный день, или букварный бунт
Постепенно, незаметно, исподволь теснили нас «кукушата», и к весне их стало чуть ли не большинство.
А жизнь вокруг шла весёлая. Советская власть бедноту в обиду не давала. Всюду были комитеты бедноты. Они помогали беднейшим землю вспахать, и семена достать, и коня приобрести, и корову завести.
Стали организовываться товарищества, коммуны.
Радостно слушать.
И вот новое радостное событие, как праздник. Появился первый букварь на мордовском языке. До этого мы учились по русскому букварю, в котором чернилами и карандашами под каждым русским словом сами вписывали мордовское.
Это получалось неважно. И книжка грязнилась, и слова путались.
А теперь вот он, перед нами, красиво напечатанный первый мордовский букварь. Держит его над седой головой, показывая всему классу, Пургасов. И сам сияет — дожил до радостного дня.
— Теперь, мои юные товарищи, мы будем учить мордовских детей вот по такому прекрасному букварю. Это первый, пробный экземпляр. Прислали его на отзыв. Давайте вместе рассмотрим и ответим, хорош ли он. А скоро наступит время, когда и в средних школах и в университетах можно будет учиться на мордовском языке! — с восторгом добавил он, передавая букварь нам с Олей, сидящим на первой парте.
И вдруг в ответ на его добрые слова злые возгласы:
— Нам не надо! Не хотим учиться на мордовском. Даёшь русский!
И громче всех Андрон. Всех горластей:
— Долой! Не желаем!
Всплеснул руками Пургасов от такого дива и слова молвить не может. Мордовский мальчик Андрон, один из тех, за которых он в кандалах ходил, добиваясь науки на родном языке, горластей всех кричит:
— Долой! Не желаем!
Зашатался старый учитель и вышел из класса под шум и топот «кукушкиных детей».
Вбежала Глафира Ефимовна:
— Опомнитесь, дети! Как можете вы протестовать против изучения родного языка?! Вы же сыны мордовского народа!
Заводилы бунта и слушать не хотят:
— Долой! Не желаем!
Директор, скрестив руки, только усмехался.
А учитель Балахнов даже поддакивал бунтовщикам. И когда понаехало к нам городское начальство, говорил:
— А может быть, устами детей глаголет истина? Здоровый инстинкт подсказывает им: зачем тратить время и силы на изучение слабого языка? Всё равно в будущем все языки сольются в один.
Секретарь горкома товарищ Пальмин сказал, что это неверно. Русский язык не враг другим, а друг.
Представители гороно пытались уговаривать ребят. Но в ответ только неслись крики «долой».
Товарищ Пальмин наконец добился тишины и спросил:
— Так что же, никто из вас не желает учиться на родном языке? Я вас спрашиваю, мордовские ребята!
Молчание.
— Вот видите, — сказал Иерихонов, — мордва не хочет учиться по-мордовски! Зачем же вы настаиваете? Это недемократично.
— Так, значит, никто? — Пальмин от волнения стал приглаживать свои седые волосы.
Я стоял, подавленный тишиной, позабыв, есть ли у меня голос. И вдруг меня подтолкнула Оля, шепнув:
— Что же ты молчишь, шумный брат?
И я словно из оков вырвался или с цепи сорвался. Выскочил на трибуну и как закричу:
— Это «кукушкины дети» затеяли бунт! Мы, бедняки, дети бедняков, хотим учиться на родном языке! Они нарочно нас отсеяли, а мордатых сюда набрали! Это неправильно! Не слушайте их!..
Меня пытались перебивать, мне тоже кричали «долой», но я кричал громче всех. И выкрикивал всё, что наболело. И про недостаток еды, и про издевательства Захвоста, и про то, что у Андрона отец кулак, а у Пряничного торговец… Унять меня было нельзя. Слишком накипело.
Я чуть не лопался от натуги, пылал в огне, а пот вытирал на своём лбу наш важный директор Иерихонов. И краснел толстый завхоз, обмахиваясь ладонью и страшно вращая выпуклыми глазами, словно хотел меня съесть.
И бунт от моего крика словно переломился, словно осел, словно у кулацких ребят я вышиб дух — они сразу притихли.
А товарищ Пальмин приободрился, на щеках его заиграли мускулы. Он хлопнул по столу ладонью, когда Толька-попович хотел что-то ещё крикнуть:
— Довольно демагогии! Всё ясно!
И закрыл собрание.
А меня обнял за плечи и сказал:
— Ну, ты молодец, не поддался «кукушатам»! На том и держись. Не будь тихим, будь шумным, за тобой вся бедняцкая сила! За тобой будущее, мой шумный брат!
Он был русский, этот могучий седой человек в кожаной куртке, и мне понравилось, что он меня, маленького, назвал и товарищем и братом.
А в особенности это понравилось Оле. Она хлопала в ладоши и повторяла:
— Шумный брат! Шумный брат! Как хорошо ты оправдал своё прозвище!
Язык Ленина
Бунтовщицкое собрание было закрыто, но шум среди учеников интерната не утихал. В классах, в коридорах, в спальнях общежития всё ещё продолжались споры — учиться ли нам или не учиться на родном языке.
Я изо всех сил спорил за то, чтобы учиться. И некоторых ребят убедил. Из тех бедняков, что удержались, не отсеялись.
Но противники мои были сильней. В особенности некоторые старшеклассники и их коновод попович Толька.
Однажды он совершенно загнал меня в угол. Я говорю:
— Родной букварь кто нам дал? Советская власть! На родном языке кто нам помог учиться? Сам товарищ Ленин. Значит, кто за Ленина, тот за родной язык!
— Вот и врёшь! — заявил Толька. — Кто за Ленина, тот за русский язык.
— Почему?
— А потому, что Ленин-то русский!
— Нет, Ленин всеобщий. Для всех наций и республик!
— Республик много, а Ленин один… И если Ленин над всеми главный — значит, и русский язык главней всех! А если ты воюешь за свой, мордовский, — значит, ты не за Ленина! У тебя национальная ограниченность!
— Да, да, он свою бабушку выше Лермонтова ставил! — крикнул Андрон.
Сбил меня и попович с толку. Загнал в тупик. Не знаю,
Всех, правда, найти не удалось, но двое мальчишек и обе девочки снова явились в интернат продолжать ученье. Как нам было радостно, когда на наших кроватях появились мягкие пушистые одеяла. Отвернёшь — а там белоснежные простыни.
Всех нас вымыли в бане. Одели в чистое бельё.
— Чего же вы раныне-то этого не сделали? — говорили учителя директору.
— Это дело завхоза, моё дело — учебный процесс, — важно отвечал Иерихонов.
А Бахилов бил себя в грудь, уверял, что он честный, даже пускал слезу:
— Да разве ж я не давал? Всё давал — разворовывали! Набрали голь перекатную, что ни дашь — украдут. Благодарите, что это сберёг.
Он просил, чтобы его оставили на прежней должности, и заявлял:
— Предупреждаю: без меня всё разворуют! Всё растащат!
Комиссия ему не поверила. Наша взяла! Каждая комната теперь взялась беречь своё имущество.
Это были будничные дни, но они нам казались праздником. Обед, сваренный из тех же круп, что и раньше, из тех же продуктов, что были, показался нам вкусней вкусного. Ни капельки сала не было украдено, ни кусочка хлеба, за этим проследила Олина мама. Она была санитарным врачом.
Под её наблюдением дежурные разливали первое и раздавали второе. Особенно нам понравилась пшённая каша, которая прежде была клёклой, невкусной. Теперь её нам готовили со шкварками из сала. Ели и пальчики облизывали. И всем показалось — вот начинается настоящая жизнь. Везде и всюду — ив кладовой и на кухне — помогали взрослым наши дежурные. Вечером мы собрались в зале, читали стихи, пели и танцевали. И каждый думал: «Нет, теперь мы не отсеемся, мы будем беречь наш интернат, будем крепко учиться!»
Откуда галчата?!
Так продолжалось несколько дней. Подкулачники, лишившись своего коновода, поповича Тольки, приутихли. Мы взяли над ними верх. Мы их даже рассадили по разным партам. Оля села с толстяком Пряничным, следила, чтобы он на уроках не чавкал, не жевал пряники. А я — со своим прежним дружком Андроном. Теперь я приучал его к дисциплине. И он ничего, подчинялся. Всё шло тихо. И вдруг…
В этот день нам с Андроном досталось дежурить на кухне. Мы помогали поварихе тёте Моте. Чистили картошку в суп. Промывали крупу. Следили, чтобы не пригорело. Словом, работали по-честному.
Андрон старался на диво, так и вился у котлов с супом и кашей. Выбегал то дровишек поднести, то воды.
Я не узнавал его: откуда и прыть бралась.
И вот наступил обед. Андрон побежал по коридорам, звоня в здоровущий звонок, который нам достался от семинарии. Его надо было держать двумя руками.
А я, надев белый колпак и чистый передник, стоял у котла. С черпаком. Столы сияли чистотой. Для каждого тарелка, ложка, вилка. Стопки хлеба вкусно пахли.
Прибежали ребята, расселись, угомонились. Все в ожидании вкусной еды. Тётя Мотя налила первые миски, потом начал работать я. Интересно это: зачерпнёшь половником — и раз в тарелку. Полная тарелка, точно, и в ней кусочек мяса. Всем одинаково. Вот подошёл со своей толстяк Пряничный. И ему точно, как всем. Теперь у нас все равны. Никто никого не обделяет, не обижает. После меня стал разливать Андрон.
А я, взяв миску, сел обедать. Проглотил несколько ложек. Вдруг Пряничный, не успев отойти от котлов, как заорёт словно зарезанный. Как грохнет тарелку об пол — куда крупа, куда картошка. Поднял над головой что-то страшное и завопил:
— В супу падаль!
И все увидели в руках у него грязно-синего галчонка.
Не успели опомниться, Андрон вытаскивает из котла ещё галчат и кричит:
— Суп с дохлятиной!
Это были те самые мёртвые галчата, которые задохнулись в трубе от дыма. Их вчера выбросили вместе с гнездом, вытащенным при чистке труб, на помойку. Как они очутились в котле?
Я не успел даже подумать, меня затошнило. Затошнило и других ребят, успевших поесть супа.
Я свалился на пол от страшной рези в животе. Меня били судороги. А Конопач танцевал надо мной и кричал:
— Он галчат насовал! Его бог наказал!
Мне было не до галчат, не до бога — мне казалось, что все внутренности мои сейчас вывернутся наружу и я умру…
Под подозрением
Несколько дней меня тошнило при виде пищи. На меня почему-то вид дохлых галчат в супе подействовал сильнее всех. Я заболел.
И всё же этот проступок приписывали мне. Ребята вспомнили, что видели меня у помойки, вблизи галчат, я даже трогал их.
Это правда. Мне жалко было птенцов, и, думая, что какой-нибудь жив, я пошевелил их, взяв в руки прутик.
Пряничный божился, что сам видел, «вот лопни мои глаза», как Берёзкин прятал галчат в тряпку. И это верно. Я хотел похоронить галчат, уж очень жалостно кричали над ними матери-галки. Завернул в какую-то тряпку и побежал за лопатой. Но, вернувшись, не нашёл несчастных. Прозвенел уже звонок. Большая перемена кончилась. Помчался в класс и забыл об этом.
Теперь мне всё припомнили.
А поскольку я не умел так клясться и божиться, как Пряничный и Андрон, все уверились в моей вине. Только Оля держала мою сторону. Когда в школу явилась её мама, вызванная директором по этому случаю, Оля говорила ей:
— Берёзкин не виноват. Он действительно шумный брат, но он честный товарищ. Никогда на других вину не сваливает! Я за него ручаюсь!
А директор ворчал:
— Вот таких хулиганов надо гнать, а не мальчиков из зажиточных семей. Те воспитаны в уважении к старшим, а у бедноты ничего святого нет!
Мою вину доказать не удалось, но всё же я был оставлен под подозрением.
«Загляните в сундучок…»
А скоро произошло новое тяжкое событие — нас обокрали! Когда все мы были на торжественном вечере в честь Первомая, у нас стащили новенькие одеяла и простыни. Были, и нет их, как ветром сдуло.
Весь праздник испорчен. Явилась милиция. Стали вызывать всех подряд в кабинет директора и допрашивать.
Вызвали и меня. И выпытывали дольше других: почему я отлучался со спектакля? Зачем выбегал из зала?
Да, отлучался, выбегал. По просьбе нашей любимой учительницы Глафиры Ефимовны принёс, чтобы повесить на сцене, бабушкино полотенце, вышитое по-мордовски её рукой. Так торопился, что даже сундучок не закрыл. Полотенце очень понравилось учительнице. Она взяла его показать для образчика, чтобы ещё такое же вышили.
— А когда ты забегал в спальню, не заметил, были или не были там на кроватях одеяла?
— Не заметил! Очень торопился.
Позвали Андрона, он тоже отлучался из зала. Конопач не стал дожидаться, когда его спросят. Сам первый буркнул, опустив глаза:
— А вы загляните в его сундучок.
Милиционеры переглянулись. Один остался в кабинете, а другой вместе с учительницей пошёл заглянуть в мой сундучок. Вернулись скоро. Милиционер держал в руках простыню, лицо учительницы было бледней простыни…
— Ну вот и улика, — сказал милиционер. — Теперь простыня обнаружена. Говори, где одеяла? Кто их у тебя из окна перенял? Кто подъезжал на тележке?
Я так и закачался, словно меня ударили чем-то тяжёлым. Мимо наших окон проезжал на тележке на станцию дядя Миша-солдат. Мы увидели друг друга, и он крикнул: «К тёте Надие на Первомай еду! Жди, Саша, возьмём тебя на каникулы!»
Милиционер взял меня за плечо:
— Ну говори, признавайся!
А что я мог сказать? Бросить подозрение на дядю? Нет, я ни на кого не ябедничал. У меня потемнело в глазах. Я закрыл веки и молчал.
Было так тихо, что я слышал, как скрипело перо по бумаге: милиционер писал протокол.
Я могу принять парад
Так я очутился в тюрьме. В самой настоящей, с решётками на окнах. Комната с каменным полом, с привинченными к нему скамейками, с узкими окошками под потолком называлась камерой предварительного заключения. Сюда меня посадили на время перед отправкой в колонию для малолетних преступников.
Вот куда я попал в день Первомая, вместо того чтобы поехать в гости к Олиным родителям.
Многие родители решили пригласить к праздничному столу детей из интерната. Всё расписали — кого к кому.
Но вместо веселья за праздничным столом я плакал, лёжа вниз лицом на холодной, голой скамье:
«Неужели все меня покинули, все забыли? Никому не нужен? Никто не выручит?»
Нет, Олины родители меня не забыли. Они утром зашли за мной в общежитие. Их встретил Бахилов. Его снова назначили на прежнюю должность. Без него будто бы стало меньше порядка. Воровство и прочие происшествия. Теперь даже те нехватки и недостачи, которые обнаружила комиссия, он сваливал на ребят. Будто это воровали те, которые удрали из интерната и не вернулись, «отсеившиеся бедняки».
Завхоз поступил снова как прохвост: с притворной улыбкой он соврал Олиным папе и маме, будто я на экскурсии, которую организовали для сирот интерната. Детей повезли прокатить по реке, затем в совхоз, где им будет угощение. Всё это было верно. Только я был совсем на другой экскурсии. И не один.
Утром в камеру ввалилась куча оборванных ребят. Шумно, весело — кто на своих двоих, кто на четвереньках, а один даже на руках.
Завидев меня, один парень, самый рваный и чумазый, взял под козырёк и отрапортовал:
— Ну, старший, принимай парад! Пополнение пришло! Давай прописывай!
— Как прописывать?
— А вот как!
Ребята по сигналу вожака стали выдирать из своей одежды узкие тряпочки, тесёмки и вить из тряпья верёвку. Вскоре она была готова, крепко свитая, тугая как палка. Вожак сунул мне в руки верёвку:
— Действуй!
Не понимая, как это можно прописать верёвкой — это же не карандаш и не перо, — я несмело взял верёвку.
— Гвардия, стройся! — грозно крикнул их атаман.
И передо мной возник строй оборванцев.
— Смирно!
Какое там! Они не могли стоять смирно. Все кривлялись, гримасничали, показывали языки. И были как чертенята, сорвавшиеся с церковной картины.
— Ну, начинай! — крикнул атаман.
Я не понял, что должен делать. Оказывается, я должен был хлестать верёвкой каждого новичка, вступившего в камеру. Я пришёл сюда раньше и должен был принять их, как старожил, «прописать». Таково тюремное правило.
Я могу стать котом
Я в тюрьме не бывал, порядков этих не знал и подчинился вожаку беспризорников, человеку в этих делах, по-видимому, очень опытному.
По очереди хлестал ребят верёвкой, стараясь сделать не больно, и спрашивал:
— Как звать?
— Гусак! — сказал один.
— Петух! — крикнул другой.
— Баранчик!
Ни у одного не оказалось человеческого имени. Вожак назывался «Вороном».
— Худо прописываешь, — обозлился он, когда я его ударил слегка, — ловчишь, надо крепче! А ну-ка, дай отпишусь, узнаешь, как надо! — И он вырвал у меня из рук верёвку. — Как зваться будешь?
— Сашей, — сказал я.
Беспризорники расхохотались.
— Дать ему взашей, чтоб не звался Сашей!
Ворон дал мне подзатыльника:
— Будешь Котом!
— Почему Котом?
— Потому что нам кот нужен, чтобы мяукал. Ну-ка попробуй, сможешь ли?
Мне не хотелось быть шутом. Я молча покачал головой.
— Чудак, для твоей же пользы! Ты что, совсем ещё глупый? По-глупому сюда влез?
Я рассказал, как меня напрасно сюда посадили.
— Вот видишь, — поучал меня Ворон, — не воровал, а попался, потому что был просто Сашкой. А станешь с нашей бражкой, будешь воровать и не попадаться.
И он объяснил, что в его шайке недаром все носят такие имена. Они промышляют по базарам и переговариваются между собой на тайном языке. Когда воришек кто заметит, когда возникает опасность, Ворон каркает, Гусак гогочет, Петух кукарекает, Баранчик издаёт жалобное блеяние. И никто не догадается. Мало ли на базаре всякой живности на возах и под возами! Очень удобно.
А главное — надо забыть своё настоящее имя, чтобы милиция не знала, кто ты такой, из какой детской колонии убежал и какие за тобой грехи водятся. Словом, по всему выходило — надо мне стать Котом.
Могу «утечь» в теплые края
Узнав, что меня хотят отправить в колонию для малолетних преступников, Ворон так и вскинулся:
— Пропадёшь там, парень!
У меня душа похолодела. Он-то, наверно, лучше меня знал, как там плохо.
— Хочешь, мы тебя выручим? Хочешь, вместо колонии махнёшь с нами в тёплые края?
Конечно, я предпочёл бы вместо колонии, которая мне представлялась вроде этой вот камеры, холодной, каменной, попасть в тёплые края. Но как это сделать?
— Попасть в тёплые края не хитро, — сказал Ворон, — зайцами проскочим. Мы ведь туда и ехали — в Крым, в пески, златые горы. Да нам Первомай помешал. Поезд чистили, и нас с крыш вагонов поснимали, чтобы добрым людям праздника не портили своим гнусным видом. Снова хотят напоить, накормить, одеть, обуть и по детским домам распределить. Ну ничего, как только праздники пройдут, мы снова сбежим. И новую одёжу прихватим… Снова на вагоны, под вагоны. И покатим всей командой на юг.
— А как же я отсюда выйду?
— Очень просто, подменкой выведем.
— Как — подменкой?
— А вот так. Вместо тебя назовётся Берёзкиным наш Баранчик. А ты назовёшься Котом и выйдешь.
— И что же ему будет?
— А ничего. Он умеет глупей барана прикидываться. Припадочного изображать. А ну-ка изобрази, Баранчик, про новые ворота!
Получив приказание командира шайки, Баранчик — кудрявый мальчик, миловидный даже при чумазом лице — вдруг страшно преобразился. Лицо исказилось. Глаза закатились, и страшно сверкали только белки. На губах выступила пена. Он грохнулся на пол, руки и ноги стали крючиться и извиваться.
От страха я закричал.
— Ну хватит, — приказал Ворон. — Вот так и все пугаются. И за доктором бегут, за лекарем. А Баранчик вскакивает и был таков. Ты за него не трусись. Он на следующей станции нас догонит.
Да волноваться за такого «артиста» смысла не было. А что же я должен делать дальше?
А я должен был стать Котом, промяукать сначала, а потом дать клятву всей шайке соблюдать её законы. Вместе воровать, вместе ответ держать. Своих не выдавать, добычу не утаивать.
За свою свободу я должен был заплатить всей жизнью. Стать вором.
— Ну, — сказал Ворон, — думай парень. Насильно не понуждаем, нам невольники не нужны. Желаешь — мяукай, будь вольным Котом, не желаешь — оставайся арестантом Сашком!
Как хочется на волю!
Железная дверь камеры со скрипом приоткрылась, и сторож просунул миску с баландой, хлеб и деревянные ложки.
Ворон, усевшись на пол с поджатыми ногами, по-татарски, поставил миску себе на колени и следил, чтобы все ели честно, поровну.
Хлеб он выдал не весь, оставив половину про запас. Наверно, на дорогу. Когда Баранчик украдкой хотел отломить ещё кусочек, получил от командира ложкой по лбу.
Вот так же и мне придётся подчиняться во всём этому злому Ворону. А что делать? Неужели без всякой вины
сидеть в тюрьме? А потом попасть в какую-то ужасную колонию.
Так сидел я, задумавшись. Шайка не обращала на меня внимания. Ни крошки хлеба, ни глотка баланды я не получил. Ведь я был для шайки чужой. Не дал клятвы. Не назвался Котом.
Вся жизнь вспоминалась мне. И желанная бабушка, совсем старая, она ещё живёт при школе и надеется увидеть меня хорошим, учёным человеком. И моя добрая тётя Надия, которая приютила меня, выучила и послала учиться дальше, чтобы стать таким же полезным народу человеком, как она.
Вспомнился дядя Миша-солдат, подаривший мне совсем новые сапоги. Как он обрадовался, увидев меня в окне интерната!
Какое же горе я им всем причиню, если сбегу с беспризорниками…
Светлое лицо Оли, казалось, заглянуло в тюремное окошко. Я поднял глаза. В стекло за решёткой что-то легонько стукнуло. Словно птица крылом. Что же это могло быть? Я привстал на лавку и вздрогнул. Прилепившись к стеклу, качался «лётчик». Кто же мог запустить его? Только Андрон да я знали, как надо нажевать кончик бумажной самокрутки, чтобы образовалась липкая жвачка, и как ловко запустить «лётчика», чтобы прилепился к потолку.
Впрочем, я научил этому ещё одного человека, от которого у меня не было тайн… Олю! Неужели? Неужели я всё-таки не брошен всеми друзьями?
Заметив, что я тянусь к стеклу, Ворон крикнул:
— А ну, помогите ему на волю взглянуть!
И мигом беспризорники построили живую лестницу. Я взобрался до самой решётки и долго смотрел на кусочек пыльной улицы внизу и кусочек неба вверху. Никого не обнаружил.
Видя моё огорчение, ребята злорадно запели самую грустную песню беспризорников: «Позабыт, позаброшен…»
Позабыт, позаброшен?
Как же так случилось, что никто за меня не вступился? Никто не обнаружил, куда я попал? Да очень просто. Глафира Ефимовна и Пургасов уехали раньше всех в совхоз, куда готовилась экскурсия наших ребят. Там они организовали предпраздничный субботник. Потом игры, танцы вместе с совхозными ребятами. Это называется «смычка».
Глафира Ефимовна запевала русские песни. Пургасов — мордовские. И радовались, что их ученики одинаково ладно поют и те и другие.
Жаль, меня там не было.
Обо мне там не беспокоились. Все были уверены, будто я блаженствовал в гостях у Оли.
А её родители хотя и были огорчены, что я почему-то уехал в совхоз, несмотря на обещание прийти к ним, но не особенно волновались: значит, в коллективе мне интересней.
Волновалась только Оля.
Не поверилось ей, будто я не сдержал слово. Не таков шумный брат! Сердцем почуяла она недоброе. И решила сама проверить, почему это и как мог я изменить данному слову.
Ничего этого я не знал, конечно. И очень переживал тюремное одиночество. Но я был уверен, что меня должны освободить. Ведь я не виноват. И всё ждал, что вот сейчас раздадутся шаги. Зазвенят железные ключи. Заскрежещут большие замки. Дверь отворится, и я выйду на волю.
Вскоре послышались шаги. Ключи зазвенели. Замки заскрежетали. Ржавые двери открылись, и дежурный — усатый, рябой человек — закашлялся, вдохнув в сырости.
— Тсс! Затаись, Кот! Спрячься за наши спины! — шепнул мне Ворон. — Сделайте ему кошкин вид! — приказал он своим подчинённым.
Кто-то, опустив руку на грязный пол, провёл пятернёй по моему лицу, размазав грязь.
— Эй вы, шатия, — прохрипел дежурный, — на выход! В баню. Обмыть, одеть вас к празднику приказано, шпана несчастная. Угощать ещё будут, как барчат… Тьфу! Все выходи, а который тут Берёзкин — останься!
— Пошли, — потянул меня Ворон, — а ты, Баранчик, останься. Вот тебе его вид! — Атаман, сорвав с меня знаменитый картуз с пупочкой, бросил его Баранчику.
Картуз ловко сел на его кудрявую голову. Притворщик поправил его одним движением и быстро изготовился сыграть подмену.
Лукаво поглядывая на меня, он чуть склонился на бочок и, сузив плечи, прищурил веки своих больших, округлых глаз. Я похолодел, видя, как он превращается в меня! Вот сейчас какой-то неизвестный парнишка станет Александром Берёзкиным… А кем же тогда буду я? Исчезну? Не буду самим собой?
«Нет-нет!» Во мне вдруг словно распрямилась какая-то пружина. Подбросила. И я очутился перед дежурным, оттолкнув Ворона.
— Я Берёзкин! Я!
— Ну и ладно, тебя ж не вызывают, чего орать-то? — удивился усач. — Шпану вон на угощенье зовут ради праздника, а тебя никто не приглашает. Вот как… Значит, хорош гусь… Ну и гогочи, тихо сиди!
Большущей ладонью он отсчитал беспризорников и, погрозив гримасничавшему Баранчику, шлёпнул его, толкнув к выходу.
Дверь заскрипела, заскрежетали замки, зазвенели ключи. Шаги смолкли.
Я остался один перед «волчком» — маленькой «гляделкой», темнеющей вверху двери.
Долго стоял я перед «волчком», боясь пошевелиться.
Всё ещё страшился, что мог уйти вместе с Вороном в какую-то лихую, дурную, ненастоящую жизнь.
Странные чувства испытывал я: и радость, что остался самим собой, и горечь, что стою в одиночестве.
Однако нет, я не один. Я это почувствовал всем существом: спиной, руками, ногами. Глаза ещё не видели, а слух уже различал присутствие в камере другого живого существа.
Осторожно, примериваясь, оно двигалось ко мне всё ближе и ближе.
По спине прошли мурашки. В страхе я попятился к двери. Из тёмного угла на меня смотрели внимательные глаза.
Присмотревшись, я различил крысу.
Видел я этих тварей немало. И в капканах, и на воле. Но такой огромной, страшной, облезлой, с хвостом, похожим на кнут, я не видывал.
Что она хочет от меня? Почему так пристально смотрит? Почему так тихо, но упорно приближается? Может быть в тюрьмах живут крысы-людоеды?
Похолодев, я не мог даже пискнуть, не то что позвать на помощь.
Я только пятился, всё отступая к двери, так же тихо, бесшумно, как крыса, невольно подражая ей.
И когда я прижался спиной к ледяной двери, крыса вдруг остановилась. И стала шарить крохи, оставшиеся от обеда беспризорников. Что они могли ей оставить? Однако оставили.
Она нашла корочку и стала не торопясь грызть её. Съев, снова уставилась на меня. Я понял: она требует и моей доли.
Поняв, я развёл руками. Нет у меня самого никакой доли в этой тюрьме — чем же я могу поделиться?
Крыса ждала долго-долго, вогнав меня в пот своим упорным взглядом. Так долго, что я несколько освоился и стал разговаривать с ней.
— Ну, честное слово, ничего нет. Забыли, понимаешь? Все меня забыли, друзья и недруги…
Вспомнилось, что крысы живут чуть ли не триста лет. Значит, много повидала она за свою жизнь. И наверное, привыкла, что люди, очутившись в неволе, разговаривают с ней. Крыса моргала понимающе.
И мне становилось всё интереснее объяснять ей, кто я таков, как здесь очутился.
Но в конце концов я, наверно, надоел ей, крыса слышала истории и похлеще. Вильнула хвостом и была такова. Исчезла в тёмной норе.
Там послышалась возня, писк, шорох. Крыса присоединилась к своей компании. Так я остался в канун праздника совсем один.
И так мне стало худо, так тоскливо, что я, никогда не плакавший, готов был разреветься вовсю…
А что дальше?
Остановил меня солнечный зайчик. Откуда ни возьмись, заиграл, заюлил на потолке. Не мог же он возникнуть вдруг, сам по себе? Солнечные зайчики рождаются от стекла, стали, воды… Но только тогда, когда они в движении, иначе зайчики не играют.
А чаще всего зайчики появляются из рук мальчишек, когда они играют чем-нибудь отражающим солнце.
У Оли была стеклянная линза, которая рождала зайчиков, да не простых, а с разноцветными переливами.
Я присмотрелся и увидел Олиного зайчика! Только из её рук, от её зажигательного стёклышка мог появиться такой пушистый, с голубоватым свечением зайчик.
Почему он так пляшет, скачет, словно смеётся, радуется? Чему радоваться? Тому, что я в горе? В тюрьме? В одиночестве?
Нет, из Олиных рук не могло появиться ничего дурного, не мог явиться на свет и такой злой зайчик.
А если он радуется чему-то хорошему? Тому, что он знает и видит, а я ещё не различаю.
Я вдруг засмеялся, запрыгал, затанцевал, подражая весёлому зайчику. Он плясал на потолке, я — на каменном тюремном полу. Он бесшумно, а я громко. Так громко, что привлёк часового. Он подошёл к «волчку» и стал разглядывать меня с удивлением.
— Ты чему радуешься, пацан? — негромко спросил он. — Ты не того, не тронулся?
Я рассмеялся громче и стал отплясывать веселей. Часовой совсем напугался и вызвал дежурного.
— Что тут? Какое ещё происшествие? — спросил недовольно усач.
— Да вот, заключённый пляшет!
— Это почему? Не положено! — заглянул в «волчок» дежурный.
— Положено! Положено! — закричал я. — В Первомай всем веселиться положено!
Растанцовывая, я и не заметил, как исчез солнечный зайчик, и плясал один в своё удовольствие.
— Может, доктора к нему позвать? — посоветовался сам с собой озадаченный дежурный.
И, словно по волшебству, появился доктор. Да, да, самый настоящий доктор — Олина мама, санитарный врач.
Она появилась после каких-то гудков, звонков, в сопровождении начальника милиции, в полной праздничной форме.
— Что тут у вас случилось?
— Да вот, заключённый шумит, пляшет!
Начальник милиции поднял густые брови. А Олина мама засмеялась:
— Так это же Берёзкин! Шумный брат! Тот самый, за которого поручился товарищ Пальмин!
— Шумбрат Берёзкин, давай на выход! — улыбнулся начальник.
Двери, словно по волшебству, раскрылись передо мной. Мне показалось, что даже без скрипа. И замки не скрежетали. И ключи не звенели. Я вышел из тёмной камеры на свет солнца, словно выплыл по воздуху, как во сне.
— Умыть бы его, — сказал начальник, — неловко такого к праздничному столу…
— Некогда, некогда, мы заждались, — сказала Олина мама. — Дома у нас умоется! — и потянула меня за собой.
— Как вы попали сюда? — удивился я, видя, что она идёт беспрепятственно мимо всех замков, дверей и сторожей.
— Санитарный врач всюду может войти, в любое место, — ответила Олина мама.
— Здорово! — позавидовал я. — А всё-таки я буду учителем!
— Конечно, — согласилась она. — А Оля — учительницей. Дал слово — держись!
И тут я увидел Олю. Она стояла на той стороне улицы, раскрыв руки, улыбаясь, и глаза её так сияли, что, наверно, из них-то и рождались солнечные зайчики. Зажигательного стёклышка в руках её не было.
— Шумбрат, Берёзкин!
— Шумбрат, Оля!
И мы пошли рука об руку. И она рассказала, как вместе с родителями подняла на ноги всё начальство, чтобы найти меня. А я рассказывал, как чуть-чуть не стал Котом. И мы уже строили планы, как будем перевоспитывать беспризорников. Мы были так счастливы, что нам хотелось добиться счастья для всех людей.
Как это сделать, мы ещё не знали. Но мы уже знали, что посвятим этому всю свою жизнь.