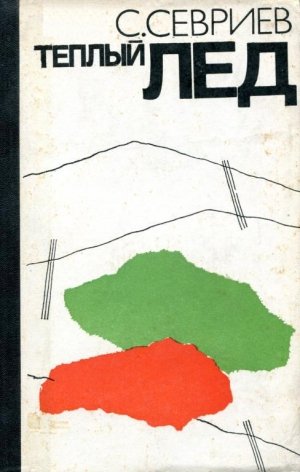
ПРЕДИСЛОВИЕ
Можно с уверенностью сказать, что советский читатель примет и полюбит Станислава Севриева — писателя, посвятившего свой редкий талант служению человеку, его нравственному и духовному обогащению.
Севриев родился в 1924 г. в небольшом городе Златограде, приютившемся в центре сказочных Родоп. Очарованный с детства красотой Родопских гор, получив в отцовском доме самое ценное богатство — способность поэтического видения мира и его воспроизведения певучим и щедрым родопским говором, писатель сохранил во всех своих произведениях верность первой и самой сильной любви. Даже в Югославии и Венгрии, куда его приводят дороги Отечественной войны, он остается выходцем и представителем Родопских гор и с их вершин смотрит на жизнь с ее противоречиями и конфликтами, видит и раскрывает мир человека с его сложными и не всегда ясными страстями и чувствами.
Еще юношей Севриев связал свою судьбу с борьбой народа за свободу и социалистическое преобразование родины. В годы Сопротивления он — партизан, после победоносной Сентябрьской революции 1944 г. — офицер народной армии. Не случайно все творчество писателя пронизано темой слияния человека и революции. Революция, утверждает Севриев, раскрывает высокие качества человека. Перед силой и красотой революции отступают низменные и мелочные человеческие желания и стремления; в случае их сопротивления она проявляет свою карающую силу во имя человека.
Севриева называют военным писателем, и для этого есть немало оснований. Многие его произведения посвящены армии. Самое главное, однако, в том, что писатель не просто рисует своих героев в погонах солдат и офицеров, не просто описывает те или иные события, связанные с партизанским движением, войной, жизнью армии. Главное в том, что он относится к будням и героике болгарской Народной армии не как сторонний наблюдатель. Он ее плоть, кровь и нервы, он ее составная, неделимая часть. Он солдат, сменивший автомат на перо, в котором видит оружие служения трудовому народу.
Все произведения Севриева автобиографичны. О чем бы он ни писал, элемент личного оказывается определяющим. Действительность во всем ее многообразии проходит через сердце и ум писателя, становясь таким образом частицей его «я». В то же время сам Севриев смотрит на все происходящее вокруг него как на частицу собственного бытия. Он считает себя ответственным за все, что делается в стране и в судьбах его героев.
Севриев — истинно болгарский писатель. Эта органическая связь с болгарским народом проявляется буквально во всем: и в темах его рассказов, и в образах крестьян, солдат, офицеров, интеллигентов, и в подходе к описываемым событиям, и в стремлении показать на фоне грубости, эгоизма, мелочности и многих других пороков и недостатков кристальную чистоту богатой души болгарина — спокойного, уверенного в себе, способного на самые нежные чувства и самые бурные волнения и переживания.
Станислав Севриев — психолог умный и тонкий. Однако психологизм писателя не самоцель. Он всегда направлен на то, чтобы проникнуть во внутренний мир человека и заставить зазвучать самые чистые и светлые струны его души. Человек в изображении Севриева — объект сложный, многоплановый, внутреннее содержание которого скрыто, как правило, за внешней оболочкой: то хитроумной, то нелепой, то неказистой, то загадочной. Писатель проникает в этот мир, поражаясь его богатством и поражая читателя глубиной своего проникновения.
Отличительной чертой творчества Севриева является юмор — легкий, ненавязчивый, искрящийся, неожиданный и всегда утверждающий. Писатель находит повод для улыбки и в ситуациях, и в характерах героев, и в их языке, манерах, привычках. Юмор присущ самой художественной ткани рассказов: как авторскому подходу к бытию и оценке его, так и отношению действующих лиц к окружающему, друг другу и себе.
Но нередко Севриев-юморист становится сатириком. И тогда ирония, столь присущая ему, уступает место сарказму, а показ невинной оплошности незадачливого героя — гротескному изображению отрицательных свойств характера отдельных людей и пороков общества.
Писатель далек от дидактизма и морализирования, но, может быть, именно благодаря этому его творчество становится такой убедительной проповедью высоких моральных устоев, благородства, мужества, честности, патриотизма и беспредельной верности коммунистическим идеалам.
На пути к творческой зрелости Станислав Севриев обращался к различным литературным жанрам: писал стихи, очерки, рассказы и новеллы, опубликовал роман-хронику «Истина одна». Но свое призвание писатель нашел в коротком рассказе. Начиная с 1957 г., когда увидел свет первый сборник его рассказов «Пачка патронов», он дарит читателю все новые и новые сборники: «Петко-воевода», «Люди повсюду», «Возвращение после бегства», «Мир стар», «Путь к своим», «…И земля перестала качаться», «Дни, которые сближают», «Когда я был офицером», «Вертится-вертится…», «Искры из искр».
В настоящий сборник вошли рассказы из двух книг С. Севриева «Когда я был офицером» и «Вертится-вертится…». При этом выбор пал на те произведения, которые воссоздают годы Сопротивления, победу социалистической революции в Болгарии, участие страны в разгроме гитлеровской Германии, становление народной армии и ее героическую миссию в наши дни.
Включенные в сборник рассказы воскрешают суровую реальность борьбы и ее исторические результаты, живо передают революционную романтику недавнего прошлого и динамичного настоящего, знакомят с целой галереей различных, непохожих друг на друга, своеобразных, незабываемых образов, которых объединяет только одно — время, когда им пришлось жить, трудиться, воевать, бороться и побеждать в схватках с противником и самими собой.
Все публикуемые рассказы злободневны и по тематике и по идейной направленности. Они отрицают капитализм с его несправедливостью, жестокостью, антигуманностью, выступают против хищнической, истребительной войны, против сил, проповедующих зло и насилие, и вместе с тем воспевают величие подвига, светлые идеалы революции и социалистическую действительность.
Севриев — редкий, оригинальный талант. Его рассказы не спутаешь с произведениями других авторов. Все у него свое, особое, севриевское: и стиль, и образность, и типажи, и язык. Однажды прочитав любой из его коротких рассказов, можешь быть уверен, что навсегда запомнить его благодаря какому-то неповторимому проникновению автора в суть вещей и души людей, которое присуще только Севриеву. И в этом непреходящее значение глубоко национального творчества писателя.
Г. А. Чернейко
ТРАВА РАСПРЯМЛЯЕТСЯ
Стоё, друг мой, я вот жив, а ты мертв! Нам тогда было по девятнадцать. Тебе и сейчас столько, ты будешь моложе меня и тогда, когда я буду старым. В парках твоего города, как и тогда, лежат опавшие листья, курортники разъехались, но их присутствие все же ощущается, а в чем — не могу объяснить. Не могу объяснить и того, почему я все думаю, что ты где-то рядом. Все мне кажется, что встречу тебя, идущего со стареньким школьным портфелем в руке, без шинели, поеживающегося от первого холода. Намерзшись за зиму, ты и летом ходил поеживаясь…
Вершина Арапчалы вновь окуталась мглой. Погода портится, а в Лыджене воздух прозрачен. Возле Велёвой бани снова клубится пар, и ученики старших классов все так же, группами, выходят из гимназии.
Даже не могу вспомнить, когда и где я встретил тебя в первый раз. Мы собрались на квартире у Иванки Янковой (Черной). Где-то в сырых горах скрывались голодные партизаны, а я играл на гитаре, и тебе от этого делалось неловко. Правда, песня моя была очень грустная, но все равно было стыдно. Наши взгляды встретились, и я в какое-то мгновение увидел, что у тебя голубые глаза — голубые, как прозрачное небо. Ты смущенно улыбнулся, словно был в чем-то виноват. Нет, ты ни в чем не виноват, Стоё, но ты был человеком тонкой души. Я отложил гитару в сторону. Тогда ты сказал — я это хорошо помню, потому что такие слова не забываются:
— Станё, давай повесим твою гитару на дикую яблоню, чтобы на ней играл ветер, потому что на свете много равнодушных и их надо растревожить.
Я понял: ты говорил о нем-то очень страшном, но улыбался. Тусклый свет электрической лампочки косо падал на тебя, отчего на твое лицо легли угловатые тени… Во сне я видел потом свою гитару: она висит на почерневшей дикой яблоне, она рыдает, — а ты стоишь около нее в уже ставшей тебе тесной фуражке и, держа руки в карманах, смотришь с удивлением. Потом ты начинаешь расти, становишься очень высоким — выше холма, на котором стоял дом нашей учительницы французского языка мадам Кантарджиевой, — и спрашиваешь:
— Люди, разве не слышите?..
Это были вещие сны, Стоё!
Однажды ты повел нас в сосновый молодняк, что рос неподалеку от гимназии, собирать коконы гусениц. За них в лесничестве платили деньги — по леву за кокон. С нами были Гошо Благов, Спас Чрын (Цанов), Иванка Черная, все очень смуглые.
Ты хлопнул себя ладонью по щеке и, подавляя смех, спросил:
— Куда же я направился с этим национальным меньшинством?..
Так, Стоё! Умные всегда обладают чувством юмора.
На заготовительный пункт пришли в сумерки. Теперь уже можно рассказать, как все было. Я не очень плотно укладывал коконы в мешок, но все равно не мог его наполнить. Ты это понял, отстал немного от других, взял мой мешок и высыпал в него свои коконы. От этой твоей доброты мне стало жаль себя. Чем-то я это выдал, потому что ты ткнул меня кулаком под ребра:
— Брось! Не уступать же девчонкам… Я, дорогой, знаю хорошие места, потому и собрал больше.
Ну какой же лгунишка ты был, Стоё!..
Мы рассмеялись, и я впервые открыл для себя, что дьявольски хорошо быть с тобою вместе.
Через несколько дней мы пошли к Николаю Хрелкову, интернированному чахоточному поэту. Гурьбой поднимались по лестнице на второй этаж и прислушивались к темноте.
Голова Хрелкова покоилась высоко на подушках. Губы его были синие, глаза запали. Мы смутились.
— Что это вы, друзья, надумали? — приподнялся на кровати Хрелков. — Ваша ученическая корзинка насытит меня на всю жизнь.
Хрелков был взволнован, потому что вряд ли был другой поэт, кому ученики в поношенных курточках приносили среди ночи, когда он чувствовал себя особенно одиноко, корзиночку с провизией. И ты был взволнован. Я это узнал по твоим губам: они были бледнее, чем обычно.
Когда мы вышли на улицу, стояла темная, сырая ночь. Ты остановился у самого обрыва, обхватил плечи руками и сказал изменившимся голосом:
— Наши товарищи в горах едят корни, поэты умирают от чахотки, а мы устроили игру с корзинкой…
И еще кое о чем мне хотелось бы напомнить тебе. Кто-то из ремсистов в нашем классе сказал, чтобы со мной были поосторожнее. Я заметил, как меня стали сторониться, и очень страдал из-за этого. Тогда я был совсем молод и еще не знал, что мы можем быть такими жестокими друг к другу…
Однажды ты пришел ко мне на квартиру и, не поздоровавшись, схватил меня своими железными, шероховатыми, как жернова, руками с короткими пальцами, до боли сжав мне плечи. Мы сопели друг другу в лицо. Ты смеялся и позволил мне повалить тебя на кровать. Я был так счастлив, что чуть не заплакал. А ты серьезно, что на тебя так было похоже, достал из внутреннего кармана куртки изрядно потрепанную листовку. Ты мне верил!.. На следующий день ты и Гошо Благов приехали за мной на извозчике и перевезли жить к Гошо.
Откуда вы знали, что для меня одиночество страшнее всего? Кто вам подсказал, что именно в эти дни мне так нужно было находиться среди своих?..
Потом меня в наручниках отвезли в участок. Когда я оттуда вернулся, то не нашел тебя. Еще до того как мне сказали об этом, я понял, что ты в отряде. В Лыджене прибыла дружина жандармов[1]. Окна школы, превращенной в казарму, светились всю ночь, а на пустынных улицах гулко отдавались шаги патрулей в касках. Люди рассказывали, что арестованные лежат прямо на цементном полу, окровавленные, а у нас от этих рассказов в ушах звучали вопли арестованных.
О том, что произошло потом, страшно даже вспоминать. Все мы смертны, но ты погиб слишком рано…
Через двадцать лет мы снова собрались вместе: Гошо Благов, Спас Цанов и я. Мы уже стали мужчинами в годах, у нас появились семьи, дети. Как далеко время, когда мы сидели за тесными партами, когда не могли уснуть от мысли, что где-то в мире кто-то страдает!
Буки стоят багряные; раскачиваются ветки верб, нависших над водой тихой Клептузы; пустой ресторан полон гулкой тишины.
Товарищ директор, дай нам бутылку вина и рюмки, только на одну больше. И стул лишний тоже поставь. Это все для друга, который никогда не будет старым. Он не придет, но ты не удивляйся. Мы еще не растеряли остатки совести, сохранили мы кое-что и от того времени, когда нам было по девятнадцать. Не так ли, Спас? Не так ли, Гошо?.. Уже начинаем кое-что забывать, но помним, как Стоё говорил на уроке истории: «История — это движение человека от рабства к свободе!..»
— Спас, ты жил на одной квартире со Стоё Калпазановым. Расскажи, как он шел от рабства к свободе. Ты ведь помнишь?
— Помню, Станё…
Как забыть такое! Можно ли забыть, как разбитый отряд собирался на Длинном холме, как восемнадцать партизан, голодных, замерзших, раскапывали снег и строили укрытие от ветра. Как забыть, что мы читали «Капитал», забывая о голоде! Слова срывались с губ и теряли смысл, потому что голод доводил нас до умопомрачения, но исхудавшие партизаны читали, подавляя в себе и отчаяние, и воспоминания об оставленных домах… Неужели действительно у них был дом, в котором на огне варилась в горшке фасоль, в котором запотевали стекла окон?! Это было так давно — что-то забытое, увиденное во сне…
Директор, дай еще бутылочку! Нам нелегко воскресить в памяти друга, увидеть его в поношенном тулупе, услышать вой ветра, который прижимает его штанины к замерзшим ногам.
Мы со Стоё слушаем завывание вьюги, считаем дни до никак не наступающей весны и казним себя воспоминаниями… Мы не пьяницы, но благодаря вину все снова становится явью: и дыхание теплой земли, и едва пробившаяся на косогорах травка, и поднимающийся над Сюткей туман, и Чепинская котловина, разнежившаяся от дуновения весеннего ветра… Из осколка зеркала, закрепленного в трещине коры на сосне, на нас смотрит синий глаз. Стоё бреется, выпятив языком щеку, которую скребет видавшее виды лезвие. После бритья его лицо становится суровым. Стоё собирается в дорогу, в дальнюю дорогу, откуда нет возврата. Он идет, он уходит все дальше, и влажный мартовский мрак скрывает его от наших глаз…
Утренний свет играет на выступах Медвежьих скал, и Стоё ощущает, как из мрачного зева пещеры его обдает холодом. И еще что-то ощущает он, но тут раздаются выстрелы. Стоё бросается бежать, и ветки кустов хлещут его по лицу.
Звуки выстрелов кажутся ему очень далекими, но в глазах вспыхивает молния, и он падает наземь. Выстрелы больше не раздаются, в тупом мраке вздрагивает и исчезает ярко-зеленая полоска света. Двое жандармов связывают ему руки.
— Спокойно! Руки вперед, мы их сейчас веревочкой… Что, учитель, больно? Терпи, терпи! Это еще что!.. Ты слыхал историю про связанного попа? Неужто не слыхал? Ее же безбожник выдумал.
Стоё идет впереди. В ушах шум, как от топота множества ног. И кустарник, и Чепинские горы, и серая даль — все качается. Он как будто в первый раз видит эту местность. Неузнаваемыми стали и Велёва баня, и крыши домов, которые делаются еще ниже, расступаются и раскрывают перед ним улицу. Он никогда не проходил по этой улице. Не знает он и людей, выглядывающих через заборы.
— Живей, живей, учитель! Такой церемониал в твою честь когда еще будет!..
Сзади кто-то добавляет, смеясь:
— Христо, ты ему скажи, что это нужно в целях пропаганды. Коммунисты страсть как любят пропаганду.
— Себя они любят! Даже когда умирают, публику им подавай. А тебя, птенец, мы без публики укокошим. Ночью. Звезды в небе да смерть — вот и вся публика будет…
Семь дней его истязают. Стоё молчит. Только, возвращаясь с допроса, поет. Поет окровавленный человек с опухшим, неузнаваемым лицом.
Может, подбодрить себя хочешь, Стоё? Или поверил в свою новую миссию и плюешь в лицо мучителям?.. Ты унижаешь их, ты знаешь, что никто не может поступать так, как ты, и доставляешь себе это единственно возможное наслаждение. Черный Колё — злодей и циник — понимает, почему смертники поют. Но в его руках власть. Он может и убивать, и насмехаться…
Наступил май, а снег все идет. Холодом веет и от скупого солнца, заглянувшего через грязное окно в тюремную камеру. Наступает мутное утро. Оно растворяется в белесой мгле дня. А после захода солнца опаловое окно начинает синеть. Тогда Черный Коле открывает ключом заржавевший замок.
— Учитель, пошевеливайся!
Ты встаешь. Тебя поведут на расстрел, Стоё! Это будет ночью, когда в небе засветятся звезды, будет точно так, как сказал жандарм: «Звезды в небе да смерть — вот и вся публика…»
— Скажи, где остальные?
Стоё дрожит от ночного холода. Хочет взять себя в руки, но не может и словно не слышит вопроса. Но тот, что стоит сзади, снова спрашивает:
— Говори, ненормальный! Тебе что, жить надоело?..
Не надоело. Кому не хочется жить?! Ветер треплет его волосы, свистит в одном ухе. Другое ухо оглохло от побоев. Сквозь завывание ветра Стоё различает, как сухо щелкает затвор. Патрон мягко входит в ствол карабина.
В ожидании выстрела Стоё забывает о холоде…
Ждет так десять ночей. Десять вопросов о местонахождении отряда — и десять раз ожидание выстрела…
Будет ли одиннадцатый раз? Пройдет ночь, наступит утро… Сквозь сон Стоё ощущает чье-то присутствие. На него смотрит Черный Колё.
— Напелся ты, учитель, пока гуляли по ночам… А теперь днем прогуляемся.
Идут лугом. Там, внизу, Метилевы сыроварни. Утренний ветер обдает холодом открытую шею Стоё. Черный Колё поправляет карабин на плече, молчание для него тягостно.
— Почему не сказал ничего, когда тебя спрашивали? Сейчас бы мне не пришлось марать о тебя руки…
Стоё замедляет шаги, останавливается.
— Давай! Пошел! Эту дорогу ты сам себе выбрал!
Стоё идет. Солнце осветило сосняк на Арапчале, а над Лыджене стелется редкий лиловый туман. И птицы поют. Никак, опять пришла весна!..
— Жизнь-то хороша, парень. Посмотри только! — показывает Черный Колё в сторону Чепинской котловины. — А ты свою жизнь на ветер пустил. Камень у вас вместо сердца, вот что я скажу!..
Стоё снова останавливается:
— Дай мне убежать, Колё. Не мне, себе доброе дело сделаешь.
— Ты, можно сказать, на службе — и ничего не выдал. А я ведь тоже на службе… — Колё что-то жует, раздумывает. Наконец спрашивает: — Когда придете к власти, чем расплатишься?
— Всем. Мы можем быть благодарными, Колё…
Стоё поворачивается и смотрит, как жандарм потирает ладонью сухое лицо. Колеблется Черный Колё.
— Меня уважают, потому что я не знаю, что такое жалость. И вам понадобятся люди, не знающие жалости, они-то и угостят меня свинцом. Ты их сможешь остановить?..
Стоё усмехается. Давно он так не усмехался.
— А ты к тому же еще и шутник! — говорит он.
— Теперь не до шуток… А если узнают? Не пристало мне, семейному человеку, идти у тебя на поводу. Лучше уж убегать вместе.
— Давай!
— Эх, молодо-зелено… Что я, совсем спятил, чтобы с тобой бежать? — Колё вновь задумался. — Знаешь что?
— Что?
— Ты беги, а я выстрелю раз-другой — вроде как убил — и вернусь.
Стоё идет вперед и в первый раз ощущает мягкую траву под ногами. И запах ее ощущает, и свое тело — легкое и какое-то невесомое…
Он вроде бы должен был услышать выстрел Черного Колё, но не услышал. Не понял он того, что произошло. Лес перед его глазами зашатался, и он ощутил на своем лице траву. Он шел по этой траве, нужно было еще идти, а она вдруг распрямилась, ударила его по лицу и навалилась давящей тяжестью.
Какие-то звуки донеслись до него издалека, потом все смолкло, и Стоё ощутил, как он тонет и исчезает в теплом мраке, у которого нет ни начала, ни конца.
…И ЗЕМЛЯ ПЕРЕСТАЛА КАЧАТЬСЯ
Никогда Родопы не бывают такими чистыми и светлыми, как в первые дни сентября!
Ветра нет. Луга желтеют, и синяя даль незаметно приближается. Мы волнуемся, нам кажется, что юг переместился к нам и от этого так много света. Горы углубились в раздумья о потерянном лете, и по вечерам уже становится прохладно. Звезды устремляются в глубины небесной бездны и на глазах делаются необыкновенно большими. Такие звезды бывают только по ночам, когда решается чья-то судьба. Оттого ли, что мы слишком долго смотрим на звезды, или оттого, что ночью под открытым небом люди сами себя обманывают и верят собственной лжи, нам они кажутся зелеными, как контрольные лампочки радиостанции, по которой майор Миллер сообщает из Караманджи в Сицилию, что оружие, которое нам обещано, все еще не прибыло.
Мы прижимаемся друг к другу спинами, чтобы согреться. От этого скудного тепла начинаем дремать, но ствол автомата стынет в ладонях, напоминая о том, что в эту ночь, именно в эту ночь спать нельзя…
Бая Митё Цацара сон не берет. Я не смотрю в его сторону, но знаю, что он разгребает сухой веткой золу. Оставшиеся угольки тлеют, вспыхивают от дуновения ветра, а он готов видеть в этом знамение небесное: огонь, великий огонь охватит пламенем почерневшие края угольков, они вспыхнут все разом, а потом превратятся в пепел, в ничто, они будут вечно пылать здесь, в непроходимых дебрях, неподалеку от источника. А утро, которое наступит, не будет похоже на те, что были прежде. Солнце оторвется от вершины Каракуласа и будет расти, и танцевать, а он, старый Цацар, крикнет партизанам:
— Орлы, вставайте! Уже рассвело!..
Именно так закричал Цацар, а солнце на самом деле было огромным и танцевало. Оно пьянило нас. Нежный кустарник около нас закачался, закачались и белая часовня святого Власа — покровителя коров, и ели вокруг часовни, и дорога, что извивалась к Кыршилам. Мы поднялись — отряд в полном составе. Одеяла, разбросанные где попало, показались нам под лучами солнца какими-то жалкими. Странджа рылся в вещмешке, искал что-то, неизвестно где потерянное, а бай Гюро, успевший напялить свою высокую шапку, растолковывал ему, что он может вообще забросить в кусты свой вещмешок, который ему больше не понадобится. Странджа сделал вид, что не слышит, и бай Гюро замолчал: ему хотелось послушать птиц, а разговор, у которого не было конца, мешал… К тому же Гюро любил недомолвки. Ему и самому нравилось додумывать недосказанное, создавать воображением то, чего никто не видел и не слышал, убеждать себя, что так оно и было на самом деле.
Все молчали, и тут кривоногий Драглё сказал, что все хорошо, что можно и страдая жить хорошо, только бы сейчас с нами был командир. А его не было — пять ночей назад раненого командира унесли на носилках. А интендант сказал Драглё, что у него в ушах все еще звучит скрип лыка, которым были связаны палки носилок.
Интендант рисовал коврики, чтобы вешать их над кроватью. Он в тюрьме научился разным премудростям, которые помогают жить припеваючи в трудные времена, и надоедал нам выдуманными рассказами о русалке. Мы слушали его и злились, потому что ждали от него хлеба, но он был эмоциональным человеком и больше любил декламировать…
Дочо, перетянутый крест-накрест пулеметными лентами, косо посмотрел на него. Он хотел сказать, что теперь не время для панихидных вздохов — командир наш что кремень, он обязательно выздоровеет. Но этих слов Дочо не сказал, потому что знал: интендант ответит, как всегда, что он, Дочо, многого не понимает, что, когда будет установлена рабоче-крестьянская республика, школьницы забросают цветами таких людей, как он, интендант, а «искусство» станут писать с большой буквы. Поэтому Дочо смолчал, только почесал плохо выбритый подбородок и сказал сам себе: «Пусть с большой…»
В этот день мы готовились спуститься в Славеино. Каждый из нас представлял себе, как бежит через площадь к зданию общины, как полицаи стреляют, но не попадают, как потом полицаев волокут по пыльной лестнице, выталкивают перед возбужденным народом и говорят:
— Вот они, ваши враги!
Родопчапе согласны с сильными и повторяют:
— Это наши враги…
Вещмешки были у нас за плечами, и мы, трое партизан, ходили в кустах, чтобы уничтожить следы ночевки отряда, а вокруг разносился сильный запах оружейной смазки, ремней и чего-то кислого. На плече Вулкана висел маузер, который поблескивал на солнце, блестели и наши глаза. Мы улыбались друг другу, не зная почему.
— Видал? — спросил меня Максим.
Я не понял, что надо было видеть, но наступал день такой теплый и ласковый, что я ответил, чтобы не огорчать его:
— Видал…
Максим был счастлив. В его родное село мы собирались спуститься в пятницу, но он, бледный, обратился тогда к отряду с такими словами:
— Мы что же, освобождать село идем или в мечеть? Ведь Славеино не турецкое село, чтобы в пятницу спускаться в него…
Мы переглянулись — кто мы здесь: партизаны или богомольцы? Пока переглядывались, Максим осмелел и стал говорить о том, что колокол церкви святого Ильи зазвонит будто для того, чтобы созвать христиан, а на самом деле ради нас. И еще о том, что мы увидим рисовые родопские поля, дышащие летним теплом, увидим празднично одетых людей. Мостовые будут чисто подметены, побеленные стены домов будут светиться под нависшими стрехами. Разве не этого мы хотим?..
— Два праздника сольются в один! Как вы, товарищи, не можете этого понять? — торжествующе посмотрел на нас Максим.
Митё Цацар, который был за командира, заколебался:
— Хитер ты, Максим! Голодных людей пирогами заманиваешь.
Так было накануне. Мы уже направлялись к чисто подметенным мостовым. Но недаром говорят: несчастье поможет замесить тесто и испечь каравай, но, когда останется попробовать его, он упадет в песок.
Цацар только раскрыл рот, чтобы подать команду «Марш», но так и не сказал ничего. Со стороны Славеино донеслись звуки выстрелов. Несколько человек размахивали винтовками, стреляли и что-то кричали. Они казались совсем крошечными посреди огромного луга, подпрыгивали, как игрушки, а мы задавали друг другу безмолвный вопрос: кто эти люди? До нас доходили слухи о жандармах. Мы решили, что это как раз они и есть, и устроили им засаду. Подпустили их шагов на двадцать, и хорошо, что подпустили, потому что это оказались наши ятаки. Они подбежали к нам запыхавшиеся, глядели на нас какими-то затуманенными от счастья глазами, хлопали себя ладонями по коленям и не знали, с чего начать. Тогда Цацар, чтобы разрядить обстановку, спросил их:
— Уж не со свадьбы ли вы?
Они хором ответили:
— Свершилось! Наше правительство…
Цацар посмотрел на нас, нижняя губа у него задрожала:
— Жаль, не получилась операция!
Людям никогда не угодить!
У меня было четыре банкнота по тысяче левов: новенькие, синенькие. Я смотрел на них так, будто в первый раз увидел. Разгладил их, и они зашуршали — какая плотная бумага! Взял и разорвал точно пополам.
— Конец деньгам, конец купонам!..
Салих, с которым мы однажды несли в отряд хлеб и мучились желанием отрезать себе по куску, не разобравшись, в чем дело, схватил меня за руку:
— С ума сошел! Да это ж сто килограммов хлеба, не меньше…
Я только засмеялся:
— Тебе этого не понять…
В Славеино надо было войти с песней, партизанской песней, но раньше нам было не до песен — говорить и то шепотом приходилось. Решили на ходу разучить какую-нибудь. Так драли глотки, что охрипли, но ничего из этого не получилось. А из села нам навстречу шла молодая девушка в безрукавке и парчовой юбке. Перед собой на уровне груди она держала поднос, с которого спускался кремового цвета рушник. На рушнике — хлеб и, наверное, соль. За ней шло все село — все разодетые, от оранжевых передников в глазах рябило. Все получилось почти так, как говорил нам Максим. А мы смотрели только на хлеб. Цацар отломил кусок от белого каравая, и мы, не спуская глаз, следили, как он подносит его ко рту. Он стал жевать, а головой отчаянно продолжал подавать нам знак, чтобы мы пели… Тут наши ятаки закричали «ура». К ним присоединились славеиновцы, а Вулкан поднял маузер — и к его ногам посыпались дымящиеся гильзы…
Вечером вместе с Салихом пошли к славеинскому попу. Неверующий и магометанин! В конце концов святому отцу пришлось выслушать продолжительную лекцию по атеизму.
На следующий день я зашел в лавку братьев Бызленковых. Хотел взять мыла и лезвий для бритья, но, к моему удивлению, люди не брали товар, а покупали его и платили за это. Я в карман — денег не было. Странджа, который был выше меня на целую голову, засмеялся:
— Ты, парень, на много лет обошел общественное развитие!..
Вышел я из лавки как пьяный. Партизаны и крестьяне смешались. С самого утра уже ликовала скрипка учителя. Потоки света обрушились на мощенные булыжником улицы.
Все становилось на свои места. Солнце по-прежнему всходило над Каракуласом, но оно уже не танцевало, и земля подо мной перестала качаться…
ВЫСТИРАННАЯ РУБАХА
Чабан Ричко смотрел, как пальцы Асена Бырдука разворачивают оторванный от мешка клочок грубой бумаги, на котором чабан огрызком химического карандаша вывел свои каракули. Ричко спрашивал в своей записке, что делать, как расплатиться за пропавшего ягненка. Но Бырдук, председатель кооператива, не ответил на его записку. Он со счетоводом Кынчо сел в газик и велел шоферу ехать к овчарням. На седловину под Дервеней он взобрался, тяжело дыша, — газик выше подняться не мог. Над мокрым от пота воротником Бырдука торчали углы платка.
— Слопали вместе с косточками!.. Отвели душу! — замотал он лысой головой, и оторванный от мешка клочок бумаги опять зашуршал между его пальцами. — Ничего не оставили…
Нижняя губа чабана Ричко отвисла. Выгоревшие на солнце ресницы заморгали. Хотел что-то сказать, да так и не вымолвил ни слова… Счетовод Кынчо отошел в сторону и остановился, низко опустив голову, но так, чтобы хоть краем глаза видеть Бырдука. Неприятная история! Просто не знаешь, куда глаза девать. А тут еще Бырдук со своим скрипучим голосом:
— Ты у меня узнаешь, где раки зимуют! Попляшешь под дудочку!.. Может, и жирок сгонишь!..
Говорил он тихо. Но эта тихая угроза отдавалась в ушах Ричко звонкой пощечиной.
— Не бери грех на душу, председатель… — еле выдавил из себя чабан.
Бырдук засмеялся:
— Тоже мне, праведник нашелся…
Он резко повернулся и пошел прочь. Ричко остался стоять на пустом склоне, раздумывая, какая муха укусила председателя… Не мог он понять этого. А Бырдук не мог понять, почему счетовод не пошел за ним…
Подул ветер. День угасал, зелень равнины потемнела. Бырдук наступил ногой на камень и наклонился будто для того, чтобы завязать шнурок дешевеньких сандалий, а сам, отдуваясь, прислушивался, не идет ли Кынчо.
Счетовод подошел сзади и остановился. Бырдук выпрямился, поднял налитое кровью лицо. Повернул ногу, проверяя, выдержит ли шнурок.
— Ты только посмотри! Такие кожи мы им даем, а они какое барахло делают для нас!..
Их взгляды встретились. Счетовод улыбнулся, потрогал пальцами уголки рта и шагнул к Бырдуку:
— Сейчас, председатель, я всего лишь Кынчо, но прежде я входил в замки в начищенных до блеска сапогах. Если бы ты был тогда в моей роте, я бы тебя дальше мулов, на которых мы пулеметы перевозили, не пускал. Попоной моей кобылы Бинки ты укрывался бы. Ах какая была кобыла!..
— Начищенные сапоги!.. Все еще умиляешься своими начищенными сапогами!
Бырдук нехотя засмеялся. Когда человек силен, он может шутить. Счетовод так и воспринял его слова — как шутку, немного злую, но все же шутку. Бырдук уколол, так пусть он этим потешится.
— И ты, когда станешь председателем в запасе, тоже будешь хвалиться прошлым, — предсказал Кынчо.
Бырдук, направившийся было вниз, остановился:
— Разбойник ты, Кынчо. И себя не жалеешь, и меня…
Они вдвоем прошли вдоль вспаханной полосы, спустились в овраг и вышли к зимнему стойбищу. На боковой стенке телеги, приставленной к овчарне, белела выстиранная рубаха. Кынчо потрогал ее двумя пальцами:
— С тех пор, как увижу белую рубашку…
Бырдук повел плечами: счетовод начинал становиться загадочным. Резкий порыв ветра всколыхнул озимь. Где-то у водохранилища закричала цапля. Вечерело. Гора Дервеня вырисовывалась на фоне неба рубцом своего горба. Кынчо присел на дубовую балку, которая догнивала у плетня. Рядом пристроился и председатель.
— Что это за рубашку ты вспоминаешь? — спросил он.
Кынчо не ответил. Он достал металлический портсигар, на крышке которого были выгравированы птицы, сложил между пальцами папиросную бумагу и взял из портсигара щепотку табаку. Колкие огоньки в его серых глазах погасли. Председатель оттопырил языком щеку, потрогал пальцем покрасневший прыщик и стал ждать, пока счетовод свернет папиросу: ладно, мол, пусть потешится.
— Было это, как сейчас, весной, — наклонился к нему Кынчо. — Май, птицы, война подходит к концу, и нам от всего этого хорошо. Противника нет, высокое начальство в городе. Солдаты топают по пыльной дороге, как на учениях. По звуку их шагов улавливаю, что колонна расстроилась, превратилась в толпу, но я не обращаю на это внимания. Пусть идут, как хотят! И мне тоже захотелось пройтись пешком. Слез с лошади, бросил поводья адъютанту и тут слышу сзади голос комиссара дружины:
— Никак, к земле потянуло, поручик Кынев?
Делаю вид, что не понял, о какой земле идет речь.
— Неужто, — говорю, — к концу войны потянет? Авось проскочу.
— Уже проскочили, — отвечает. — Сегодня Германия капитулировала!
В голове что-то зазвенело. Андрейчо, адъютант, как только услышал эту новость, бросил лошадь и давай из карабина стрелять. Поднялся гам, началась стрельба, боекомплекта как не бывало… Мы с комиссаром смеемся, что-то говорим друг другу, а что — не слышим… Стал накрапывать дождь, и стрельба прекратилась. Над дорогой поднялось желтое облако пыли, капли дождя застучали по листьям табака, как картечь.
— А вот и укрытие очень кстати! — сказал комиссар, выглянув из-под плащ-палатки.
И впрямь, вроде бы шли по чистому полю, а тут откуда ни возьмись прямо на дороге вырос кирпичный забор с металлической решеткой. Сквозь деревья виднелись колонны, а между ними — окна, окна… «Пусть только один день, но запомню, что и я был графом», — сказал я себе. Вошли с комиссаром в дом, остановились на каменной лестнице и стали глазеть по сторонам. Какие колонны, батюшки мои!.. Дубовые двери — на замке, вокруг — пустота, и вдруг мы сами себе показались маленькими-маленькими. А солдаты толкаются у железных ворот:
— Давай, комиссар! Мы тоже войдем.
— Как бы не так! — Показываю им кулак, а они смеются.
Откуда-то появилась молоденькая женщина. Застучала по каменным плитам высокими каблучками и — прямо к нам. На голове у нее белая шапочка с опущенными в стороны уголками, розовые ушки пылают огнем… Представь себе, председатель, что ты женщина и на тебя смотрит целая рота. Каково, а?..
— Надо же, женщина! — заерзал Бырдук. — Такая хоромина — и в ней всего одна женщина.
— Что я хотел еще сказать?! Ямочки на щеках ее вздрагивали, а она изо всех сил старалась показать, что спокойна. Но меня не проведешь. Смотрю, грудь подымается часто-часто. Разве такое скроешь, голубушка?..
— Солдат надо разместить на ночлег, — сказал ей комиссар.
— Да, да, — закивала головой девушка, видимо поняв, что мы ей сказали, и повела нас в пристройку. Показала, где разместить солдат, а нам — начальство ведь! — открыла дубовую дверь дворца. Сама идет впереди. И до чего же хороша, говорю я тебе! Сзади как мандолинка… Просто не знаешь, то ли на нее смотреть, то ли на люстры, то ли на оленьи рога…
— Ну и пофартило! — стукнул себя по колену Асен Бырдук.
— Ты слушай дальше! На стенах часы стучат, позванивают. Комиссар прислушался:
— Еще завод не кончился. Быстро господа драпанули.
— Такой дом без хозяев остаться не может, — сказал я, а сам отправился следом за девушкой. Она, посматривая на нас, улыбалась и вела от одной двери к другой.
— Интересно, кто она такая? — спрашиваю я комиссара.
— Служанка, наверное, — отвечает он. — Такие вот спят с господами, а когда тем небо с овчинку покажется, остаются в их палатах и ждут, кого встретить-приветить. — Он подмигивает: — Знают, кого сторожем оставить, а если что — с кем и ночь провести.
Эти слова меня будто подхлестнули. Мадьярка остановилась у двери одной из комнат. Когда я подошел к девушке, не знаю, как это вышло, рука сама собой потянулась к ней, и я прикоснулся к ее одежде. Мадьярка даже присела от неожиданности, потом вскинула голову и бросилась от нас по коридору. В полумраке мне показалось, что она не бежит, а летит.
— Графом сделался, а мужиком как был, так и остался! — рассмеялся комиссар.
Вошли мы в комнату и стали рассматривать картины на стенах. Вроде бы смотрю на произведения искусства, а что мне говорит комиссар — не слышу. За окнами стемнело. Вдали поднимался туман, потом все смешалось: и темнота, и влага, и деревья.
— Какая тоска средь бела дня! — Остановился комиссар у сводчатого окна, оперся рукой о черный шкаф и слегка толкнул его. Внутри зазвенела фарфоровая посуда. — Не знаю, доводилось ли тебе когда-нибудь быть в таком огромном доме одному…
Наша Эсти, так звали девушку, вернулась, неся серебряный подсвечник. В трех его рогах было по огоньку. Освещенное лицо девушки выплыло из темноты, картины задвигались, все завертелось и поплыло куда-то. Комиссар стал выше ростом, побледнел, его усики поникли. Вместе со светом Эсти внесла и запах съестного: наверное, шла из кухни. Меня одолевают мысли, пытаюсь прогнать тоску по женщине и бормочу:
— Только жратвы не хватает в эту графскую ночь…
Комиссар проводит рукой по чистой простыне:
— Пахнет стиркой и утюгом. Такая кровать не про нас. Не лучше ли держаться поближе к кухне?..
— Эти собаки, что на картинах, будут грызть меня всю ночь, — соглашаюсь я с начальством и пропускаю его вперед. И я, и он знаем, почему нам не усидеть в этой комнате, но разве в этом признаешься даже себе?! Прошли через двор. Под навесом курят солдаты. Только бы не стали о чем-нибудь спрашивать, а то закричу — голос задрожит, выдаст. Одно из окон в подвальном этаже светится. Поворачиваю ручку двери, чтобы открыть, — замкнуто. Нажимаю сильнее… Изнутри как будто доносятся слова, что-то падает, и тут появляется Эсти. Смотрю на нее. Она смущена, пытается улыбнуться, но у нее ничего не получается. Что-то произошло. Мы вошли в помещение. Закопченный деревянный потолок. Шкафы — совсем как в наших домах. И только я собрался сказать комиссару, что чувствую себя словно в Болгарии, как вижу его настороженный взгляд. Он показывает мне глазами на стол. А там — две ложки и две полные миски. Кто же второй? Наша хозяйка шмыгнула за чем-то в соседнюю комнату, а я — прямо к шкафу. Открыл, а там человек. В белой чистой рубашке, на лоб спускаются волосы, желтоватый военный френч с пустым рукавом. Правая рука на перевязи. Все ясно: военный человек, ранен, спрятался в шкафу. Направил на него пистолет. За спиной услышал шум разбитых тарелок — это Эсти бросилась ко мне: «Не губи…»
Асен Бырдук, который слушал, затаив дыхание, начал разгребать сандалией песок:
— А как же ты это понял?
— Да как тут не поймешь? По глазам понял, по голосу. В таких случаях все на лице написано…
— Убери пистолет! — произнес комиссар.
Я спрятал пистолет в кобуру. Незнакомец вышел из шкафа. Смотрю — офицер. Холеный, выбритый, чистенький, как жених. И к тому же красивый… «Эх, — думаю, — войне конец, а жизнь человека все еще гроша ломаного не стоит. Стоит нажать курок — и поминай как звали».
Комиссар туда же:
— Гляди не продешеви, победитель… Убить легко, а кто жизнь потом вернет?
Эсти засуетилась. Подала закуску, налила вино и все что-то лопочет, показывает на парня. Но разве ее поймешь?! А он смотрит на нас с каким-то безразличием и то ли из гордости, то ли от страха молчит, как в рот воды набрал. К еде даже не притронулся. Во всем этом было что-то обидное, как будто он говорил: «Из-за этих лопухов меня упрятали в шкаф?!» Мне все не терпится, то и дело трогаю пистолет, а комиссар знай себе посмеивается щелочками глаз и говорит:
— Это хорошо. Низкий человек о гордости заботиться не станет… Не удивляйся, поручик, что его тарелка не тронута. Аристократы не ведают, что такое голод, к тому же меру в еде знают, не то, что мы…
В ясных глазах Эсти светилась чистая радость. Как она сияла! Мне даже стало немного стыдно за себя.
Утром комиссар встал рано. Слышу, обливается водой во дворе и кричит:
— Вставай, дружище! Облаков и в помине нет. Первый мирный день полон солнца и птиц!
Он еще продолжал говорить о солнце и птицах, когда Эсти, простоволосая и обезумевшая, вбежала через железные ворота во двор. На ногах ее не было туфелек с высокими каблучками, потерялась где-то и белая шапочка. Эсти качалась, как пьяная, Эсти рыдала…
Солдаты не знали, что и думать, а графский дом от воплей Эсти словно оцепенел…
К обеду крестьяне привезли на телеге убитого офицера, а немного позже словенские партизаны провели связанными мимо дома человек двадцать в форме…
— Кто же его убил, Кынчо? — спросил Бырдук.
— Те самые, кого партизаны провели связанными. Мы его не тронули, а от своих он пулю получил… Они отстали от какой-то разбитой части, скрывались в соседнем лесу, а ночью двое из них проникли в графское имение за хлебом. Офицер пошел с ними к остальным, чтобы уговорить их сложить оружие. Когда пришел, стал рассказывать, какие болгары добрые, отзывчивые… А они смотрят на него, как убийцы. «Такие, — говорят, — продали все!» И — хлоп! — прикончили его.
Эсти упала на окровавленную телегу, плечики ее вздрагивали… Ох уж эта выстиранная рубаха и эти слезы! Казалось, чего мы только не видели, а тут сдавило горло…
— Поднимай, поручик, роту по тревоге! — кричит мне комиссар. — Еще проливается кровь, и слезы не все выплаканы!..
— А что это был за офицер? — глухо спросил Бырдук.
— Молодой офицер. Венгерский студент. Раненный, он попал в усадьбу. А когда красивая женщина раз-другой перевяжет рану такому мужчине, любви не миновать…
Замолчали. Темнота все вокруг преобразила. Снова закричала болотная цапля. Тишину разорвал сигнал газика. Бырдук поднялся.
— А при чем тут твои начищенные сапоги? — спросил он.
— Оставь сапоги в покое. Я о чабане Ричко тебе кое-что рассказал.
— О Ричко? — Бырдук сделал шаг в сторону. — Издалека подошел, Кынчо, обвел меня вокруг пальца… Ты и в отчетах начнешь меня так облапошивать?..
За разговором прошли мимо стенки от телеги, на которой белела выстиранная рубаха.
ЛЕГКИЙ ПОЛЕВОЙ АЛЛЮР
Бистра топчет копытом пырей по плацу. Почуяла меня и прядает ушами. На мне габардиновый френч такой легкий, что я его не ощущаю, и мне кажется, что сам я даже легче френча: двумя пальцами ухвачусь за отполированный изгиб луки — и уже в седле.
Бистра бьет копытом по пырею. Мой ординарец Минё держит ее под уздцы, потирая ногу. Поручик Пенев вертит нагайку из змеиной кожи с двумя вырезанными листочками на конце вокруг пальцев. Вертит нагайку и рассказывает мне, что такое шенкеля, для чего меняется аллюр, как настоящий всадник чувствует холку лошади даже под седлом. Я уже не раз слышал это, но поручик повторяет урок перед каждой выездкой, чтобы все знали, кто мастер своего дела, а кто ученик.
— Лошадь, господин капитан, как человек. Нельзя отпускать узду. Надо, чтобы и шипы, и мундштук давили на язык весом не меньше одного, а то и полутора килограммов. Не то закусит удила и понесет, да так, что…
Меня подмывает уколоть его: «Много языков, поручик, вы натерли до крови уздечками с шипами? И нас хотите научить этой премудрости?» Подмывает, но я молчу. Стоит ли таким разговором портить езду?!
Закат окрасил в багровый цвет покрытые ряской лужи Бургаздере. Легким багрянцем окрасилась чаща леса. Октябрь тихий, мягкий и светлый, как роженица. Хорошо, когда тебе двадцать лет! Сменяем аллюр: карьер — рысью, рысь — легким галопом, а затем все сначала…
Поручик Пенев расчесывает нагайкой из змеиной кожи гриву своего Вихря и рассуждает вслух:
— Если бы конь мог говорить, то сейчас он бы на мне ездил. Не успеешь взять его за узду, а он уже знает, ездок ты или пустое место…
— Оседланный не ошибается!
— Что верно, то верно! Так же, как и женщина, и армия… Они сразу же понимают, твердые шенкеля или нет, угадывают, тонка ли кишка или, наоборот, сил столько, что на медведя можешь пойти с голыми руками…
Когда это все было? И это, и вообще вся служба, что прошла в летних лагерях, на обожженных солнцем полях, на безлесых пригорках…
На вершине Тепелики начальник штаба полка проводит топографическую рекогносцировку. Папа Мартин поворачивается так, чтобы всем были видны его лампасы, и не слушает начальника. Старый служака — его хоть на чертово колесо посади, все равно точно определит ориентиры. Поэтому он не слушает и шепчет мне, что, если, как говорят, отменят лампасы, высокое начальство перестанет «смотреться». Через день-два будет праздник святого Георгия. Командир подъедет к построенному гарнизону на собственной кобыле — той самой, мышастой, с темными яблоками на груди, у которой круп осел, как зад у курицы, но никто не смеет сказать этого, хотя Папа Мартин и сам знает, что круп осел. В прошлом году парадом командовал я, нынче поручено майору Панову, а я из-за этого стою как кипятком ошпаренный.
Подпоручик Ленков — мой партизанский друг, он еще мальчик. Мы вместе ездим на фаэтоне с резиновыми шинами, вместе мучительно завидуем лиловым плащам 59-го выпуска Военного училища его величества и прикидываем, как через год-два будет выглядеть армия без молебнов, аксельбантов и глухих шпор на лаковых штиблетах. В воскресенье утром, когда колокола Стара-Загоры призывают к праздничному безделью, а обсаженные самшитом дворы манят чистотой и свежестью, мы выезжаем к подножию гор. Совсем другое дело — посмотреть на цивильную скуку с высоты жокейского седла, когда какая-нибудь Эвелина, или Мариэтта, или Даниэла, которая по вечерам ходит в оперу и видит во сне графа Альмавиву, выйдет ради тебя на балкон с узорчатыми перилами, поддерживая юбку рукой, потому что ездок, который свысока смотрит на цивильную скуку, снизу поглядывает и на балкон, где стоит Эвелина.
— Ленков, — говорю, — бери ключ от канцелярии майора Панова и иди! — Друг на то и друг, идет, не спрашивая куда. По дороге показываю ему бутылку с мутным капустным рассолом: — Так мы и позволим им оттирать нас! Если я уже командовал парадом и доказал, что могу командовать, то на каком основании меня оттирают? А не налить ли рассолу в ножны Панову, пусть он завтра на параде попробует из них саблю вынуть и покомандовать…
На площади возле оперного театра каре дружин нарисовали толстую букву «П» из касок, насаженных штыков и кожаных ремней. Сабля, которая в канцелярии дружины пылилась на венской вешалке, красуется сейчас у сапога командующего парадом. Панов двумя пальцами зажимает ноздри, пробуя голос. Показывается Папа Мартин, который перед этим топтался на одном месте на улице возле рынка, то и дело поглядывая на часы. Куриный зад кобылы по случаю парада немного приподнялся.
Майор Панов командует: «Смирно!» Какой голос! Мертвого разбудит. Подразделения вздрагивают и замирают. Граждане вытягивают шеи, боясь что-нибудь пропустить.
Майор берется за эфес сабли:
— Для встречи начальника гарнизона на кра-а-а!.. На кра-а-а!..
Всего-то и остается сказать «ул», а он не может. Подмоченные и просоленные ножны покоробились, ржавчина впилась в выступающие буквы надписи: «За царя и отечество». Командующий парадом тянет саблю и багровеет, тянет и желтеет, тянет и зеленеет, в третий раз начинает подавать команду, надеясь, что, может быть, крик придаст ему сил, но не получается ни команды, ни крика, а вместо них вырывается что-то похожее то ли на вздох, то ли на стон. Круп мышастой кобылы опускается, занимая обычное положение; цвет лампасов Папы Мартина блекнет; граждане еще больше вытягивают шеи. Не слышно призывных слов, заставляющих учащенно биться сердца: «Вперед, всегда вперед, где подвиги и слава!..» Фельдфебели из взвода музыкантов вдохнули по полкуба воздуха, маэстро поднял, призывая к вниманию, белую палочку. В ожидании начала игры у некоторых музыкантов, набравших много воздуха, глаза на лоб лезут… А меня распирает изнутри смех. Вот-вот лопну. Чтобы не выдать себя и не засмеяться, стараюсь смотреть по сторонам. И пока я так отвлекаю себя, оркестр начинает играть. Майор Панов марширует с оружием «на весу», подняв саблю вместе с ножнами. Темляк прыгает, эфес скрывает позеленевшее лицо. А что, если бы он был на коне, на своем жеребце Воине, который пугается звуков барабана? Что происходит, когда ездок, пытаясь вынуть из ножен заржавевшую саблю, забывает о лошади? Закусив удила и ничего не видя, она бросается с места в карьер, обезумев от грохота барабана…
Нет, нет! Все так и не так. Некоторые люди, когда им тяжело, зло шутят. Во время грозы молния, разрывающая темноту, освещает в нас как раз те пятна, которые нам больше всего хотелось бы спрятать от чужих глаз и забыть самим…
И я попал в такую вот грозу. Струи воды хлещут по натянутому брезенту. Вот это дождь! Льет как из ведра. И брезент отвечает жестяным дребезжанием. Дубняк, в котором замаскирован полевой пункт командования, прокисает от воды. Земля вокруг моей палатки тоже раскисла, стала, как мармелад. Стоит ступить на нее, как отпечатаются следы от сапог. В просвете между зеленью деревьев клубится серая масса: не то туман, не то муть какая-то. Где те годы, когда я еще был капитаном? Вернись они — и я снова ухватился бы за луку седла. Бистра понесла бы меня, осыпая кусты комьями грязи, вылетающими из-под копыт. А то приказал бы Минё подать гитару. Песни были веселые, одна другой веселей.
Да и какими могут быть песни молодого офицера, которого тревожит только один вопрос, до каких пор сигнал к сбору командного состава будет звучать так: «Гос-по-да»?.. За двадцать с лишним лет у меня было время задать себе и другие вопросы. След, оставленный на лбу фуражкой, уже давно сгладился. Натянутая палатка такого же защитного цвета, и гитара такая же, как и прежде, и капли дождя пощипывают ее струны, но в песне нет былого веселья…
Кто-то приказал кому-то — и моя фамилия появилась на стенке палатки, написанная тушью на картонке. Может быть, я не мог бы обмануть себя, но картонка напоминает мне, что в палатке только я, майор запаса Андонов. Мои товарищи, двадцатилетние капитаны, уже генералы. Я отдался дождю, чтобы он разбередил мои раны. А они готовят к наступлению большие контингенты войск, сложную технику. Их лица обветренны, на них здоровый румянец. Я их не спрашивал, но знаю, что засыпают они быстро и не видят никаких снов. В снах есть что-то болезненное, а они просыпаются свежими. Раньше, когда на вооружении имелись только тридцатимиллиметровые пушки, когда лошади еще были тягловой силой, мои товарищи приступили к созданию армии; меня же суета толкнула писать книги, все изменив в моей жизни. Сейчас они пригласили меня, чтобы вернуть что-нибудь из прошлого, когда мы все были вместе. А может, и для того, чтобы я что-то написал.
Это — люди широкой души. Нужны талоны в столовую для высших офицеров — пожалуйста! Парикмахерская — налево от главной аллеи. Вечером показывают «Поединок» по Куприну…
Лейтенант подает мне купоны и поднимает брезент, опущенный у входа в палатку.
— Подпоручик Ромашов, вы восхитительно молоды, — говорю я ему. — Только не садитесь в вагон первого класса международного поезда! Не верьте и двуличному поручику Назанскому. Вечером вместе пойдем в кино, и я объясню, почему ему не следует доверять. Я приехал сюда прямо из Варны, с пляжа, где все обнажено и видно, что не стоит выдумывать себе Александру Петровну и стрелять друг в друга…
Лейтенант еще не читал Куприна, он не знает, кто такой Ромашов, и краснеет. А может, решил, что я просто чудак?..
Перед палаткой стоит танк, обложенный по дерну побеленными камешками. К дубу прибит умывальник. В корыте под сточной трубой лежит ворох дубовых листьев — это для того, чтобы мыльная вода не брызгала на брюки. Армия — это дом, где все продумано до мелочей. Такой кровати, какую мне приготовили, не найти и в гостинице в Чирпане!
Сейчас эта кровать меня вытряхнет. Вернее, не кровать, а сам я выскочу на дождь, чтобы наказать себя и поплатиться чем-нибудь… Вокруг много воинских подразделений. Их не видно, но по следам танковых гусениц, по проводам, протянутым по полю, по отдаленному артиллерийскому гулу можно догадаться, что они есть. Из кустов тянутся антенны радиостанций, комариное гудение далекого самолета пронзает воздух. Воинские подразделения по горло заняты работой, поэтому им не до переживаний…
«Приезжай, может, запах ремней поможет тебе написать что-нибудь…» Ощутил запах, увидел кое-что из того, что сделали бывшие капитаны. Рассказывать им, как эшелонировать, сосредоточивать и разворачивать к бою целую армию? Рассказывать им, что нужно для того, чтобы решить поставленные перед ними боевые задачи, как готовить армию к наступательной операции, как прокормить столько людей и обеспечить боеприпасами столько стволов?!
Если бы я был абсолютным невеждой, если бы у меня не было армейской закваски, может, я и стал бы учить ученого. Военные — люди тактичные. Они будут слушать и не скажут гостю то, что в глаза говорить неудобно! Что же мне тогда остается? Только не писанина, которая и так уже всем набила оскомину: «На правом фланге залаял пулемет. Рев самолетов слился с артиллерийской канонадой. Дымовая завеса, подобно чудовищу, ползла над землей. Командир батальона весь превратился в слух…» Красиво было бы показать в грязных окопах «своего в доску» полковника, который думает, что задает солдатам непринужденный вопрос, хотя на самом деле он насквозь фальшив: «Как, братцы, побьем врага?..»
Глупости, глупости! Разве можно имитировать дамские восторги, поражаться видом чудовища, слышать в звуке прокладывающего убийственно точный шов пулемета собачий лай? Разве можно все это допускать, видя силу народа, у которого по частям отнимали то, что ему принадлежало по праву, и который за все это расплатился сполна? Фальшь начинается как раз с веселого решения быть непринужденным. Но ведь это не мой адъютант Минё, который говорил вместо «одеяло — «дияло», а вместо «артиллерия» — «алтилерия». Эти парни стоят у электронных пультов и улавливают в исполнении Лили Ивановой отклонения в четверть тона! Кого мы удивим грохотом взрывов, рикошетом пуль и серебристыми крыльями истребителей в небесной синеве? Все это храбрые усилия наших соотечественников, которые взяли на себя и наши обязанности и которых мы в короткие минуты их отдыха покровительственно поучаем: «Ты только посмотри, какая вангоговская желтизна!» или: «Этот лес напоминает мне парк Фонтенбло». Вангоговская желтизна — это болгарское поле, на котором горбятся кротиные холмики заросших травой солдатских могил; лес — это дубняк, где сегодняшние командиры дивизионов сражались как комиссары партизанских отрядов, имея по три патрона на винтовку!..
Найдите на командном пункте полковника Мурджева и внимательно прислушайтесь к его точным распоряжениям, к его уверенному голосу, когда он докладывает. Спросите, почему среди такого большого количества генералов нет ни одного полного. И если ночью, когда летчики сверхзвуковых самолетов засыпают в перерывах между двумя полетами, если знойной добруджанской ночью воображение поможет вам увидеть копье с конским хвостом[2], вы не станете с наивным восторгом констатировать, что артиллерия стреляет безошибочно, а объясните себе, почему это происходит. Я увидел этот хвост, и мои переживания во время дождя показались мне нелепыми…
Когда был тот дождь? Вчера, позавчера или в прошлом году?..
На командном пункте тихо, лишь откуда-то доносится жужжание — крутят ручку телефона. Гаубицы вдребезги разбили опорный пункт роты. Ползут бронетранспортеры, за танками бегут солдаты, издали они кажутся совсем маленькими, почти нереальными. Над ними, словно стрекозы, висят вертолеты. Полковники из состава руководства отходят наконец в сторону, чтобы перекурить; молоденький старший лейтенант песет к укрытию, где находится большое начальство, термос с кофе. Он идет по траншее наискосок, и я преграждаю ему дорогу:
— Товарищ старший лейтенант, среди такого количества полковников ваши маленькие звездочки меня просто умиляют… Нельзя ли отхлебнуть глоток кофе из генеральской чашки?
Смотрим друг на друга в упор, и я по глазам угадываю, что он думает: «Этот, должно быть, из числа тех деятелей культуры, которые отражают будни армии в печати». Обмениваемся молчаливыми взглядами, чтобы добиться полного взаимопонимания. Он поднимает кверху руку с растопыренными пальцами, что означает «будет сделано», и устремляется вперед по траншее, затем возвращается, и мы вновь говорим друг другу что-то взглядами, но теперь уже совсем непринужденно. Художник Тифчев услышал про кофе, обернулся в нашу сторону и, делая вид, что его ничто не интересует, подошел ко мне. Говорю ему, что здесь не Монмартр, приказано использовать его бороду на щетки, чтобы он потом нарисовал в клубе лагеря плакат с фабричными трубами, танком и автоматами крест-накрест.
— Ого-го! — загоготал Тифчев. — Чашку кофе прикрывать такой маскировкой! У меня такое впечатление, что я в кафе «Бамбук».
Старший лейтенант появился из-за поворота окопа с термосом в руке. Я показал ему на художника:
— Он тоже «отражает» и тоже хочет кофе. Налей ему, а после растолкуем, как рисовать картины, чтобы получалось как следует!
Офицер старается сохранить строгое выражение лица, отчего кажется, что он готов заплакать. Вот потому-то мне и взгрустнулось, когда я увидел его маленькие звездочки!.. В такие юные годы глаза ясные и чистые, глядя в них, можно разговаривать и без слов. Да и зачем, в сущности, слова, когда офицер, который стоит напротив меня, — это я сам двадцать семь лет назад…
Выезжал ли ты, старший лейтенант, когда-нибудь верхом на лошади к подножию гор? Нет… На танке такое не получится!.. А есть у тебя Эвелина, стоящая на балконе с узорчатыми перилами?.. Не понял? Эвелин сейчас зовут Татьянами и Наташами. Кофе чудесный! В «Бамбуке» кофе — пойло в сравнении с этим. В знак благодарности завтра расскажу тебе еще о воскресной прогулке на лошади к подножию гор. Только не стыдись своих лет. И меня когда-то распирало от желания стать двадцатипятилетним, а сейчас, если я захочу, не смогу вернуться к двадцати пяти… Если не веришь — спроси самого генерала.
Генерал Желев сияет от радости, и не без причины. Его батарея отстрелялась на «отлично». Счастливый человек, все еще получает отметки! Очарование, которое от него исходит и которое я никак не могу определить, в сущности, — очарование школьников. Он хочет скрыть свое волнение, обнимает меня за талию, ведет к газику, спрашивая по дороге:
— А ты помнишь Первую партизанскую роту в военном училище?
Разве такое забывается? Как забыть лагерь в Бане, поля Вердикала, над которыми колышется марево?.. В конюшнях лошади, которые возили артиллерию, задыхаются от жары. В тени груши капитан с синей ленточкой на хлопчатобумажной гимнастерке объясняет нам, что такое капонир и полукапонир. Если мы не в тени груши, значит, атакуем «цветник». «Цветник» — это кривые сосны, которые кое-кто называет лесом, хотя ни на какой лес они не похожи, а так, одна видимость, то ли сосны, то ли пинии, и они нам уже настолько надоели, что глаза на них не смотрят. А сколько сапог изорвали мы на крутых подъемах «цветника»! На затворах винтовок тает смазка и стекает вниз. И мы тоже таем, стали похожи на печеные яблоки-дички. Прокисшие от пота гимнастерки стоят на нас колом. И дышим мы тяжело, как загнанные лошади. Ждем не дождемся, когда спадет жара и солнце скроется за лохматым гребнем Люлина, когда со стороны монастыря святого Короля повеет вечерней прохладой. Прохлада опускается на жнивье, на накалившиеся за день крыши бараков. Пахнет горелой землей и травой, полынью и тиной, которой заросли лужи возле лагерных умывальников. Прыщавый артиллерист из первого барака берет в руки гитару, и его грубоватый, но сдавленный и от этого кажущийся тенором голос заполняет августовские сумерки.
Генерал, сейчас тоже август… Твой вопрос о Первой партизанской роте разволновал меня. Днем и ночью я перебираю все в уме и все-таки не могу понять, отчего мне так хорошо. Давно уже не чувствовал я себя таким уверенным, давно не было у меня так светло на душе. Может быть, вся прелесть в том, что вокруг меня одни мужчины и каждый на своем месте. Этой палатки в дубняке мне не хватало всю жизнь, и теперь я буду тосковать без нее. Скажи, почему у меня так светло на душе?
В лагере тихо. Сквозь ветви деревьев на истоптанную землю пробиваются золотые лучи солнца. Генерал смотрит на меня, думает, как ответить.
— У каждого своя дорога. Только каждый думает, что он потерял что-то, выбрав именно эту дорогу, а не другую, и страдает от этого. У нас двух дорог не может быть. Приказ — и точка! Поэтому у военных нет раздвоения личности. И это придает нам уверенность…
Со стороны штабных палаток доносятся голоса. Среди прочих выделяется голос полковника Стамболийского. Начали сворачивать лагерь. Свернут — и дубовая роща опустеет.
Завтра флот будет высаживать морской десант. Прямо на пляжи, к персикового цвета зонтам. Два танковых соединения, два страшилища развернутся для встречного боя. На командном пункте генерал Радков встанет перед микрофоном:
— Через минуту в бой вступают огнеметы!
Я, майор запаса Андонов, остался с попоной моей преданной и умной кобылы Бистры. А то, что производит на меня впечатление, — это только легкий аллюр по поверхности видимого. По поверхности…
КАКАЯ ОСЕНЬ!
Непаханая стерня светится на солнце. И пожелтевший дубовый подлесок, от которого начинается гора, тоже светится. Поезд скрипит и качается. В вагоне третьего класса все качается и скрипит. Позади состава рельсы двойной дугой впиваются в щебеночное полотно. Ветер относит черный дым, его тень ползет над стерней.
В тесный коридор вагона крестьяне протискиваются бочком, озираются, ища места. Втягивают животы, чтобы не касаться меня, швы их антерий[3] скребут деревянную обшивку купе и трещат. Антерии все в фиолетовых и черных полосах, с бесчисленными пуговицами спереди. Грубая обувь, наполовину прикрытая краями потурей[4], цепляется за изодранный линолеум. В лицо ударяет запах чеснока, торчащие прутья корзин обдирают мне колени.
— Извиняй, господин подпоручик…
В небритых лицах резко выступают обгоревшие скулы. В глубоких глазницах прячутся хитроватые глазки.
Осенью поезда на южных направлениях всегда переполнены военными и крестьянами. Их очень много. Каждый дом проводил солдата или срочной службы или запаса, вот они и отправляются с полными корзинами в путь, а потом осаждают ворота казарм в Любимце или Крумовграде.
Крестьянин не поедет в дорогу один. Поезд отрывает крестьянина от земли, мчит его, качая. Вагонные окна нарезают опустевшие поля кусками.
Куски переворачиваются, остаются позади, и земля вдруг кажется крестьянину чужой. Поэтому в поезде его всегда охватывает страх — как бы не потеряться! Он ищет себе место в переполненных купе, озирается, согнувшись под тяжестью корзин, держа их в тесном коридоре вагона впереди себя.
Поезд скрипит и качается. В вагоне третьего класса все качается и скрипит. Рельсы стонут, впивают двойную дугу в полотно, и запах чеснока бьет мне в лицо.
— Извиняй, господин подпоручик…
Наши взгляды встречаются и разбегаются. Подобие улыбки растягивает синеватые губы; улыбка теряется в трудном вздохе, ее вспугивает треск захлопнутой двери.
Учитель с безбородым лицом держит на коленях рулон с портретами. Глаза его в желтых крапинках. Такую желтизну я видел на пальто из выдры. Галстук его перекручен и сбился набок. Учитель поправляет его движением нижней челюсти, издавая при этом своими редкими зубами костяной стук. Потом начинает разворачивать портреты. Разворачивает медленно, чтобы подогреть наше любопытство. Из изгиба рулона показывается глянцевое ухо. Потом — черные усы. Под усами висит трубка, губы таят улыбку или что-то похожее на нее, потому что игривая складка может быть и от трубки.
— Сталин!
Крестьянин издалека вытягивает шею:
— Вот наконец увидим этого человека…
Учитель улыбается:
— Смотри на него, да получше!..
В голосе учителя звучит скрытый смысл. Крестьянин протягивает свою крепкую короткопалую руку — надо же пощупать.
— И я себе такой куплю… Где ты его взял, приятель?
Учитель пространно поясняет, что за этими портретами он ездил в Софию, и снова движением нижней челюсти поправляет галстук.
— Далековато… — причмокивает крестьянин и подтаскивает свою корзину поближе к ногам.
Паровоз свистит, стук колес становится реже, и вагоны бьются друг в друга. По перрону станции Раковски торопливо бежит гражданский с автоматом на плече. Одной рукой он придерживает ремень автомата, другой машет кому-то и кричит:
— Арестантское купе в этой стороне!..
Тот, кому он кричит, тоже с автоматом. Его солдатская фуражка сползла на затылок. Рядом с ним обвисли плечи мужчины с заросшим красноватой щетиной лицом. Одни выходят из вагонов, другие садятся. Каждый знает, куда держит путь, и на лицах написано ожидание. На лице обросшего не написано ничего. Руки его опущены спереди, и под смятыми рукавами пиджака сверкает никелированный металл. Наручники!..
Учитель сворачивает рулон. Желтинки в его глазах светят лучиками. Крестьянин чешет пальцем белесую бровь и говорит:
— Раз есть в Софии, привезут и в Хасково.
Учитель начинает ему что-то объяснять, но я не успеваю дослушать, потому что через толчею в коридоре проталкивается Борё. Я увидел его еще в конце вагона и с затаенным нетерпением жду, когда он от неожиданности раскроет рот. Он прокладывает себе дорогу плечом и заглядывает в купе. Чья-то шапка, потом шаль закрывают его лицо. Русый вихор качается над головой. Когда он заглядывает в купе, острый профиль его носа с горбинкой очерчивается на полированной фанерной стенке вагона. Борё только недавно вышел из тюрьмы. Исхудал. Загораживаю ему дорогу, он открывает рот:
— Ха!..
Борё стоит передо мной с распростертыми руками. Глаза его покраснели от недосыпания. А может, воспалились от чего-то. Губы его бледны. Улыбка заклеила их над зубами как замок-«молния». Синий шевиотовый пиджак на его плечах как чужой. Подарил кто-то из родственников. Родственники щедры, когда двоюродный брат выходит из тюрьмы, облеченный властью. Борё еще не отдает себе отчета в том, что он представитель власти, поэтому и позволил себе принять пиджак. Но обязательно вскоре осознает все. Тогда невинное благодеяние приобретет значение.
Мы — друзья, нас связывают пережитые вместе опасности, но почему-то мы осторожничаем. Расспрашиваем о том о сем, и в нашем разговоре проскальзывают нужные слова, места и имена, и нам становится ясно, кто и как дождался неотвратимого сентября, где и кем был. Борё восторгается:
— Молодежная работа — благородное дело!..
На языке у меня вертится: «Благородное и голодное». Но я не говорю ему этого.
Я — подпоручик и хочу, но не могу скрыть своего превосходства. Подпоручик — это почище подаренного шевиотового пиджака! Что-то теплое разлилось во мне, и я понимаю, что поджидал друга для того, чтобы насладиться самим собой…
Борё — ремсистский[5] секретарь в пыльной канцелярии с портретом вроде того, который учитель с желтинками в глазах везет свернутым в трубку. Там толкаются ученики с ломающимися голосами, пишут белой гуашью лозунги на красных полотнищах, потом отправляются вслед за Борё на демонстрацию. А я принимаю рапорты перед выстроенной дружиной, опьяненный казарменным запахом солдатской амуниции. Семьсот винтовок, взятых «на караул», семьсот плоских штыков, семьсот пар глаз, следящих за мной. Борё же под подаренным пиджаком спрятал браунинг.
Мы направляемся в Хасково. Оба говорим о пустяках. Крестьяне рядом с нами перестали существовать, и рельсы под вагоном больше не взвизгивают.
На вокзале в Хасково в дверях вагона нас подхватывает и выталкивает теплая волна, на перроне мы чувствуем облегчение. Смотрим друг на друга, как будто надо принимать какое-то решение, а решать нам нечего. Под навесом вокзальной крыши висит флаг со звездой, железнодорожные чиновники с красными ленточками на куртках снуют взад-вперед.
Сиденье фаэтона скрипит под замызганной накидкой. Мы усаживаемся, и Борё вздыхает с облегчением:
— Прибыли!
Сквозь цоканье копыт о мостовую слышится тарахтение мотоцикла. Между дощатой оградой и глухой стеной дома с карнизом мелькают желтые лодочки венских качелей. На лодочках пестреют нарисованные тюльпаны…
Арестантское купе — одни мужчины с автоматами, другие с наручниками на запястьях, — портреты, свернутые в трубочку, друг в пиджаке с чужого плеча, который станет представителем власти, и… венские качели!
Борё ерзает на сиденье:
— Ярмарка, брат! Ярмарки устраиваются осенью…
Нога опускается на прогнившую ступеньку, и фаэтон накреняется. Ступеньки — виноградные листья, отлитые из металла. В отверстиях между листьями сереет мостовая. Кучер принимает банкнот, кланяется нам с козел, сняв кожаную фуражку. Свистит кнут — и фаэтон летит дальше…
Ярмарка напомнила нам что-то забытое, вот поманила, и мы сошли с фаэтона, даже не уговариваясь. Каменный солдат-памятник с винтовкой у ноги по-прежнему смотрит на юг, а под ним лоточник в танкистском шлеме держит в руках круглые зеркальца. Вены у него на шее вздуваются, осипший голос старается перекричать шум:
— Сюда, сюда-а!.. Все вы красивые, но нет у вас зеркал посмотреться-а-а!..
Перед гостиницей «Родопы» барышник в нагольной шубе поймал коня за нижнюю губу и пересчитывает его зубы. Взлетают венские качели, и ученицы с веселым писком размахивают беретами возле тюльпанов. Горы капусты и перца. Раздобревшие после родов женщины волокут мешки с зеленью. От непрерывного хождения с тяжестью ноги их опухли. Гремят двуколки, перегруженные железными печками и трубами. Крестьянин из Козлеца торгуется за медный противень. Ребенок канючит купить ему сахарного петушка…
Мир живет заботами о противнях, сахарных петушках и солениях! Я вижу это во взгляде Борё, он — в моем, и вдруг мы оба понимаем, что нам здесь не место. Хочется мне, хочется и Борё убежать от человека, так красиво нами выдуманного. Этот человек пересчитывает зубы тощему коню, прикидывает, хватит ли ему денег на две трубы или на маринованные кабачки для закуски, а мы выписываем гуашью на красном полотнище сказку о его будущем…
Шаги звоном отдаются в наших ушах. Запахло типографской краской. Ритмичная вибрация плоскопечатной машины подсказывает нам, что проходим мимо редакции новой газеты. Из партийного комитета выходят двое военных без погон — юные, как мы, в поскрипывающих ремнях. Они останавливаются на тротуаре, и один из них предупредительно грозит указательным пальцем:
— Перед христианщиной не капитулируем!
Спутник соглашается с ним кивком головы. Один из юношей в шелковой куртке кричит в сторону швейной мастерской на противоположной стороне:
— Динка, мои галифе сошьешь внизу с пуговицами, а не со шнурками…
Вскоре мы очутились на Ямаге.
Грохот двуколок утих, и львенок в кокарде на моей фуражке посвистывает от ветра. Трава выгорела, кое-где синеют цветы осеннего безвременника. Пахнет сухой, прогретой землей. Скоро начнутся дожди, земля раскиснет. Молодой дубняк начал редеть, и облака мошкары, крылья которой светятся на солнце, носятся над ним. Рядом с нами гумно, и под ногами шуршит обмолоченная солома. На равнине блестит то ли река, то ли болото, внизу под нами краснеет здание пожарной команды, а дальше, между яблонь и груш, лепятся потемневшие черепичные крыши. Там где-то ярмарка. Ярмарки устраиваются осенью…
Борё садится на голую землю. Опираясь на руку, сажусь и я. К ладони липнут былинки сухой травы и песчинки.
А над нами распростерлось небо. Немного посеревшее, но такое чудесное небо!
Борё шумно втянул через ноздри воздух и притих. Потом вздохнул еще раз и обронил, в чем-то себя убеждая:
— Какая осень!
Я смотрю в другую сторону и тоже убеждаю себя в чем-то:
— Верно, какая осень!..
СЕНТЯБРЬ, СЕНТЯБРЬ!
В ушах моих до сих пор еще звучит писк пограничной телефонной линии…
Служба моя в армии началась с этого надрывного писка. Голос доносился как с того света — далекий, со слабыми, жестяными, едва уловимыми словами. Не голос, а какое-то подобие его. Капитан Терзиев сообщал мне из штаба 10-й Родопской дивизии, что я назначен комиссаром дружины 44-го пехотного полка.
В голове у меня зашумело. Проклятое тщеславие!..
Рос я на южной границе, где в городах очень много военных. Знаю поэтому, что такое парад в Юрьев день, как звенят шпоры после команды: «Господа офицеры, к анало-ою!» Весенними вечерами поручики закутывались в лиловые накидки; на садовых подмостках офицерских казино играли гарнизонные оркестры; фельдфебели со сверкающими на рукавах нашивками переворачивали валторны, пальцы их танцевали на клапанах, из мундштуков текла мутная вода; капитанши с белыми пуделями, перевязанными ленточками вокруг шеи, грациозно, двумя пальчиками, поддерживали свои подолы. Мне все еще слышится телеграфный перестук их каблучков по тротуару. Среди провинциального целомудрия Кырджали, Крумовграда и Смоляна военные жили в каком-то своем мире, немного недоступном, немного странном, немного придуманном ими самими. Вымысел не казался бы таким привлекательным, если бы изнутри его не просвечивало восточное минаретное созерцание Султанери, если бы на базарах по пятницам не было лотков с циновками, вьючными седлами и остроносыми емениями[6]. Во время вечерних молений муэдзины льют с минаретов молитвенные переливы «аллах ик-бер»; капитанши, как только где появится мужчина, выворачивают его голову вслед за собой.
И я буду жить среди тех, кто в сумерках запахивается лиловой накидкой и чьи шпоры звенят. Но пока на моем бедре еще висит тяжелый маузер в деревянной кобуре. Не хочется мне расставаться и с патронташем, в гнезда которого я сам натолкал автоматные патроны. Я сам сплел этот патронташ из парашютных строп, вешал его на еловую жердь, чтобы полюбоваться со стороны… Как можно расстаться со всем этим? Сейчас я военный комендант целой околии. Подумать только! Человек, у которого чрезвычайные полномочия, одно слово которого — закон. Бруно, секретарь областного комитета, вывел меня во двор бывшей гимназии, чтобы получше разглядеть меня на солнце, осмотрел через толстые стекла очков, сказал, что гожусь в коменданты, и я сел за дубовый стол.
Кабинет у меня большой, с венской вешалкой. На вешалке — мой маузер с портупеей. Два шестигранных столба подпирают дощатый потолок. Столбы окрашены в три цвета по спирали и очень красивы. На столе у меня звонок, такие обычно стоят перед судьями, когда рассматриваются гражданские дела! Его никелированная поверхность исклевана ржавой сыпью. Когда я звоню, в дверях вырастает один из новых милиционеров. На нем полицейские галифе для солидности, пиджак домотканого сукна подпоясан черным ремнем, вальтер тяжел, и ремень обвис на одну сторону. Милиционер постигает азы службы; от попытки стать «смирно» его тянет в сторону, он вот-вот упадет. Я чувствую, что краснею, мне нет и двадцати, а он человек пожилой и от излишнего усердия может упасть на пропитанные мастикой доски и осрамиться.
Арестованные лежат на голых тюфяках в столовой, превращенной в арестантскую. Они потребовали свидания со мной, высказав желание говорить только с интеллигентным человеком. Милиционеры осклабились:
— А мы что, не интеллигентные, мать вашу? Такие вы культурные, а не поняли, что вам ваши зады начали шептать, когда перешли с перин на голую солому!..
Мне приятно, и я смеюсь.
Что-то похожее на смех щекочет меня и изнутри. Нет особенных причин, а щекотка меня разбирает. Легко мне, ладно, и я впервые чувствую, что живу.
Не прошло и недели, как вошел я в свой родной город с четой[7]. Встретили меня на окраине города, у Чумного ореха. Когда-то, во время большой чумы, собрали люди с каждого двора по горсти очеса шерсти. Спряли очес, соткали полотнище, сшили рубаху, повесили ее на орех, и чума убежала…
Большое красное знамя заслонило Чумной орех. Стоя подле него, мама поднимала моего младшего брата, чтобы он увидел меня. Глаза ее были полны слез, но смеялись…
Сверстники уходят в армию, складывают в деревянные чемоданы полотенца и портянки. А я на реквизированном у агронома «веломото» пугаю кур. Я составляю списки конфискованного имущества, мучаюсь в попытках интеллигентно проводить допросы арестованных. Должен и я уйти в армию рядовым, но не хочется мне, ой как не хочется! Как это я вдруг сниму хромовые сапоги, сработанные мне в армейской сапожной мастерской по мерке; как переживу расставание с офицерской курткой! Сапоги скрипят, но я ступаю так, чтобы они скрипели еще сильнее. Сапожники, чтобы подошва откисла в желтках и скрипела, требуют у глупцов по три десятка яиц. Мои сапоги скрипят и без яиц. И куртка моя хороша: репсовое сукно, оливково-зеленый суконный воротник с петлицами, погоны кандидата в офицеры. Да, была и одна звездочка!
Приближается день, когда я должен встать из-за комендантского стола. Я потерял сон, пробуждаюсь беспричинно и не могу уловить, что меня будит. Но вот телефон с облупившимся государственным гербом вздрагивает. Сквозь попискивание улавливаю потусторонний голос капитана Терзиева. Это самый чудесный голос из всех, какие я когда-либо слышал.
Листья на грушах уже краснеют, голые яры в округе посветлели, светятся и белые дома Златограда…
Городской фельдшер бай Лазар приглашает меня на кофе. Я стал человеком, которого зовут на кофе! Сидим под акацией. Кофе нам приносят на начищенном до блеска латунном подносе. Стаканы, в которых подана холодная вода, запотели. Бай Лазар узнал, что меня производят в офицеры, и радуется. Я допиваю кофе, а он меня наставляет:
— Теперь ты должен найти себе красивую жену!
Мне становится смешно: я и женщина! Но человек искрение тревожится обо мне, он убежден, что офицер без красивой жены — ничто. А я вижу себя в недалеком будущем не с супругой, а с подругой — одной из тех, которые в военные годы демонстрировали свои убеждения с помощью туристских ботинок и шерстяных свитеров.
Шоссе разбито, и грузовик сильно подбрасывает. Прошел дождь, сверкают лужи. Буковые леса Гюмюрджийского Карлыка превратились в синеватое пятно. Помутневшее небо над его неровным краем прорезано белой полоской. Окрестные села, разбросанные по голым южным склонам, и те же самые и не те. Или что-то случилось с моими глазами? Я пытаюсь собрать холмистый пейзаж Султанери воедино, втиснуть его в знакомые мне прежде очертания и не могу. Шофер Сандо строит разговор так, чтобы чаще можно было сказать мне «господин комендант». У меня от неловкости перехватывает горло, но этот добрый человек хочет доставить мне удовольствие и не замечает, что во рту у меня пересохло.
В Момчилграде пересаживаюсь на другой грузовик. Уселся в кабину рядом с отцветшей дамой. Помада на ее губах словно побита молью. Объеденные места обнажают блеклость увядших губ. Дама ерзает на сиденье, тревожится за какую-то торбу: лежит ли та в кузове вместе с чемоданом или она ее забыла. Если бы дама была не осенней поры, ерзал бы и я, гадая, какое ее движение на что мне намекает. А сейчас я сижу и прислушиваюсь, не примется ли она в самом деле за намеки, тем более что я не знаю, как делать непонимающий вид.
По разрисованному ямками шоссе пробегают зайцы и скрываются в можжевельнике. Гора и здесь оголена, сквозь заросли сливы белеют турецкие дома. Сумерки делают их то близкими, то далекими.
Фары ощупывают в первую очередь закамуфлированные стены казармы, сзади остается часовой в каске, с насаженным на винтовку плоским штыком; мелькнул какой-то балкончик с изогнутыми прутьями.
Вот мы и в Крумовграде!
Пустая площадь кажется мне слишком большой для города размером с варежку. То здесь, то там светят тускло мерцающие электрические лампочки. Вокруг них дрожат фиолетовые круги — в воздухе влажно. В глубине площади чернеет ореховое дерево. Во мраке минарет кажется очень высоким. На белом фасаде Дома культуры светится цепочка окон.
Я в чужом краю и чувствую себя совсем одиноким. Шофер отправляется на поиски кого-нибудь из военных, дама с наполовину съеденной помадой нашла наконец свою торбу и ворчит:
— Из-за этих войн в магазинах хоть шаром покати, негде сумку купить человеку! Обрывай теперь себе руки мешками…
Смотрю, как чемодан кривит ее на одну сторону, торба — на другую. Городские ноги — как обручи на рассохшейся бочке. Трясусь от смеха; поцелуй, мадам, торбу, иначе ты, чтобы прокормиться, слизала бы и остаток помады.
Высокий подпоручик трясет мою руку, желая, видимо, убедить меня тем самым, что он свой. Ведет меня к Дому культуры — там расположились на постой комиссары. Мой сопровождающий беспрестанно говорит и смеется, хотя не сказал ничего смешного. Казарменная труба, вспарывая мрак за мечетью, дробит «вечернюю поверку».
Здание пахнет льняным маслом и свежей штукатуркой. На неосвещенной лестнице под нашими ногами шуршит древесная стружка. Подпоручик слегка поддерживает меня под руку — не споткнулся бы обо что-нибудь. Смех его гулко звучит между голыми стенами темного коридора, и подпоручик как будто наслаждается тем, что слышит свой усиливаемый эхом голос.
Несколько мужчин, сидящих вокруг ненакрытого стола, поворачивают голову к двери. Подпоручик отдает им честь, сообщает, кого привел, и снова козыряет. Дружное «О-о-о…» обдает мне лицо. Расталкиваются стулья, мне наперебой подаются руки.
— Так это ты? Ну, добро пожаловать!..
Передо мной стоит молодой военный с пухлыми губами и стесанными спереди зубами. Прикидываю: из Бургаса он или из Бани, Разложского края или Лыджене? А он, оказывается, из Батака. Смотрит на меня, улыбается, говорит:
— Вместе будем учиться ходить в сапогах и командовать…
И тот, что сказал мне «Ну, добро пожаловать!», тоже молод, но с белой прядью волос. Глаза у него серо-голубые, из тех, что проникают в душу человека. На щеке возле губ заросший ножевой шрам.
Третий как будто собирается что-то сказать, но ничего не говорит. Веки его прикрытых глаз мелко дрожат, приподнимает он их с усилием после того, как что-то промолвит.
Это моя первая встреча с комиссарами Стефаном Василевым, Мантой и Петром Загорлиевым, на смену которому я прибыл. Остальные — это начальник милиции Мамирев, пропеченный, как хлебная горбушка, маленький и, может, из-за этого колючий, и девушка — секретарь местной организации рабочего союза молодежи, с носиком, похожим на шильце. От волнения девушка непрестанно сует два пальца за воротник своего шерстяного свитера.
Собрались для чего-то важного, потому что мне велят только слушать. Постепенно понимаю, что произошло. Оказывается, поступило сообщение, что в городе прячутся нелегальные. А много ли нам надо? Вот как раз и случай вернуть хоть что-нибудь от былых тревог!
Обсуждают, как блокировать сегодняшней ночью город, как его прочесать. Оцепление и обыск города, даже такого маленького, как Крумовград, нельзя произвести без военных. В воинской части, однако, есть командир, но командир ни в коем случае не должен знать об операции!
Слушаю, как мои коллеги нанизывают хитрость на хитрость, чтобы все вышло убедительно и невинно в глазах командира полка. У меня появляется желание вступить в разговор, самому предложить что-то. Мы все в таком возрасте, когда человек много знает и когда самые запутанные дела выглядят просто, как стакан на подносе. Но комиссар улыбается мне стеснительно; Манта не обращает на меня внимания; Петр Загорлиев моргает, готовясь возразить, но не возражает; начальник милиции поднимает ладонь, говоря своим видом: «Потерпи маленько!»; девушка-секретарь нервно притоптывает туристскими ботинками.
Из гордости не выдаю, какие чувства меня обуревают, и рассматриваю комнату Василева. Прекрасное жилище: с фаянсовой раковиной, мягкой кроватью и ковриками. Есть даже настольная лампа. И я буду жить в такой же комнате рядом. Василев приказывает подпоручику, который привел меня, взять ключ у завхоза. Он уже привык распоряжаться, и мне кажется, что это не так уж и трудно.
Приближается полночь. Город мрачен и пуст. Где-то щебечет поврежденная чешма[8]. Идем будить Парапана. Парапан — владелец паровой электростанции, которая с сумерками начинает глухо бухать у могильного кургана Саид-бабы. Котел погашен. Он гасит его в десять часов — нет угля. Мы разбудили Парапана, и он отправляется разжигать котел. Идет без верхней одежды, будто мы его ведем на расстрел. Руки его не слушаются, и он бормочет о каком-то фибровом уплотнении. Уплотнение уж давно плакало о замене, но фибры нет: Болгарию всю вывезли за границу, с воском, вощиной и фиброй.
В полночь стучимся в домик командира полка. Полковник Шопов высовывается в окно в пижаме и сонно спрашивает, что случилось. Однако он все-таки в состоянии сообразить, что пижама унижает командирское достоинство, и запахивается в шинель, которую наскоро набросил себе на плечи. Его стриженая голова отчетливо вырисовывается в темной рамке окна.
Василев объясняет ему, для чего его разбудили, и тот окончательно просыпается. Просыпается и свирепеет:
— А я для чего здесь? Для чего меня будите, если не доверяете мне?
Василев говорит, что утром все объяснит ему, но я чувствую, что он и сам толком не знает, что будет объяснять.
Полковник одевается и выходит угрюмый. Вокруг нас остекленевшее небо, мрак и каменные ограды, вдоль которых мы идем молча, потому что сказать нам нечего. Все уже переговорено, а командир полка только слышит теперь глухое хмыканье. Часовой перед штабом отдает честь оружием, пытаясь хлопком ладони вдребезги разбить ложу австрийской винтовки. Слушай, мальчик, в такое время не до фасона! Даже если в щепки разнесешь ложу, кто тебя похвалит? Мысли полкового в другом месте, полковой пережевывает невысказанные слова и продолжает идти дальше, будто оглох.
Полковник поднимает по тревоге роту, челюсть его непослушна, но он объясняет унтер-офицерам, как перекрыть выезды из города, где расставить патрули. Солдаты с топотом направляются к городу; командир проявил усердие, и поэтому завтра нам будет неловко перед ним; пожилой человек, а мы его заставили впасть в воодушевленное недомыслие!
Обыск начался. Люди вскакивают, напуганные настойчивым стуком, шепчутся за закрытыми дверьми: открывать или не открывать? Смотрят на нас непонимающими глазами, кто в пижаме, кто в нижнем белье. Согретые в постели женщины натягивают себе на грудь ватные одеяла — хватайся за голову и убегай. Так в одном месте, так в другом, постепенно привыкаем… На нас производит большое впечатление, что у каждого офицера по нескольку пар нетронутых сапог. Манта подшучивает над поручиком по прозвищу Белый Конь:
— С этими сапогами небось стал благодетелем для всей своей родни.
Глаза поручика выражают удивление нашему образу мыслей, он пожимает плечами:
— Через год-два и у вас будет в избытке…
Ищем нелегальных, а глаза наши широко раскрываются при виде отрезов в гардеробах зажиточных граждан. Кое-где в прикроватных тумбочках офицерских квартир находим элегантные пистолеты — скорее украшение, чем оружие. У нас склады вооружения, а мы заглядываемся на игрушки!
Никаких нелегальных! Кому нужно идти искать можжевельник для постели или сидеть в кустах до будущей весны, чтобы поесть щавеля! У кого есть причина — у того пересыхает во рту, когда сидит он у печки и прислушивается. Только бы не пронюхали о нем, только бы, бог дал, пронесло!..
Рассветает. Отправляемся спать, но не потому, что хочется, а потому, что не можем смотреть друг другу в глаза. Раскалывается небо, свет медленно растворяет утренние сумерки. Желтеют деревья, ветер метет по площади опавшие тополиные листья.
Сентябрь, сентябрь!..
ЕСЛИ БЫ НЕ МОЛОДОСТЬ
Большинство неудач происходит от излишнего усердия…
Как будто бы знал рапорт, с которым должен был представиться командиру полка, и вроде бы козырял, вытянувшись перед зеркалом, а вот оскандалился. И слово-то яйца выеденного не стоило, а из-за него опозорился!
Пока шли по сумрачному коридору, адъютант легко придерживал меня за локоть. Подойдя к двери кабинета командира, он отпустил меня, постучал, прислушался и нажал ручку. Я остался в коридоре один. За полуприкрытой дверью звякнули шпоры. Потом адъютант легким поклоном пригласил меня войти.
Я слышал свой голос, неестественно громкий и немного изменившийся. Мне показалось, что я переставил одно слово. Переставил или нет?.. Пока искал ответа, остаток рапорта завертелся в голове и перепутался. Я смолк.
Полковник Шопов вышел из-за стола с протянутой рукой. Качнулись никелированные наконечники аксельбантов. Стриженая голова, посаженная в высокий воротник, показалась мне зеленоватым пятном. У пятна глаза и шевелящийся рот. Полковник хотел меня приободрить и улыбнулся.
Я бросился к протянутой руке, но позади меня что-то загремело. По ковру запрыгала пепельница, сделанная из самолетного поршня, со светящейся дугой из стальной проволоки, с белым истребителем, закрепленным на ней. Проволока дрожит и позвякивает. Отвратительный столик поднял свои тоненькие ножки. Это я сбил его.
Сверкала полированная мебель в кабинете командира полка. Поблескивал и кожаный диван. Белел над вешалкой овал зеркала… Снаружи, на плацу, навьючивали лошадей. Грузили тяжелые пулеметы… Лошади дергались, металлические шипы вьючных седел скрипели… Командир был человеком тактичным, он принялся рассказывать мне какую-то веселую армейскую историю, но я был словно оглушен. В сущности, я слышал слова, но смысл их до меня не доходил.
Служба началась.
Осень наступила рано. Первыми потеряли листву вербы, затем тополя. Налились соком груши, дубняк на противоположном склоне Бургаздере стал пестрым. По утрам табачные плантации становились серыми от заморозков. От собранных по огородам тыкв остались лишь длинные веревки стеблей, и иней на них при восходе солнца искрился.
Маленькие городки чувствительны к холоду, зябки. Ни город, ни село! Краска на оконных рамах вспучивается, мерзнут во дворах деревья, в дверных щелях посвистывает ледяной ветер.
Каждый день затемно идем через мутный рассвет этого города. Домики вокруг просыпаются. Самое время, когда так сладко понежиться в нагретой постели. За табачными складами — казармы. Там труба сыплет утреннюю поверку. Ходившие когда-то в шароварах сельские пареньки из Харманлийского и Чирпанского краев — сейчас стриженые солдаты. Они гремят деревянными подошвами по стертым подковками лестницам, толкаются на плацу около умывальника. Кранов — десяток, а солдат много.
После утреннего туалета строятся, затем направляются к столовой.
Я одного с ними возраста. Одногодки мы, а они мне козыряют. Когда вхожу в спальные помещения, дежурный, кандидат в унтер-офицеры старшего призыва, подает им команду. Солдаты вскакивают, становятся смирно и смотрят на меня, вытаращив глаза.
Один из них, Минё из Белозема, — мой ординарец. Он говорит не «одеяло», а «дияло». Я смеюсь от души, и Минё часто говорит это слово, чтобы повеселить меня. И улыбается угоднически. Он хочет прослужить весь срок ординарцем.
Однажды из села привез мне цыпленка. Подавая его, покраснел.
— Минё, армия мы, на границе, — сказал я ему. — Если цена нам упадет до какого-то цыпленка, продадим Болгарию…
Минё, залившись краской еще больше, перевел дух, сглотнул слюну и сказал, вытянув шею:
— Озьми этого куренка, господин комиссар.
Хороший парень Минё. Съели цыпленка вместе. Выпили и по стаканчику чирпанского. Он ушел выбросить кости, а когда вернулся, остановился около двери. Видно, захотел что-то сказать. Я удивленно смотрел на него, ждал.
— Плохие вы, коммуняги, люди, господин комиссар. Душу человеку переворачиваете…
Я сделал вид, что не понял его:
— Чью душу перевернули, Минё? Да уж не убили ли мы кого-нибудь?
Минё заморгал белесыми ресницами:
— Вы не убиваете, гм… Это совсем другое…
Хорошо пошла служба! Фельдфебель Стайнов принес мне под расписку пистолет, патроны, новые одеяла, простыни, бинокль и зеленые майки. Брезента, в который завернуто все, в расписке нет. Стайнов говорит, что он не числится. Впишу его в ротную вещевую книгу, чтобы «числился».
Выделили мне и коня. Чудесная, с лоснящейся шерстью кобыла, новенькое, скрипящее седло. Я часто хожу полюбоваться ею. Над яслями на кирпичной стене висит табличка, на которой мелом написано «Бистра». На новой дощечке надписываю имя кобылы масляной краской и вешаю на стену. Счастлив без меры!.. В полковой столярной мне сделали и новый письменный стол: маленький, с замочками и ящичками, с костяными ручками. Правда, крышка его, склеенная из сырых досок, лопнула посредине. Накрываю его зеленой бумагой, чтобы не видеть, но все-таки настроение несколько испорчено…
Казначей Караманов подает мне конверт с первой зарплатой. Беру деньги, будто краденные, — здесь какая-то ошибка! Караманов — старый службист, около губ его играют веселые извилинки.
— В первый раз так, господин комиссар, чтобы вам многонько показалось. Удержания потом сделают…
В полку я застал офицеров, которым некому было покрутить ручку телефона, некому слова шепнуть. Они прибыли на границу, полные презрения к фаворитам. День ото дня их патриотизм увядал. Оторванные от своей среды, они быстро превращались в мещан. Вместо светской жизни больших городов Крумовград предоставил им дешевое пропитание, индюшек и смиренное население. Компенсация привязала многих из них — одни здесь женятся, рожают детей и толстеют. Другие не хотят сдаваться и продолжают гнушаться руки, если она не в перчатке.
Но среди тех и других есть офицеры арестованные, а затем освобожденные и возвращенные в роты командовать под клятву.
Однажды поручик Тодоров, тот самый Белый Конь, пожаловался мне глухим голосом:
— Нет ее, той дисциплины-ы-ы!.. Нет!
— Какой дисциплины, поручик?.. Мне, например, Минё сказал, что мы человеку душу переворачиваем… Есть ли что-нибудь больше этой дисциплины?..
Этих слов я ему не сказал, а спросил, в чем он видит причину. Поручик, не долго думая, ответил:
— Временно мобилизованные офицеры запаса — учительская и общинная полова. За свиной окорок могут снять с фронта прикрытия целую роту и пустить ее в отпуск… Когда солдат политиканствует, армия становится синдикатом и объявляет стачку!..
Поручик явно что-то не договорил. Я даже сам удивился тому, что не вскипел. А может быть, просто взял себя в руки? Приятно быть сильным и спокойно выслушивать даже такую вызывающую тираду.
Крышка золотого портсигара резко открылась. Мой собеседник вытащил сигарету и медленно постучал ею около выпуклых букв монограммы. Он проделывал это сотни раз, не глядя, постукивал сигаретой точно около монограммы. Пусть видят! Бедняки впечатлительны — золото зажигает в их глазах темный блеск…
Я чиркнул спичкой и поднес пламя к лицу офицера. Его шпоры легко звякнули — благодарил. Всмотрелись друг в друга.
Он глубоко затянулся сигаретой, а я задумался, держа горящую спичку в руке. Пламя подползло к ногтю, обожгло, я резко отдернул руку.
— Когда огонь очень близко, припекает… — Офицер сунул портсигар в карман галифе и снова затянулся.
Я поймал себя на том, что говорю ему что-то, но не был уверен, знаю ли точно, что хочу сказать. Улыбнулся криво, но все же это была улыбка.
— Когда солдат «политиканствует»?.. Легче, господин поручик. Без временных из запаса и еще без кое-кого, конечно, спокойнее. Но пришло время потерпеть мелкие неприятности, чтобы избежать неприятностей покрупнее.
Он подал мне руку. Получилось нечто вроде жеста о джентльменском соглашении. Рука моя затерялась в его широкой ладони.
— Вы нравитесь мне!.. Молоды, однако, черт!
Гляжу ему вслед, как он удаляется через плац к ротным помещениям. Широкие плечи и бычья шея. Мягкие складки офицерского мундира играют у талии, слева у бриджей сверкает никелем сабельная цепочка.
Мне стало немного грустно за него. До вчерашнего дня поручик верил в то, что разбилось вдребезги. Сегодня подает мне руку в знак джентльменского договора. Договора, с помощью которого пытается мне внушить, что страну представляет он! Как объяснить ему, что это иллюзия, которой он сам себя унижает? Он строит роту, которая «политиканствует». Иерархическая структура расстроена, потому что командиры как будто и командуют, но приказы их, в сущности, — воля молоденьких комиссаров.
Запасникам легче. Запасники напялили офицерскую форму по договору служить «до конца войны». Воистину они — учителя, общинные чиновники и служащие народных банков — даскальская и общинная полова… Кадровые офицеры относятся к ним с высокомерием и считают, что еще не выветрился запах постного масла отцовских бакалейных лавок, идущий от них. Кадровые — это совсем другие люди, офицеры от каблуков до кокарды. Такие на расстоянии чувствуют, чем пахнет «внизу». Взгляд, несмазанное оружие, шушуканье, интонация слов «так точно», которая порой означает «никак нет», — такое не скроешь от чуткого казарменного носа кадрового офицера. Они почувствовали запах паленого еще летом сорок четвертого. Осенью в полки прибыли и мы, безбородые мальчики-партизаны. Все перевернулось вверх дном, все ушло!.. Остались только накидки, шпоры и кортики — пустые погремушки. Бери его и выбрасывай, этот кортик, раз поручики и капитаны козыряют перед безусыми молокососами, если и командир полка, этот старый козел, улыбается им мило и прикидывает про себя, как бы стать генералом!..
Под вечер возвратился промерзший комиссар. Он ездил по перевалам от Тихомира до Аврена. Там где-то проходят позиции фронта прикрытия. Спрашиваю его, что такое фронт прикрытия, а он мне объясняет:
— Отрежут тебе земли по флангу, а после этого, чтобы еще не урезали, выбираешь места для оборонительной позиции и копаешь окопы…
Над песчаным корытом Бургаздере свистит ветер. Там, около ольховых кустов, были жабы и застоявшаяся, тинистая вода. От дождей белые пески набухли и потемнели. Скоро их могут прошпилить и ледяные иглы.
Небо над Авреном серое да черное. Качаются вершины голых тополей. Их рыхлые ветви разгоняют облака — может быть, посветлеет. Но чернота густа и неподвижна.
Мое начальство шлепает в домашних тапочках. Белые шнурки галифе тащатся по ковру. Я подогреваю на печке солдатский котелок с домашней колбасой, и комиссар потирает руки, вдыхая аромат и предвкушая удовольствие от обмакнутого в теплый жир куска хлеба.
Здорово, когда друг, после того как ты намерзся на голых вершинах от Тихомира до Аврена, угощает тебя из котелка теплым домашним кушаньем! Рассказываю комиссару, о чем мы говорили с Белым Конем, а он смеется:
— Так мы же здесь как раз для того, чтобы солдаты интересовались политикой!.. Поручик, а не понял самого важного…
— Понял он, — говорю я. — Понял, да только ему все плакать хочется…
Начальство опять смеется, опять тащит за собой распущенные шнурки. Домашнее тепло разнежило нас. Под балконом Анче насвистывает смешную мелодию. Узнаю ее по женскому посвисту… Закипевший жир держит меня у печки, а женская игра толкает к балконной двери. В такой спешке можно и пальцы обжечь…
Ничего с ними не случится, с пальцами! Анче спешит к входной двери, гудит каменная лестница…
Скажите, не чудесно ли это? И могло ли быть все так прекрасно, если бы не молодость?!
НА ВСЕМ ГОТОВОМ
Нет больше в газетах сообщений о победах на фронте. Нет… Фронт переместился на запад, за Воеводину. Где она, Воеводина? Эх, далеко!..
Прибывают санитарные поезда, до отказа забитые ранеными. Остановившиеся эшелоны плотно окутаны запахом карболки. Чей-то костыль нащупывает ступеньку вагона. За стеклами белеют забинтованные головы и руки, качаются и тонут в сумраке купе. На солдатском полушубке блестит крест за храбрость. Два железнодорожника катят перегруженную багажную тележку. На перроне высыхают грязные следы. Станционный колокол бьет три удара на два голоса. Перрон пуст, и звон колокола свободно уплывает вдаль. Интересная станция Чешнигирово! Вот уже и кишит ее перрон народом… Дежурный по станции размахивает ручным семафором над красной фуражкой. Скрипят колеса поезда, окна вагонов начинают уплывать, нанизываются друг на друга. Вот уже и не видно забинтованных рук и голов, потому что стекла от света заката побелели и ослепли…
Возвращаются поредевшие полки. Один полк называется Страцинским, другой — Стражинским. Пустые места в ротах — могилы где-то под Нишем, по Косовскому полю, в Метохии.
У чешмы на станции Раковски сидят два фронтовика и беседуют. Ждут какой-то поезд и балагурят. Один из них все ощупывает щеку — на месте ли розовый лейкопластырь и марля под ним. От частого прикосновения пластырь замызгался. Другой прикладом отклеивает подметку сапога — любопытствует, насколько оторвалась. Несколько коротконогих, плотно сбитых мальчишек вертятся возле них. Хочется им, чтобы у фронтовиков были ордена, а орденов нет. Фиолетовые рубашки ребятишек разукрашены плотным рядком перламутровых пуговиц. Но совсем другое дело, когда у человека что-нибудь блестит!..
Фронтовики еще не отвыкли от своих фронтовых забот, мальчишки вытягивают шеи, чтобы услышать разные военные истории…
Такие истории везу я в купе первого класса в Крумовград. Но время ли их рассказывать? Город мерзнет, обожженный заморозком, город наквасил бочки кислой капусты и ждет, когда она поспеет. Из медных котлов для ракии в Токачке цедится первач. Одна дамаджана[9] «бормотухи» освобождает от трудовой повинности, подмачивает и перечеркивает акт лесника, вырывает зубами заем из Популярного банка[10]. Великая штука «бормотуха» — в любом доме пустая дамаджана становится полной! Тогда пусть убранные табачные плантации индевеют, пусть в лужах на Бургаздере хрустит лед. Пусть и южное небо потеряет всю краску, как тронутые испугом губы…
Казармы расшевелились. Поручик Аниев движется через плац: фуражка, плащ-накидка, блестящие шпоры. Лестница штаба каменная, и шпоры поручика звякают. Жоро, адъютант, мягко потирает ладони одна о другую и с улыбкой забирает себе твою душу. Всякий адъютант должен располагать улыбкой для каждого — смотря что за человек. От курева усики у него желтого цвета. Когда он потирает ладони, офицерский мундир играет на локтевых сгибах. А комиссары одеты в шаяк[11]. Пришло время шаяку подняться над шевиотом.
Гражданский сброд меряет и их и нас одной меркой: военные, сидящие на всем готовом! Если у них есть бочки — обязательно рассохшиеся. Хорошо, что где-то припасены маринованные баклажаны, хорошо, что где-то льется в дамаджаны сливовая «бормотуха», так что есть кому и в их стаканы плеснуть!..
Вагон первого класса совершенно пуст, колеса подо мной подпрыгивают, подбрасывают меня. Красный плюш на сиденьях задубел и пахнет пылью. Этой прелести здесь в избытке. Все это прицепляют в качестве первого класса на станции Подкова. Я три раза прошел через весь вагон из конца в конец. Хоть бы одна какая-нибудь офицерша, на худой конец какая-нибудь старостиха — мог бы по крайней мере спросить о соседних местах, свободны ли, чтобы как-нибудь завести разговор. Потом уж, конечно, читал бы Устав внутренней и гарнизонной служб, а глаз мой скользил бы от расплывшихся букв к женскому колену. «Служба, госпожа, служба-а!..» — сказал бы я спустя немного со вздохом. Начинаю воображать, что на диване напротив меня действительно сидит дама. Она слегка улыбается — ни стеснительно, ни вызывающе: «Вы только еще начинаете, милый подпоручик. Будет время и для службы…» А я спрашиваю: «После чего будет время и для службы?»
Попадание точно в цель! Глаза мои подсказывают даме, что разгадал ее мысли. Легкое смущение сковывает напомаженную улыбку. С этого места дальше все идет как по маслу…
Но нет ни офицерши, нет старостихи. Пустой вагон!.. В бараках Красного Креста за станцией Момчилград Кичка поставит передо мной теплый чай с сушеными лимонными корочками. Положит и кусочек брынзы. В офицерской комнате тепло, простыни белые. На одеялах наколоты бесхозные ордена за храбрость. Возле зеленоватых оконных рам Кичка расклеила вырезанные из журналов картинки. Красивая девушка Кичка. Привыкла встречать и провожать мужчин и хозяйничать, как у себя дома. Ее мягкие домашние тапочки шлепают по линолеуму. Совсем другое дело, когда возле тебя хлопочет молодая женщина! Как-то угощала она нас приготовленным ею ликером, а один артиллерийский офицер подмигнул:
— А будет ли к ликеру закуска?
Она привыкла к мужским шуткам, не смутилась, а показала два ряда ослепительно белых зубов:
— Закуска будет ваша, чтобы мы не остались должны друг другу.
Так вот. Одни ищут закуску к ликеру, другие деревянным костылем — ступеньку санитарного вагона. Ладно, поручик, посмотрим, до каких пор будем пить чай с лимонными корочками, до каких пор будут холодить наши шеи чистые перкалевые простыни, а мы — прислушиваться к Кичкиным шагам: не заспешат ли к нашей двери, не стихнут ли на миг, — а потом щелкнет внизу латунная ручка замка… Потому что есть и другая действительность: после возвращения одних полков другие должны отправиться на их место! Фронт переместился за Воеводину. Но ведь фронт не медный черпак, его не повесишь на цепочку, не вобьешь цепочку в камень чешмы, и не будет он висеть на месте. Если фронт не переместится еще дальше, то переместится в нашу сторону, и тогда далекая Воеводина станет значительно ближе…
Нет, не станет ближе! Будет близка нам, потому что это земля славян. И тополя Инжии пусть стоят на своем месте, и трясины под Земуном, и окопы в неприбранных кукурузниках Сотина и Грабово… Третья Балканская дивизия уже грузится на колеса, чтобы подпереть плоским штыком винтовки поредевшие позиции. И восьмая дивизия наступит сапогом на хвост какой-нибудь Вестфальской или Рейнской бригаде с двойными дьявольскими головами на орудийных щитах. Один из наших, видевший эти нарисованные головы то ли возле Прокупле, то ли на вершине Капаоника, сказал:
— Ах этот изверившийся мир! Черту крестятся, двумя чертями храбрость себе придают, да еще пугать нас вздумали. А мы надуем в башмаки и черту, и богу.
Земляки подзадоривают солдата:
— Ой, брат, неужели?! Неужели возьмешь грех на душу?
А тот отвечает:
— Нету греха, нету греха! Вот тебе европейцы, простая штука! Германец, как увидел, что от бога проку мало, повернулся сейчас к черту и мажет ему оливковым маслом под хвостом. А эта работа, как уже давно известно, — пустое дело! Дай, мужик, дай расцелую тебе ручку. Дай я поставлю тебе свечку, а ты мне поставь. На ручку надейся, только она нам помощник. И сердце нам поможет. Все другое — вощина, сыворотка, червивые орехи… Видел ли ты их? Видел их толстые ляжки? И черта забросили, сыты по горло и чертом…
Прав был солдат!
Наступила очередь и десятой Родопской. Следом за восьмой и мы грузимся на колеса. По выбитым шоссе пылят военные мотоциклисты в овчинных комбинезонах. Все, кто палил костры по дворам и мешал в котлах шиповниковый мармелад, отложили поварешки, выпрямились, чтобы осмотреться.
— Что это военные расшевелились?
Расшевелятся! Нет, не останемся мы в холодке варить мармелад из шиповника да мариновать баклажаны. Если останемся при котлах, тополя Воеводины переместятся поближе к нам, чтобы мы их лучше рассмотрели…
Кичка осталась далеко в своих мягких тапочках, далеко, в сумерках Кырджалыка. Наступил рамазан, горят фонари на башенках мечетей. Около огоньков растворилась синева. Холодно, влажно. Электрические лампочки в ротных помещениях светят тускло, на каске часового у штаба поблескивает зайчик. За табачными складами кто-то поет с перерывами:
«Бормотуха» сделала свое дело. Должно быть, весело человеку, вот он и запел.
Комиссар полка раскрыл черную длинную коробочку с закругленными углами. Внутри коробка обита фиолетовым бархатом — как одежда владыки. На бархате блестят циркули и рейсфедеры. Комиссар вертит коробку в руках, по никелю циркулей гуляют белые искры. Любуется ими. Был человек студентом, мечтал стать инженером, а оказался в партизанском отряде в Риле. Впереди — река, позади — карательный отряд с пулеметами. Пойдешь вперед — там пена в каменистых порогах, зеленоватая, ледяная глубина; повернешь назад — сгоришь в огне…
— Выбрось ты эти железки, Стефане! Выбрось их, — говорю. — Не береди себе душу. У тебя ведь целый склад железок, какие хочешь дула — и короткие, и длинные…
Начальство мое смеется. Веки скрывают пестринки в его глазах, губы оголяют желтые от баташской воды зубы. Я рассказываю ему, как пустой вагон первого класса оказывается иногда не таким уж пустым. И о лимонных дольках в Кичкином чае рассказываю… Говоря, поглядываю на стекла балконной двери. Отраженный в нем мячик белого глобуса кажется мне забинтованной головой, какая-то темная полоска наклоняется, как костыль, и нащупывает ступеньку вагона.
Исчезла Кичка, исчезла выдуманная в пустом купе офицерша, и послышался мне голос того самого фронтовика, что сидел на ранце перед станцией Раковски: «Хорошие у тебя штаны, товарищ! Утюг держат…»
Посматриваю на свои галифе: с одной стороны острой стрелки — светло, с другой — темно.
— До каких пор, Стефане? До каких пор будем жиреть по этим глухим гарнизонам?.. Кому нужны наши газеты без сообщений о победах!..
Полковой комиссар отставляет коробку с циркулями, бережно опускает ее на стол и подает мне телефонограмму, написанную химическим карандашом.
С завтрашнего дня десятая Родопская дивизия начинает мобилизацию.
— Вот это дела! Прогуляемся по Европе…
Стефан смотрит на меня удивленно. А мне чудятся остроконечные кафедральные соборы, пестрые рекламы, написанные латинским шрифтом, замки с ореховыми шкафами, а в них — хрусталь и фарфор, который звенит сам по себе…
Столько было тогда у меня ума!..
ПОД ЧУЖИМ НЕБОМ
Столько было тогда у меня ума!..
Теперь мне чудятся не остроконечные кафедральные соборы и пестрые рекламы, написанные латинским шрифтом, а крутые склоны Кырджалыка, засыпанные белой порошей. Если бы был снег — тогда другое дело!
А пороша вроде снежка, похожа на крупу. Острый ветерок подхватывает ее возле синего терновника и как будто впивает в лицо ледяные иглы. От нахмуренных шерстинок чужой шинели мороз пробегает по коже; от чьих-то заиндевевших усов по телу твоему перекатываются ледяные зерна…
Освобожденный от узды конь несется галопом через ощетинившуюся стерню табачного поля, изгибает шею туда-сюда, поднимает снежное облако и, расчесывая его гривой, рвет оскаленными зубами синеву вечерних сумерек. Сколько длится декабрьский день, есть ли время для таких дел? Сколько?.. Скоро придавит нас мрак, утонет все в черноте и пороше: и оскаленные зубы, и грива. Только будут кое-где тускло мерцать электрические лампочки, да какой-нибудь керосиновый фонарь проплывет от ротных казарм к коновязям, а от коновязей — к ротным казармам.
Человек не конь без узды! Человек сам себя затянул в жесткие ремни, застегнулся на пуговицы со львами, сам создал строй и сам определил себе в нем место. «Нале-ево!» — строй поворачивается налево. «Шагом марш!» — ты трогаешься с места. Война!.. И вот конь, что кусал зубами синеву сумерек, услышит, как язык его зажали удила, почувствует на спине своей железный вьюк пулемета. Пришло время повесить хомуты на гвоздь, выйти скотине из борозды и, навьюченной железом, двинуться за хозяином.
Люди в пальто топчутся на одном месте в кабинете помощника командира полка. Топчутся и медлят. Они еще не надели форму… Да какой это кабинет! Голая витая вешалка, на письменном столе — треснутое посередине стекло. От постоянной сушки мокрых сапог на литой чугунной печке образовались белые кривые полоски. Полковому комиссару совсем не до смеха, но в пестрых его глазах мелькает озорство. Молодой человек — все у него в порядке! Делает вид, что жмурится от лампы… Поди его пойми, к добру ли, ко злу ли жмурится!.. Мобилизованные, что мешкают перед ним, шарят во внутренних карманах своих пальто:
— И справки имеются, господин комиссар…
И справки принесли! В бумажках написано, что в селе они нужнее, чем в армии. И круглые печати приложены. Люду много, но народная власть отбирает людей строго!
Снаружи шлепает рука о ложу винтовки. Часовой у полкового знамени отдает честь. Командир полка торопливо проходит по коридору. Те, что со справками, озираются: чем черт не шутит, а ну как войдет полковник и все пойдет прахом, превратится в мякину и сорные зерна!..
Помощник начинает издалека:
— И не оделись еще… Хотя зачем одеваться, ведь потом все равно раздеваться!
— Так точно, господин комиссар! В складе фельдфебеля Тачо запутаешься. Одному сапоги не подходят, другой матерится, что штаны не такие, третьему нужна просечка — дырки в ремне пробивать. А нам для чего прибавлять суматохи?
Озорство в глазах замполита превращается в кусочки льда, но мобилизованные, для которых сейчас разговоры о том, что на складе фельдфебеля Тачо матерятся из-за штанов, важнее, не замечают этого.
— А ведь и у меня есть печать, — выходит из-за стола замполит. — И я пошлю справки товарищам. Как раз и армии нужны отборные люди, особенно те, у кого зубы в порядке…
От мобилизованных говорит один — тот, кого они выбрали. Но мне кажется, что говорят они все разом. У каждого из них свое лицо, но для меня их лица сливаются в одно: обветренные губы шевелятся, глаза пытаются понять, куда клонит начальство…
И вот встречаю я этих солдат, нахожусь с ними, а не смогу, наверное, их познать. Каждый из них ругал свои штаны, каждый требовал от фельдфебеля Тачо просечку, чтобы пробить дырки в ремне — то ли потуже сделать, то ли посвободнее. Теперь это дело прошлое…
Ветер разносит вонь тротила, ночью алеют пожары на горизонте. Сумерки и рассветы заставали полк в пустых кавалерийских казармах Земуна. Какие там казармы! Ветрильник с промокшими ободранными стенами, с разбитыми вдребезги стеклами. Мы прикрывали окна брезентом, но свирепый ветер рвал полотнища из окоченевших рук.
По дорогам на Срем снег скрипит под сапогами, офицеры бросают уздечки в руки связных и идут пешком, чтобы не замерзнуть вконец. Дунай тащит ледяные плиты. Лед трещит и скрежещет. Воды Дуная густы, как растительное масло, вода без цвета, сине-зеленоватая, клокочущая муть. Два катерка потрескивают и поднимают над рекой копоть. На баржи грузят войска.
— О-о-о-ой! Давай, селяне! О-о-о-ой!..
Санитарная подвода срывается со своего места. Ее красные кресты подскакивают и перекатываются по палубе. Подскакивают и железные шины ее колес. Дышло хрястнуло и вонзилось в командную будку баржи. Из нее выскакивает моряк в полушубке. Придерживает расстегнутые штаны обеими руками и кричит, синея:
— Мать вашу, сусликов! Крысы сухопутные! Не я ли вам говорил положить под колеса колодки?!
«Суслики» и другие сухопутные смотрят вытаращившись на торчащее в будке дышло. Моряк движется на них, придерживая расстегнутые штаны, и, солдаты, пятясь задом, отступают.
— Кувалды ржавые! — глотает слюну водоплавающий. — На суше поете «Тих был Дунай», а здесь если уж плюхнетесь, так будешь с вами на дне тину лизать.
Один из «сусликов» придерживает рукой фуражку, вертит головой и отзывается для храбрости:
— Ну, ну, полундра!..
Одно дело быть на барже и наблюдать, как дрожит забившееся в железо дышло, а другое — лизать тину на дунайском дне!
Вдоль прибрежной улицы Петровардина горят костры, у походных котлов толпятся солдаты. Прибрежная улица измята до основания лошадиными копытами и шинами грузовиков. Месиво превратилось в ощетинившийся лед и режется. У одного отвалилась подметка и лед набился в портянки…
Глянешь вверх, на кафедральный собор Нови-Сада, фуражка свалится. Остроконечная колокольня пытается проткнуть заросшее шерстью небо. Не дай бог пробьет — помочится тогда на нас небо зеленой сывороткой!..
Лавочные вывески закопчены. Красивые вывески, только от непрерывных дождей буквы на них расплылись. Витрины пусты. И полки магазинов пусты. С полок свисает изодранная бумага. Старый мастер, скорчившийся, как сухой сморчок, наугад ловит проволокой отверстия в ушках зонтичных тростей, потом стягивает проволоку крючком, раскрывает зонт и вертит его в протянутой к окну руке.
Манта, комиссар третьей дружины, ощупывает пальцем шрам от удара ножом около своих губ и смеется:
— Эй, дядя, для кого его вертишь? Сейчас все в армии, а армия зонтов не носит.
Старик вытягивает шею, чтобы расслышать, что ему говорят. Пустое дело! Люди говорят через стекло — и слов не понять. Один ищет проволокой дырку в ушках ржавой зонтичной трости, другой гаубицей просверливает дыры в земле и потрошит ее брюхо. По мостовой, вымощенной крупным булыжником, грохочут гусеничные тягачи — звенят стекла в витрине зонтичной мастерской. Следом за тягачами трясется желтый лимузин командира полка. Полковник Шопов напялил подбитую овчиной шубу. Через исцарапанную слюду его краснощекое лицо кажется желтым, как гнилая тыква. Полковник поднимает руку к козырьку, машет нам и усмехается: «Все будет в порядке, молодняк, раз я вас веду!»
Хорошо тебе, начальство! Поднявшись на резиновые колеса, человек думает, что только он управляет тем, что катится по фронтовым дорогам: повозками, лошадьми, взводными унтер-офицерами и интендантами…
Возле одной из почерневших дверей собора появляется подпоручик без шинели, в мундире с белыми погонами инженера. Видно, что-то жжет его изнутри, да так, что пришлось расстегнуть верхние пуговицы мундира. Синие глаза его в тумане, он не видит, что мы офицеры, хотя, правда, наши шипели без погон.
— Братцы, — зубоскалит инженер, — дайте баночку консервов — душу накормить. — И грязно подмигивает.
Вниз от закопченного входа ведут мозаичные ступени. Видно, какая-то забегаловка. Женский смех разбивается, как стекло, где-то за изгибом лестниц. И у нас есть души, понимаем, какая душа будет кормиться!..
— Когда съешь консервы, — говорит ему Манта, — оставь ржавую банку и привяжи ее себе на хвост.
Подпоручик растопыривает руки:
— Ой, браток, и ты с беседами!..
Манта застегивает подпоручику пуговицы. Застегивает их медленно, по одной. Туман в глазах офицера светлеет. Такое застегивание — пощечина. Продев последнюю пуговицу в петельку, Манта убирает руку.
Подпоручик ищет консервы накормить свою «душу». На станции Чуприя трехаршинного роста верзила тоже занимался поисками. Просунув голову в приоткрытую дверь вагона, кричал охрипшим голосом:
— Есть ли кто-нибудь из Омурова, а?
От крика жилы у него на шее стянулись в узлы. По соседней колее медленно отходили набитые до отказа эшелоны: пушки, повозки, топившиеся на открытых платформах походные кухни, угрюмое сукно, белые полушубки, обшитые овчиной фуражки. Эшелоны уходили, двигалось серое воинство. Лица терялись, расплывались, а нашему верзиле хотелось увидеть хоть одно знакомое лицо.
— Есть ли кто-нибудь из Омурова, а?
— Ты ж только вчера из Омурова! — кричу ему. — Тот, что выглянет из вагона напротив, может оказаться и недругом!
Солдат удивляется, захватывает верхнюю губу нижней:
— Чужое небо, господин комиссар… Под чужим небом и недруг за родственника сойдет.
Снежок припорошил Чуприю. По ту сторону станции серый каменный мост расставил ноги между двумя голыми обрывами. Под козырьком перрона штабной горнист поднимает трубу, щеки его надулись, как два яблока. «Гос-по-да-а! Гос-по-да-а!» — сыплет горнист. Штабные офицеры с болтающимися на бедрах планшетами перепрыгивают через рельсы. Командир дивизии слезает со ступенек вагона первого класса. В петлице его шинели синеет орденская ленточка. Пока он проходит по усыпанному щебнем полотну, начальник штаба услужливо поддерживает его под локоть…
Думаю об этом, чтобы не говорить с Мантой о подпоручике, который хочет напитать свою «душу» банкой консервов. Иначе и наши глаза заблестят, как оливковое масло. И мы танцевали в Бешке с девушками из местной молодежной организации, и в наших ушах стоял звон от теплого женского дыхания около нашей шеи, и мы терли подошвы до тех пор, пока не оказывались наедине с какой-нибудь Загоркой, или Милицей, или Бранкицей. «Да здравствует болгарская армия», — писали мелом на стенах одетые в шаровары девушки. И мне казалось, что пишут они это только для меня, что это похоже на признание в любви, когда нет возможности выразить ее так, как полагается.
Манта ступает твердо. Он резко отбрасывает правую руку и потому все время разворачивается вправо. От холода в ушах позванивает. В прибрежном парке — нагромождение ящиков с патронами и минами. Из-за ящиков не видно деревьев парка. Солдат, со штыком на винтовке, прохаживается взад-вперед по аллее.
— Как дела, молодец? — спрашивает Манта. Его голос звучит бодро, насколько это возможно в таком замерзшем, голодном городе. От этой его бодрости хочется фыркнуть: еще не понюхал как следует военной жизни, а уже демонстрирует офицерские ухватки.
«Молодец» поворачивается к нам, дует себе на руки через вязаные рукавицы. Лицо его посерело, губы стали меловыми.
— От этого мороза с ума можно сойти.
Когда мы уезжали, нас как на крыльях несла звенящая медью музыка. Председатель совета произнес прекрасную речь. Командир полка высокопарно говорил о победах и о том, как ему хочется вернуть нас живыми и здоровыми… А сейчас часовой на чем свет стоит ругает холодный дунайский ветер. Плато над Безданской переправой изрыто окопами и воронками от снарядов. Плодовые деревья по всему полю обриты пулями. Железа от пробитых касок, разорванных дул, скрученных винтом орудийных лафетов могло бы хватить на лемехи для всего света. С одного конца от переправы — кладбище советских солдат: дощатые пирамидки с красными звездами. Снежок остался только в неровностях замерзших комьев земли, остальное острижено машинкой под «три нуля». Сколько до Бездана? Завтра-послезавтра пройдем Безданскую переправу. Эти святые, Манта, винтом скручивали немецкие лафеты. Пойдем скажем об этом нашему «молодцу», что дует себе на руки через рукавицы!
Из крыши деревянного барака торчит труба. Труба дымит. Перед бараком молодой солдатик наигрывает на годулке. Два других, ухватившись за пояса, подпрыгивают и пристукивают сапогом о сапог. От них валит пар.
— Ух, разобьем вдребезги!.. — покрикивают они.
Голенища сапог того и гляди развалятся, разлетятся в клочья.
Манта кричит мне:
— Эти нам выполоскают физиономии!..
Город большой, но никак не найдешь, где согреться. Мы расквартированы на окраине, в каких-то домиках, оставленных венгерскими офицерами. Можно ли согреться, когда топишь печь гусарскими портретами? Если бы не труба моряков, не видать бы нам тепла.
Годулка гнусавит что-то на толстой струне. Солдатики больше не приплясывают, они разговаривают:
— Мама в рев, а папа отстранил ее рукой, чтобы не слышать хныканья, и говорит мне: «Этот мир, Теню, пухнет и от зла, и от добра. Когда война берет верх, мы вздыхаем о сломанной чеке, о погибшем теленке. А как только схватим побольше жирку, так на хлеб садимся и прикрываем его задом. Война для того нужна, чтобы мы поняли, сколько стоит хлебушек, чтобы увидели, что есть дела и поважнее сломанной чеки или мертвого теленка… Делай свое дело, на которое тебя зовут, да возвращайся живой! Мир распухает от зла. И если пуля может поправить дело, подпоясывай патронташ! Этот огонь, если каждый начнет обходить его стороной, если каждый решится пожариться на нем только издалека, может лизнуть нас всех. И останется от нас один черный пепел…» — Теню ощупывает карманы, достает из шинели синюю коробку «Картели» и отбрасывает ногтем крышку: — Так мне папа говорил. «Человек, — говорил он, — как арбуз: один зрелый, другой зеленый, третий изъеден внутри гнилью. Война — такая штука, — говорил. — Обстучи человека, как арбуз, чтобы не ошибиться. А то ведь бывает так, что одно арбузное семечко попадет не в то горло, кровью захаркаешься».
Манта стучит ногтем по моей голове, как по арбузу, качает головой. Из раскрытой двери кубрика моряков на нас пахнуло теплом.
— Войдем, комиссар! Чашка чаю найдется и для нас…
УГОЛЬ В ДУШЕ
Холодная, пасмурная Венгрия. Деревья не похожи на деревья, а вода, которую мы пьем, напоминает болотную. Кругом зловонные болота, в камышах гуляет ветер-бритва. Заиндевевшие ветки деревьев торчат во все стороны, а рыхлые пустые стволы непригодны ни для досок, ни для дров, ни для тени.
Пустота вокруг. А мы так надеялись мир посмотреть!..
А дудки из тростника получаются — чудо, а не дудки. Куском раскаленного телефонного провода прожжешь дырочку в тростнике — и дудка готова! Тростник наигрывает, когда в душе соловьи поют… А для нас играет другая дудка: проносятся и трясут нас снаряды; поют осколки — то сопрано, то басом. Достаточно одной пули, чтобы кожа твоя прогорела, как дырка в дудке. Свирепый ветер надувает наши шинели то сверху — со стороны Мехешхаза, то снизу — со стороны Водвице; ветер подхватывает снежную стружку, кружит в облаке и крутит, крутит, чтобы навалить ее там, где ему захочется: в канавку, в окоп, около торчащего на равнине колодезного журавля…
— Ты ли это, Диню? Ведь это ты на станции Чуприя высовывал голову из конного вагона, ведь это ты кричал охрипшим голосом в сторону соседней линии:
— Есть ли кто-нибудь из Омурова, а?..
Поезда медленно проходили, а ты все искал земляков. Кто бы ты ни был, только бы земляк, только бы в глаза ему заглянуть!.. Где ты голос свой потерял? Ну, кричи еще! Ну, надуй опять жилы, может, закричим вместе, может, полегчает нам?..
Молчишь. И те, с той стороны канала Риня, тоже молчат. Только шуршат сухие листья тростника… Над Надятадом едва светлеет остаток угасшего заката. Шпиль колокольни растворился в темном небе. Холодно, а Диню расстегивает воротник:
— Не нахожу себе места от тоски, господин комиссар. Так и хочется скосить эту кукурузу. Была бы коса или серп какой-нибудь, сбрил бы ее. Не могу этого переносить…
То, что Диню не может переносить, — это посвист тростника. Ему все чудится, что сука скулит.
Побрейся сам, Диню! Включи бритву, пусть попоет в твоей бороде…
Диню потирает ладонью щетину на своем лице. Не знает, что сказать. Пусть молчит, я сам чувствую: вместе со щетиной он не может сбросить с себя того, что сидит в нем самом…
На заснеженной тропинке скрипят шаги. Два человека идут, разговаривают. В темноте голоса их слышатся то будто вблизи, то вдали.
Впереди над окопами повисает ракета. Парашют ее раскачивается, она медленно падает. Разговаривавшие на ходу солдаты появляются из темноты. Тени их удлиняются, изламываются. Растягивается и прямоугольная тень котелка-термоса, который они несут, — на снегу растет черная яма с прямыми краями.
Пришло человеку время и о своем желудке подумать, вытащить из-за голенища ложку. Диню-у! Уголь жжется, но мы сами раздуваем его в своей душе. Хорошо, что у человека желудок есть, который требует своего! Иначе бы с одной голой душой мы размякли и пришили бы себе на штаны кружева!
Солдаты смеются. Здесь одни мужики. Две тысячи с лишним мужчин собраны в одном месте. Таким только напомни о кружевах, сразу начнут ухмыляться. Будут делать вид, что скрывают, по какому поводу усмехаются, но скрывают так, чтобы можно было понять… Лицо Диню во мраке кажется мне похожим на лунное пятно, но я знаю, что оно темно-розовое, как петушиный гребень. Сидим на одном мясе. Сейчас каждый мечтает о миске бобов, но где они, бобы? Кто плачет по куску мяса, а кто от мяса…
Манта звонит мне по телефону из соседней дружины. Спрашивает, что делаю. Получается, что я дремлю в тени под грушей, а он совершил такое, о чем в газете будут писать. Говорит, атаковали крайние дома Надятада, взяли в плен немцев и каких-то молодых женщин, которых немцы держат при себе. Мне кажется, что телефонная трубка в моих руках становится горячей. Пока я раздумываю, он наседает:
— Садись на коня и двигай к нам в штаб! За нами сейчас ухаживают наложницы. Приезжай, пока этот трофей не причислили к штабу дивизии…
Знаю я этого Манту! У него рассеченная ножом губа, в полиции он себе резал вены. С той поры всегда ему весело. Где бы ни был, в его серых глазах всегда мелькает озорство… Люди делятся на два вида. Одни, прежде чем возьмутся за что-нибудь, боятся: «А вдруг ничего не выйдет?» — и не берутся. Другие же говорят: «Попробуем, вдруг да получится!» — и принимаются за дело.
Я вскакиваю на коня, потому что не хочу относиться к тем, кто всегда тянет. Хороша моя Бистра! Подвижная, легкая. Где пробежит — ветер поднимается. В теплом штабе Манта и капитан Цонков ужинают, сидя в белых рубашках и тапочках. Штрипки их галифе ослаблены. Смотрю на ужинающих изумленно, а они глядят на меня и давятся от смеха. Нет ни пленниц, ни пленных. Атанас Касапчето, сосед Манты, подпирает потолок с двумя тарелками в руках и подмигивает мне одним глазом. Так хочется пнуть его тарелки. Когда его мобилизовали, прилип, как собака в распутицу: «Ни ссоры, ни войны без джолана[12] не обходятся. Главное, чтобы у меня в руках джолан был…» Сейчас возле начальства — и сам начальник…
Манта поднимается, волочит по полу распущенные штрипки:
— Ты что ж думал, мы и в самом деле ниже бабьих юбок опустились?
Криво, через силу пытаюсь улыбаться и я. И пока я силюсь скрыть свою кривую усмешку, немецкие минометы начинают бить по всей позиции. Неистовая пулеметная стрельба срывает нас с мест.
Случилось то, чего мы боялись, но надеялись, что пронесет. Не время думать об этом, но стрельба напоминает нам о нем…
Днем комиссар полка прибыл на позиции. Бросил уздечку в руки ординарца и заторопился к командному пункту дружины. Приехал за одним, а заговорил о другом. Высыпал из полевой сумки газеты и отпечатанные на ротаторе листовки, смотрит на меня и прикидывает: когда же сказать о главном? Ну, выплюнь кукурузное зерно, Стефан! Или будем вот так переглядываться?..
Немцы что-то готовят. Но что и когда начнут? То ли сегодня, то ли завтра. Не зная точно их замысла, в штабе предполагают самое скверное. По другую сторону канала Риня, в кирпичной мельнице, наша рота встала немцам поперек горла. Если двинемся в наступление — начнем оттуда. А эти зеленые ящерицы хотят нас вырезать под корень.
Так говорит мне комиссар. Говорит, и как будто легче становится у него на душе. Он вытаскивает из куртки дюжину лезвий. «Гладкое бритье — хорошее настроение», — написано на их упаковке по-болгарски. Стефан читает, что такое гладкое бритье, и переиначивает:
— Гладкое наступление — хорошее настроение…
Смотрю на него, и мне приятно: он выбрит, подворотничок куртки чист. На носках его начищенных сапог прыгают белые зайчики. Свой человек — совсем другое дело. Но этот не из тех, что наполнят тебе миску… Фронтовые будни отнимают время, и мы как будто забываем друг о друге, а сейчас я чувствую, как станет пусто вокруг, когда он вскочит на коня и затеряется среди деревьев.
Где-то ближе к Водвице светит солнце, ослепительно блестит снежный наст. В конюшне бьют копытами кони, пахнет навозом. Мимо нас проходит сосед Манты повар Атанас Касапчето. Белый чепчик кажется смешным на его голове, потому что кругом боевые позиции. Но Касапчето говорит, что, где бы человек ни ел, он должен чувствовать себя как в ресторане отеля «Молле». Для него «Молле» — верх совершенства. Он верит, что его поварской шапочки достаточно для того, чтобы создать иллюзию ресторана.
После полудня Стефан сел на коня. Произошло все так, как я предполагал: копыта метнули назад оттаявшую землю — и круп жеребца исчез за деревьями.
Была причина для тревоги в штабе полка. Запели мины: «Иду-у, иду-у…»
Капитан Цонков трясет телефонную трубку, но трубка молчит.
Два связиста отправляются искать обрыв на линии. По другому телефону из Эржебета спрашивают, что происходит, и капитан Цонков злится на себя, потому что не может дать вразумительного ответа. Он излагает только свои догадки, говорит коротко «слушаюсь» и снова злится на себя, потому что ему нечего сказать командиру полка, который звонит из Эржебета.
Становится ясно, что немцы хотят сковать нас в одном месте, чтобы ударить в другом.
Где они решили ударить по нас?..
Через десять минут все станет ясно, но возможно, что будет поздно.
Наша артиллерия начинает бить из леса Ганайоши, и воздушная волна легко подталкивает нас в спину. Снаряды громко поют и рвутся в окрестностях Надятада. Теперь воздушная волна бьет нам в лицо. Эти мощные толчки то сзади, то спереди чередуются с равными промежутками. Взрывы в Предмостье едва слышны.
Командир «мельников», которые обороняют Предмостье, докладывает по телефону, что немцы из противотанковой пушки продырявили глинобитные постройки у мельницы. Солдаты укрыты в блиндажах и землянках, тех самых землянках, крытых дубовыми стволами и засыпанных сверху землей, в которых матово поблескивают створки от гардеробов с наклеенными на них фотографиями венгерских балерин.
Что-то сжимает офицеру горло. Телефонная трубка издает треск и опять оглушает. Спрашиваем друг друга глазами, что случилось.
В ста шагах от нас, около «Моста смерти», раздаются взрывы мин, осколки рикошетом бьют в бетонные опоры. Потрескавшиеся губы капитана расклеиваются:
— Огонь перенесли.
Это значит, что опущен смертоносный барьер между мельницей и позициями дружины, что нас атакуют и бог знает, что будет потом.
На Предмостье уже рвутся ручные гранаты, вспыхивает автоматная стрельба. Капитан Цонков шарит по земле, отыскивая свой автомат.
Связист с каской на голове, плотно сжав губы, уползает устранять повреждение кабеля. Я что-то ему говорю с деланной бодростью, но все это выглядит фальшиво, потому что губы мои плотно сжаты. Какой-то солдат смотрит на Манту, как на исповедника. Смотрит и спрашивает:
— Удержимся ли, а, господин комиссар?
Манте хочется заорать, но разве закричишь на человека, который смотрит на тебя с верой?! Лучше промолчать, сделать вид, что не слышал. А капитан нажимает химическим карандашом на блокнот для боевых донесений. Его коллега Карчев стал чернее обычного, а трость, с которой он прогуливался по позициям, куда-то забросил. Его кадык торчит над воротником, а губы шелушатся от сухости. Два солдата из отделения командования стоят сгорбившись, потому что блиндаж слишком низок.
Капитан вручает им по записке. Текст на разлинованных листках одинаков. Одинаковы на двух записках и адреса. Солдаты могут быть из Козлеца или Конуша, но они понимают, что значит, когда двоим дают одинаковые донесения. Если наткнется о пулю один, другой доберется до Предмостья. Они посматривают друг на друга недоверчиво, как будто подозревая один другого в чем-то. Солдаты просят божью матерь: если кому доведется встретиться с пулей, то пусть это будет не он, а другой.
Оба солдата несут один и тот же приказ: не отступать, роте организовать круговую оборону. Только так можно облегчить контрудар дружины.
Пытаемся по грохоту отгадать, что происходит там, а там стрельба, мрак и суматоха. Командир взвода связи беспрестанно вертит рукоятку телефона и хрипло кричит:
— Алло, алло!.. Я «Янтра»!..
Но оборванному проводу нет дела до того, что охрипший подпоручик дерет себе горло перед немой телефонной трубкой.
Чья-то рука откидывает брезент у входа в блиндаж, в проеме появляется бородатое лицо. Ни приветствия, ни рапорта! Кому нужны сейчас твои рапорты с поднятой к козырьку рукой!
— Патронов и гранат, господин капитан! Иначе отойдем…
Солдат с плацдарма черен, одежда в грязи.
Капитан Цонков приказывает мне глазами — сейчас слово ничто в сравнении со взглядом! Иду с пистолетом собирать штабных связных. А они, подлецы, прирожденные связные или ставшие ими из желания угодить начальству, быть у него на виду, попрятались. Маузер играет у меня в руке: «А ну немедленно сюда, начальнические прихвостни! Держите-ка ящики с патронами вместо кувшинов с водой! Коробки с капсюлями — отдельно от гранат! Я поведу вас…» И мне было приятно, когда связные угадывали мои желания, прежде чем я сам понимал, чего мне хочется!..
Связные с сопением ползут по спуску, доски тяжелых ящиков стонут на окованной льдом земле. Я сказал им, что ординарцы живут со стадным чувством, но здесь запретил им скучиваться. Чувствую, что ползут на расстоянии друг от друга — запомнили сказанное.
Вода в канале поплескивает, белеет вдруг от ракеты и движется, движется, движется. Вода тяжелая, ленивая. Когда ракета гаснет, она вначале превращается в подсолнечное масло, потом — в деготь…
Матушка моя Риня! Откуда ты берешь свои воды? Одним духом тебя перемахнул. Не только я, но и вся команда связных, которые уже не вертятся услужливо перед начальством, а ползут, таща ящики с патронами…
Бетонная громада, запрудившая канал, осталась позади. Под ногами скрипит песок. Выстрелы сверкают совсем близко. Пули впиваются в землю, отлетают рикошетом. Сопения солдат не слышно, но я знаю, что они ползут следом. Соскакиваем в какой-то ход сообщения. Мне становится легче. В занавешенной брезентом землянке подпоручик вскрывает лопатой ящики. Шинель подпоручика разорвана, плечи его засыпаны известковой пылью. Он дерется за мельницу, и белый порошок напоминает мучную пыль.
Валюсь на истертую в порошок солому. Слышу плохо и почти ничего не вижу. Пламя в чашке с жиром вздрагивает. Пахнет порохом, растопленным салом и сопревшими сапогами. Связные притулились рядом на корточках. Ну что они такого сделали, чтобы так меня озлобить? Может ли мир существовать без связных?!
Манта улыбается им. Уж этого-то они не ожидали. И сами начинают улыбаться. Хорошие ребята, не злопамятные. Злопамятными ординарцы не бывают…
Солдаты хватают патроны и разбегаются по окопам. Стрельба снаружи становится жарче. Манта подталкивает меня дулом автомата:
— Долго ли эта железина в твоих руках будет холодной?
Он подает мне две ручные гранаты и направляется к выходу. Иду следом за ним. Кто-то стонет. Время ли уделять внимание каждому оханью? Автомат пляшет в моих руках. На конце дула пульсирует огонек. Множество таких огоньков вспыхивает вокруг. Если есть руки, в которых холодный металл становится горячим, значит, все в порядке.
— Манта-а-а! Слышишь ли, Манта? Сладко ли закусываешь с наложницами отбивными Касапчето?
ВЕРТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ
Кожаная обивка старого «форда» порвана. Из сиденья торчат пружины. Пружины блестят: не одни штаны их шлифовали!.. Какар одной рукой крутит баранку, другой держит рычаг переключения скоростей. Разлетелся вдребезги какой-то подшипник, и, если бросить рычаг, скорости переключаются сами. Черт бы побрал эти скорости! Да и можно ли их назвать скоростями? Когда Какар переключает на вторую, под ногами скрежещет железо. Какар вытягивает шею, испарина росит ему лоб. Просит, меня перехватить рычаг. Я беру, а он в это время куском ветоши вытирает рябоватое лицо.
В двух местах баранка перевязана скрученной вдвое медной проволокой. От постоянного соприкосновения с грязными руками на витках проволоки напласталась черная жирная грязь. И кусок ветоши, когда-то синий, сейчас промаслен и почернел.
Шоссе на Стара-Загору изрыто и пыльно, щебень по краям рытвин разбросан, как орехи. Позади машины клубится опаловая пыль. Если бы был полдень — пыль была бы зеленоватой, но солнце клонится к закату — и она становится опаловой.
«Форд» петляет от обочины к обочине. Какар, покусывая губы, говорит как для себя:
— Если не выбирать дорогу, придется где-нибудь загорать…
— Ну и позагораем, подметки на кусте просушишь.
Какар косится, шучу я или говорю всерьез, и хихикает для храбрости:
— С вами шутки плохи, и подметкам покою нету… Влепишь пулю — и поминай как звали… — Когда переднее колесо попадает в рытвину, Какар приподнимается и зажмуривается, потом кривит длинную шею: — Убери свою железку! Шоферское дело не для трусливых людей.
«Железка» — это мой маузер. Его черная рукоятка выпирает из деревянной кобуры, как гиря. Какар знает, отчего кособочит шею, отчего над его верхней губой выступает испарина. Ось переднего моста и поворотные цапфы сваривались уже не один раз. Достаточно рытвины поглубже в щебеночном полотне дороги — и они разлетятся вдребезги. А тогда будем глядеть друг на друга, охать, ахать, сушить сапоги на терновнике… В путь мы отправились по важному делу. Убийца, заваливавший колодец живыми людьми, ломавший колом ребра, разбивавший головы, гуляет сейчас под липами Стара-Загоры, в лампасах и с сабельной цепочкой… Давай-ка, браток, прогуляем тебя на «форде», пусть вопьются наручники и в твои мясистые запястья!
Мимо нас, подпрыгивая, проносятся пыльные джипы и студебеккеры. В студебеккерах красноармейцы едят арбузы и бросают корки за брезентовый тент. В джипах плотными группками сидят русские офицеры.
Какар спрашивает:
— Ну и как ты теперь?.. Шутка ли сказать, целый подполковник, а ты его будешь арестовывать!..
Весело мне, смеюсь:
— Пусть хоть полтора подполковника, все равно упрусь ему дулом в живот!
Белки глаз Какара сверкают.
— Мама родная!.. Эх, в душу его… Жаль, меня там не будет… Как же вы будете глядеть друг на друга, а?
— Пусть его это печалит! Тому, кто сильнее, легче смотреть…
— Мама родная!
Чирпанские виноградники желты от спелых гроздьев. Какар то сплевывает за окно, то сглатывает слюну:
— Все пойдет как по маслу… Сейчас приторможу… Все печенки выплевал с пылью. Не грех бы виноградом червячка заморить.
— Смотри за дорогой, сорное семя! Хочешь, в конце концов, чтобы мы доехали?
Какар одной рукой крутит руль, другой нажимает на рычаг переключения скоростей. Железо под нами скрежещет, щебень по изрытому шоссе разбросан, как орехи.
Стара-Загора издали — тополя и желтеющие то здесь, то там домики. Потом тополя вдруг отодвигаются и остаются одни домики. Кипарисы в садах посерели от пыли. Давно не было дождя. Какой-то женщине с метлой в руках вдруг захотелось петь, и она разливает по хризантемовым дворикам арию Виолетты. Люди снуют вверх-вниз, опоясанные старыми портупеями, а ей поется.
Молодые партизаны еще не успели забросить портянки и грязные веревки. Перед репродуктором два тощих парня хлопают друг друга по плечам. Вернулись живыми, хотят сказать что-то хорошее, но не знают — что, и тузят один другого.
— Останови!
Коробка скоростей тарахтит, скрипят тормоза, какая-то сила толкает нас вперед.
— Ну вот и добрались! — говорит Какар. Он посмеивается, глядя на меня. По его рябоватому лицу стекают мутные капли пота.
— Эй, товарищи, где тут партизанский штаб?
Парни смотрят на меня, удивленно приподняв брови:
— Что эта у тебя за форма, а?
— Английская! — кричу.
— Ты, случайно, не водил ли шашни с империалистами, а?
— Форма — не самое важное, — уклоняюсь я от ответа.
Оба оглядывают меня с головы до ног. Старший почесывает за ухом:
— Петырчо, иди покажи ему штаб!
Петырчо садится на продавленное заднее сиденье, пружины взвизгивают под ним.
У базара сворачиваем к почте и выезжаем на длинную прямую улицу.
Штаб разместился в школе имени Кирилла и Мефодия. Петырчо вводит меня в какой-то зал, пол которого наполовину устлан ржаной соломой. Соломинки светятся на одеялах. Вместо подушек используются ранцы. В стены вбиты гвозди, на одном из них висит каска.
Девушка в новенькой солдатской форме метет пол, брызгая водой.
— Эй, Роза, где товарищи? — спрашивает Петырчо.
— Мету мусор за ними! Приходят, разбрасывают солому, а ночуют по квартирам.
Роза смеется, в одном ее глазу притаилась слезинка. Красавица партизанка! И в глазу ее вовсе не слеза, а жемчужинка, обдающая нас сиянием. Был бы здесь Какар, обязательно сказал бы: «Мама родная…» Но Какар внизу. Он подпирает «форд» и разглядывает на своей ладони мозоли от рукоятки.
Хлопочет метла в руках девушки. От разбрызганной по доскам воды расходятся большие темные пятна… Чочоолу находится в штабе дивизии; Велко укатил куда-то на мотоцикле; Иван выступает в Кириллово с речью — дай бог ему здоровья; Выжара подался к рабочим на «Веригу» заглянуть им в глаза и сказать пару слов. Осталась только мелкота, у которой рай на душе. От избытка невысказанных чувств лупят друг друга по спинам. Их несколько — Ленко, Петырча, Фанти, Шоколад и Румян. Все моего возраста, и все горячи. Дотронься трутом — трут вспыхнет…
Напротив — штаб дивизии с четырьмя колоннами и мозаичной лестницей в центре. По лестнице спускается расшитый лампасами генерал. Качаются его желтые аксельбанты, сверкают никелированные коронки их наконечников. Чочоолу идет слева от генерала и что-то говорит ему на ходу. Рука его, неподвижная после ранения, согнута в локте. Здоровой рукой он придерживает новую офицерскую фуражку. Голова его больше привыкла к колпаку из овчины. Фуражка — другое дело, ее надо держать!..
Все перевернулось вверх дном! Еще позавчера 8-я дивизия генерала преследовала Чочоолу по пятам за Змеевом и Пряпорецом, бились насмерть, а сейчас они разговаривают на ушко, как будто ничего подобного и не было. Черный командирский «мерседес» лоснится, шофер-фельдфебель придерживает открытую дверцу автомобиля, а Чочоолу и генерал беседуют.
Еню Карата идет следом. Крепкая шея. Тело его просто лопается от здоровья, как налитое яблоко. Икры его — навитые веретена, корни столетнего дуба. Когда идет, из-под ступней во все стороны брызжет песок. Карата никак не может расстаться со своим автоматом. Все еще косо смотрит на генерала и думает: «Я б тебе сейчас влепил!..»
Легонько дергаю Чочоолу за офицерский мундир и говорю ему, что привез приказ выдать мне подполковника Мануйлова. Смотрю, как он шевелит усами, и по их движению понимаю, что он мне говорит: «Оставь меня сейчас в покое! Милости прошу в штаб потом…» А генерал гладко выбрит. И слова его гладки и как будто тоже побриты:
— Для таких дел, мальчик, необходимо разрешение штаба армии… Мы все же государство, и каждый не может делать все, что ему заблагорассудится!
Генерал делает шаг. Сказал и забыл про меня. Усы Чочоолу снова шевелятся и спрашивают: «Слыхал?» Но глаза его говорят совсем другое: «Не умеешь лаять, не лай там, где не просят!»
Вот возьму сейчас и расскажу им, как подполковник сбрасывал живых людей в колодец, как ломал людям ребра и разбивал головы!..
Еню Карата подмигнул мне сбоку одним глазом, чтобы я прикусил язык, мол, все сделаем потом, как нужно. Генерал и Чочоолу направляются к автомобилю, фельдфебель распахивает дверцу до отказа.
— Дурак ты, братец!
Глаза Еню открыты так, будто он вот-вот меня проглотит. Он говорит мне еще что-то, но я не слышу, потому что в это время шины командирского «мерседеса» отклеиваются от щебеночного покрытия перед штабом. Большая черная машина, покачиваясь, проплывает мимо облупленного «форда», того гляди, лизнет, но нет, не задела. Какар выворачивает шею, издали кивает мне головой и всем своим видом говорит: «Дай мне такую штуку в руки, так сразу почувствуешь, как зад твой размягчается, и дремать начнешь…»
Еню кричит мне снова:
— Сейчас возьмем адрес подполковника и мигом все обшарим, как бахчу. Дам тебе одного из моих молодцов. Ленко тебе дам, чтобы сразу все закончили, и шито-крыто. Ты ведь знаешь, если что-нибудь заклинит, смажь маленько подсолнечным маслом, дегтем или мылом, и тут же само собой пойдет по намазанному. Оставь ты в покое Чочоолу! У него ТТ стащили, вот и не мил ему белый свет. Он из России его привез. Этот пистолет ему жизнь спас, а сейчас какая-то дубленая глиста у него его украла…
Стемнело. Окна дома митрополита светятся между кипарисами. Внизу, на равнине, светятся и Колю Ганчево, и аэродром, и Памукчи. Чадыр-курган растворился во тьме. Погасли огоньки в цыганском квартале. Над Гибраном взлетела зеленая ракета. Кто-то из наших захватил с собой ракетницу.
А мы с Ленко прогуливаемся по Аязмо и рассуждаем о том, что владыки опять остаются владыками. Мечтаем о таком времени, когда мир останется без владык, а мы усядемся в митрополитов «гудзон» и оставим за собой открытыми железные двери. Нахлынет через них гибранская детвора, и превратятся митрополитовы хоромы в детский дом.
Ленко — одни глаза навыкате и заостренный носик. Подошвы сапог отваливаются.
Миндаль потрескивает, постукивает по земле — мир забросил свои дела, некому собирать миндаль. Кусты теряют зерна, и запах буйного семени кружит нам голову. В засохших репейниках Ослиной поляны посвистывает осенний ветерок, пучат глаза над Старозагорской равниной звезды — зеленые, синие…
Пусть сидит на корточках Какар в дежурной комендатуре вокзала, пусть ощупывает на ладони мозоли от рычага! Такая у него судьба — сидеть на корточках и ждать. У нас — другое дело. Залили ему мы бак по пробку бензином митрополита, оставили колбасу, хлеб, фляжку вина. Обожжет его изнутри вино, заалеет румянец на лице, побелеют рябинки.
Мы с Ленко притаились в самшитовых зарослях двора и ждем. Коробку спичек исчиркали, пока разобрали «адрес» в записке Караты. Маузер заряжен, остается только щелкнуть предохранителем и нажать курок.
Время уже подполковнику возвратиться — звезды повернулись от Колена к Бедечке. Какар удивлялся, как будем глядеть в глаза один другому? А мы посмотрим! И в темноте узнаем друг друга! У одного во рту пересохнет, другой закусит губу, только спуск похолодит палец.
Ленко мне шепчет, что ему до смерти хочется закурить. Хочу ему сказать, пусть помрет, только замолчит, но за железными решетками входной калитки, выгнутыми, как улитки, появляется темный силуэт человека в фуражке. Хоть в патоку погрузи этого человека, я его узнал бы!..
Ржавые петли калитки скрипят и повизгивают. Мягко щелкает под пальцами предохранитель.
Мир — колесо! Вертится, вертится…
ЗОЛОТЫЕ ОСИНЫ В МАЕ
Все зазеленело…
На осинах во дворе военной больницы зашелестели листья. Их ласкает теплый ветер, обогревает солнце и от этого им так хорошо, что нельзя не зашелестеть…
И нам хорошо. Каждый прибыл в больницу с забинтованной раной, а все-таки хорошо. Вот только шевелиться не хочется. Те, у кого по одному глазу, договариваются, как им ходить по двое в кино по одному билету… Нам повезло — все-таки по одному глазу у нас осталось. А вот у подпоручика Гайдарова глаз нет… Как странно устроен человек: только что из беды выкрутился, но, уловив запах весенней мезги, уже затараторил, заговорил. Болтает и не видит, что рядом с ним, может быть, находятся люди, у которых от горя сердце кровью обливается.
Вечером с Витоши веет прохладой, золотые блики на листьях осин меркнут, а сами деревья, словно боясь чего-то, начинают шепотом переговариваться между собой в темноте. Во дворе на провисших проводах качается электрическая лампочка, и тени деревьев от этого колышутся. С наступлением темноты эти тени сгущаются и преследующая нас боль тоже усиливается, а столбик термометра ползет вверх. Подпоручика же Гайдарова окружает вечная тьма. Для него нет ни голубой Витоши, ни лампочки, качающейся на провисших проводах, ни золотых листьев на осинах. Остался ему лишь запах зелени, теплой земли, и подпоручик просит нас, кто поздоровее, передвинуть его кровать поближе к открытому окну, чтобы и он мог принять участие во всеобщей радости…
Пробитая каска поручика Златкова осталась ржаветь где-то на холмистой равнине возле канала Риня. Черная пороховая метель ударила в лицо подпоручику Николчеву, покрыла его ожогами, как оспой. Николчев стучит по покрытому пятнами больничному полу, выложенному плитками, костылями и ногой в гипсе. Глаза фельдфебеля, только что окончившего военное училище, словно кровью налились от глаукомы. Глаукома не рана, однако и ему нелегко: он находится среди стольких опаленных огнем мужчин! Поэтому он старается помочь нам чем может: опускает наши письма в почтовый ящик, носит нам газеты, читает их вслух… У фельдфебеля одна тревога: без него молодежная агитгруппа, репетирующая в доме Добри Божилова, может распасться…
У слепых и одноглазых свои заботы. К подпоручику Николчеву приехала из Луковита его невеста, выпускница средней школы, настоящий ангел. Она выходит из палаты как будто по делу, но, когда возвращается, по ее покрасневшим глазам видно, что плакала.
Родители подпоручика Гайдарова принесли габардиновый френч, прикололи к нему орден сына за храбрость и значок за ранение, на котором эмалированный лев наступил на картуш с надписью: «За Болгарию». Подпоручик, как ребенок, дал себя одеть, а когда его одели и увидели, что габардиновый френч, над которым белеет забинтованная голова, не может спасти положения, заплакали все вместе, но беззвучно, чтобы сын не услышал.
Мама пробиралась ко мне через всю Болгарию. Всю дорогу ко мне она ехала с повязкой на глазу, хотела узнать, как видят белый свет одноглазые…
Снега Венгрии, распятия на перекрестках дорог, журавли колодцев на равнине Шомодь, вытянувшие шеи к вечернему небу, стали теперь далеким воспоминанием. Кровь, что лилась, вся вытекла. Наступили иные времена. Солдаты, которые писали мелом на телегах: «В этой колымаге доставим Гитлера», сейчас в Мариборе и цокают языками, глядя на альпийские снега; под пеплом гаснут пожары Будапешта; Жуков взял в железное кольцо Берлин…
В наше время мужчины, которые не способны стать на защиту своей Родины, не мужчины! Пуля и осколок более слепы, чем мы: они не выбирают, в кого угодить, кого не задеть. Мы оказались впереди, в нас и угодили. Что же нам сейчас, проклинать свою несчастную участь? Ни у кого и в мыслях такого нет. Мужчина, у которого свои счеты с войной, о таких вещах не думает…
Все зазеленело! Листьям осин хорошо, вот они и шелестят. Позади еще одна долгая, дикая ночь, вот поэтому сердчишки наши и трепещут, как осиновые листья. Откуда-то доносится гудок поезда, но это не тот поезд — санитарный, что грузили в Барче на паром вагон за вагоном, не тот, который со скрипом и болтанкой тащил нас от станции к станции. Это другие поезда — бедные, но веселые, потому что они еще станут богатыми. И Витоша, объятая утренней синевой, обдает нас майской прохладой и очищает нас от обид и страданий, вырывая из глубин наших душ спекшиеся сгустки крови…
И царица поняла, что происходит в мире, поэтому приехала, чтобы угостить раненых вареньем. В больнице по такому случаю все вверх дном! Еще есть люди, у которых от одного упоминания о царице сдавливает горло… Не надо бы, ваше величество! Это дикий народ. Его обманывали, мучили и истязали раскаленным железом, как скотов. У этого народа сухие глаза, потому что он выплакал все слезы; он груб и не знает салонной галантности — того и гляди, заулюлюкает, тогда и не будешь знать, где спасаться, и мне будет нелегко защищать тебя!
Царица идет по двору вся в черном. Вдова. За ней десятка два дам с подносами в руках…
Раненые сидят на скамейках во дворе, ковыряют костылями ссохшуюся землю и никак не могут взять в толк: царица — в черном, они — в белых бинтах. Гляди, ваше величество, как солдат стирает ваши испачканные простыни!..
«Здесь, — думаю я, — добром не кончится». А пока я так думаю, солдаты с костылями поднимаются со скамеек и воздух сотрясает мощный крик возмущения. Эх, не видать нам, что там было, на подносах!
Доктор Кец протирает очки. От волнения его голос срывается.
— Дуры бабы! Делать им нечего… Сидели бы себе в своих палатах!..
Три черные машины увозят и дам, и нетронутые подносы. После них остается только запах бензина да сизый дым…
Завтра 9 мая. Но откуда нам знать, что именно завтра фельдмаршал Кейтель последний раз будет щеголять жезлом, перчатками и моноклем, да щеголять-то будет, в общем, нечем, потому что, когда подписываешь акт о безоговорочной капитуляции, в какой бы наряд ни рядился, все равно голым останешься!
После долгой тьмы совсем короткая, воздушная и хрупкая майская ночь отделяет нас от дня, когда голос радио заставит нас выскочить из кроватей; подпоручик Николчев нервно начнет бить костылями по покрытой пятнами больничной плитке в палате глазного отделения; подпоручик Гайдаров попросит поднести его к окну, но некому будет услышать его; поручик Златков попытается достать из-под подушки пистолет, потому что в мире давно не было такого дня.
Мы перебинтованы, но все же мы солдаты. И мой пистолет под подушкой. И другие, подобно нам, не расстаются с оружием. И вот мы будем стрелять, и разноцветные гроздья ракет повиснут в вечернем софийском небе. Потому что будет 9 мая!
Это будет завтра, а сейчас теплый ветер ласкает осины во дворе больницы и солнце окрашивает их майским золотом. И в нас что-то дрогнуло, и нас что-то подогревает изнутри — то ли золото осин, то ли солнечный свет…
ИНСПЕКТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
Я ограблен. Командир, утвержденный в должности, уже в полку и командует. На плюшевом сиденье фаэтона мне опять отведено место слева от старшего. Кончился мой недоснившийся командирский сон. Кончился!..
Резиновые шины фаэтона мягко покачивали меня, но я уже был на земле. Какая-то завалящая бумажонка с микроскопической подписью спустила меня с небес на землю, заставила надеть парадную форму, со всеми регалиями, так как мне предстояло стоять на перроне, ожидая какой-то запоздавший поезд, которым должен прибыть новый командир…
Два жеребца с одинаковыми пятнами на крупах уныло клюют мордами у вокзала. Я убеждаюсь теперь, что лошади воистину умные твари, чувствуют, каково человеку. Мой ординарец Пеню ерзает на козлах, глазеет по сторонам, чтобы не встречаться со мной взглядом. Нет! Это стоит не командирская упряжка, а мой катафалк…
Станционный колокол ударил три раза. По перрону торопится железнодорожник с мешком через плечо. Торопится, тупица, и не смотрит по сторонам. Он задевает меня мешком и разворачивает. «Ты что, слепой?» — кричу ему. А он даже не обернулся посмотреть, кого задел. Нашел, мол, время для пререканий!..
Паровоз медленно вползает под козырек перрона. У колес его внизу клубится белый пар. Пар свистит. Свистит и у меня в голове, да так свистит, что я не могу понять, где пар, а где моя голова.
Из вагона первого класса выходит новый командир. Выходит первым, торопится сойти! Роскошная накидка лижет его сапоги. Левой рукой он придерживает саблю, в правой — сумка с замком-«молнией». Элегантный, дьявол его возьми! И зачем ему мех, если он меня и без него может сложить в свою сумочку и застегнуть сверху «молнию»!..
Иду ему навстречу, издалека заставляю себя изобразить улыбку и делаю вид, что еле дождался, пока он спасет меня от бед и ответственности. Но улыбка моя лжива, чувствую ее на своем лице, как гипсовую маску… Моментально соображаю, что этот номер потом можно будет демонстрировать офицерам в полку. Те будут делать вид, что верят в мои разговоры об избавлении от тягот, а я буду делать вид, что не замечаю игры, но, в сущности, мы будем обманывать друг друга…
Командир уже подписывает приказы, часовой у Знамени полка отдает ему честь, а когда мы едем в Змеевский ресторанчик, на жареную колбасу, я сижу на сиденье фаэтона с левой стороны от него. За жареной колбасой со змеевским вином забываются некоторые неприятные вещи. А если и не забываются, то выглядят совсем не такими уж страшными…
Вслед за командиром прибыла комиссия для проведения инспекторской проверки. Я подозреваю, что приезда комиссии потребовал командир, чтобы знать, с чего начинать и с каким полком он имеет дело. Хорошее во время проверки сядет как золотой петушок на его плечо, плохое — как черная ворона на мою спину. Придется мне расплачиваться за быстротечное командирское блаженство! Но и я не лыком шит, не из воска слеплен, чтобы растопиться от небольшого нагрева. Да и не допущу я, чтобы дело дошло до повышения температуры…
Стойчев, командир полковой батареи, — полпорции подпоручика. Такие носят высокие каблуки и вечно лезут в драку. Если им повезет по службе, становятся тиранами. Но от таких понятий, как тирания, подпоручик далек, он только носит высокие каблуки и хорохорится. Усики его аккуратно подправлены бритвой, голос хриплый, зубы пожелтели от табака. Вместе с ним мы объезжаем самых норовистых коней, и этого достаточно, чтобы на других офицеров смотреть свысока. Сзади его брюки обшиты тонкой хромовой кожей, красные канты, пристроченные узором, проходят над коленями, сапоги с задниками на пядь выше обычных. Такие, как он, могут понять тебя с полуслова.
— Стойчев, — спрашиваю его, — ты знаешь, что такое пустой стог сена?
Стойчев смотрит на меня как на пятнадцатидюймовое орудие: какой еще пустой стог? Он не понял, и я ему объясняю, что в полку в некоторых ротах есть солдаты, никак не подходящие для показа. Глаза у них мутные, как гнилые черешни; когда говорят — брызжут слюной; портреты разных деятелей, висящие в спальных помещениях, называют иконами. Такие, говорю, доведут инспекторов до умопомрачения. Это и есть пустой стог сена!
Стойчев хлопает себя по лбу.
— И у меня, — говорит, — в батарее есть такие зернышки, а ведь у нас сплошные синусы, косинусы — математика, Глядишь, и мы у себя блох переловим…
Ночь. Ах какая ночь качает свой синий тюль над Стара-Загорой! Электрические лампочки на улице Царя-Освободителя нанизаны как перламутровые пуговицы на фиолетовую фракийскую антерию. В одном из домов какая-то Райничка кудрявит на скрипке Паганини и дарит его, завитого, через раскрытые окна музыкальной публике в квартале.
От напряжения все тело Стойчева покрылось испариной, он движется по плацу на полусогнутых ногах, как будто несет что-то тяжелое. Мы довольны собой. Как и полагается по правилам безопасности, выставили на почтительном расстоянии охрану, а батарейцы спокойно сооружают из тюков прессованной соломы какую-то вавилонскую башню. Завтра с восходом солнца десятка два солдат, отобранных по списку, поползут на четвереньках через оставленную дыру внутрь пустого стога…
Еще синеют предрассветные сумерки. Сквозь дрему слышу, как хозяйка разжигает в чугунной кастрюле, используемой в качестве плиты, уголь. На улице по мостовой зацокали подковы, тоненько заржал конь. Узнаю по ржанию — мой жеребец Утро. Подпоручик Стойчев в одной руке держит уздечку своего Гранита, другой подает мне знак: давай выходи, пока полк еще не расшевелился. Офицерское облачение — как сундук с женскими пряжками, брошками и заколками. Черт бы их побрал, всякие штрипки, шпоры, кортики, кобуры и орденские ленточки! Пока я нацепляю на себя всю эту галантерею, подпоручик, ерзая от нетерпения, протирает штанами седло. Цветет сирень. Утренний холодок освежает готовые расцвести бутоны роз. Стойчев разминает коней, чтобы не застоялись, и поясняет мне, почему нельзя, чтобы кони застаивались:
— Грешно перебивать сиреневый аромат конскими яблоками… — Он идет слева, на полкрупа сзади, и рассуждает: — А лошадь, когда укроешь ее попоной и поставишь в безветренное место, не простудится и не наделает тебе лишних хлопот…
Те, кого мы определяем в затишек, чтобы не создали нам лишних хлопот, вползают на четвереньках через вход соломенной вавилонской башни. Брюки у них трещат сзади от натуги, утреннее солнце катается по ягодицам. Батарейцы притащили им мешки с сухарями и консервами, а один фельдфебель вспомнил и о баке с водой. Он командует парадом со стороны, пряжка на его ремне сверкает и золотит его руку дешевым унтер-офицерским золотом.
Вот уже замуровывают вход. Стойчев кричит им, что они могут теперь играть в «кошки-мышки», но только без шума.
— А что это — «кошки-мышки»? — спрашивает из соломы чей-то бас.
Гора с моих плеч свалилась, и я расфилософствовался.
— Сейчас, — говорю я, — мы пожинаем плоды капиталистической системы образования, но пройдет немного времени, и у нас будут солдаты только со средним и высшим образованием.
Подпоручик Стойчев мне возражает:
— Нет, пусть будут только со средним, потому что с высшим образованием солдаты будут знать больше нас и наступит афан-туфан.
— Что это такое «афан-туфан?» — спрашиваю.
Стойчев хихикает:
— Когда придет время давать взаймы ум людям, знающим больше тебя, вот и наступит тебе афан-туфан. Простой народ — сильная держава!
Теперь я смотрю на него как на пятнадцатидюймовое орудие.
— Согласен, — говорю, — чтобы солдаты были только со средним образованием.
Те, что с воспаленными глазами, сидят как кроты в соломе. В «кошки-мышки» играют или в «бабки» — их дело. Только бы не чихали да не кашляли, чтобы не подвели своих!..
Хорошие ребята: не кашлянули, не чихнули…
Инспекторская проверка прошла как по маслу. Те, что остались отвечать на политические вопросы, стрелять на полигоне по подвижным мишеням, отличат портрет от иконы. Начальник штаба армии сказал мне такое приятное, что не могу удержаться, чтобы не повторить. Он сказал, что новый командир принял от меня хороший полк, что я офицер с будущим… Или что-то в этом духе. А как же может быть иначе? Не оставлять же это будущее на тех, кто говорит медведю: ешь меня, — а если и не говорит, то не может ложкой в рот попасть! Но кто, пролив столько пота, в двадцать три года не мечтает о будущем? Я ношусь по плацам, как победитель, с ангельской легкостью на душе. Из памяти выветрилось, что на вокзале неделю-две назад у меня дрожали коленки и пересыхали губы, что лицо мое каменело от подобия улыбки, а от усилия скрыть это моя физиономия еще больше каменела. Дело сделано — сладкое после горького хорошо идет…
Пойдем, Стойчев! Пойдем оседлаем коней самых буйных! Давай ошарашим галопом дремотное Хриштенское пастбище. Да и сами порадуемся, глядя на красивых жеребцов, почувствуем себя рядом с ними более сильными и смелыми! Армия с лошадьми — большое дело…
Комиссия рассыпалась на части — по группам пишут протоколы. Пусть себе пишут! Пока они будут ломать голову, как ослабить сильные выражения и оценки, чтобы от них случайно не закружилась голова, раскачаем теплый воздух лихой жокейской скачкой и расскажу я тебе, почему у меня сегодня самый веселый день. Правда всегда нас с кем-нибудь ссорит. Если увидишь, что чья-то душа кровоточит, значит, знай: кровоточит какая-то истина. Правда — мрачная штука! Видел сейчас, как с помощью элегантного лукавства стало всем хорошо, ни у кого настроение не испортилось?..
Знаю, что все, о чем я болтаю, не так на самом деле, но лезет в разговор само собою. И подпоручик Стойчев это знает.
— Хоть, — говорит, — ты сам себе не веришь, но продолжай!
Он моргает одним глазом и кивает головой: куда, мол, нам без правды!..
Ну, теперь можно и размуровать ворота вавилонской башни, а то, не дай бог, забудем про этих воинов царя Самуила, так они в гробовом молчании и конца службы дождутся.
Пыхтя, оттаскиваем тюки соломы от входного лаза. Говорю подпоручику:
— Армейская служба всех выпрямляет: и столичных плутов, и лежебок, и лизоблюдов. Только загноившиеся глаза не может исправить. Я этих молодцов спрятал, браток, потому что для протокола нужен отборный солдат, а нам с какими только не приходится иметь дело…
Один из солдат вылезает на четвереньках из темноты стога. Через отверстие в соломе показывается стриженая голова с фиолетовым чирьем на шее. Запылившиеся губы заговорщически шепчут мне:
— Господин майор, влезай к нам. Мы тут как у Христа за пазухой…
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ![13]
В частях появились женщины-военные. Все в армии на время приумолкли, озадаченные их появлением. Заведенные порядки были нарушены, а главное — исчезла спокойная прелесть привычной жизни.
Плешивая голова майора Бандакова влажно блестела, от жары взгляд его потускнел. Он вытирал платком лысину и вздыхал:
— Шерше ля фам!..
Из каких пустяков люди способны делать трагедии! Не знаешь, то ли жалеть таких, то ли смеяться над ними. Я отнесся к нему с сожалением и рассказал о том, как встретился с мамой, когда был партизаном. Мамины глаза тогда наполнились слезами, но она улыбалась. Она прикоснулась к моим рукам — да, это я, целый и невредимый. Тогда она спросила, есть ли в нашем отряде женщины. Я ответил, что у нас одни мужчины, и она успокоилась: «Это хорошо!..»
Майор слушал рассеянно, потому что был углублен в свои собственные мысли, а каждый человек всегда придает этому самое большое значение. Пока мы говорили, только что назначенная в штаб военнослужащая Глафира пробежала по цементной лестнице перед строевым отделением. Ее грудь колыхалась под туго натянутой кофточкой. Я даже забыл, о чем мы говорили. Да, мы говорили о том, что женщина нам дана для того, чтобы ставить нас на место, когда мы зарываемся…
Что-то вдруг произошло и со мной, и с майором. Его взгляд стал прежним. Он вновь повторил французскую фразу, но опустил «шерше» и из его груди, словно вздох, вырвалось только:
— Ля фам!..
Нам было неудобно смотреть друг на друга, потому что мы оба лгали.
Глафира прошмыгнула мимо нас. Ее пальчики были перепачканы краской от копировальной бумаги. Золотистые веснушки на носу исчезли за ее очаровательным смущением. Песок на аллее, ведущей к штабу, захрустел под ее ногами. Мы нутром почуяли присутствие женщины…
Майор был холостяком. Процессы развития у старых холостяков столь незначительны, что было бы преувеличением называть их процессами. Но я почувствовал, что поворотный момент наступил…
Майор Бандаков стал каждое утро заниматься гимнастикой. Заведующий столовой заметил, что майор перестал теперь есть суп. После гимнастики он снимал свой новый китель, взвешивался на поржавевших весах на складе полка, а потом с таким ожесточением начинал поднимать тяжелые гири, что в результате добивался уменьшения жира на животе граммов на сто. Когда майор освобождал от своей тяжести весы, они скрежетали и вздрагивали. Майор встал на путь осознания великой красоты жить для других. Исполненный непонятного возбуждения поздно проснувшегося честолюбия, он, сойдя с весов, надевал китель, который ему чинно подавал кладовщик, и, насвистывая, начинал застегивать металлические пуговицы.
Как раз в эти дни я со всем неприличием своей молодости напомнил ему о взглядах французов на коварную роль женщины в наших житейских страданиях. Он выслушал меня хладнокровно. Озарение влюбленности светилось на его выбритых до синевы щеках. Это озарение предшествует половине всех смелых дел. И откровение — тоже смелость. Не думая о том, что его могут услышать любопытные уши, майор признался, что раньше не запоминал снов, а сейчас его каждую ночь преследует один и тот же сон: повар полка Георгий мешает огромным черпаком солдатскую похлебку, над котлом начинает подниматься пар, а из пара, точно как на иконе «Вознесение Христа», появляется Глафира. Она ступает своей маленькой ножкой по краю котла и говорит одуревшему от любви майору:
— Богородица я, земля разверзается у меня под ногами, но глаза мои устремлены к небесам…
Майор Бандаков смотрит на небо и ничего там не видит, а когда опять начинает глядеть на Глафиру, она медленно исчезает в похлебке вместе с поваром…
— Зачем, — говорю я ему, — ты оскверняешь эту девушку похлебкой Георгия? Уведи ее куда-нибудь подальше от интендантского полка, дай ей в руки красные розы Аязма, угости вином Арагоны, вспомни стихи Дебелянова: «Хочу тебя я помнить все такой!..» Но если Глафира узнает, что ты видишь ее идущей по краю полкового котла!..
Майор заразительно хохочет, его лицо наливается кровью.
— И-го-го!.. А как я понесу через весь город эти розы? Как мне выдавить из себя: «Хочу тебя я помнить все такой»? Брось ты эти штучки-дрючки… Женщины прячут жажду жизни за сказками о душе…
Полк выступил на занятия недалеко от Чирпана. Подразделения шли через виноградники, и штаб переехал на новое место. Глафира осталась возле зеленых штабных сундуков ждать телегу, майор Бандаков — при интендантстве, я — при двух прыщавых фельдфебелях-курсантах, которых объявил художниками. После занятий мою работу будут оценивать по числу выпущенных стенгазет, поэтому курсанты рисуют стенгазеты по штуке на каждую роту.
Майор затянул меня к себе в палатку и показал взглядом на походный стол. На нем лежало что-то завернутое в газету, нижний край пакета напоминал по форме противень. Палатку наполнял запах жареной курицы.
— Ты видишь там Омуровские луга? — спросил Бандаков.
Я кивнул головой в знак согласия, что вижу, и он многозначительно мне подмигнул. Подмигивание означало, что мы будем обедать на тенистом лугу с Глафирой, которая смеялась, сидя у своих сундуков, громче, чем позволяла обстановка. Я взял корзинку с хлебом и бутылку вина, а майор принялся за курицу. Потрогал ее, поднял и ахнул. Его глаза устремились в мою сторону. Пустота, которая в них светилась, меня смутила. Противень был легче, чем следовало. Майор, какой-то притихший, поставил осторожно, словно передавал кому-то на руки младенца. Я был в недоумении. Майор пошел по неровному склону, спотыкаясь на выбоинах и не замечая, что спотыкается. Я догнал его, ухватился за плечо и повернул лицом к себе. Губы майора беззвучно шевелились. Все-таки он понял, что я жду от него какого-нибудь разъяснения, и простонал:
— Вопрос политический!.. — Увидев мое полное недоумение, он спросил: — Ты ведь политический работник полка и тоже должен был присутствовать на этом обеде?
— Да…
— Вот поэтому и курица становится политическим вопросом!
Какая логика!.. Я обхватил свою голову руками, топчусь на месте, а Бандаков беззвучно шевелит губами… Недалеко от нас два солдата облюбовали тень под черешней — один играет на дудке, а второй приплясывает. Пляшет один, топчет обожженную землю и бьет сапогом о сапог. Майор часто моргает, смотрит на солдат и опять моргает; ему приходит что-то в голову, и он хватает себя за подбородок:
— Только жареная курица может так развеселить крестьянина…
Он идет к солдатам, останавливается перед ними, весь сине-зеленый, и дудка солдата захлебывается.
— За мной! — приказывает майор изменившимся голосом.
Солдаты мнутся, но следуют за ним…
Он отвел их к палаткам полкового лазарета, где на кожаном походном стуле сидел доктор и вырезал ножом узоры на палке орешника. Майор сдвинул двумя пальцами назад фуражку и кашлянул:
— Доктор, еще старик Гиппократ считал медицину гуманной…
От неожиданности доктор даже рот раскрыл. Такие слова из уст полкового интенданта!..
Растерянность доктора вдохновила майора, и он продолжал:
— Надо найти курицу в желудках этих свистунов. Зонд, голубчик!.. По кусочкам будешь доставать ее, пусть даже им все кишки разворотишь…
Доктор провел палкой по обветренным, потрескавшимся губам. Слова майора Бандакова сбивчивы, но доктор понял, в чем дело, и сказал:
— Из этих кусков курицу слепить все равно не удастся, господин майор. Другой раз не зевай!..
Солдаты стояли бледные, брюки их на коленях обвисли, пилотки сбились набок. Майор все-таки нашел в себе силы последовать полезному совету. Он повернулся и побрел к палаткам, где остался смех Глафиры. Поднявшись на склон, он остановился и перевел дыхание. Надо было подумать, найти какой-нибудь выход… Утренняя дымка поднялась над холмами, роса уже не блестела, Стара-Загорское поле слилось с матовой далью… Смеха Глафиры не было слышно. Этот спокойный, светлый, как слеза богородицы, пейзаж разбередил у Бандакова остатки воспоминаний. Майор облизал губы, заморгал глазами и стал смотреть на Омуровские луга, где нам уже не придется солить белое куриное мясо. Там Глафира прохаживалась взад-вперед с новым командиром полковой батареи. Мне хотелось сказать, что все в этом мире противоречиво. Только был ли майор в состоянии думать об отвлеченных вещах в то время, когда Глафира покидала его сны и, вместо того чтобы исчезнуть в солдатской похлебке, шла по лугу, прижавшись к руке молодого подпоручика?..
СЛЕДУЮЩИЙ СПИСОК
Майор Досев все еще служит интендантом. Неудачи в карьере уже давно до крови изранили его душу, а спекшиеся кровоподтеки превратились в сгустки ненависти к преуспевающим офицерам. «Вам, господа, ордена по случаю годовщины со дня вступления на престол его величества, мне же — приправа к солдатской похлебке да месячные заявки на хлебный рацион. Приятного аппетита!»
И чего ты ершишься, майор Досев? Разве допустимо так неосторожно касаться подобных вещей? А если касаешься, почему заходишь так далеко — поминаешь царя, генералов и их протеже?.. В интендантских канцеляриях, как в монастырях, достаточно времени для размышления, как же ты не додумался, как не догадался, что царь без протеже ничто?! Вот и обвиняй сейчас других, чтобы утешить себя; ты загнан в «треугольник», попробуй вырвись из него! Этот треугольник — Ардино, Крумовград, Кырджали — замкнут наглухо. Невидимая рука держит ключ от парадного входа. Твоя рука сделалась мягкой от прикосновения к мягким шторам в интендантских складах. Армии же не такая рука нужна. Да и болтовня твоя о протеже не бунт, а примирение…
Майор Досев, пытаясь двумя пальцами ослабить воротник кителя, таращит глаза:
— Вот так-то, комиссарики, мать вашу… Может, спросите, какой мне интерес рассказывать все это? Я вам расчищал дорогу! Что ж, мне опять оставаться в «треугольнике»? Неужели и вам по нутру строевые выскочки?
— Не по нутру, конечно, но ведь война, Досев. Армии нужны люди, у которых в руках все кипит. Каждому свое, а тебе самое место справа от комиссариков.
Плечи майора трясутся от смеха:
— Вот только украшением я пока не был, но теперь и этого дождался…
Это расплата за меткое словцо. Досев знает ему цену. Поэтому и не обижается, а только бередит старую рану, чтобы и я увидел и узнал, как это получается. А чтобы не перестараться с нытьем, да и меня не втравить в свои дела, он начинает рассказывать мне, какими святыми и какими пройдохами могут быть солдаты. Один из них — его доверенное лицо, у которого были вторые ключи от склада, — подпорол перочинным ножом попону на его седле и сунул в образовавшуюся дырочку бобовое зерно. Зерно поранило коня во время похода, это заставило Досева спешиться. А тут командир полка как из-под земли вырос:
— Строевой конь требует рыцарства; интендантам пристало не ездить на нем, а кормить его!..
После похода другой солдат-прощелыга, почище первого, сказал:
— Ваш мягкий зад не мог поранить коня. Дайте-ка я посмотрю, в чем дело… — Оглядел коня разбойничьими глазами, нащупал бобовое зерно в дырочке в попоне и достал его оттуда: — Вот, полюбуйся, господин майор. Посмотрите, какое ничтожество! Маленькая горошинка, а может поранить, и не заметишь, как все получится…
Майору хотелось ударить его, но он сдержался и только сказал себе: «Если облагодетельствованный мною меня предал, то наказанный мною может меня и продать. Слабый первым делом тайком точит нож, а когда удается, укорачивает сильного, чтобы уравнять его с собой…» Сказал это он себе и стал ждать, когда опухоль у лошади спадет…
Майор Досев чешет затылок — сказать или не надо, — а потом все-таки говорит:
— И ты, комиссар, стал заигрывать с солдатами. Я жажду увидеть, когда твой конь в середине похода выйдет из строя, когда и ты найдешь в попоне бобовое зерно…
— Не злобствуй, майор, успокой свою душу! — отвечаю я ему. — Мы с солдатами из одной глины слеплены, можно сказать, родичи…
Досев бьет себя по колену:
— Вот так да!.. А кто же не страдал из-за родственников? Они все о тебе знают, потому и норовят тебя уколоть…
Разговор течет уже сам по себе. К тому же и день — чудо, только и поговорить. Солнце припекает, у забора казармы жужжат пчелы. Теплая осень, чудесная осень!.. Дождь омыл камни Курбантепе, и теперь они блестят на солнце. В гимнастерке холодно, в шинели можно свариться, а в кителе — самый раз. А над нами южное небо, сверкающее блестками, словно рыбья чешуя…
Через плац идет подполковник Арышев; у него женский таз, кривые ноги, тонкие сжатые губы. И полный ряд орденских ленточек на груди. Толкаю майора локтем, чтобы встать, но он уставился в сверкающее небо:
— Вот прикинь… Один орден у него — «лягушонок» — за пять лет службы, второй — за заслуги, третий — за услуги… — Подполковник проходит мимо, а Досев прикидывается дурачком: — И до того как придумали эмалированные побрякушки, были украшения, чтобы выделить избранных среди прочей мелюзги… Скажи мне, если знаешь, вся эта суетная мишура была придумана до армии или же армия появилась раньше?..
И что ты мне голову морочишь, майор Досев? Меня никогда не привлекали ордена. Я не знаю ни ваших «лягушат», ни их степеней. Разве может быть что-нибудь лучше чистой груди, но если это, конечно, настоящая грудь!..
Лиса Досев. То, о чем я думаю, но о чем молчу, он начинает разгадывать, как заправская гадалка:
— Подожди! Подожди! У всех у вас на плечах одна плешь. Но стоит появиться звездочке у кого-нибудь или ордену, глядишь, и стали зыркать глазами по сторонам. Я вам рад, хорошо, что вы пришли в армию! Ох как мне хотелось, чтобы не кто-нибудь, а такие, как вы, здоровяки, заставили кадровых выскочек подобрать полы своих пелерин. Это вы хорошо сделали. Но послушай знающего, почем фунт лиха, человека: делай что хочешь и как хочешь, но не допускай, чтобы тебя перенесли в следующий список!.. — Слова как слова, но в действительности муть какая-то. Я было попытался докопаться до их смысла, а он смотрит на меня этак снисходительно. Смотрит, смотрит, а потом начинает давиться от смеха. Его ожиревшая шея трясется, лицо наливается кровью: — Следующий список! Ни-ког-да!..
Вот, гляди ты, что у него на уме! Завтра-послезавтра на фронт, а он болтает о каких-то списках…
Я забыл об этом разговоре, слишком быстро забыл. Ветры Воеводины развеяли его, пулеметные очереди подшили его, прошнуровали и направили в дело. Но он выбрался из папок. Выбрался неожиданно, поднял голову и огорошил меня…
В имении Эржебет что-то происходит. Такого скопища офицеров я еще не видел. Адъютант то входит в кабинет командира полка, то выходит оттуда с папкой под мышкой. Трубач штаба Андрей, которого прозвали графом Андраши, идет медленнее обычного. Он так важничает, что даже прихрамывает, смотрит по сторонам — своим видом хочет показать, что знает что-то такое, чего не знают другие. Но вот становится ясно: будут раздавать первые ордена. Награжденные столпились перед штабом. Их лица сияют. Ненагражденные выдавливают на лице ледяные улыбки…
Адъютант выстраивает награжденных. Свободные от нарядов офицеры сами поворачиваются к ним лицом. «Смир-но-о! Равнение нале-е-во-на-пра-а-во!..» Командир полка идет между двумя шеренгами немного сгорбившись, держа руку под козырек. Одни головы поворачиваются налево, другие — направо. Торжественная минута. Командир полка смотрит на нас с видом человека, призванного осчастливить других. Его лицо побледнело от служебного рвения. Потом наши головы возвращаются в исходное положение, а он начинает покашливать, показывая тем самым, что будет говорить. Его речь начинается словами о доблести и заканчивается призывом к победам, пожеланиями личной славы. Адъютант приближается к нему сзади с полированной шкатулкой в руках и чинно поднимает ее крышку. Полковник запускает туда руку — и в ней оказывается орден за храбрость с синей ленточкой. Выстроившиеся встречают его не то ахом, не то вздохом. Первый орден прилипает кровавым пятном к кителю первого награжденного офицера, который звенит шпорами, благодарит «покорно» и делает шаг вправо. Его место занимает следующий. Чтобы командиру полка не сходить с места, награждаемые звенят шпорами, благодарят и делают шаг в сторону. Во время этой церемонии прикрепленные к кителю кресты покачиваются. Блеск из красной эмали ранит ненагражденных в самое сердце…
Я оказался в числе ненагражденных. Представьте себе мое положение! Церемония уже подходила к концу, я испытал страх при мысли, что нам придется глядеть друг другу в глаза. Но командир был старым солдатом. Наверное, по его собственному желанию, и он «глотал лягушек», потому что в конце церемонии обратился к «неудостоившимся»:
— Господа, вы в следующем списке!..
Выстраданный опыт майора Досева преследовал меня!.. Слова командира полка все-таки были утешением. Нам очень хотелось, чтобы этот список прошуршал в папках адъютанта уже сегодня или завтра, но он ускользал от нас в далекое, неясное будущее…
Комиссар полка, человек с тактом посла, собрал нескольких ненагражденных, чтобы угостить их шампанским. Кому-нибудь, может быть, покажется странным, но офицеры на фронте на самом деле получали порцию шампанского на неделю. Нам стало легче, мы разговорились и посмотрели друг другу в глаза. Было не по себе, но все же терпимо. Потом один за другим офицеры стали исчезать, а когда собрались вновь, у каждого в мешках для сухарей оказались бутылки. Так каждый пил свое вино.
Когда первая пробка выстрелила в потолок комнатенки, в которой прежде жили конюхи какого-то венгерского графа, когда из горлышка толстой бутылки выплеснулась белая пена, подпоручик Лазов громогласно заявил, что только общее огорчение делает людей по-настоящему солидарными. Мы согласились. Что бы он ни сказал, мы согласились бы, потому что любая истина вызывает спор, а мы в ту минуту были не в состоянии над чем-то задумываться. Где-то около села Хенес слышалась пулеметная стрельба, время от времени раздавались даже взрывы снарядов, но после выстрела двух-трех бутылок шампанского люди перестают слышать что-либо постороннее…
Это было на фронте. Те, кто уцелел, вернулись домой. Гремела музыка; школьницы засыпали нас цветами; встречавшие говорили, не слушая друг друга; с трибун потные ораторы величали нас героями. Приятно, когда в умилении тебя причисляют к героям. Ты сам скромно веришь в это…
Воинские части жили теперь в казармах мирного времени, офицеры стали предаваться боевым воспоминаниям, которые переиначивались, чтобы превратиться в традицию. Приказы о гарнизонных вечеринках снова заканчивались классическим изречением: «Форма — праздничная, при высшем ордене». Во время танца барышни прикасались пальчиками к эмали ордена — как раз там, где был выведен вензель князя Александра Первого. Они без видимой причины смеялись, но мы играли роль героев и не догадывались, почему барышни смеются невпопад!..
Посыпались повышения в чинах. После парада в день святого Георгия каждый искал себя в приказе генерального штаба «табели о рангах офицерского состава». Всегда было важно, кто перед тобой и кто после тебя!.. Я уже служил в министерстве, когда командир боевого полка сообщил мне по телефону о своем повышении — он стал командиром дивизии:
— Драгалевские пижоны лопнут от зависти!
«Драгалевские пижоны» были его коллегами по выпуску. Он считал зависть самой опасной чертой характера. Даже во время флангового удара против тебя выступает реальный противник и ты полагаешься на собственные силы, которые можешь перегруппировать. Когда же появляется зависть, ты не видишь перед собой ничего, только чувствуешь, как твердая почва уходит у тебя из-под ног, но ничем не можешь себе помочь…
Все это было очень неясно, и когда он мне сказал, что его судьба в моих руках, я посмотрел на свои руки… Слово за слово, и я понял, что полковник командует дивизией, не получив должности. Это лишало его главного — двойных дивизионных лампасов… В трубке что-то затрещало, загудело, и откуда-то издалека донесся приглушенный расстоянием бас:
— Меня представили к повышению, есть проект приказа министра, но ты посмотри, как бы не перенесли в следующий список…
Майор Досев вновь выплыл из небытия «треугольника»!
И я бросился по следу докладной записки. Бросился, потому что боевое товарищество, о котором мне напомнили по телефону, выше всех завистников, названных «драгалевскими пижонами». Приказ был уже подготовлен. Когда докладывавший нес его на подпись, в канцелярии его задержали, чтобы включить новые фамилии. Через два дня исправленный приказ был передан машинисткам, но, пока они его печатали, докладывавший уехал куда-то с секретным донесением.
В это время мой бывший командир звонил мне каждый день, а я уточнял местонахождение приказа и его передвижение в канцелярии. Когда дошел до машинисток, на противоположном конце провода что-то произошло. Я замолчал, замолчал и свежеиспеченный командир дивизии. Я уловил его дыхание — дыхание сокрушенного человека, затаенный вопль рухнувших надежд.
— Войны проигрывали из-за медлительности, — простонал он. — Кто допустил, чтобы в министерстве появились зеркала?.. Пока эти финтифлюшки накрасят свои губы, мои потрескаются до крови!
Трубка в моих руках заметно потяжелела…
Докладывавший вернулся через неделю, повертел в руках приказ и вцепился в гладко выбритый подбородок:
— Этот «шедевр» я на подпись не понесу. Нужно переписать на меловую бумагу.
Он отстранил приказ и нажал звонок.
Через час я передал последние сообщения, на что командир дивизии ответил:
— Скажи ему: пусть хоть на оберточной бумаге напишут, лишь бы прислали, чтобы я мог спокойно заниматься делом…
Наконец приказ вышел. Вышел совсем неожиданно, как раз тогда, когда я начал думать, что добрая воля перед нелепой случайностью — пустое дело. Я видел его у адъютанта, видел номер и инициалы машинистки и исполнителя, но был уже так истерзан, что не находил в себе сил, чтобы радоваться, хотя и считал этот приказ своей победой.
— Готово! — закричал я по телефону в условленный для связи час.
— А ты его видел? — спросил он и затих в ожидании.
— Своими собственными глазами!
— Только бы все это не было «пулей», а то я и так стал посмешищем в армии…
Опыт сделал этого человека неисправимым скептиком.
— При чем тут посмешище?! — кричу я ему. — Сегодня же направляю приказ.
— Не надо направлять! Мне не вытерпеть, пока он придет. Немедленно выезжаю в Софию… А ты действительно видел его?
— Конечно!..
— Смотри, парень, я их пришью…
Двойные лампасы командира дивизии! Их он намерен пришить. Как сказано в библейских книгах: стало тихо, и руки наши тянулись друг к другу и не доставали…
После обеда я понял, что полковник был в министерстве. Появился и исчез. Адъютант министра сказал мне, что он взял приказ и сейчас сидит в ателье военного училища — ждет, укрывшись плащом, когда к его бриджам пришьют двойные лампасы.
Вечером он пришел ко мне домой. Остановился у порога, не спешил подавать руку. Сделал шаг вперед, резким движением руки откинул полу плаща и повернулся ко мне боком. В полутьме прихожей горели лампасы командира дивизии. Он измерил меня взглядом с головы до ног, приподняв брови, и в глазах его светилось торжество победителя. Его слова доходили до меня откуда-то издалека, словно из прошлого:
— Первый список — совсем другое дело!..
КОМЕТА ГАЛЕЯ
Что за времена праведников! Что за ангельский ритуал! Какая вера в смелость слабого перед сильным!..
Какая целомудренная рука написала параграфы устава об инспекторских проверках, чье строевое, невинное воображение представило себе белый лист бумаги как казарменный плац и провело карандашом разграничительные линии между взаимно подчиненными? А когда их проводило, как не догадалось, что след карандаша не забор, не колючая проволока, не минное поле… Раздалась команда: «По местам… марш!» И… исчезли линии, вздрогнули прямоугольники на семнадцатой странице устава. Каждый чеканным шагом идет к своему месту и, оглядываясь, обнаруживает, что заарканен вышестоящим начальником…
Все это я видел собственными глазами и знаю, что к чему, испытал все на своей шкуре и запомнил крепко…
От травы на плацу остались только кое-где отдельные пожелтевшие стебельки. Теплый, ласковый ветер свободно гуляет по плацу, раскачивая и прижимая стебельки к земле. Даже пырей превратили в труху железные подковы сапог и деревянные шлепанцы. Но если к этой трухе добавить хоть немного кукурузной муки, то куры фельдфебеля Ганё Лечева начнут нагуливать жир… По ночам прогуливающиеся с девицами офицеры наталкиваются в темноте Аязмо[14] на влюбленных школьников. «Предупреждай, букварь, а то наступлю, куда не следует, и покалечу…» Влюбленные подростки исчезают в колючих кустах — пропали чулки у зазнобы!.. Глядя на этот пестрый кустарник, женатые офицеры вздыхают: «Какое место шуры-муры разводить…»
Солнце сейчас просвечивает кусты насквозь; платаны и кипарисы расступились и обнажили землю; сосняк на вершине горы стал низеньким. Это не Аязмо! Разве под таким ветхим одеялом может ночью укрыться столько людей?!
Солнце, которое сделало кусты прозрачными, повисло, зацепившись за ветви акаций. Оно блестит, как начищенная медная тарелка. По зеленым, свежепокрашенным оконным рамам казармы бегают солнечные зайчики. Побеленные известью стены похожи на чистенькие яйца, которые приготовили, чтобы покрасить к пасхе… Капитан Калчев в полной амуниции топчется перед штабом на одном месте, то и дело посматривая на часы. Скоро труба соберет на плац весь полк…
Полк строится, но не так, как обычно. Солдаты — отдельно от начальства; унтер-офицеры и фельдфебели — отдельно от офицеров. Командиры взводов стоят спиной к фельдфебелям, командиры рот — к командирам взводов, командиры дружин — к командирам рот, а командир полка повернулся спиной ко всему полку. Расстояние между начальником и подчиненным — десять шагов. Это для того, чтобы «вышестоящие» не слышали, о чем спрашивают «нижестоящих»… Начинается инспекторская проверка!
Командир дивизии — двойные лампасы, желтые аксельбанты и генеральский крест на шее — идет медленно. За ним следует адъютант с большим блокнотом в руках. Эти адъютанты, как цирюльники, массируют суету в начальнической душе и, пока массируют, нашептывают то одно, то другое, а потом услышанное начинает или благоухать, или сильно попахивать… Генерал идет к солдатам и с улыбкой подсказывает, что они могут исповедоваться перед ним. Если у кого наболело на душе, пусть раскроется, но в меру — фельдфебель не услышит…
Если взглянуть сверху, полк кажется похожим на пирамиду, расчерченную полосами. Основу пирамиды составляют четыре шеренги солдат, вершину — командир полка. Как кол, он торчит одиноко, покинутый подхалимами, униженный сочувствием тех, кто ему предан, и злорадством тех, кто метит на его место. В центре пирамиды застыли по стойке «смирно» унтер-офицеры, готовые лопнуть от напряжения; командиры взводов оглядываются, пытаясь на расстоянии узнать, что происходит; командиры рот смотрят на все с достоинством, их рассеянные взгляды останавливаются на антенне над зданием штаба, но они не видят ее; в узкой части пирамиды командиры дружин, как люди в годах, отстегнули сабли и опираются на эфесы, перенося на них тяжесть то с левой, то с правой ноги. Командир полка оборачивается и смотрит сквозь шеренги стоящих — не для того, чтобы увидеть что-то, а для того, чтобы напомнить кому следует, что он здесь, на своем месте…
Генерал идет между шеренгами солдат. От него исходит приятное благоухание. Вот он рядом и в то же время так далеко. Одним словом — генерал. Разве какой-нибудь Минё или Нанё осмелится рассказывать ему о своих мелких делах? Как он может жаловаться, когда в горле пересохло и губы слиплись, а от красных лампасов в глазах рябит…
Командир батареи полка подпоручик Стойчев — спица от большого колеса. Не оборачиваясь, он угадывает, что генерал остановился около фельдфебелей. Подпоручик незаметно для других записывает в блокноте для донесений: «Ничего страшного! Им деньги платят…» Он отрывает листок, скатывает из него шарик и бросает командиру противотанковой батареи. Если бы он мог добросить скомканную бумажку до вершины пирамиды, командир полка понял бы, что, чем сильнее сужается пирамида, тем больше становятся оклады, тем меньше остается причин для переживаний…
У майора Панкова красивая жена и низкая зарплата. Зарплата низкая, но красивая жена перевешивает чашу весов, и накопившаяся обида улетучивается, как дым. Когда есть что терять, становишься трусом. Так Панков стал Паниковым. За день до инспекторской проверки он уходил из канцелярии дружины и возвращался, снова уходил и возвращался, намереваясь опустить в ящик записку о чем-то важном, что позволило бы ему смотреть на мир открытыми глазами. Этот крупный мужчина кажется сейчас таким маленьким. Рассказываю ему о том, как подвыпивший Ганё Лечев каждую курицу за две считал — одним словом, намекаю ему, что когда на банкете рекой польется красное вино, то и командир дивизии посчитает курицу за две. Рассказываю эту историю для того, чтобы майор не переживал раньше времени, но он меня не слышит. Он трогает возле носа несуществующую бородавку и вздыхает:
— Эта египетская пирамида давит на меня даже во сне… Дружина как чистый бокал — звенит и сверкает. Достаточно только одному плюнуть в него… Вот что портит армию: если солдат думает, что он хоть мизинцем может тронуть своего командира, он уже не солдат!..
Подполковник Сарачев — старый служака. Он из тех, кто встречает и провожает в запас генералов, а сам остается все на том же месте. Его удивляет Панков, и Сарачев учит его уму-разуму:
— Все, что делается, делается так, для проформы… Ведь у солдата, который будет плевать в твой бокал, есть сосед. Разве он такой профан и не знает, что сосед следит за его каждым шагом и готов выдать его, чтобы только выслужиться! До чего ж ты наивен, Панков… Фельдфебеля я в счет не беру, офицера — тем более! Такие дела на плацу происходят! Начинаются издалека. Тут аукнется, а в Софии откликнется. Но как откликнется, ты этого не услышишь…
По некоторым признакам можно догадаться, что у Панкова наступает просветление и он понимает, что к чему. Оставляем его одного. Пусть идет к жене, может, хоть с ней он найдет покой. Это его вторая забота. Разве может он спокойно смотреть, как жена стреляет глазами по мужчинам? И по крайней мере десяток прощелыг найдется, которые так и норовят заскочить к хозяевам как будто по делу как раз тогда, когда полк находится на полевых учениях. «Ах, госпожа Панкова, какая скука, разве это допустимо в наш просвещенный век?.. Прошу вас, не возражайте! Поедем к Чипакчийским баням. Рыба! Неужели вас не привлекает свежая рыба, поджаренная на берегу Тунджи? А заячье жаркое?.. Мадам, из-за этих революций и войн мы забыли прелести пикников…»
Прохвосты! Да разве не ясно, на какую рыбу забрасывается этот невод?..
Майор Панков сорвет у соседей цветок гиацинта, или ландыш, или ветку сирени, приблизится к жене сзади на цыпочках, а когда мадам обернется, как будто удивленная и испуганная, и, как на провинциальной сцене, «перевернет пластинку», меняя испуг на очаровательную улыбку, Панков звякнет шпорами:
— «В саду моей души все розы только для тебя…»
И красиво, и элегантно…
Куры фельдфебеля Лечева и нравоучения подполковника Сарачева — это уже дело прошлое. Сейчас майор Панков перекладывает саблю из одной руки в другую и старается понять, плюнул ли кто-нибудь в его «бокал»… Генерал идет к командирам дружин, адъютант отходит в сторону и прячет в полевую сумку пустой блокнот. Ему разрешено присутствовать при проверке командиров вплоть до командиров рот включительно. Он знает много секретов; может прикинуться последним олухом и тем не менее будет знать всю подноготную старших офицеров. Но это там, в штабе. Здесь дистанция — два корпуса лошади…
Командир дивизии останавливается перед майором Панковым и поднимает брови. В поднятых бровях — вопрос: «У вас есть жалобы на командира полка?» Пустое дело! Кто станет сам себе могилу рыть? Офицер, который начинает протестовать и жаловаться на своего начальника, уже не офицер! Таких переводят в общество охотников…
— Хорошо, господа, хорошо… Вам хорошо, и я спокоен…
И то правда: замахнешься на командира полка, а достанется какому-нибудь генералу! Командир дивизии — человек кроткий и опытный — в этом разбирается основательно. Он доволен, потирает от удовольствия руки и направляется к вершине пирамиды. Командир полка пытается припомнить давно забытую стойку поручика. Его усилия довольно-таки смешны. Годы, когда он был поручиком, ушли в прошлое, забылись. Тело, которое было упругим, стало дряблым, ноги в коленях сделались вялыми, непослушными. Генерал обходит его вокруг, словно это не человек, а огромный глиняный кувшин.
— Ну, полковник? Может, я в чем виноват?
Голос его почти игривый. Прекрасный голос! И как он умеет закруглить острые углы! В улыбке командира полка кроется очень сложный смысл, но его можно разгадать: «Вы так находчивы даже в шутках, господин генерал! Даже ваше оскорбление для меня знак внимания…»
Кому не приятна такая лесть, кто откажется от высшей похвалы? Кого не умилит почтительное смирение? Где тот, кто не испытывает блаженства, играя роль сильного покровителя?
Инспекторская проверка закончилась, и о ней скоро забыли. В казарме дел по горло, а за делами прошлое забывается незаметно. В офицерском собрании еще не вымыли посуду после грандиозного банкета, когда последовал приказ готовиться к летним лагерям. А через месяц и от лагеря в Горно-Паничерево останется воспоминание, тоска по редкому дубняку с хилой травой вокруг деревьев. Невозвратимой потерей покажутся даже офицерские бараки с побеленными вокруг них камешками и коновязи, где блестели крупы ухоженных коней…
Полк уже топтал пыльные проселочные дороги около Чирпана, сосредоточивался для нанесения удара в главном направлении воображаемой армии. На пыльном крупе моего жеребца Утро, которого у коновязи я узнавал издалека, темнели кривые полосы от пота… Если у земли на самом деле есть запах, так это запах дубняка. Если ты не засыпал вместе с конем под чистым небом где-нибудь на берегу Тунджи, никто не сможет подарить тебе голубых, а иногда лиловых звезд.
Протопали мы по пыльным чирпанским дорогам, прорвали и оборону противника. Загорская равнина встретила нас запахом свежей соломы, поле стало голым и каким-то легким. Появившееся было марево исчезло. Даль прояснилась, приблизилась и напомнила нам, что наступила осень. Потом небо посерело, равнина наполнилась влагой, со стороны Земена поплыл туман. Болота покрылись прозрачной коркой льда, ночью над болотами стали кричать дикие утки…
Поручик Генев докладывает, что полк обеспечен фуражом и дровами в соответствии со штатным расписанием. Он еще издали, не доходя до стола, наклоняется, раскрывает папку с докладом и держит ее перед командиром полка, но командир одним пальцем закрывает твердую обложку папки. Во дворе, на козлах возле кучера Митё, лежат утки-манки. Командир полка отправляется на охоту на уток к своей засаде, куда ездят обычно целыми компаниями. Митё везет большого начальника — встречающиеся военные берут под козырек! Поэтому он сидит на козлах рядом с манками гордый, думая, что он и командир, как ни крути, как ни верти, одно…
Не успеем полакомиться утками, пока редкий солдатский шаг станет тверже и чаще, глядь, а уж миндаль снова начинает цвести. Весна кое-как прикроет зеленью белые камни, а потом зашумит листвой, как обычно. Подполковник Сарачев так вздыхает, что даже больно становится:
— Какое место шуры-муры разводить!..
И только когда акации осыпали нас, как на балу, белыми конфетти и Ослиная поляна украсилась лиловым терновником, из штаба армии пришла шифрограмма: «Командующий лично будет проверять полк». Мы знали, что это за инспекторская проверка, поэтому только улыбались. Майор Панков, у которого пересохло в горле, сказал приблизительно так:
— Новобранцы… Попробуй отгадай, что каждый из них за птица! Свалились на мою голову…
Опять болезнь солдата! Этот мученик, который стучит сапогами по лестницам и поет охрипшим голосом до столовой и назад «Прощайте, сказочные горы» и на гимнастерке которого белеют пятна от пота, который приводит в умиление офицеров запаса, начинал представляться загадочным и враждебным. Панков перебирал в уме всех солдат в полотняных гимнастерках, и ему все казалось, что среди них скрывается тот самый, а может, и не один он, кто посмеет пожаловаться командующему. Кто знает, что скажет тот, кто решил сказать все?..
Горнист штаба полка протрубил «Гос-по-да-а!», и мы толпой направились к штабу. Обитая кожей мебель из вяза, зеркало и еще одно над приделанной к стене вешалкой. Звеним шпорами, выстраиваемся по старшинству, а командир полка вертится перед зеркалом, смотрит, хорошо ли бай Генё выгладил ему новые галифе. Себе под нос он напевает что-то похожее на песню, но какую — понять нельзя. Толкаю в бок Сарачева: раз командир поет, значит, все в порядке.
Полковник наконец замечает, что мы в кабинете. Поворачивается к офицерам, подбоченясь:
— Господа, ожидание несчастья страшнее любого несчастья… Самообладание — вот наше первейшее достоинство, а блеск во всем — величайшая традиция мира. Вам понятно, господа?
Вместо нас шпоры звучно ответили, что все ясно. Если бы он сказал только «блеск», и то было бы достаточно. Чем больше слов, тем больше тумана!..
В коридоре разговорились. Подполковник Сарачев бубнил мне что-то на ухо, но я слушал его рассеянно, и слова его не доходили до моего сознания. Но одно слово я все-таки уловил, ясное и точное слово «щетки»…
Так вместо оружия мы взяли в руки щетки. И что же из этого получилось?..
Военные никогда не верят в совершенство идеальных вещей и требуют от подчиненных делать все «идеальнейшим» образом. Спальные помещения, шкафы, противопожарные щиты, склады рот и полка — все, что есть вокруг, должно было приобрести идеальный вид. Поручик Елеков возглавил отряд маляров; несколько групп солдат, вооружившись метлами, подняли на плацу невообразимую пыль; маэстро Спиридонов вытирал потную шею и стучал палочкой по пюпитру, заставляя повторить торжественную каденцию, которую отяжелевшие после войны музыканты не могли сыграть как следует. В помещениях рот тогда еще не было моды на занавески, горшки с цветами и драпировку гофрированной бумагой: стоило пройтись раз шваброй, и доски пола приобретали чистый и свежий вид…
Комета Галея еще далеко, она еще не распустила по небу свой пушистый хвост, а живые твари обезумели — вращают глазами, роют землю копытами, мычат и воют. Глядя на все это, и человек сходит с ума. Он ищет, где бы укрыться, но такого места нет, комета уже не за горами. То же самое происходит, когда ожидают генерала. Он еще в пути, поезд еще не дошел до перрона, а в казармах уже почуяли его приближение… Кто проник в самую суть жизни, может сказать, отчего живые твари — носят ли они сапоги, или у них копыта — способны учуять за тридевять земель то, чего и в глаза никогда не видели! А к нам едут генералы, и не один, а сразу три! И не на станции они, а под чинарами на улице Царя-Освободителя, откуда прибудут прямо в полк. Хвост кометы — около десяти полковников и адъютантов — колышется, в тени чинар стало красно от лампасов. Всемирная катастрофа приближается!..
Перед штабом растет груша, плоды которой наполняются медом, только этого меда еще никто не пробовал. Да и кто станет ждать, когда груша нанежится, пожелтеет и нальется медом?.. Командир полка и начальник штаба армии о чем-то говорят в тени груши — так нам было суждено узнать, что командующий не станет заниматься нашей покраской да побелкой, а будет проверять подготовку полка. Весь наш блеск оказался напрасным. Вихрь сдул пудру, обнажил такое, из-за чего фуражка стала мала отцу полка. Он снимает ее и начинает вытирать носовым платком розовый околыш фуражки — мученический нимб полысевших военных. Платок становится мокрым, хоть выжимай. Он подзывает меня и говорит:
— Народ кормит и поит армию, которая ему может понадобиться, а может и не понадобиться, но все же он кормит ее, потому что, если один раз за тридцать лет она ему понадобится, надо, чтобы она была готова… Ты мой заместитель, два года ты стоишь возле меня, на случай если понадобишься. Вообще-то полком занимаюсь я сам. Теперь ты мне понадобился, и я хочу убедиться, что ты у меня есть… В дружинах есть такие солдаты, что ни стрелять, ни говорить не умеют. Каких только не плодят люди — не мне исправлять рождаемость в Болгарии… Они мне станут поперек дороги, мне, кому маршал Толбухин прицепил на грудь орден Суворова второй степени… Смотри в оба, только собери их со всех дружин, этих кротких ягнят. Чем будешь с ними заниматься, твое дело, но чтобы я не стал посмешищем… Смотри!
Командир полка уставился на свой орден Суворова второй степени, а я уже нагляделся на него достаточно, потому что он каждый день тычет им мне в глаза.
Итак, что же делать?..
Полк зашевелился, как муравейник: топот множества ног и озабоченность на лицах и в глазах должны свидетельствовать о высоком боевом духе. Меня подзывают и объясняют, почему я два года стоял слева от командира. И мне есть кого подозревать.
— Минко, — говорю я подпоручику Биневу, — дай мне из своей роты фельдфебеля из призывников, но чтобы был подходящий парень. Собери со всех дружин солдат, которых нельзя показывать начальству, и пусть фельдфебель ведет их строем к маэстро Спиридонову! Я буду ждать их там… — А маэстро Спиридонову приказываю: — Твои музыканты могут немного поднаврать, исполняя торжественную каденцию, потому что музыкальное ухо генералов привыкло не к каденции, а к боевой трубе. Поручаю тебе эту команду. Научи их за час-другой петь «Командир — герой, герой!». Ноты-то есть?
Маэстро роется в папках и отвечает, что есть.
Я почувствовал облегчение — как гора с плеч. А фельдфебелю Христозову говорю:
— Когда солдаты пройдут обучение у капитана Спиридонова, построй их, чтобы подразделение было «комильфо», и марш-марш, да чтобы с песней «Командир — герой, герой!». Держи их где-нибудь подальше, поставь наблюдательные посты, а когда покажется командующий, строй их, давай тон — и пусть горланят. До сих пор еще никто не прерывал песню воинского подразделения, потому что песня — святое дело, она рождает боевой дух, делает смелых еще более смелыми. И вас не станут останавливать, не станут спрашивать, чей это портрет, что такое ложа или цевье…
Хожу я по территории полка, придерживаю саблю чтобы не споткнуться, и время от времени слышу то тут, то там: «Командир — герой, герой!»
Все хорошо, но когда роты поредели, оказалось, что подпоручику Биневу негде взять рабочих на кухню, и он выделил двух из «геройской» команды и направил их к повару баю Штиляну. Они чистили там картошку, подбрасывали дрова в огонь, делали все, что от них требовали, но, когда остались без дела, не могли найти себе места и стали мешать. Они путались у бая Штиляна под ногами до тех пор, пока он не прогнал их во двор. Каждый серьезный человек уважает свои ноги, потому что не так-то просто в этом неустойчивом мире удержаться на них…
Теплое солнце опять зацепилось за ветви акаций, нежный ветерок ласкает шею, жужжат пчелы — самый раз подремать. Наши молодцы сели на скамейку возле кухни, натянули на глаза пилотки, чтобы солнце не слепило; дрема окутала их и унесла неизвестно куда. Командующий с адъютантами и со всей свитой остановился перед ними — смотрит, ждет, когда проснутся, — и со стороны можно подумать, что радуется, глядя на них. В это время остальные из «геройской» команды топтали сапогами поросшую пыреем землю возле госпиталя и охрипшими голосами горланили, нарушая сонную тишину:
— Ко-о-о-ман-дир — ге-рой, ге-рой!..
То ли песня до спящих долетела, то ли кто из адъютантов кашлянул, чтобы привести их в чувство, но только у одного из солдат дрогнули закрытые веки, он посмотрел сквозь щелочку одним глазом и толкнул локтем товарища так, чтобы этого никто не заметил. Второй вытаращил глаза; плетеные желтые аксельбанты ослепили его, и он еще больше вылупил глаза.
— Подойдите-ка сюда, подойдите…
Голос командующего доносится из небытия. Солдаты поправляют съехавшие в сторону пилотки, чеканят шаг и, щелкнув каблуками, останавливаются как вкопанные перед генералом. В их глазах еще светятся остатки сна, а может быть, они всегда такие.
— Вы знаете… кто у нас председатель Совета Министров?
Солдаты цепенеют на глазах. Испуганно спрашивают взглядами друг друга, кто бы это мог быть. Вдруг какая-то мысль озаряет их лица. Я стою чуть в стороне, не в силах перевести дух. Хороши солдатики! Меня знают, меня ищут и мне говорят глазами: будь спокоен! Теплый ком, который сдавил мне горло, немного уменьшился, стал мягче, и я облегченно вздохнул. Солдатики глотают воздух и в один голос отвечают:
— Василь Левский[15], господин генерал!..
Синие круги поплыли у меня перед глазами, я чуть было не упал. Что-то зашумело в ушах. Месяц-два назад они в полку отмечали годовщину гибели Левского. Чего только в связи с этим не говорилось! Вот к чему приводит обилие докладов… Имя апостола застряло где-то в извилинах солдатского серого вещества — и вот теперь бери его, связывай с председателем Совета Министров!
— А кто заместитель командира вашего полка?
Солдаты снова с видом победителей смотрят на меня и отвечают по уставу: чин, фамилию, но перед чином на всякий случай добавляют «господин».
— Идите к своему заместителю командира полка, пусть он вам растолкует, кто такой Левский и кто председатель Совета Министров!
Только теперь до них доходит, что ошиблись. Какие ангелы! Разве плохо назвать имя Левского, когда тебя о ком-нибудь спрашивают?.. Им-то ничего, но они переживают оттого, что доставили неприятность мне. Один из них наклоняется к генералу, пытаясь сгладить плохое впечатление, и таким тоном, словно оба продолжают давно начатый ими разговор, обещает ему:
— Мы будем писать их фамилии, господин генерал. Будем писать, пока не выучим…
Он раскрывает ладонь одной руки, а другой рукой, в которой нет ни карандаша, ни чего бы то ни было, начинает чертить на ладони невидимые буквы.
— Они, оказывается, и писать могут, видите ли…
Командующий смотрит на хвост кометы, улыбается и идет дальше. Молоденький майор в начищенных до блеска сапогах со злорадством записывает что-то в блокнот; командир полка по дороге оборачивается, разводит руки, поднимает плечи, кусает верхнюю губу и спрашивает одними только глазами: «Как же ты это допустил?»
Допустил, господин полковник!.. А знаете, что получилось бы, если бы произошел крупный диалог с геройским отрядом? Ты давай готовь сейчас банкет! Блеск — величайшая традиция мира… Какой скучной была бы эта проверка без двух моих солдатиков! И командира ведь тоже мать родила: он посмеялся, ему стало весело. Будет что сказать, когда там, наверху, встретится с цветом армии. Кто еще осмелится смешить командующего? А вот наши парни справились с этим делом, да еще как!.. Он им благодарен. И меня он должен благодарить, и маэстро Спиридонова за то, что на плацу все время звучала песня. И еще есть одна причина для благодарности: хорошее настроение, которому все обязаны неполной информацией. Представьте себе, что майор Панков, вы, господин полковник, я — все, кто ходит под нами и под кем мы ходим, знают кое-что такое, чего не следовало бы знать…
Действительно! Если бы люди знали друг о друге все, они не смогли бы найти общий язык. И вечером в офицерском собрании не получился бы пир горой — начало и конец любого серьезного дела. И дело здесь не в салфетках и цветах, не в серебряном подсвечнике, перевязанном ленточкой!.. Не помогла бы и зажигалка, которую оружейник Стоянов с почти религиозным благоговением делал из гильзы бронебойного снаряда. Она торжественно блестела, и мы были счастливы от сознания, что этот подарок был не просто предназначен для того, чтобы найти место в квартире командующего, а стал символическим изображением нашей общей солдатской судьбы…
Застолье, как и баня, уравнивает людей. Уравнивает, хотят они того или нет. Поэтому мы так осторожно подбираем себе сотрапезников и тех, с кем ходим в баню. Это я понял только на банкете, и, когда мне подали гитару, я был готов. Искушенный суетой, я пел обо всем, что было: о груше-скороспелке и охрипших голосах, которые горланили весь день, нарушая сонную тишину плаца. Исполнил я все это с красивым вдохновением простых смертных, которые идут на небольшой риск, но приобретают в глазах других большое значение. Командующий не поверил, но офицеры начали смеяться, и он догадался, что песня отражает действительность. Он стал раскачиваться на стуле, затем встал с бокалом в руке и сказал, что уважает тех, кто искренен перед своим народом.
Так ночью, когда рекой лилось красное вино, а золотые вензеля на тарелках были запачканы соусом, я понял, что обладаю одним хорошим качеством, о котором до этого никогда даже не подозревал.
ВЫСИЖЕННЫЙ БОЛТУН
Странно устроен человек! Никогда не бывает доволен тем, что имеет, и мечтает о чем-то недоступном. И наворочает в мыслях непостижимого. Так вот, к примеру, бедняки мысленно пересчитывают свои банкноты, да притом самые крупные…
Наши мечты не так уж недостижимы: нам хочется повесить к ремню несколько автоматных магазинов, закинуть за плечо вещмешок с ручными гранатами, надеть маскировочный халат да переползти удачно пядь за пядью через снежную пустошь по ту сторону канала Риня.
В окопах за каналом — зеленые ящерицы, черные змеи, называемые противником. Вся задача состоит в том, чтобы одного из них с прикушенным языком за зубами протащить к нам и чтобы он кое-что нам рассказал бы. За эту работу, сообщили из штаба дивизии, полагается двадцать дней отпуска и орден. Хорошее дело — прогуляться по Болгарии с орденом. Идешь, а за тобой гурьбой уличные ребятишки, а ты делаешь вид, будто не замечаешь их. Рассказываешь в корчме всякие были и небылицы, а тебя ласкает чужое восхищение, зависть или шевелящиеся губы, которые матерятся, потому что хозяин их не на твоем месте. Одно дело — задубелый, голый фронтовик, другое — когда на груди твоей сверкает крест за храбрость!..
Каждому поэтому грезится, как он тащит за мундир офицера, как доставляет его командованию на «беседу», как потом ошарашивает серую солдатскую братву рассказом о своих похождениях и даже говорит потом односельчанам, что если бы офицер не был таким толстым, то можно было бы и двоих приволочь. За двадцать дней поездки в Болгарию чего не сделаешь!..
Хочется каждому, но отправиться решает один поручик Харамов. У поручика светлая душа, дома невеста осталась, и поэтому иногда он пускается в рассуждения:
— Не дело, брат, ждать розовый конвертик, поцелуйчик на бумаге, засушенный между двумя подснежниками из промокашки, или кудрявый волосок в целлофане…
Поручик закончил химический факультет, мог бы командовать химвзводом полка, находиться подальше от огня, но он не хочет расставаться с ударной ротой. Он не из жадных до славы, мундир не может скрыть в нем учителя, а вот решил охотиться за «языком». Или не смог больше глядеть на локон в целлофане, или проснулся в нем азарт, и он готов опередить любого удальца.
Ночь глуха. Молчат немцы, молчим и мы. Над Надятадом повисает ракета, и очертания каменного города плывут, шевелятся. Алеет пожар в направлении Водвице. Поручик натягивает белый халат — отправляется разведать ничейную землю впереди позиций, чтобы нащупать скрытую тропку к «черным змеям». Рядом с ним два солдата застегивают какие-то ремни. Все трое спускаются по крутому откосу к каналу и исчезают. Деревья скрипят под порывистым ветром. Влажная темень. По снежной равнине то здесь, то там чернеют снарядные воронки. Где-то там домики, в которых притаилось наше боевое охранение. Пусть сидит себе боевое охранение — поручик Харамов пошел по другим делам!..
Не от ветра зашумела вдруг неубранная кукуруза. Человек проскользнул, человеком запахло. Харамов улавливает шаги, толкает пальцем предохранитель автомата, затихает. Шаги приближаются, трещат сухие стебли. Тот, за кем отправился поручик, идет сам, на собственных ногах…
— Стой!..
Харамов с этим единственным словом выплескивает собранный в груди воздух, который душит его затаенным дыханием. Из тростника выдвигается силуэт человека:
— Да подожди ты! Ухлопаешь ведь ни за что…
Какой там силуэт — наш солдат! Одна рука его поднята вверх, другая — на штанах. Идет и ворчит. Можно ворчать, когда избежал пули. Рассказывает о каком-то жирном куске, который съел и который в шестой раз гонит его из боевого охранения на воздух. Заикается о каких-то внутренностях, что плачут по бобам, а бобов нету, и о чем-то еще слова роняет, а в ушах поручика сплошной свист.
— Ты, брат, над удачей моей сидел на корточках, — вздыхает Харамов. — Скажи мне по-португальски! Если хочешь, и по-китайски. Только бы по-болгарски не слышать…
Автомат его повис дулом вниз. Все в поручике опустилось и повисло где-то между небом и землей, где-то между нашими и вражескими окопами…
Поручик Харамов ждет удачу, над которой не присел бы, расстегнув ремень, солдат, а из дивизии прибыл подпоручик Харизанов с отделением разведчиков. Приехал и командир полка. Адъютант соскакивает с желтой подножки, услужливо открывает дверцу автомобиля, и полковник Шопов высовывает наружу запыленный сапог. Подпоручик Харизанов стоит чуть в стороне, держа руку у козырька. Голенища его сапог затянуты сверху ремешками, сверкают две никелированные пряжечки. И не хочешь, а поймешь, что Харизанов любимец: позволяет себе не замечать старших, а старшие делают вид, что не видят этого. Ну да придет час, и ему вложат в башмак горячего навоза!..
Командир полка хочет посмотреть на то место, где после артиллерийской подготовки Харизанов вклинится с отделением солдат и схватит за воротник хотя бы одного немца и откуда вернется живым и здоровым. Капитан Загоров раскрыл артиллерийский планшет и готов остро заточенным карандашом нанести участок на карту…
Смеркалось. Лицо Харизанова сильно изменилось. А может, нам так кажется из-за белого халата? Капюшон над каской натянут, халат над навешанными по поясу ручными гранатами надулся. Снаряды Загорова сотрясают город, небо звенит, как жестяной противень. Бьет в ноздри запах тротила.
Подпоручик подает своим солдатам знак, хватается за бруствер и выпрыгивает из окопа. Орудия рвут в клочья воздух за нашими спинами, свистят снаряды, трясется небесная жесть. Потом взрывы внезапно удаляются. В тот момент, когда исчезает грохот, нас начинает трясти бешеная пулеметная стрельба. Это немецкие пулеметы — узнаем их по треску.
Харизанов, наверное, спешит к вражеским окопам, прыгает в них, хватает «зеленую ящерицу» за горло и заставляет ползти под черным глазком автомата. Мы ждем, когда появится из мрака немец с поднятыми руками, а появляется подпоручик Харизанов в грязном халате. Он выплевывает землю, а может, и не землю. Чтобы не разговаривать, человек иногда нарочно плюется.
Все-таки человек разминулся со смертью, и жестоко мучить его вопросами… Он идет докладывать командиру, который ждет его у телефона в Эржебете, в штабе, а один из его солдат — Желё или Хубен — вытягивает шею:
— Мать его, эсэсовца!.. Земля кипит. Я кричу: «Да тут живого человека не осталось, притащим командиру не пленного, а падаль! А как артиллерия посместилась, иди-ка глянь! Отовсюду на нас с пулеметами… Ракеты светят и снимают с тебя подштанники! Догола раздевают. Да тут не мы пленного возьмем, а нас мигом, как кур, переловят». Только одна перебежка нужна была до окопа, да чьими ногами бежать? Поворотили мы и — вперед, вперед…
Какой-то хитрец подъел:
— Да назад, назад…
Солдат огрызается:
— Тебе-то чего? Ты сходи-ка в такое полымя, а потом я тебя поспрашаю, где перед, а где зад!..
Да, не впитали еще в себя наши подметки столько пороху, сколько нужно, но обязательно впитают. Сейчас наши вернулись с пустыми руками, но в следующий раз руки не будут пустыми.
Хорошо немцам пустила кровь дивизионная артиллерия! Укус, видно, до кости достал — стрельба утихла. Надо же человеку отдохнуть! Даже в мирное время не всякое изменение к хорошему хорошим оборачивается. А ведь мы на фронте!.. Если клуша затихла в гнезде, поди узнай, что она высидит, не болтуна ли?
День уже перевалил на вторую половину, и земля оттаяла. Наваленная над землянками, она процеживает через накат мутные капли. Солнце окрепло, его опаловый мячик мелькает в щелях разорванных облаков, пропадает и появляется вновь. После ночного мороза равнина показывается на свет, как в день сотворения. Как в день сотворения после глухого мрака, она светится и борется с качкой. Кругом клокочет вода, жужжат пчелы, и эти звуки вдыхают в землю радость жизни.
Накануне сумерек две остроконечные колокольни церкви Надятада вонзаются в зарево заката. Постепенно зарево становится фиолетовым, темнеет, над окопами разносится дыхание холода. Снова стемнело. Разбитые балки бетонного моста, торчащие из канала, как обглоданные кости, растворяются в сумраке. Этот мост мы называем мостом смерти, хотя на нем не погиб ни один солдат. Название мы выдумали сами, чтобы было страшнее, чем есть на самом деле. Впечатлительные корреспонденты газеты «Фронтовик» часто пишут о нем. Понимать написанное надо так: нога их вступала на место, напоенное кровью, овеянное смертью павших храбрецов, подвигом санитаров, вытаскивающих раненых под пулеметным огнем. А ведь дело обстоит вовсе не так. Ночью, переправляясь через канал, чтобы доставить пищу и боеприпасы для закрепившейся в кирпичной мельнице роты, мы даже отдыхаем между изуродованными фермами. Так было вчера, так было позавчера: немного тишины, немного пулеметных очередей, один-другой взрыв мины, ровно столько, сколько надо, чтобы мы не перестали уважать себя как фронтовиков. А сегодня? До каких пор немец будет молчать? И почему молчит? Немцы — солдаты опытные: учуяли, что нам до зарезу нужен пленный. Сейчас хотят понять, почему мы так нетерпеливы.
Время пропеть петуху, но он не пропоет. Где-то затрещал пулемет. Фронт, некому петь для нас серенады… Острый ветерок ребрит лужи корочкой льда. Мрак слегка рассеялся, стал синеватым и прозрачным. Луны нет. От холода посинели и звезды. Синее звездное сияние замерло неподвижно над равнинами, лесами и болотами. Ночной венгерский пейзаж — подобие земли. Но не подлинная земля, не настоящая равнина, деревья и снег…
Поручик Фырталев входит в землянку, снимает перчатки и приседает на корточки у железной печки погреть руки. Губы его потрескались, того и гляди кровь брызнет из них, а он забыл о губах, прислушивается:
— Не нравится мне это. В боевом охранении что-то происходит.
В низине около командного пункта роты гремят взрывы ручных гранат.
— Вытянись ты да поспи, — говорю ему. — Всю ночь мерз в окопах. Как рассветет, разберемся, что было.
Фырталев устраивается на нарах как есть, в сапогах. Адъютант укрывает его двумя одеялами. Дверца печки краснеет, пышет теплом. Только что разговаривали, а поручик уже спит. В его простуженной груди что-то тонко посвистывает, унося и меня в дрему…
Сколько мы спали? Солнце поднялось и искрит заиндевевшие ветви леса Ганайоши. Перед штабом весь взвод связи. Поручив Торозов, которого солдаты за глаза называют Тормозовым, идет о зеленой папкой под мышкой, ступает на носочки, чтобы не запачкать сапоги грязью.
— Почему не расходитесь? — кричит поручик. — Смотрите, какая бонбоньерка с карамелью. Одной паршивой мины достаточно, чтобы всех сразу подкоптить.
Солдаты посмеиваются. Торозов доволен, что сказал такое, от чего другие смеются, а сам приклеивается к «бонбоньерке», чтобы поинтересоваться происшедшим.
Ангел Георгиев — кандидат в унтер-офицеры из харманлийских сел. Маленькие глазки, усы торчком, на щеке грязная марля. Ангел живет вторую жизнь и жмурится на солнце. Оказался один против шести. Разрывы гранат, по поводу которых поручик Фырталев сказал, что в боевом охранении что-то происходит, — его работа.
Ангел был в карауле вместе со своим помощником — первым номером, которого он называет пайщиком. Солдаты слушают, вытянув шеи, а Ангел, жмурясь на солнце, рассказывает:
— Я говорю пайщику: «Мотни-ка до боевого да возьми чего-нибудь пожевать, а то на холоде челюсти так замерзнут, что завтра их придется шанцевым инструментом раскрывать». Пайщик хихикает: «А для левого горла что-нибудь принести?» Это он так мне про ракию говорит, потому как сердце у человека на левой стороне, а в ракии знают толк только люди с сердцем. «Возьми, — говорю, — но эту гулящую девку с умом потребляют. Тут фронт, — говорю, — и враз можно без головы остаться…» Шагнул пайщик в нишу, выполз из гнезда и пропал. Я как увидел, что один остался, — мороз по коже прошел, И снаружи мороз, и внутри мороз. Темень, ветер. Знаю, что камыш, а мне все чудится, что меня мать моя оплакивает. Ругаю себя на чем свет стоит. Дернул же меня черт про еду несчастную говорить. Пулемет вроде и придает смелости, а я говорю себе: «Ангеле, раз у тебя в руках есть эта штука, которая сеет погибель, то погибель эта и на твою голову. Раз тебя поставили стрелять по мясу, то и сам ты мясо для пули». И опять ругаюсь!
До прихода смены осталось два часа. Что же мне, как всегда, дожидаться смены?.. Боевое далеко, но не очень. Пайщик должен уже вернуться, а о нем ни слуху ни духу. Топаю ногами, чтобы согреться, обледеневшие сапоги разваливаются. И вот в то время, как я слушаю этот треск, что-то затрещало. Сердце мое подскочило от страха. Прислушался. Ничего! И говорю себе: «Показалось, это лед в лужах хрустит. Да и пайщику чего делать в камышах!» Я жду его прихода с другой стороны… Потрескивание повторилось, потом треснуло еще раз. Голос мой из горла рвется — вот-вот закричу. «Стисни зубы, собака, иначе сам волка в овчарню затащишь!..» К треску льда прибавилось царапанье по замерзшей земле. Как будто волокут что-то шершавое. Полночная пора — время вампиров. Слышал я, что вампиры похожи на надутые мехи, и чудится мне, что имею я дело с духами, а не с людьми.
На краю зарослей камыша что-то мелькнуло — люди! В белых халатах, пригнувшись, они несут что-то длинное, белое, похожее на корыто для извести. Дыхание у меня перехватило. Нащупал спуск, а рука моя как чужая, пальцы не слушаются. Идущие остановились, прислушались и снова двинулись. Догадался я, что люди несут резиновую лодку, чтобы переправиться на ней через канал. Путь их должен пройти в двадцати шагах от меня. Внутренний голос подсказывает мне: «Жди их, вблизи им всем будет каюк». Но дал о себе знать и другой голос: «Не подпускай их близко, потому что достаточно одной осечки твоего пулемета — и тебе конец». Выбрал золотую середину: подождать их, но не подпускать слишком близко. Ставлю на предохранитель мягкий спуск, в ушах звон стоит… Пальцы, что ли, меня подвели, не знаю, но пулемет затрясся, перед глазами моими заплясал огонь. Подумал про себя: «Только не подведи!» Сказал «не подведи», а он, как будто я велел ему замолчать, лязгнул и остановился. Те, что с лодкой, не дают о себе знать… Дернул я два раза за затвор, легко нажал спуск для проверки — запел. Полегчало на душе. Продолжаю ждать. А те продолжают молчать. Лежат и молчат. Вряд ли я их перебил, невозможно половиной диска уложить в темноте пять-шесть человек. Не свожу с них глаз, а сам гранаты аккуратненько по брустверу раскладываю. Посмотрел на лодку, вижу, ближе стала. Только тогда понял я, что они, прячась за белую лодку, толкают ее и ползут ко мне. Понял, да поздно. Вскочили они и бегом, вот-вот меня за воротник схватят. Нажал спуск, но и в этот раз не почувствовал толчков. Видел только огонек впереди мушки. Кто-то заревел зверем. Все-таки удивительное существо человек! Один умирает продырявленным, а у другого от его рева на душе светлеет. Пока менял диск, они в меня две гранаты шарахнули, да только взорвались те гранаты в стороне. И я в них гранатами. Теми, ребристыми… Свистнул этот насеченный чугун — и делу конец. Покорчились, поохали — вот и все…
Мой пайщик прибежал вместе со сменой. Издалека кричат мне пароль, чтобы я и их заодно не пригрел. Какой тут пароль! Кричу ему: «Иди сюда, дегтярь несчастный! Из моего котелка немного похлебаешь!..»
Дымятся теплые кучи навоза у конюшен. Ангел осматривается, куда присесть, и направляется к зеленому штабному ящику. Связные из штаба идут следом и снова окружают его. А он будет им рассказывать, как его напарник влез в «гнездо», как стучали у него зубы, как до утра оставался он на краю камышей, чтобы посмотреть на свету, что он «жал и молотил». У «обмолоченных» в карманах были хорошие ножички, а он большой охотник до немецких складных ножей. Хороший перочинный ножичек во всяком деле пригодится!..
Лицо у Ангела — ангельское. Глаза его искрятся золотом: то ли оттого, что не лежит он вместо тех у камышовых зарослей, то ли потому, что его представили к ордену. А может, оттого, что в кармане его лежит немецкий белый перочинный ножичек, который в любом деле годится…
СВЕТ ВЕРЫ
На Предмостье тихо. Поручик Вылков рассылает связных созвать командиров взводов. Взводные — молоденькие подпоручики и кандидаты в офицеры из запаса. Постарели за одну ночь… Они входят в землянку, опустив глаза, входят друг за другом, молчаливо козыряют и приседают на корточки, чтобы докурить в ладонях отсыревшую сигарету. Молчит и командир роты. На его шинели засохшая грязь, рукав на локте разорван. В землянке пахнет распаренной амуницией. Коптит над жировым фитилем огонек. Коптит и кружит голову.
— Вое собрались? — спрашивает поручик.
Взводные пытаются встать, но поручик Вылков делает знак рукой, чтобы сидели. Все, что он говорит им, как будто не очень важно. Когда мы в гарнизоне, то даже самый незначительный приказ отдаем с особой интонацией. А сейчас бывший учитель говорит как перед учениками, которые держат экзамен на аттестат зрелости:
— Проверьте получше оружие! Перераспределите боеприпасы! Противник может нас атаковать неожиданно…
Он перечисляет имена нескольких кандидатов в унтер-офицеры, которые должны взять на себя наблюдение. Эти люди отличаются выдержкой и смелостью.
Взводные встают, молча козыряют и выходят по одному. Они были в бою лицом к лицу с противником. На их шинелях еще не высохла грязь. Сейчас не время давать обещания!..
Во дворе мельницы мы натыкаемся на разбитые кирпичи. Все окутано известковой пылью. Фельдфебель что-то шепчет поручику, докладывая об убитых. Поручик слушает его не шелохнувшись, делает вид, что сдирает какой-то прыщик на щеке, а прыщика никакого нет. Я подаю ему пачку сигарет, а он никак не может вытащить сигарету.
Один из ротных санитаров просит разрешения отвести раненых в лечебницу. Раненые скучились под продырявленным навесом. Некоторые лежат на разостланном на кукурузе брезенте. Белеют забинтованные руки и головы. Открываю рот, чтобы спросить раненых, как поживают, но вовремя останавливаюсь. Этот бессмысленный вопрос можно задать везде, кому угодно, но не раненному в бою. Спрашиваю только, сумеют ли сами добраться до лечебницы, а они мне отвечают, что тех, кому были нужны носилки, уже отнесли.
Утра дождались на ногах. Головы тяжелые. Солдаты приводят в порядок окопчики. Под грушей у мельницы лежит немец, рука его отброшена в сторону. Ветер треплет на его лбу прядь волос. Рукав от куртки висит на ветке груши. Этот солдат теперь вычеркнут из списков вермахта.
По ту сторону шоссе у нас было пулеметное отделение. И наше отделение тоже вычеркнуто из состава нашего полка. Солдаты перебиты, а один из них исчез бесследно. Пропавший — кырджалийский турчонок, и это наводит нас на невеселые размышления…
Пропавший кырджалийский турчонок нашелся. Прислали его с запиской из соседнего полка. Нурудин стоит перед штабом в Эржебете желтый, перекошенный. Один его ус будто молью изъеден. Глаза налиты кровью, во взгляде смятение…
И для него, и для меня произошла революция. Революция сделала нас равными, но в этом равенстве Нурудин — турок, а я — болгарин. Мои деды были подвластны турецкому султану, его — господа́. Учеником я с горящими глазами декламировал стихи о кровавой трагедии Кочо Чистеменского[16]. Мы иногда не можем простить только потому, что стихи сдавливали нам горло…
С памятного сентября прошло всего пять месяцев. Копившееся годами не исчезает за месяцы, и в глазах Нурудина смятение. То ли в них тревожное ожидание, то ли что-то в этом роде. Ведь все-таки из девяти человек в живых остался один, и этот единственный зовется Нурудином. И в довершение всего возвращается из штаба вражеского полка…
Имя турчонка означает «свет веры». И я, Нурудине, ношу в себе свет веры. Спросить тебя — сможешь ли мне ответить, какой свет правдивее: мой или твой?
Нурудин начинает издалека на том болгарском языке — без рода и числа, — который меня всегда веселит. Немного погодя перестаю замечать смешную пародию на мой родной язык…
Минометная стрельба была настолько сильной, что солдаты из отделения Нурудина не слышали своих голосов и объяснялись жестами. Нурудин показывает мне, как они «говорили». В пулеметном гнезде было только двое — остальные ждали в укрытии. Потом уж стало не до мимики, не до разговоров. Солдаты рассредоточились по окопу, чтобы встретить немцев. Нурудин ухватился за ручки пулемета, который стоял на треноге… Рассказывает так, будто он один знает, что это за пулемет, и я киваю ему, словно в первый раз все слышу.
Пришло время и за гранаты схватиться. Набросали их так уж набросали — немец поворотил назад. Повернул, но трое из отделения сползли и застыли на дне окопа. Солдаты говорят Нурудину: «Ты будешь командовать». И он принял на себя командование. Из отделения осталось в живых пятеро. Нурудин штопал немецкие мундиры пулеметными шпильками. Второй номер подавал ему ленты, а трое других стреляли из автоматов. Спустя некоторое время трое, что стреляли из автоматов, тоже умолкли. Подавая ленту, захрапел второй номер. Захрапел и свалился ему в ноги.
Нурудин вертит головой:
— Остался один. В самом деле один на редуте…
Рассказывает о страшных вещах, а сам улыбается.
И этот турок нажимал на спуск. И нажимал до тех пор, пока в голове его что-то не зазвенело и не перевернулось. Потом почувствовал, что его волокут. Те, что волокли его, разговаривали на непонятном языке. Когда он пришел в себя, увидел, что находится в подвале. Ощупал голову — раздута, за ухом запеклась кровь. Голова болит… Нашел в куртке перевязочный пакет, забинтовал голову и посмотрел в окошечко — маленькое окошечко, но просунуться можно. Оказалось, что уже рассвело.
Вывели его на допрос. Шел по каменным ступеням, потом по деревянным. Прошли длинным коридором и вошли в комнату… В комнате — немецкий офицер и гражданский в нагольной шубе. Гражданский заговорил с ним по-болгарски. Полегчало. Подумал: «Раз есть болгарин, другое дело». Спросили, как зовут.
— Нурудин Карафеизов.
Гражданский почесал за ухом:
— По голове твоей узнал, что ты турок. — Потом что-то сказал офицеру по-немецки, и оба засмеялись. Посмеявшись, болгарин спросил: — Из какого ты полка?
Нурудин раскрыл рот, делая вид, что не понимает.
— Тебя спрашиваю, дубина! — повторил тот. — Из какого полка?
— Не понимаю…
Болгарин приблизился к нему:
— Деньги будешь иметь, скотина! И землю, и жен… Отвечай, когда тебя спрашивают!
Нурудин поднимал плечи:
— Не понимаю…
Дело приняло серьезный оборот. Болгарин шагнул вперед, намереваясь его ударить, но не ударил.
— Что ты за человек, а? Форма болгарская, имя турецкое, а говоришь по-русски…
Тогда Нурудин заговорил по-турецки. Обо всем, что пришло в голову. Старался, чтобы в голосе было как можно больше мольбы, повторил несколько раз слово «абдал»[17] и все тыкал себя пальцем в грудь, чтобы они поняли, что он настоящий абдал. Слушали его, слушали и опять отправили в подвал. До тех пор пока не стемнело, он все присматривался к окошечку — как бы его вышибить. Стемнело… На нашей стороне постреливали, перед Надятадом постреливали. Нурудину это на руку. Где-то возле атсия хавасы[18] или к полуночи схватился за рамку окошечка, дернул и почувствовал, как она подалась. В первую очередь просунул ноги, потом протиснулся сам. Ступив на землю, осмотрелся и залег. Оттуда на локтях полз метр по метру. Через дворы и пустые улицы, от угла к углу, пока не выбрался из города.
Он замер, прислушался. Что-то гулко барабанило, но он не сразу понял, что это его сердце. В голове вертелось что-то наподобие шарообразной пули, что-то тупо, будто топор, оглушало его до потери сознания. А плечо его словно шомполом прокалывало насквозь. Не знал он, что произошло, откуда взялся этот шомпол. Очертания равнины терялись во мраке, но Нурудин знал, что где-то впереди должны быть камышовые заросли и замерзшие лужи. Потом канал Риня и только за каналом — свои. Ногами бы шел человек и то почувствовал бы боль в голове от сильного удара, а он полз, как дождевой червь. Сколько ударов в голову, сколько шомполов в плечо!.. А напрямик двигаться нельзя. Немцы скопились перед Надятадом. Голова у него раскалывается от боли, но он понимает, что надо обогнуть это место, отползти подальше. Пуговицы оторвались от одежды, пока он полз по земле. Упрется правым локтем — удар в затылок; упрется левым — шомпол в плечо…
Немцы остались позади, стрельба доносилась издалека. Шелестели камыши, и Нурудин прислушивался, нет ли поблизости людей. «Туп-туп-туп…» Сердце! Если Нурудина и выдаст что-нибудь, так это его сердце! Он попробовал двигаться на четвереньках, точнее, на одной руке и двух коленках. Как ребенок, еще не вставший на ноги. И действительно, ребенок, потому что боль в голове все стерла из его памяти. Болотное дыхание тростника убаюкивало его. Еще немножко, еще чуть-чуть…
Вода в Рине что-то бормотала, клубясь. Так клубится петмез[19], когда его переливают из котла в кувшины. Но Нурудин больше не ребенок, у Нурудина остались воспоминания. Он плывет по омутам Арды, и это они зовут его в глубину, они клубятся.
Ледяная корка у берега тихо обламывается, а Нурудину кажется, что раздается громкий треск. Он медленно идет вброд. Ступни ног обжигает ледяной холод, огонь поднимается выше к поясу. Ногами Нурудин нащупывает дно. Нижняя челюсть дрожит, обух топора бьет в затылок все чаще. Ну, еще немного!..
Руки его нащупывают лед на противоположном берегу. Шомпол в плече валит его на бок, и Нурудин царапает пальцами грязь. Вода выполоскала шинель, шум начал удаляться, и где-то в темноте потерянной памяти бешено заплясала раскаленная белая нить. Вода больше не колет его ледяными иглами, и челюсть как будто перестала прыгать. Нурудин, приходя в себя, начинает понимать, что игра действительно прекратилась. Вода согрела его. Прикусывая язык, чтобы опомниться, опирается на левую руку, чтобы шомпол в плече привел его в чувство. С шинели его течет вода, он, качаясь, движется дальше, туда, где свои. Небо впереди разорвано рассветом. Нурудин идет навстречу рассвету и кричит:
— Товарищи-и-и!
Небо пламенеет. Нурудин идет навстречу рассвету. Это свет веры!
К нему спешат солдаты, которые внезапно начинают качаться в его глазах. Они расплываются, превращаются в серые пятна, потом сливаются в одно большое пятно. Пятно это приближается, загораживает разорванное небо и переворачивается.
Нурудин ощущает над собой чье-то затрудненное дыхание, чувствует, что его подхватывают чьи-то руки, но ничего не слышит…
Когда сознание вернулось, он увидел себя одетым в сухое белье, а у постели его дымился чайник с горячим чаем.
Молод я еще — не могу скрыть своего волнения. Нурудин почувствовал, что я ему рад. То, что делало его турком, а меня болгарином, исчезло. Один ус у него общипан, но сам он уже не желтый и перекошенный. Нет растерянности на его лице. Налитые кровью глаза светятся изнутри. Вот он свет, свет веры!
Глаза становятся слепыми не тогда, когда наливаются кровью, а тогда, когда не светятся внутренним светом…
ОКОПНЫЙ БЛОКНОТ
Конь — какое это большое дело! Совсем иначе чувствует себя человек, когда смотрит на людей с высоты. И на брата своего посмотреть сверху — тоже здорово… Выделили мне чудесного коня и ко всему прочему конного ординарца. Некий Крыстю из хасковских сел оседлал ординарского калеку и екает позади меня в седле. И я когда-то так же екал. Учил меня ездить один поручик — учил так, как учат подмастерье. Вот я теперь и вымещу на Крыстю свою ученическую обиду: пусть понатрет себе седалище, чтобы было чем на селе похвалиться. Да и на меня пусть глядит как на образа! Солдату, который не смотрит на своего командира как на икону, бог знает что может прийти на ум: и большая командирская зарплата, и жена…
Едем днем и ночью. Дорога без начала и без конца — сотня километров через промерзшие равнины. Нет ни раскаленной дверцы железной печки, ни ржаной соломы в нетопленном вагоне! Сейчас и офицеры идут пешком, идут, потому что, сидя на коне, можно превратиться в ледяную сосульку. Не дай бог ударить — рассыплется со звоном.
31 декабря, Новый год на носу, а полк покидает кавалерийские казармы в Земуне, чтобы искать какое-то село Бешка, затерянное среди снежных равнин. Уже стемнело, а село надо искать, чтобы расквартировать в нем весь полк! Сижу верхом на Бистре, сидит верхом на своем инвалиде и ординарец Крыстю, скачем по шоссе на Нови-Сад. В Инджие дивизионные пекарни полыхают издали жаром, около пекарен гнусавят годулки, и маленькие фракийцы танцуют в сиянии огня. Они отправляются навстречу другому огню — уходят на фронт, а Новый год встречают с годулками…
Где-то на шоссе просим югославских офицеров показать нам дорогу на эту Бешку. Они ищут ее электрическим фонариком на замусоленной штабной карте и никак не могут найти. Озираются в поисках какого-либо ориентира — нет и ориентира. Кругом только один снег. Показывают нам рукой, куда ехать, но им и самим не ясно, куда мы попадем. Садятся в свой джип, вьюга подхватывает их и скрывает из глаз.
Ординарец Крыстю пытается перекричать ветер:
— Господин комиссар, еще немного, и мы расколемся от мороза…
Вроде и снежная равнина, а черно кругом. Неприбранная кукуруза скрипит и трещит, ветер гуляет по ней, играет как на кавале[20]. Вокруг никого! Все чужое!..
Кричу ординарцу:
— Вытащи нос из шарфа, Крыстю! Нос у тебя сельский, может быть, учует дымок?..
Крыстю отворачивает шарф:
— С таким синим носом, даже если ты втащишь меня в парфюмерную лавку братьев Дечевых, я тебе скажу, что ты меня в конский навоз ткнул.
Впереди мелькнул огонек — мы бросаемся туда. Черная ограда, черное сучковатое дерево и одинокий черный дым. Кричим, но куда там! Не то что не отворили, наоборот, свет гаснет. Вытаскиваю пистолет, стреляю в воздух раз-другой. Внутри притаились. Если стреляют, то что еще можно ожидать от напуганных людей? Попритоптали снег в этом месте, трогаемся. Но куда ехать, сколько ехать? Ветер спроси — ветер скажет… Спустя некоторое время услышали выстрелы. Новый год наступил! Улавливаем направление стрельбы…
Тот, кто искал в мешке конопли просяное зерно, имеет представление, как найти ночью село в незнакомой стороне. Тот, кто закоченевший спал и видел кров, понимает, что такое светящееся окошко! Не было даже сил нажать на защелку двери. Стоим оцепеневшие перед светлым окном. Попали в местный Бешковский отряд. В комнате тепло. Мужчина с веревкой вместо ремня на винтовке начинает растворяться и исчезает в тумане. Он двигает ко мне просиженное кресло, приглашая сесть, но я не могу даже согнуть ноги…
Прихожу в себя. На столе дымятся куски жареной свинины, в пестром кувшине булькает вино. Вчерашний партизан трется спиной о синюю фаянсовую печку. Теплый туман в моих глазах рассеивается. Партизан смотрит на меня, кособочит шею к остальным:
— Вот это председатель, меня зовут Милован, а это наши мужики. Новый год, товарищ комиссар, а у нас одни мужчины.
Нет женщин — сплошь мужики, увешанные железками. Крыстю, ординарец, будто смеется, а сам всхлипывает. Когда говорят о женщине, как не всплакнуть!..
Товарищ Милован! Почеши себе спину, погоди, вот приду в себя, тогда скажу тебе, какой ты ангел! Ангел в продырявленной безрукавке, в залатанных галифе и шумадийских царвулях[21] с лихо загнутыми вверх носками. Смотрю и думаю: какая же женщина согласится взглянуть на тебя? Женщины выбирают мужчину по тому, что он носит на плечах своих, что снашивает и что новое покупает, а все другое, что не носится, не покупается, они не замечают. А что у тебя на плечах? Поэтому избранные живут, а залатанные со стороны глядят да завидуют. Не тебя мне жалко, мне женщин жалко! Как им объяснить, что один ангел небесный с винтовкой на веревке мучается оттого, что нет в новогоднюю ночь хотя бы одной женщины, ни для чего другого, а очеловечить мужиков, чтобы не матерились! Как объяснить им, чтобы они поняли, что в эту новогоднюю ночь никто бы не поклонился им ниже тебя, искусанного и простреленного, резаного и латаного мученика!
Милован смотрит на меня, топчется на месте и не отводит взгляда. Я ему ничего не успел сказать, а он уже понял. Его заросший щетиной подбородок касается моего лица:
— Товарищ комиссар, брат ты мне!
Теню закончил Чешнигировскую санитарную школу, едва до двух нашивок добрался, а в дружине его называют Доктором. Он играет в доктора, носит в санитарной сумке никелированный стетоскоп, но никто еще ни разу не задирал перед ним рубаху для осмотра. Вместе со стетоскопом Доктор привез на фронт фотоаппарат и гитару. Фотоаппарат — в футляре, на гитаре — перламутр.
Равнина белая, а там, где ветер обгрыз снег до костей, серая. В насквозь простуженном от ветра поле притаился брошенный дом. Стены его изрешечены пулями. Доктор смотрит в сторону дома и рвет струны гитары.
Солдаты из штаба вытягивают шеи, а Теню поет со слезой в голосе, сеет смуту им в душу…
Доктор, возьму я сейчас эту гитару и нахлобучу на твою голову! Сам послушай, что ты поешь! Что это за сладостные грезы, кого ты ждешь в домике, кому заливаешь красивую ложь?.. Не размагничивай солдата, не смущай его! То, что стоит в поле, совсем не домик, а прошитые пулями каменные стены. Пули продырявят и наши шинели!..
Доктор откладывает гитару в сторону, делает это важно и грустно: глупая публика, что она понимает!.. Настоящая война еще не началась, а Доктору нужна публика. И немцу тоже нужна — установил громкоговорители и каждый вечер приглашает нас своевременно сдаться в плен. Предложение делается по-русски, потому что они еще не знают, что против них стоят болгары.
Наши обижаются:
— Нас за пустое место считают…
Но со вчерашнего дня немцы поняли, кто мы. Фельдфебель Дойчо всем рассказывает, что один немец получил его пулю. А когда измерили ее калибр, немец воскликнул:
— Наверняка болгарская работа!..
Хорошо, когда человек улыбается! Хорошо, если рядом с хвастунишкой Доктором есть угловатые фракийцы, которые аккуратно укладывают по окопному брустверу ребристые гранаты. Хорошо, что под чужим небом человек вспоминает и о своем, и о том, что окопы, по ту сторону которых нет пощады, по эту сторону делают людей братьями.
Майор Стоев парит ноги в тазу, трет пяткой о пятку и пыхтит от удовольствия. Ординарец держит в двух руках полотенце и ждет. Рядом стоит поручик Торозов, тот самый, прозванный Тормозовым. Он гнусавит что-то себе под нос, опять ищет какую-то папку. Секретные посты с наступлением сумерек залегли впереди боевых охранений. Ракеты раздвигают тени, падают медленно и гаснут, и позиции погружаются в темень.
Майор вытер ноги. Ах как приятно ощупывать их мягким полотенцем! Ординарец унес таз, адъютант Торозов нашел папку и перестал бормотать. По ту сторону канала внезапно вспыхивает стрельба. Там боевое охранение! Рвутся ручные гранаты. Майор спрашивает меня взглядом, что случилось, спрашивает меня, комиссара, который только вчера впервые провел бритвой по лицу. Отвечаю ему взглядом: эта стрельба не «дежурная», эта стрельба — жизнь за жизнь!
Майор перестает совать пальцы в теплый носок.
— Сходи, а-а-а…
Зачем я сижу здесь, у распаренных в тазу ног? Пока ты мне скажешь, куда идти, что делать, пулеметные стволы трижды раскалятся и остынут…
Из глубокого окопа тянет могильным холодом. Взрывы раскачивают влажный мрак. Сердце мое подскочило к горлу… В землянке перевязывают руки солдату. Это Георгий из Храбырцов! Стрелял стоя — раскаленный кожух ручного пулемета сжег ему ладони до костей. Можно представить, что было, если он не почувствовал, что горят собственные руки! Взвод немцев наскочил на секретный пост. Георгий перемолол их.
Один из наших примеряет себе на голову немецкие шапки и обижается:
— Эти нас шапками забрасывают и ждут, когда побежим…
Солдаты заряжают для боевого охранения опустевшие диски — патроны в свете керосинового фонаря матово блестят. Георгий выходит из землянки — в дверях разворачивается, чтобы не задеть руки. Его отправят в лазарет… Подпоручик Белчев смотрит на меня как-то по-особенному. Что, Белчев? Не удираю ведь, чтобы так смотреть на меня!.. Крути ручку телефона и докладывай в дружину о том, что здесь нас могут лишь поскоблить кончиком ножа, чтобы вогнать его в другом месте… Белчев понимает и уже не смотрит по-особому. Снаружи стало тихо, только лед на лужах хрустит под ногами. Забинтованные руки Георгия белеют во мраке, белеет и тонкая, острая, как клинок, снежная полоска по краю канала…
Не успел войти в штаб дружины, как дежурный телефонист подает мне трубку. Голос Манты тоненький и далекий. Даже если бы он стал еще тоньше, я бы узнал его. Мир может расколоться пополам, но в этом голосе будет играть шалость… Я не спрашиваю, зачем он меня ищет, а говорю ему про забинтованные руки Георгия из Храбырцов и про немецкие шапки рассказываю.
— О каких шапках ты мне заливаешь, а? — спрашивает Манта.
— Альпинистские, с эдельвейсами… Пообсыпали мы колпаки с них, завтра будем собирать граблями. И два пулемета оставили нам на память.
— Ты мне собери…
То, что Манта попросил меня собрать, не для записи на бумаге в мирное время, но на войне к месту. Адъютант звонит из штаба полка в Эржебете: капитану Цонкову с резервной дружиной быть в готовности номер один, потому что брошенные пулеметы и растерянные шапки — это приманка, которая может застрять у нас в горле.
Адъютант передает приказ. Командир полка ходит, наверное, перед разложенными штабными картами. Полковник часто пьет чай, может, еще будет пить. Ошибаются те, кто думает, что чаем балуются только люди, у которых все в порядке…
Телефонная трубка глохнет. Меня поднимает на ноги неожиданный гул. Взрывы артиллерии противника сверкают вдоль канала. Начинаю понимать, что событие с нашим боевым охранением — мелочь: два брошенных пулемета и обгоревшие ладони Георгия. Сейчас в каменной мельнице на Предмостье вертятся огненные жернова, перемалывая мясо и кости. Там, отрезанная от нас, сражается целая рота. Выдержат или погибнут?.. Должны выдержать!
Мне хочется самому себе влепить пощечину. Надо же было так легкомысленно трепаться по телефону о шапках с эдельвейсами… И ты хорош, господин майор! Как твои вымытые ножки? Не хочешь ли и талька, припудрить распаренный зад?..
Майор Стоев мигает из-за толстых стекол очков. Кто он, тот человек, который сунул в руки трусливых бездельников семьсот жизней? Кто он?
Ветер то доносит к нам, то относит в сторону звуки стрельбы возле мельницы. Чай полкового командира остался недопитым. Где-то тарахтит тягач — меняют позиции противотанковые орудия. Наверное, и резервная дружина выходит на исходные рубежи. Солдаты идут молча. Молча занимают окопы запасной позиции. Совсем онемели люди! Только лопаты глухо долбят землю…
Манта! У тебя сил хватит на троих. Позвони сейчас, скажи: «Намели мы их! Жаль только недопитого чая полкового командира!..» Скажи так, чтобы у меня на душе посветлело…
Мы уже второй месяц в окопах. Насмотрелись на погасшие фабричные трубы Этвешкёни. Надоел нам и Хенес. Хенес — село с развороченными снарядами домами. Улицы его цепляются за нас изорванными проводами, во дворах ржавеют плуги. На школьном дворе мокнет безногий рояль… Никак нельзя обойти Хенес. Все дороги ведут через него… Заиндевевший лес вокруг выглядит совсем по-иному. По его просекам носятся одичавшие серны. Графское наследство! Приложись один раз к автомату и ступай собирать серновые рожки да ножки на рукоятки охотничьих ножей… В канале Рини собирать нечего. Риня тащит ледяные куски — от взрывов мин и бомб рыба вся всплыла вверх животом…
Я приказал Марину поднять свое отделение и построить деревянный мост над каналом. По нему должны переправиться разведчики — нам нужен «язык». Уже темнеет, через час-другой прибудут полковые разведчики, а моста нет. Вместо того чтобы строить мост, Марин подогревает в землянке алюминиевый котелок с муравьями и рассказывает солдатам о каких-то одичавших курах, которые разбудили в нем зверя. Ночью возле курятника его внимание привлек покинутый домик. В домике на стене что-то трещало и светилось, да так, что Марин испугался и убежал. А утром увидел, что трещали и светились часы с гирями и фосфорным циферблатом. Выматерился он от души, и самому перед собой стало стыдно…
Хватаю его за ворот: «Ах ты такой-сякой!» От гнева слова мои цепляются друг за друга, а когда человеку не хватает слов, он хватается за кобуру. Я нащупываю рукоятку маузера — солдаты цепенеют…
Они натаскали жердей к краю канала, собрались в землянке перекусить в тепле, а потом сколотить мост. Много ли надо времени перекинуть пару жердин, а сверху набить доски?.. Солдаты выходят из землянки друг за другом. Их сутулые спины как пилой режут мне глаза…
Разведчики прошли по мосту Марина, возвратились в грязных маскировочных халатах. А Марин лежит в дружинном лазарете без ноги. Санитары говорят мне шепотом, что он наступил на противопехотную мину. Культя забинтованной ноги белеет на сером одеяле. Марин смотрит на меня тяжело, в глазах его темный блеск. Сечет меня словами:
— Хотел стрелять в меня, господин комиссар, а мина тебя опередила…
Я стою на обеих ногах, но лежащий одноногий солдат на голову выше меня. У меня есть власть над ним, но его забинтованная культя лишает меня этой власти. Хочу спросить его: знает ли он, что меня ждет сегодня, завтра, послезавтра? Но нога у солдата отрезана. А с безногим разговора не получается…
Армия как старый дом! Со своими порядками… То, что написано пером, не вырубишь топором. Полк растянулся по превратившимся в месиво дорогам — хвост его не видит головы, голова не знает, где хвост. Длинная песня, тягучая песня… Еще нам топать да топать, а там, куда мы направляемся, ждет нас хлеб-соль. Кухни с нами — колеса их шлепают по выбитому шоссе, дымят короткие трубы, запах мяса переполняет слюной рот…
Прибыли не прибыли на передовую, а первые письма появились. Двухплоскостной почтовый самолетик тарахтит от Сигетвара до Софии, от Софии до Сигетвара. Каждый день из штаба армии прибывают мотоциклисты в меховых комбинезонах, разворачивают мотоциклы на одном месте, газуют, чтобы привлечь наше внимание, и достают из люльки запечатанный мешок с полковой почтой. Дружинный курьер волочит от Эржебета к позициям тяжелую сумку; ротные курьеры сидят на корточках перед штабом, ждут его. Как только он появляется, хватают пакеты, торопятся к окопам и землянкам, где солдатская братва высовывает головы из изрытой кротовыми ходами земли:
— Кирца, магарыч ставить?
Тем, кто будет угощать, Кирца подает синие конверты. На листках из ученических тетрадок расплылись обручами масляные пятна, но солдат не замечает их, он по складам читает буквы, толкает локтем соседа, не получившего письма и старающегося заглянуть в чужую радость:
— Ты смотри, приятель! Еще слепой котенок, а уже карандаш в руки хватает… «Ми-лый па-по-чка… милый папочка, — повторяет солдат. — До-шли… дошли ли вы до берлоги зверя?..» Ты смотри, друг, посылает меня зверей давить!
Доставляют и другие письма: от студентов, школьников и общественников. Но чаще от школьниц и общественниц. Газеты накаляют страсти сказками о военных ужасах, они принимают все совсем серьезно, берут в комитетах Отечественного фронта адреса и пишут. И все от имени Родины. «Незнакомый боец! — такими словами милая девочка, витые кудряшки, начинает письмо, в котором уверяет, что она вместе с нами на хозяйственном и политическом фронте. Ах какие признания! Она счастлива, что пишет славному бойцу Первой армии. Ах какие призывы! — Громите врага до полной победы, чтобы мир вздохнул наконец от завоевательных устремлений Гитлера!..» И в моей полевой сумке лежат такие письма. Перечитываю их время от времени, теплеет у меня на душе. Какая разница, если солдату снится сейчас Ленче или Данче, которую он никогда не видел в лицо! «Незнакомый боец» кладет лист бумаги на патронный ящик и начинает нанизывать ответ химическим карандашом. Пишет, будто плетет кружево: «Сегодня, когда я наконец свободен после огненного боевого дня, в котором выли зловещие снаряды…» Вслед за ответом приходит фотография. Эти фотографии еще наделают дел. Сколько народу отведут под венец, скольких детей нарожают!..
Одно письмо я выделил из всех. Писал его мой знакомый, но я никак не мог понять кто. Безграмотное письмо: буквы не как буквы, подпись не как подпись. Не письмо, а работа тупым теслом.
«Дорогой Славчо!
Вчера зарезали поросенка, и ты прости мне, но есть штуки, про которые человеческий разум не может не думать, хочешь не хочешь. Когда глядел, как снег покраснел, прочувствовал, как вы там льете кровушку, а ведь ваша кровушка не свинячья, а святая, и стало мне маленько стыдно перед самим собой, потому что горло каждый день утешения просит, а сделанное добро забывает и опять требует, а человек и про душу свою должен подумать. Что такое душа, Славчо? Живет человек и копит жир, как поросенок, да поворачивает котлеты в сковородке, да заливает видом жаждующие внутренности. А вы идете навстречу пулям, чтобы навести порядок в этом хаосном мире. Вот поэтому мне и стало стыдно перед собой. Вы очень далеко, но поматери меня там, чтобы полегчало мне, потому что я дрянь, и только тогда, как увидел снег покраснелый, понял, что я дрянь с совестью, и начал писать тебе эту писанину. На хронт меня не взяли, военкомат говорит, ты уже старый, грейся на печке. И остался я, поэтому нет у меня слов дать вам издалека разуму да прибавить вам с лежанки смелости болтовней, вы и без меня знаете, что почем. Остался я вас дожидаться и удивляюсь, как я вас дождусь и как я вас увижу, если мне некому рассказать, почему вы воюете, а я вас дожидаюсь. Я ведь моложавый на лицо и не выгляжу на свои прожитые годы, а в паспорте не сотрешь, что написано, а написано там, что мне шестьдесят с гаком. Если хочешь знать, я потому и пишу тебе это краткое письмецо, чтобы не глядеть в один прекрасный день тебе в глаза как жулик, которого за руку в кармане поймали, а чтобы мы поглядели друг на друга как люди и не дошли бы до такого состояния, чтобы ты меня спрашивал, а я не знал, что сказать. И поклялся я еще вчера этим поросенком, не стать бы мне из-за него самому поросенком. Не верю, однако, что жена может встать на дыбы и зять может поглядеть косо и сказать мне, что я старый сундук и мозги у меня совсем высохли, но я решил — и хрясь половину поросенка тем детям, чьи отцы — твои товарищи — оставили дома свои и детей. И бойцам вышлю, только вот думаю, как мне это сделать, чтобы не поняли от кого и не получилось, будто я выслуживаюсь, чтобы стать знатной особой. От второй половины себе мяса оставлю, приготовлю, и тогда мне будет сладко, и сяду я как человек перед хлебом, а если жена встанет на дыбы, я ей разъясню, чтобы и ей было сладко, а если зять поглядит на меня косо, то скажу ему, чтобы молчал, потому как полпоросенка солдатским деткам — это ему откуп за то, что остался в общине чужую шерсть и молоко собирать. Сейчас, когда мне полегчало, молю бога за твое здоровье и товарищей твоих, чтобы вернулись вы в конце и мы свиделися. С поклоном…»
Подпись накручена и наверчена, чтобы мы не поняли, от кого свиной окорок, и никогда не узнали бы, кто писал это письмо…
ПОБЕДИТЕЛЬ
Казарма в центре города похожа на большой пустой склад. Желтые глухие стены, зарешеченные окна, узкий двор — вот и вся казарма.
Взвод мотоциклистов шестнадцатой дивизии выстраивается в этом дворе, а их командир подпоручик Гайдаров, стоя в стороне, натягивает перчатки, пока фельдфебель подает команду «Смирно». Подпоручик замедленным шагом направляется к правому флангу: рука у козырька, игривые блестки на сабельной цепочке. Солдаты взглядом «съедают» офицера.
Каждое утро мы наблюдали эту церемонию с террасы гимназии, точнее, наблюдали ее ученицы старших классов, а мы молча, мучимые ревностью, следили за ученицами.
Наступила осень, и после августовской жары, во время которой все раскаленно белело, керичилерские известняки стали ржавыми, как обычно. И миндалевые рощи Коюнкёя осветились, вымытые первыми дождями, и дали Болустры становились ближе. Ксанти погружался в темноту вместе с монотонным шумом столетних чинар, замирал голодный и, чтобы выдержать, подбадривал себя гитарами, качавшими теплый мрак. Мимо опустевших витрин по «главной» улице прогуливались чиновники, офицеры и гречанки в носочках. Прогуливался с одной из наших учениц и командир мотоциклетного взвода подпоручик Гайдаров. Он стал каким-то доступным, говорил нетерпеливо, быстро, а наша одноклассница рассыпала вокруг кудрявый смех.
Это был сон, который кончился тревожной осенью сорок третьего года. Следующей осенью я сам проходил перед вытянувшимися в строю солдатами. Взгляд их, как и положено, по команде становился преданным и пронизывающим, и я гордился этим. Опьяненный командирской властью, я перестал замечать, как летит время, но вот однажды колеса вагонов, в которых перевозили лошадей, со скрежетом тронулись по рельсам и понесли меня к фронту. Пахло измятой ржаной соломой и кожаной амуницией, в железной печке плясали желтые язычки пламени, и сапоги уснувшего солдата краснели в его отблесках.
В студеный декабрь наш эшелон разгрузился на станции Раковица под Белградом. Встретили Новый год в окаменевшей от мороза Воеводине и спустя неделю-другую заняли окопы в Южной Венгрии. Над болотами впереди позиций повисали ракеты, и снег становился мертвенно-белым в их сиянии. Оборона затягивалась настолько, что мне казалось — дождемся конца войны здесь. Но грянули мартовские бои, и я очнулся в Мохаче, в армейском хирургическом госпитале для тяжелораненых. Они беспрерывно прибывали с передовой. Сестры снимали засохшие окровавленные бинты, и стенания утихали где-то в поворотах белых коридоров. На северо-западе земля тряслась от тяжелых взрывов, и мы просыпались как обреченные…
Потом оказался я в Сомборе. Рядом с моей кроватью беспокойно метался легкораненый солдат и все повторял, что вино уже перебродило. Раньше в его доме не случалось бывать офицеру, он принял меня за гостя и все уверял, что мы будем пить вино, от которого рождаются только мальчики.
Откуда-то из-за него раздался сиплый голос:
— Лучше девочки… Видишь, что делается с мужчинами?!
Я удивленно приподнялся посмотреть, кто это сказал, так как знал, что кровать позади солдата была пуста. Однако, к моему удивлению, там кто-то лежал. Похожая на мяч забинтованная голова человека утонула в подушке. Черные усики и разметавшиеся по простыне руки подсказывали, что раненый лежит на спине. Он как будто почувствовал на себе мой взгляд, сжатые губы его шевельнулись. Это была то ли улыбка, то ли попытка выразить что-то на своем лице — понять было невозможно, потому что все остальное скрывалось под бинтами.
— Когда тебя привезли, друг? — спросил я его.
— Какое это имеет значение — когда?.. Главное, что привезли.
Голос его показался мне знакомым. И усики, и узкие губы. Я силился вспомнить, но все тонуло в хаосе голосов множества встречавшихся и проходивших мимо людей.
Ночью раненый застонал. Я чувствовал, как мучительно он пытается, но не может сдержать стон. Ему было плохо. Взрывом противопехотной мины ему оторвало ногу, ослепило его. Рассыпанные около губ синие точки оттеняли мертвенную бледность его лица. Он страдал, а во мне разливалось странное, подлое облегчение: все-таки у меня есть один глаз и нога почти цела…
Вошел дежурный врач, остановился у его кровати:
— Гайдаров! Такая веселая фамилия — и вдруг стоны…
— И фамилия веселая, и кругом все веселое, а я охаю…
В сознании моем что-то блеснуло. Да ведь это тот самый подтрунивающий голос, который теплыми ксантийскими вечерами смешил мою одноклассницу…
Нас вместе погрузили в санитарный эшелон, и мы вместе оказались в глазном отделении общевойсковой больницы. Во дворе, в парках Софии стояла весна, а подпоручик не мог ее видеть. К нам приходили со сладостями делегатки из женской организации и вместе с гомоном вносили в комнату и свою гордость от сознания исполненного долга. А слепой подпоручик молчал…
Нынешней весной, ровно двадцать лет спустя, я снова встретился с подпоручиком Гайдаровым. Танкисты в пригороде Софии праздновали День Победы. Гайдаров был победителем, и одна неугомонная редакция сделала нас соучастниками торжества.
Он встретил меня в своем доме. Гладко выбритый. В фиолетовых стеклах очков окна начертили белые прямоугольники. Ботинок его протеза глухо постукивал по натертому паркету. Он был в синем костюме, в галстуке, завязанном чужими руками. И улыбался. Это была улыбка и не улыбка — скорее чувство вины. Слепые всегда чувствуют неудобство, которое они нам доставляют…
— Вы все такой же! — воскликнул я.
Действительно, он изменился не сильно, но я думал, что суета зрячих захватила и его.
— Да, все такой же… — повторил он. — Я действительно не вижу никаких изменений… — Начало было неплохое. Я напомнил ему, что надо поторапливаться, а он уселся в кресло, подпер рукой щеку: — Торжества меня пугают…
Он говорил о страхе, а я улавливал в его голосе иронию… Может быть, он видел себя в президиуме, видел выставленным напоказ и не знал, идти ему или остаться. Нужно было сказать ему что-то такое, что сблизило бы нас, хотя этого достигают чаще всего не словами. Я наклонился к креслу:
— А что, разве мы не можем доставить себе удовольствие?..
— Пожалуй, можем…
У меня не было такого чувства, что я нахожусь рядом со слепым. Гайдаров говорил, повернув ко мне голову, и я как будто чувствовал его взгляд. Наши руки столкнулись над пепельницей.
— Поосторожнее, — сказал я. — Ты же можешь меня обжечь.
Плечи его затряслись от смеха. Нам стало весело.
Он принялся рассказывать мне о том, что «читал» в последнее время, что «смотрел». Мне становился ясным наш вчерашний разговор по телефону, когда Гайдаров, уловив мое смущение, сказал мне:
— Я чувствую себя совсем естественно среди окружающих предметов. Ты говоришь со мной по телефону и имеешь о моей обстановке некоторое представление. То же самое и со мной. Не видя Витоши, я ношу ее в своем воображении. Такое же представление я распространяю на весь мир…
Итак, мы уже могли отправляться.
Прошли между знамен и солдат. Лучшие подразделения гарнизона были выстроены в каре, а в громкоговорителях чей-то голос перечислял знаменательные даты победы. С трибуны говорил офицер. Он был довольно далеко, и репродукторы приближали его к нам. Фоторепортеры сновали взад-вперед с аппаратами и вспышками. Их суетливые усилия документировать историю были искренними, и событие выглядело значительным. Какой-то вежливый майор с блестящим поясом из серебряных нитей поверх парадного кителя принес нам два стула, и мы сели в сторонке под свежей зеленью распустившихся тополей. Я описывал Гайдарову все, что происходило вокруг, он кивал головой в знак согласия и удивлялся, что когда-то для него все это было таким важным. Вблизи переминались с ноги на ногу музыканты. На их медных инструментах вспыхивали и гасли золотые блики солнца. Еще в общевойсковой больнице Гайдаров забыл цвета. У него осталось смутное представление только о желтом, и он поддерживал его с помощью воображаемого блеска духовой музыки.
— Сейчас перед моими глазами непрерывно бушуют цвета… — сказал он мне.
Он говорил о глазах, а они навсегда уснули под плотно закрывшимися веками.
Люди были заняты важными делами: стояли, слушали, фотографировали, передвигались, стараясь попасть в кинокамеру. А Гайдаров вспоминал, как один впавший в панику начальник штаба бессмысленно отправил его с целой моторизованной ротой на минное поле, под автоматный огонь противника, как солдаты принесли его, окровавленного, слепого, без ноги.
Он говорил о бездарных, слабонервных, безответственных. Он мог негодовать, но не делал этого, а искал какого-то объяснения их поведению, чтобы простить все.
Возле нас стояли офицеры послевоенного поколения. Для них военная история — счастливое совпадение фактов и оперативного искусства, а мне хотелось, чтобы они не забывали и о дравских подпоручиках…
Когда Гайдаров сумел победить свою судьбу, у него и в мыслях не было служить кому-то примером. Он даже что-то сказал о людях, выдумывающих для себя благородную роль, чтобы превратить ее в упрек другим. Слепой подпоручик с отличием закончил юридический факультет не для того, чтобы изумлять нас. Я видел его научные труды по международному праву, магнитофоны, на которые он диктует свои юридические статьи… И мне захотелось вдруг встать перед выстроенными в каре курсантами и приказать им отдать ему честь. Но мой старый знакомый сидел на стуле в темных очках и синем костюме, далекий от мира, в котором суетились фоторепортеры и громкоговорители перечисляли в точной последовательности знаменательные даты победы.
УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
Кому сейчас есть дело до тактической подготовки одного моего друга, бывшего командира полка? Никому! Но долго еще будут говорить о выжженной на территории казарм траве, о малярах, о насосах для опрыскивания винограда и мешке зеленой краски, с помощью которой этот командир рассмешил целую армию…
Жаркое лето лизнуло раскаленным языком траву и то, что называется полковым парком. На самом деле никакого парка не было, а были пырей, одуванчики и подорожник, опаленные черной оспой. И страшно, и тяжело на душе, а что это за войско с плохим настроением! Спустя день-два в полку ожидалось прибытие комиссии с проверкой. Любая комиссия, когда она пройдет через свежий от зелени район казарм, когда запестрят у нее в глазах цветочные клумбы, огражденные побеленными речными камнями, когда будут попадаться повсюду на плацу щиты из черных досок, а ее очи возьмут в плен противопожарные щиты с конопляными веревками, ведра, ящики с песком и смазанные кирки, любая комиссия зажмурится от удовольствия. Главное в том, чтобы комиссия зажмурилась от удовольствия, остальное — плевое дело!..
Командир полка уважал свой талант перехитрить тех, от кого он зависит. Он собрал бригаду маляров, указал им на обожженный засухой «парк» и сказал:
— Чтобы трава стала зеленой, как в мае…
Маляры развели краску, привязали на спину опрыскиватели для винограда, и сухая трава стала зеленой, как в мае. Но в день проверки прошел ливень. Выкрашенная трава вначале потемнела, потом поржавела, и через плац потекла зеленая вода. Проверяющие офицеры посмотрели изумленно на чудо, догадались, в чем дело, и давай хохотать…
И о моей офицерской службе еще ходят легенды. Рассказывают, как во время приема пополнения новобранцев я вывесил свой портрет над входом в казарму… Что ж, в молодости человеку многое позволено. И почему бы не посмотреть на себя, увеличенного на белом холсте?! А разве лучше было бы, если бы я ни в чем не согрешил? И отшумели бы годы мои до пенсии по казарменным плацам праведно и безлико?..
Когда-то судьба улыбнулась мне: в двадцать три года я командовал полком. С тех пор, о чем бы ни заговорили, я стараюсь перевести разговор на армейскую тему, так как иначе не могу сказать, что еще в мальчишеском возрасте проявил исключительные качества и люди справедливо заметили их. В те былые времена в накидке, с кортиком и глухими шпорами, с которыми чего только я не делал, чтобы звенели, отправился я в унтер-офицерский клуб на вечеринку. На шаг сзади меня, точно в соответствии с уставом офицерской службы, шел подпоручик Мотолов — так же, как и я, в накидке, с кортиком и глухими шпорами на башмаках. У входа в клуб нас встретил фельдфебель первой пулеметной роты Каварджиклиев. Он раскраснелся от служебного рвения, слева на груди у него пестрел бант из трехцветной ленты, означавший, что он старшина вечеринки. Я сбросил с плеча накидку солдатику, заканчивавшему свою службу в офицерской парикмахерской. Он принял ее сзади, а я стал во весь рост в проеме распахнутых дверей зала. На треугольном помосте в углу напротив белела дирижерская палочка, которую маэстро Спиридонов держал двумя пальцами. Внимание! Фельдфебель Тачо набрал в легкие воздуха — басовая труба затряслась у него в руках. Дружные звуки мягко ударили мне в лицо, оркестр заиграл «Марш полкового командира». Заиграл его для меня!
Торжественный момент. Настолько торжественный, что в голове у меня зашумело и я оглох. Располневший унтер-офицер растягивал тромбон, как в немом кино; музыкант-ученик Милчо размахивал тарелками, но их медные звуки не доходили до меня. Свет хрустальных люстр отражался в надраенных до блеска инструментах, белая палочка маэстро Спиридонова кружила мои глаза по окружностям и эллипсам…
Столы, расставленные буквой «П», покрыты скатертями с интендантского склада, тарелки с золотыми вензелями; в вазах пазарский виноград, салат из помидоров и хризантемы в гильзах от артиллерийских снарядов. Унтер-офицеры причесаны, как близнецы в дорогу, а супруги их облачены в ставшие тесными по причине полноты платья из креп-марокена. Стоят вытянувшись и ждут, когда можно будет усесться на пустой стул перед серебряным подсвечником.
Я сделал первый шаг одеревеневшими ногами, но второй сделать не смог. Кто-то слегка дернул меня сзади за рукав. Обернулся, а это подпоручик Мотолов вертит глазами, подавая мне какие-то тревожные знаки. Спрашиваю его взглядом, что случилось, а тот приближается ко мне вплотную и отводит мою руку назад. Болтающиеся резинки подтяжек ошпаривают мне пальцы… Торжественный марш, золотые солнца на медных инструментах, серебряный подсвечник с лентой, безвкусные клипсы, креп-марокен и… повисшие подтяжки! Чудесные подтяжки…
Каварджиклиев стоит, держа руки по швам, и удивляется, почему я топчусь на месте и не иду.
— Прикрой меня, — шепчу я подпоручику.
Приятель закрывает меня. Делаю вид, что с интересом разглядываю на потолке что-то, видимое только мне. Так, глазея, двумя пальцами элегантно подсовываю подтяжки под ремень брюк. Ощупываю полы мундира — ничего не висит. Направляюсь к пустому стулу, стоящему посредине буквы «П».
С подпоручиком мы вместе вели холостяцкую жизнь, знаем друг о друге все, и я начальство ему только внешне. Смотрю на него: танцует с унтер-офицершами, носик его блестит. А я ерзаю на стуле, измученный от почтительности. Когда наши взгляды встречаются, он еле сдерживается, чтобы не прыснуть со смеху. Ну засмейся, ну похохочи! Тот идет, чиркает спичкой и подает ее мне, чтобы я зажег свечи. Спичка играет у меня в пальцах. Ищу огоньком фитиль свечи, а подпоручик говорит мне:
— Начальник, хорошо, что дамы смотрели на твою голову в облаках и не взглянули вниз. Ты мог бы их горько разочаровать…
— Ты деревня, — говорю, — подтяжки — это вещь городская, тонкая…
— Ну-ну, начальник! Девятого сентября гашник победил резинку…
Смеемся оба. Мы молоды и чувствуем себя чудесно…
Выходим на террасу. Осенняя ночь, теплая, приятная ночь. От миндаля на нас веет кроткий ветерок. Звезды старозагородского неба смешались внизу, в долине, с огоньками в селах. Мы счастливы, но сами не ведаем того, что счастливы…
ДНИ, КОТОРЫЕ СБЛИЗИЛИ НАС
Мы сидим на зеленой скамейке у фонтана перед казармой. Вы, наверное, можете представить себе такой фонтан: бетонное кольцо, затянутое тиной дно, торчащая ржавая труба, над которой журчит и плачет вода. Затоптанная клумба около фонтана огорожена рядком плотно уложенных наискось кирпичей. Какой-то командир полка в шутку назвал этот зубчатый круг «солдатское кружево».
Осень подкралась незаметно, и солнце еще не ушло от нас, и холода не пришли. Плацы залиты солнечным светом, легкие навесы по краям их кажутся близкими. Солдаты находятся далеко, но голоса их звучат совсем рядом. Даже когда разговор прекращается, в прозрачном воздухе звенят его отголоски.
Майор Ахтаров вернулся с границы, а ему все еще чудится, что он едет, что несет его неведомая сила. Он оставил дула в чехлах, уехал от полигонов с потрескавшимися от жары траншеями. Распаханная стерня и поредевшие виноградники проносились по сторонам газика серо-ржавыми полосами. Майор давно проехал мимо, а они все еще стоят у него перед глазами.
Тот, кто близок к земле и людям, носит землю и людей в глазах своих. Это всегда можно уловить по едва заметному движению глаз человека, по блеску зрачков, по улыбке…
Да, друг мой Ахтаров… Лучше бы мне не встречаться с тобой! Тогда не пришлось бы мне молча сидеть перед казарменным фонтаном с облупившейся цементной штукатуркой, копаясь в обсыпавшейся внутри меня штукатурке. Не скрывал бы я своих мыслей, увлеченный изучением «солдатского кружева», потому что эти кирпичи уложены «саблей», как когда-то мог укладывать и я. Не за что было бы мне укорять самого себя, потому что ты, скитающийся по пограничным районам, месяцами не видишь своих детей, а я каждый вечер испытываю радость от безмятежного сна моих ребятишек. Ты строишь дороги для нашей армии, острый щебень впивается в твои потрепанные сапоги, а я слушаю симфоническую музыку и доволен, что могу рассуждать о Рахманинове. Непрерывные дождя стучат по твоему промокшему плащу, ты кричишь, стараясь пересилить ветер, чтобы услышал тебя маленький, растворившийся в промокшей дали солдат, а я наблюдаю через стекло, как опадают на софийских улицах листья каштанов, наблюдаю и переживаю…
У тебя даже и в мыслях не было упрекнуть меня за все это, но я должен укорить себя сам, иначе наш разговор может стать фальшивым, нечестным. Командир дивизии сказал мне, что ты неразговорчив. Он заслуженный человек, но я не могу согласиться с ним, потому что знаю, что для любого разговора нужны двое. Если бы не так, ты не стал бы мне признаваться, что испытываешь неосознанный страх перед днем, когда должен будешь расстаться с армией. Подобная исповедь многих людей выглядит странной, и на тебя могут посмотреть со снисхождением. Пусть! Ты солдат, а солдаты всегда должны иметь противника.
Человек — гость на земле, гость и в армии, куда отправляется исполнять долг, непонятный некоторым людям. Ты один из многих, которые исполняют свой долг, и я не хочу тебе врать, что наступит день, когда имя твое высекут золотыми буквами на мраморной плите у ворот с красиво оштукатуренными колоннами и покрашенной в три цвета нашего знамени будкой. Но то, что тебе жаль расстаться с неудобствами, с нелегкой солдатской жизнью, делает тебя большим. Когда в один прекрасный день ты поймешь, что сохранил самоотверженность своей молодости, верю — ты будешь счастлив.
Ты усмехаешься: мы вообще хорошо понимаем друг друга.
Прямые брови, угловатая челюсть, серые глаза, в которых, может быть, есть иллюзии, но никогда не было лжи…
Рассказывай, я тебя слушаю! Ты хорошо ответил тому, с золотым вечным пером, когда он посетовал, что уже нет героики. Какие нелепые басни выдумывают некоторые люди!..
Рассказал ли ты ему о рядовом Йордане Манолове, о том самом, который считал себя спортсменом и из которого ты сделал солдата? Он, привыкший к поклонению, не скрывал своего пренебрежения к другим солдатам. Ты был командиром, ты должен был терпеть, потому что твое самолюбие нельзя было защищать властью устава. Ты делал это, потому что знал, что в таком пренебрежении может быть и капля силы. Ты понял это и начал действовать.
А как ты расставался с твоими солдатами? Среди них были разные ребята, всякое бывало, но они шли проститься с тобой, шли с деревянными чемоданчиками в руках, совсем другие, в ставших тесными костюмах. У тебя не было сил прощаться, впервые ты почувствовал себя слабым, и тебе захотелось сбежать…
И об этом ты умолчал! И о военной дороге, которую ты построил со своими мальчиками досрочно; и о генералах, проехавших группой по этой дороге, занятых своими разговорами, когда ты стоял в стороне — маленький армейский офицер, стоял вытянувшись перед черным асфальтовым полотном…
«Мы работаем, видим плоды трудов своих, и этого нам достаточно…» Мужские слова! И ты должен был произнести их. И о жене своей… Ты называешь ее супругой, и меня впервые это не раздражает, потому что воистину ты говоришь о товарище. Повтори, пожалуйста, что ты мне сказал! Это надо запомнить: «Для выполнения офицерского долга нужна и жена, которая бы его понимала…»
Ты возвращаешься домой поздно и приносишь в свою тесную квартирку запах казармы и сырости. Жена твоя поднимается с лавки, принимает шинель, и в одной незаметной улыбке жены ты открываешь все то, что люди называют благословенным домом. Открываешь и ту истину, что в доме может быть много людей, а все равно он будет пуст, но даже один человек может заполнить его до краев. Этот человек — твоя жена, и ты благодарен ей за это…
А героика?! Есть ли она теперь? Давно ли было, что Тунджа потащила ледяные глыбы и начала переполняться мутными водами? Вода вышла из берегов, и Ямбол вздрогнул. Тогда ты помчался туда. Тебе приказали — и ты отправился, не задавая лишних вопросов. Ледяные громады прудили воду, саперы бросали шашки, пытаясь взорвать их, а вода затопляла дома в низинах, и детский плач пронизывал тебя насквозь.
Образовавшийся в русле ледяной затор задерживал воду. Уровень ее поднимался устрашающе, грозя затопить свиноферму и весь Каргун. Тогда и прибыл командир дивизии.
— Берешься ли, Ахтаров? — спросил он.
— Сделаем, товарищ полковник.
Впервые ты не ответил по уставу. Устав — обязательная форма общения между подчиненными и начальниками, но здесь ты рисковал, и ставкой была твоя жизнь!..
Привезли большую лодку и взрывчатку. Среди солдат находился и рядовой Манолов — тот самый, со спортивной выправкой, и бригадир свинофермы Чапыров. Чапыров — полугорожанин, полукрестьянин. Смотрит и никак не может понять, что происходит. Смотрит через маленькие очки, одно плечо его приподнимается. Хорошо, что ему не все понятно…
Лодка отчаливает от берега. Над Тунджей навис тяжелый туман, видимость не превышает нескольких метров. Вода густа, как подсолнечное масло. Ты напрягаешь слух, пытаясь уловить, не трещат ли поблизости льдины. Льдин не видно, и ты приказываешь грести. Тебе все время кажется, что впереди вот-вот появится темная полоса затора, а Чапыров говорит:
— Еще немного…
Это «немного» превращается в очень много, но ты молчишь. Даже не смотришь на часы. Солдаты замечают все! Тебе не хочется думать о самом страшном: а вдруг затор прорвется и ледяная громада ринется на до смешного маленькую резиновую лодчонку?
Ты первый увидел плывущую ледяную глыбу и, прежде чем остальные поймут, что случилось, бросил тротиловую шашку. Солдаты инстинктивно пригнулись. Раздался грохот взрыва и на вас посыпались куски льда. Пока вы пригибались, ледяная громада превратилась в острые осколки. Становилось и в самом деле страшно: объявший вас холод то ли шел от реки, то ли скапливался где-то внутри вас самих. Кругом все трещало, ломалось. Ты приказал грести вправо. Тебе казалось, что льды скопились именно там. Они прошли у самого борта — мертвая громада, которая могла вас погубить. Ты вздохнул с облегчением.
Но в этот момент Чапыров не сказал, а скорее прокричал:
— Вот она, запруда!
Ты пригляделся и увидел ее — черту, отделявшую от вас мертвый блеск поверхности большой воды. Выскочил на насыпь — сапоги увязли в размокшей земле. Солдаты последовали за тобой. Ты обрадовался тому, что они бегут следом, если только можно это назвать радостью…
В трех местах заложено по тридцать килограммов взрывчатки, кабель, связывающий детонаторы, аккумулятор для взрывания. Ты посмотрел на всех, будто спрашивал разрешения. Солдаты молчали в напряженном ожидании, и ты включил рубильник. Три вспышки, три взрыва, прозвучавших во мраке без эха. В пустынной тишине вслед за грохотом взрывов заклокотала вода. Рухнула вниз через взорванную преграду, задвигалась ее гладкая, мертвая зыбь. Но и вы попали в капкан — течение могло отнести лодку к образовавшимся в заторе проемам, а там нет спасения…
Вы отправляетесь по насыпи вдоль берега, но и она в одном месте размыта. Давно стемнело, прошло много времени. Тот, со спортивной фигурой, солдат понимает, что твой взгляд направлен к нему. Ты не смотришь на него, но он все понимает и говорит:
— Дайте веревку от лодки, товарищ майор! Я проскочу и вытащу вас.
Сумеет ли он пересечь поток, который клубится и клокочет?
Боец хватает веревку, напрягает силы и отрывается от земли. Цепляется руками за противоположный раскисший берег, и ты, товарищ Ахтаров, второй раз за эту ночь вздыхаешь с облегчением.
Манолов перетаскивает вас всех, вместе с лодкой. Он садится в нее сам, и тебе хочется сказать ему что-то хорошее, обнять его. Но ты человек сдержанный, потому говоришь только:
— Хорошо, Манолов…
Вода уже спала. Вы плывете к свиноферме. Вокруг нее сухо, она спасена. Сторож встречает вас немым вопросом в глазах, как будто вы явились из другого мира. Вам нельзя задерживаться здесь, потому что, вы знаете это, вас ждут, сигналят ракетами, хотя в густой мгле почти не видно света ракет. Тащите лодку через жидкую грязь. Тяжело!
Чапырову знакома вокруг каждая пядь. Он провожает вас к каналу, по которому вы поплывете к берегу. Первые минуты плывете спокойно, но самое страшное всегда приходит после затишья. Освобожденная вода ворвалась в канал, сорвала на своем пути льдины, и вы внезапно попали в их холодный плен. Несколько сильных ударов относят вашу лодку в сторону, наклоняют ее, грозя опрокинуть, потом начинают крушить. А льдины плывут все стремительнее и стремительнее, скрежещут, трещат…
Ты говоришь, Ахтаров, что сам не знаешь, как вы остались живы. Я понимаю тебя — смертельная опасность всегда сохраняется в памяти как какая-то полуреальность. Сном тебе кажется и ваше возвращение на обетованный берег, выход из лодки в полуночный час. Как будто не было и той перепуганной женщины, дом которой был залит водой. Она смотрела на вас как на спасителей, просила вытащить ее пожитки, а спасители качались от усталости, готовые упасть. Она говорит вам, что скарб ее ничтожен, тяжел лишь для нее, но ты не можешь вникнуть в смысл ее слов. Позже, спустя день-два, ты будешь вспоминать эти слова и поймешь, как дороги тебе люди, для которых даже мелочи много значат… Солдаты ждут, что ты скажешь. А что говорить? Даже если нет сил, человеку надо помочь…
Вы влезаете в домик, погружаетесь в воду и, согнувшись в три погибели, переносите вещи женщины на сухое место…
Ты командир, но ты и солдат, и у тебя есть начальник. Поэтому ты отправляешься искать сельский Совет. В председательский кабинет вносишь ледяной холод Тунджи, тревогу нависшей и минувшей беды. В кабинете тепло, и тебе становится неловко, что ты тревожишь других своими переживаниями. Поднимаешь руку к козырьку и — так как всегда легко произносить готовые сорваться с губ слова — рапортуешь:
— Товарищ полковник, задача выполнена!
Это экскурс в воспоминания, майор Ахтаров. Но позволь мне, чтобы твои воспоминания были и моими, потому что дела сильных принадлежат всем, а день, сблизивший нас, — чудесный день: ни солнце не ушло от нас, ни холода не пришли, а от обилия света далекие постройки казарм кажутся легкими, как во сне.
НА РУБЕЖЕ
Когда-то Ричард III был готов отдать всю Англию за одного коня. Пограничники хорошо понимают его, они знают цену лошади. Копыта звонко цокают по каменистой дороге. Я не присматриваюсь, но знаю, как играют мускулы жеребца. Не пройдет и часа, как он домчит меня до заставы…
Лето ушло. С его уходом ушло что-то и от нас… Вода в водохранилище сделалась прозрачной, из глубины ее веет холодом.
Я не заметил, как небо осталось без птиц. Красивое небо! Иногда оно блестит, как мелко накрошенная слюда.
Пуст и лес. Пуст… Покинутые гнезда чернеют на деревьях, как разбросанные кем-то мячи. На крупных ветках качается паутина, даль за деревьями выстирана до белизны. Где-то за скалой прожурчит ручеек, где-то захлопают крылья. Легкий шепот зарослей превращается в невнятный говор, ахают топоры, предвещая зиму.
Лето ушло!..
Но есть вещи, которые остаются. Ломская вершина, например, хижина Дюдюка, домики, повисшие над желтым яром. Остается и граница, прикованная к одному месту, и все пережитое на ней.
Да, пережитое! Я всегда ощущаю в себе его присутствие. Тогда я начинаю понимать, как глубоко граница запала мне в душу.
Бойцы, застава, я, собака — все мы существуем, потому что есть граница, и граница существует, потому что есть мы. Мы с нею — две части неделимого целого!
Когда-то я жил в большом городе. До сих пор временами мне слышится гудение клаксонов. Длинная прямая улица начинает качаться перед моими глазами, как во сне. Клаксоны и улицы мешаются, под ногами моими твердеет мостовая…
То, чего я часто не замечал, становится вдруг осязаемым. Я открываю для себя даже несуществующее, а оно всегда издали видится лучше. Отсутствие чего-то дорогого воспринимается нами острее, чем мир, который нам принадлежит.
Наступит день, когда я почувствую, что мне не хватает границы. Тогда… Тогда, запутавшись в длинной прямой улице, я перестану слышать клаксоны и уличный галдеж, перед глазами моими встанут остекленевшая гладь водохранилища, гнезда в оголившемся лесу, немая пограничная борозда, острая Ломская вершина, запорошенная первым снегом. Говор зарослей дубняка прозвучит в моих ушах, хрипловатые солдатские голоса заставят меня прислушаться, гром забытых выстрелов напомнит, что служба была настоящей.
Иногда суета заставляет нас стесняться разговоров о долге. О нем говорят в залах, где наши голоса и для нас самих становятся немного чужими. А ведь мы не на трибуне. Нам высокие слова подчас кажутся неприличными, ведь сын и без клятвы должен быть верен своей матери! Увлечение подобными разговорами перед своими может вызвать подозрение в корысти…
Мы здесь на рубеже. И по ту сторону борозды есть вооруженные люди. Они так близко от нас, что я почти физически ощущаю их присутствие. Даже если бы не было ничего другого, их присутствия достаточно для того, чтобы понять, зачем мы здесь. Может быть, для офицера-пограничника это не очень естественно, но я чувствовал бы себя крайне плохо, если бы перестал мечтать, перестал удивляться, если бы ненависть заледенила мой порыв к общению. Если, если… Но на этой полосе соприкасаются два взаимно противоположных полюса. От такого соприкосновения общения не получается, лишь иногда гремят заряженные стволы.
Теплое море напоило своим сиянием пейзаж юга, но в глазах моих этот пейзаж холодеет. За нами — поля Болгарии, села, белеющие среди зелени и фруктовых садов, наши друзья. Ниточка с той стороной порвана. Будничные заботы людей кажутся мне иногда непонятными. Не потому, что я далек от них, а потому, что глаза человека, постоянно носящего оружие, смотрят по-иному.
А вот с Дюдюком такого не происходит! Дюдюк вырос здесь с козами на склонах Ломской вершины… Мир для него — Ломская вершина. Единственное, о чем он горюет, — козлы. У Дюдюка нет больше козлов, не из чего делать шерстяные одеяла. Сейчас он пасет баранью отару…
Обстановка потребовала, сказали мы ему, перенести зимовье овец за пределы пограничной зоны. Он посмотрел на меня испуганно, губы его вздрогнули. Как может он оставить ветер на высоких холмах, козлиный запах, который впитал в себя с рождения? Без них и жизнь ему не в радость. Как только подумает об этом, все равно что козьим рогом сердце ему пронзают. Теряет голову человек, до смерти не хочется уходить отсюда.
О смерти говоришь, Дюдюк? А ну-ка посмотри вниз! Или глаза твои не видят зеленоватой воды, запруженной под Скоком? Ты тоскуешь о заводях Скока, а река превратилась в заводь — поглядишь, душа не нарадуется! Мы ведь люди — так надо ли тосковать о замшелых речных камнях? Они часть твоего детства, первой твоей молодости. Но и водохранилище станет частью детства подрастающих детей и внуков. Давай подумаем и о них! Они ведь плоть от плоти нашей!..
Прошлым днем в Кушлу привезли телевизор. На заставу приехал секретарь общинного комитета Данов.
— Товарищ капитан, — закричал он мне издали, — в армии есть специалисты на все руки!..
Послал солдат устанавливать телевизор. Все село сбежалось смотреть. Когда засветился экран, крестьянин, по прозвищу Червения, у которого во время разговора будто орехи во рту катаются, поднял руку:
— Подождите, братцы! Без капитана нельзя!..
Если это признание, мне этого достаточно. Человек должен знать, что такое Кушла, где она, эта Кушла, и тогда поймет, что значит прервать просмотр передачи, чтобы разделить радость вместе с офицером-пограничником. Тот, кто от малого другим немного дает, дает больше всего!..
Детишки смотрели на экран широко раскрытыми глазами. Их пальцы, почерневшие от чистки орехов, инстинктивно сжимались. Они унеслись куда-то в свете экрана, голубевшего перед раскрытым школьным окном. Замечтались хорошенькие девочки с заголенными коленками. Червения озирался, будто уличенный в чем-то. И мне стало почему-то неловко перед детьми. Когда передача закончилась, Червения приблизился ко мне сзади:
— Не сводника ли мы привезли в село, товарищ капитан, не падет ли грех на наши души?
— Может, и падет, не страшно. Праведники всегда побеждают какое-либо зло в себе. Если бы и я не переборол сам себя, мог ли бы я быть с вами?..
Пойдем, красный волкодав! Давай поднимемся по голым скалам Бургаза, оглядимся с вершины… Угорли — сплошная темень. Джованцы, Коруч и Кузаба утонули в ней, как в дегте. Угорли, Коруч и Джованцы — по ту сторону борозды… А давай-ка назад посмотрим! Не теплеет ли у тебя на душе, когда видишь, как светится Кушла, как весело мигают электрические лампочки в Горском роднике…
Потеплело, как не потеплеть, как не согреться твоей душе?! По ночам и во мне прокатываются какие-то теплые волны, когда подумаю, когда почувствую, что я на рубеже, до которого дошли огни света!..
Если бы не было на границе людей, было бы одиноко, может быть, и тягостно. Другое дело, когда зазвучит возле заставы хриплый голос Червении или пригласят тебя на свадьбу, а бай Вылчо протянет вперед повисшую на ремне полотняную сумку и пригоршня орехов зашуршит в его ладонях.
— Конечно, вы не голодные, но мужчина только тогда мужчина, когда что-нибудь ломает, когда ищет ядро…
Однажды Хасанчик — мальчишка-помак[22] примчался на заставу, еле переводя дух. По краю Кобыльего дола прошел незнакомец в резиновых сапогах. На шейке мальчонки вздулись узлы синих жил, сердечко вот-вот выпрыгнет… Хасанчик понимает, но ведь есть зрелые люди, которые не понимают, для чего существуют заставы, зачем мы здесь!..
Мюмюн из Горского родника строит чешмы и мосты для своей души. Совхоз дает ему цемент, лесхоз — жерди, и он собирает разбросанные по голым скалам ручейки. Случается, проходим по его мосткам — под нашими ногами зияет пропасть. Пьем и воду его.
Не одну чешму он построил — два десятка и мостов шесть или семь. Строил не руками, а сердцем.
Я спросил, что заставляет его строить мосты и чешмы, не грех ли отрабатывает. Мюмюн посмотрел на меня:
— Приходилось ли тебе испытывать жажду, капитан?
— Приходилось.
Тогда Мюмюн начал мне говорить, что человек до тех пор, пока дышит, ищет свою дорогу и его постоянно мучает жажда. Мосты связывают не только дороги, но и тропинки в душе человека… От этих слов Мюмюна и у меня в душе стало возникать что-то связанное воедино…
На заставе художник-самоучка нарисовал когда-то пограничника с собакой, а позади них — заводы, пашни, тракторы и трубы. Изрисовал всю стену, а вот для мостов и источников около Горского родника места не осталось. Пьем воду из них, а на картине их нет!..
Да, страну, подданные которой оставляют всю свою работу, чтобы строить чешмы и мосты для других, есть за что любить, есть от чего защищать!..
Вот мы и добрались до вещественного смысла нашего призвания. Тридцать смертей спрятались в автоматном диске и спусковой крючок будет нажат, когда нет другого выхода!
Здесь нет длинных улиц с неоновой рекламой и тротуаром, выложенным плитами. Нет выбора, по какому из тротуаров пройти…
Все зависит от того, как воспринимать этот мир!
Вечером лейтенант Кубратов достает из своего письменного стола грампластинки, включает радиоусилитель и начинает их проигрывать. Звучат бузуки — голос Теодоракиса льется из самого его сердца. По спине ползут мурашки.
Каждая остановка — мука! Нет причины, а нам становится грустно. Странно на болгарской южной заставе слышать игру бузук, наполненный тоской голос Теодоракиса…
Я и не заметил, как конь поднял меня на вершину. Даже не успел почувствовать запаха казарм заставы. Видно, запах этот во мне, а я и не замечаю его. Одна «мини-юбка» из столицы сказала моему товарищу, что от него пахнет конюшней. Юноша залился краской, спутался в танце и не догадался спросить, была ли эта соплюшка вообще когда-нибудь в конюшне. Когда он вспомнил об этом — опять покраснел.
Некоторые теряют стыд, считают, что единственная наша участь — жить на Ломской вершине, в пустыне Кушлы…
Майор Вангелов уже лет десять кочует со своей женой по заставам… Когда на заставе появлялись люди в гражданском, мальчишка моего предшественника прятался от них.
Лейтенант Кубратов привез свою жену на коне. Молоденькая, похожая на гимназистку. Они были счастливы, глаза их еще застилал свадебный туман, а мне почему-то стало тоскливо…
Жены их здесь рожают, стирают пеленки и просыпаются в тревоге, когда гремят выстрелы, и мужья их спешат к приграничному перевалу. Жены эти просыпаются в ожидании, что лизнет их ноздри запах конюшни и оружейной смазки. Для них этот запах счастливый, он делает жизнь их реальной…
Когда у нас пусто на душе, мы, не спрашивая себя зачем, идем к семейным. Там краснеет дверца печки, позвякивает от пара крышка кастрюли, накрахмаленные салфетки возвращают нам милый сердцу далекий дом…
Скоро зарядят дожди, затянется тучами небо. Только на юге, где-то над морем, будет светиться белая трещина.
Пионеры забудут нас до самой весны. Солдаты не станут скоблить свои бороды до синевы, потому что забудет про нас и танцующий комсомол…
Не забудут нас только те, кто попытается пройти через заставу незамеченным.
Неприятно, некрасиво связывать руки человеку, но это неизбежно. Это все-таки счастливый исход, но есть ведь и другие… Когда камни лопаются от мороза, когда дни напролет ищешь прерванный след, единственное, что легко сделать, — нажать на спусковой крючок…
Закончился ужин, выключен телевизор. Пульсирует только зеленый глазок аппаратуры. Кто спит, кто бодрствует.
У молодых людей короткий, здоровый сон. Спят как праведники, без сновидений. Придавливает их усталость, укачивает их темная колыбель, и пробуждаются они только на рассвете, в сумеречной синеве.
Ушло лето. Но придет новое! Дай бог дождаться его нам вместе, как сейчас.
Иней Ломской вершины серебрит мне виски. Текут годы, проходят… В канцеляриях учитывают наш стаж работы. Какое безликое слово! Можно ли так называть время, прожитое с тридцатью смертями в автоматном диске на рубеже, которого коснулся свет новой жизни…
НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАСЫТИТЬСЯ
По утрам плац казармы покрывается инеем. По навозной куче прыгают воробьи. Из глубины конюшни доносятся крики конюхов. Воздух стынет от мороза — этот мороз я ощущаю всеми клетками тела. Своим дыханием я растапливаю иней на оконном стекле: мое окно в мир — это маленький кружок на стекле, отогретый моим дыханием. После утреннего сигнала горниста воздух продолжает звенеть, пока топот множества сапог не заглушит этого звона.
Каждое утро я дожидаюсь появления своего отца. Он выходит из небольшого кирпичного строения, превращенного в арестантскую. Отец поправляет рукой соскользнувшее с плеча пальто и спускается, слегка сгорбившись, по цементным ступенькам лестницы. За ним следует безбородый и безусый солдатик с заряженной винтовкой. Холодно блестит привинченный штык.
Они проходят около казарменной пекарни и поворачивают к туалетам. Что-то вдруг сжимает мне горло.
Это повторяется каждое утро. Я сам себе причиняю боль, чтобы скрыть страдания, которые мне причиняют другие. Солдат, который стоит у двери, наблюдает за мной. Он перекладывает карабин в другую руку и спрашивает:
— Что, батьку увидел, учитель?..
По ночам отца бьют. Иногда мне даже будто слышится, как он мычит, чтобы не застонать. Тогда я беззвучно плачу.
Часовой кашляет, чтобы напомнить мне о своем присутствии. Потом говорит себе под нос:
— И чего тебе надо было?
Хороший солдатик. Но как ему сказать, что и у карабина и у палки два конца!..
Я снова дожидаюсь, когда отец покажется на цементной лестнице, а его все нет. Что могло случиться?.. Днем дежурный офицер сказал мне, что отца освободили. Мне бы обрадоваться, а я почувствовал себя брошенным.
Наступает Новый год. Вечером чиновники проходят мимо казармы с полными сетками. Меня удивляет, что есть люди, которые ждут Нового года и ходят куда хотят. Помещение музыкального взвода, где меня держат отдельно от других, пустое. Дощатый пол замаслен. На стене в рамке висит фотография царской семьи. Прежде я бегал вслед за военным оркестром, чтобы послушать музыку, а сейчас начищенные инструменты, разложенные по лавкам, ненавистны мне. Как нелепо, что в мире есть музыка! Боль в опухших ногах от резинового бича пронзает сердце, словно кинжалом, и я ползу по полу в поисках глотка воды…
Я давно потерял счет дням и не знаю, какое сегодня число. Далеким кажется мне и то хмурое утро, когда на мои руки были надеты наручники. Солдаты меняются, а мне кажется, что на посту стоит все тот же солдат. И слова одни и те же: «И чего тебе надо было?..»
Капитан Страхинов приказывает часовому удалиться и садится возле меня:
— Эти тупицы наконец вспомнили, что был Сталинград. Сегодня вечером тебя освободят. Хорошо, что ты не раскололся и не стал ничего говорить…
— Нечего говорить…
— Я офицер, а не полицай, чтобы допрашивать тебя. Если бы не было таких, как я, из вас бифштекс сделали бы.
Дома отец готовится отметить мое возвращение. При встрече он хлопает меня по плечу:
— Эти бандиты бросают в тюрьму вместе с сыном и отца. Кто же в таком случае останется с ними?..
Мы долго смотрели друг на друга. Мама плачет от счастья и накрывает на стол. Она сквозь слезы причитает:
— Все у нас есть — и дом, и скот… Чего вам еще надо? Кто делал счастливыми других за счет своего счастья?..
Отец выпрямляется во весь рост, тень от его руки падает на меня.
— Мы себя отдаем в жертву ради идеала, а не для того, чтобы насытиться!.. — говорит отец. Он смотрит на меня сверху так, будто хочет понять, хорошо ли я услышал его слова.