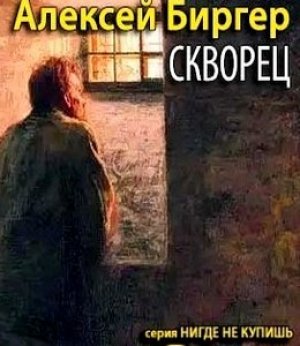
ОТ АВТОРА
«Скворец» писался долго. Я и сам подзабыл, насколько долго, пока совсем недавно не обнаружил в своих завалах первые рукописные наброски, относящиеся к 1977–1978 годам. С тех пор, конечно, многое было переделано, но кое-что из первых набросков (побег из детского дома летом 1929 года, посиделки с дедом-браконьером) вошло в окончательный текст. И прежде всего, вошла в него сцена, которая сразу задает интонацию вещи и определяет весь сюжет, — сцена с повешенным котенком.
Об этой сцене я и хотел бы сказать несколько слов.
И в наши дни она может шокировать своей жестокостью, не только бессмысленной и бесчеловечной, но и какой-то мелкой и гадостной. Она становится предвестием мелкого и гадкого кровавого кошмара, в который все больше засасывает героев. У кого-то она не вызовет ничего, кроме отвращения и брезгливости. Могут заговорить и о недопустимых методах завоевания читателя.
Но вот что любопытно.
Буквально через два-три месяца после того, как я завершил основной вариант «Скворца», поставив, казалось мне тогда, последнюю точку (было это в начале 1995 года), мне в руки попался свежий номер журнала о домашних животных… «Друг» или «Четыре лапы» — не упомню сейчас. Главное, в этом журнале была напечатана переписка Варлама Шаламова и Надежды Яковлевны Мандельштам по поводу пропавшей кошки Варлама Шаламова.
Варлам Шаламов жалуется, что потерял единственного друга, рассказывает, как искал кошку по всей Москве, как ездил в главный «приемник» для всех отловленных животных на улицу Юннатов (!), как пережил там тяжелейший шок: он ждал чего угодно — собачьего и кошачьего воя, лая, мяуканья, рычания и визжания, любой какофонии… но только не той мертвой, абсолютной, глухой тишины, которую он встретил. Животные молчали — будто понимая, какая судьба их ждет.
Кошку он так и не нашел.
Надежда Яковлевна отвечает Варламу Шаламову, что хотела бы его утешить, но не может, потому что известно, как много кошек гибнет от рук всяких идиотов. Она отмечает, что страной владеет настоящая кошкофобия и что началось это с установления советской власти. Ни одна власть не испытывала к кошкам такой патологической ненависти, не превращала ненависть к кошкам в элемент воспитания, и есть в этом что-то очень глубинное, что-то, значение чего мы еще не до конца понимаем. Если бы кто-нибудь взялся взглянуть на советскую власть через призму этой кошкофобии, не виданной никогда ни в какой другой стране, он мог бы докопаться до самой сущности этой бесчеловечной власти, обнажить основные механизмы, управлявшие теми, кто прямым путем вел страну и к ужасу, и к террору, и к полному нравственному разложению. Поминает она и «Собачье сердце» Булгакова.
Я пересказываю своими словами, но очень близко к тексту.
В целом письмо Надежды Яковлевны оказалось настолько точным конспектом всей моей вещи, настолько точной идейной концепцией, которой я следовал, что, подумалось мне, когда «Скворец» будет издан (а я предоставил этой вещи «отлежаться», как предоставляю некоторым вещам, которые мне не хочется с пылу с жару тащить в печать), то найдутся люди, которые решат, что я писал «Скворца», уже прочтя это письмо и точно, почти рабски, следуя его указаниям.
Таких знающих читателей, мне особенно дорогих, я хочу заверить: к моменту, когда я ознакомился с перепиской, вещь была полностью закончена, и здесь можно говорить лишь о чудесном совпадении — одном из многих, сопровождающих весь цикл о Высике.
Хотя возможно и другое объяснение.
Во время пропажи кошки и последующей переписки мне было семь или восемь лет. В то время в доме Надежды Яковлевны Мандельштам я бывал очень часто. К разговорам взрослых не прислушивался. Я либо возился с пишущей машинкой Надежды Яковлевны, на которой она учила меня печатать, либо рисовал, получив краски и карандаши, либо рассматривал диковинки со всех стран мира, которые присылали Надежде Яковлевне поклонники творчества Осипа Мандельштама и ее собственных книг, либо был занят чем-то еще, не менее полезным для души и сердца. Разумеется, беда Варлама Шаламова не могла остаться без обсуждения, и, разумеется, Надежда Яковлевна не могла не пересказать свое письмо, а то и зачитать его, и если я в тот момент находился где-то рядом, то услышанная вполуха история, не вполне понятная для детского сознания, осталась во мне: внешне сразу забылась, но на самом деле запечатлелась «в подкорке», чтобы в должный срок дать свои всходы. Тогда получается, я и впрямь писал «Скворца», следуя строгим инструкциям Надежды Яковлевны, но сам о том нисколько не ведая. Получается, Надежда Яковлевна превратила меня в определенном смысле в бомбу замедленного действия.
Что ж, эта бомба в конце концов взорвалась.
СКВОРЕЦ
Сережка Высик опрометью летел от увиденного ужаса, непереносимого для двенадцатилетнего мальчика. Он бежал через лес, не разбирая дороги, продираясь сквозь малинник, где ветки хлестали и царапали его, спотыкаясь, падая и поднимаясь — не зная, что, зачем и как, но зная, что вернуться не сможет — что он хоть на край света удерет, зароется и захоронится там, но не вернется в их трудовой лагерь. Ослепленный, он мчался, пока не врезался во что-то. Это что-то, хотя было оно явно не слишком большим, не слишком увесистым и по-человечьи уязвимым, даже не покачнулось. Оно выдержало первый удар, а потом Высик ощутил у себя на щеках две ладони, крепкие и сухие пальцы, от которых слегка попахивало табаком, и эти ладони не грубо, но решительно подняли голову Высика вверх. В глазах мальчика все расплывалось, но он узнал сквозь слезы того, кому принадлежали эти ладони: худощавого, но крепко сбитого при этом парня лет пятнадцати, очень высокого для своего возраста, которого все окружающие называли Скворец. Высикупочему-то стало еще страшнее — он вспомнил уважительный шепоток, с которым поминали Скворца его одногодки, достаточно уважительный, чтобы понять: есть в этом парне что-то такое, отчего к нему лучше не подступаться. Вспомнил он, конечно, и странную вчерашнюю историю с этой девчонкой, Тамаркой. Понятно, что воспитанники детского дома наивностью не отличаются, жизнь их просвещает рано, и Высик достаточно соображал, чтобы понять, почему Тамарка — девочка, физически развитая не по летам, — вырывается из дверей барака вся раскрасневшаяся, летит прочь, щеки у нее пунцовей некуда, и кто-то кричит ей вслед, чтобы она бросила и дурью не маялась, и подумаешь, делов… — но все это как-то медленно перетекало сквозь сознание мальчика, и, пока он стоял, со странной отстраненностью переваривая увиденную сцену, с той стороны, куда убежала Тамарка, появился Скворец, он двигался быстрой злой рысцой, и было ясно, что с ним сейчас шутки плохи. Он ворвался в барак, и оттуда донеслись какие-то звуки, а потом Скворец опять появился, таща за шкирку двух парней, каждый чуть не на полголовы выше его, но в его руках они болтались как беспомощные щенки, и оба были окровавлены… Тут Сережка Высик поспешил смыться — он не знал, что произойдет, но в любом случае ему не хотелось оказываться свидетелем, чтобы его потом допрашивали воспитатели и чтобы наказывали его потом за игру в молчанку — ведь Высик молчал бы, хоть режь его, ничего бы не рассказал, согласно мальчишескому кодексу чести. Но одно он понял: в Скворце есть сила, которая одолеет любую физическую силу, и это было страшно — почти так же страшно, как то, что он сейчас увидел, и эти два страха теперь слились в нем воедино — и каким-то образом Скворец ему мерещился причастным к нынешнему ужасу, а нынешний ужас мерещился берущим начало во вчерашней сцене, ярко стоявшей перед глазами: Скворец, встряхивавший двух окровавленных парней.
— Ну, в чем дело? — спросил Скворец.
Несмотря на ужас, сковывающий ему язык, Сережка Высик почувствовал себя обязанным заговорить.
— Там… Наш повар… — проговорил он.
Скворец кивнул. Страхолюдный был вид у их повара, не так давно прибившегося к ним мужика, непонятно откуда взявшегося, огромного и черного — из тех людей, о которых иначе не скажешь, как «черный человек», и, даже если волосы у них светлые, они все равно кажутся черными от головы до пят, может, из-за их подавляющей угрюмости, а может еще из-за чего.
— Так что повар? — спросил Скворец, когда молчание Высика затянулось.
— Он… — Высик сглотнул, прежде чем ответить. — Он повесил котенка…
Скворец пристально посмотрел на Высика, а потом так резко его встряхнул, что у мальчика все кости задребезжали.
— Это чтоб ты в себя пришел, — сказал Скворец. — А теперь переведи дух и рассказывай.
И Сережка Высик принялся рассказывать — связно, насколько мог, что значит не очень связно, как он ускользнул на лужайку, о которой, как он считал, знает он один, — там был такой земляничный бугорок, и земляника с каждым днем все больше наливалась соком, и мальчик предвкушал тот день, когда он соберет полные пригоршни спелых ягод, и съест их, в награду за свое терпение, и для него этот бугорок был чем-то вроде святой тайны, мирным убежищем, которым нельзя делиться с другими, там он хоть на пять минут мог отдохнуть душой, сидя на корточках и блаженно созерцая свои кустики — отключаясь от гиблой атмосферы уныния и страха, и эти тайные вылазки давали ему силы жить… А сегодня полянка и бугорок были разорены и истоптаны, земляника поедена, что не поедено — то раздавлено, и Сережка глядел сначала лишь на свой разоренный и оскверненный храм, до которого добралась эта наглая и подлая жизнь, и лишь потом поднял глаза и увидел — на низком суку дерева у края полянки… И, пока он смотрел, оцепенев от ужаса, на него упала большая тень, и тут он оглянулся и увидел повара, и повар был еще черней и угрюмей, чем обычно, и Высик кинулся бежать со всех ног, он даже вскрикнуть не мог, потому что крик застрял у него в горле…
— Жуть какая, — раздался голос рядом.
Мальчик глянул вправо и увидел Тамарку. Она поднялась из-за куста, под которым, видно, до этого сидела, и поэтому Сережка сначала ее не видел. Теперь она стояла, машинально отряхивая травинки с юбки и глядя на мальчика расширенными глазами.
Скворец взглянул на нее и хмыкнул:
— Тоже, впечатлительная… Ну, ты-то девчонка, тебе можно, а этот откуда такой выискался? — Он остро посмотрел на Сережку. — Ты что, ничего хуже в своей жизни не видел?
— Видел… Я… — Мальчик опять сглотнул. — Но это совсем другое…
— Тебя что, совсем забили?
— Нет, — несмотря на страх, Высик с некоторой энергией затряс головой. — Я могу сдачи дать.
— Настоящий крысенок, — сказала Тамарка. — Я видела в столовой… Он вцепился в своего одногруппника, который хотел у него ломоть хлеба стащить.
Продолжая разглядывать Сережку Высика, Скворец извлек папиросу и спичку и раскурил папиросу, чиркнув спичкой о шершавый ствол дерева.
— Нет, он не крысенок, — протянул Скворец. — Воробей он, как есть воробей. Прыг-скок, задиристая птичка… Только сейчас, Воробей, перепуган ты до смерти. Весь взъерошен, перья как ни попадя торчат — то ли тебя водой окатили, то ли кошка малость подрала… И вот что, Воробей, — продолжил Скворец другим тоном, — про то, что ты нас здесь с Тамаркой вместе видел — никому ни слова. Для умного и так вообще-то понятно, что не стоит болтать, но вдруг ты из непонимающих?
— Я никому не скажу, — заявил Высик. — И не смогу даже, пусть и захотел бы. Я назад не вернусь.
— Куда ж ты денешься?
— Сбегу. Где-нибудь устроюсь.
— Ишь ты как, совсем по-взрослому. Вернешься как миленький, и вся недолга. Вернешься, когда страх немного пройдет.
— Ни за что! — сказал Высик.
— Я бы тоже не вернулась, — сказала Тамарка. — Этот повар настоящий зверь, я сама его до смерти боюсь. Хотя он и хорошо ко мне относится.
— Известно… — Скворец ехидно примолк, не договорив фразу.
— Брось! — сказала Тамарка. — Там что-то другое, я чувствую. Он меня и залапать ни разу не пытался. Не знаю, может, у него дочь была, на меня похожая, или что… Но вот чувствую я это. И еще больше боюсь. Ведь я видела, как он этих котят с начала лета выхаживал, когда наша кухонная кошка окотилась. Души в них не чаял, даже… даже на человека похожим становился, когда с ними возился. А теперь — видишь как! Может, этот котенок кусок мяса попер, и он его наказать решил…
— Когда мы мясо видели! — буркнул Скворец. — Ладно б, кусок гнилой селедки.
— Да не знаю я, в чем там дело! Я просто вижу, что он псих! Любил котенка без памяти, а потом ему неизвестно какая блажь в голову вдарила, и он его — того… В помутнении… Может, он всегда убивает всех, кто ему нравится… Может, он не сегодня-завтра и меня так…
— Ой, да замолчи ты! — сказал Скворец. — Ничегошеньки ты не понимаешь. Не так все было.
— А ты знаешь, как?
— Приблизительно знаю. Да и ты могла бы сообразить. А что Воробью пока лучше в лагерь не возвращаться — это правда. Кто знает, что наш повар удумает и что учудит… Ты можешь мне эту полянку показать? — спросил Скворец у своего «крестника», отныне ставшего Воробьем.
Воробей огляделся и приблизительно сообразил, где они сейчас находятся, в какую часть леса его занесли ноги.
— Могу, — сказал он. — Только издали. Сам я туда не пойду.
— Пусть так, — сказал Скворец. — Пошли, веди нас.
Сережа повел Скворца и Тамарку за собой. Скоро перед ними забрезжил просвет его — бывшей его — полянки, и он протянул вперед руку.
— Вон там. Ближе я подходить не буду.
— Хорошо, — сказал Скворец. — Я один пойду. Ждите меня здесь.
Скворец направился к полянке, а Сережка присел на ствол упавшей сосенки, чувствуя, как у него ноги подкашиваются от муторной слабости. Тамарка сорвала травинку и, задумчиво жуя ее, разглядывала его.
— Прав Скворец, — наконец проговорила она. — Никакой ты не крысенок. Воробей, как есть Воробей, нахохленный, задиристый и знающий, как по жизни пропорхать. Своего не упустишь. Прямо диву даюсь, откуда ты такой взялся.
Сережка просто поглядел на нее и ничего не сказал.
— Понимаю, — кивнула она. — От папы с мамой взялся, конечно. Ты хоть помнишь их?
— Нет, — сказал Сережка.
— Я тоже не помню. Вот тетку помню. Крутая была тетка, суровая. Но это тоже давно было. Сколько лет тебе?
— Вроде двенадцать, — он пожал плечами.
— А если не вроде?
— Откуда ж мне знать? Записано, что родился я тридцатого октября шестнадцатого года. Наверно, правильно.
— Значит, этой осенью тебе тринадцать стукнет? Плюгавеньким ты выглядишь для своих лет, уж прости за откровенность.
— Чего ж не простить? — Воробей пожал плечами. — Все знают, что я ростом не вышел.
— Все правильно. Воробей — он птаха мелкая.
Сережка Высик, отныне и навеки ставший Воробьем, взглянул на Тамарку. Была сейчас в интонациях ее голоса непонятная легкость, словно она забалтывала сама себя, и от этой легкости во всем ее облике мальчик ощутил нечто щемяще-волнующее, нечто смущающее его. Словно произошло с ней что-то, чего он не знал, но от этого произошедшего она сейчас совсем по-новому ощущала себя, свое тело, и эта аура ее нового отношения к своему телу — бережно-горделивого, если искать хоть какое-то определение, — висела над ней, распространялась вокруг нее, заставляя и находившегося рядом увидеть ее другими глазами. Мальчик почувствовал себя вдруг причастным к некой тайне, с которой прежде не сталкивался. Нет, это не было желанием, и не было этому названия — это было вне всего, чем он жил, вне того, что он знал о взаимоотношениях мужчин и женщин, вне мата-перемата после отбоя, вне смачных рассказов толстого Мишки, как в далекой, почти сказочной, Москве найти подпольный публичный дом, если нужное словечко шепнуть извозчику. Мишка уверял, что словечко это «ежевика», и ему верили, хотя было понятно, что Мишка никогда в Москве не бывал и все свои потрясающие знания подхватил от таких же невежественных, никогда в стольном граде не бывавших, от старшего брата, тоже прошедшего через их детский дом и работавшего сейчас подмастерьем на заводе в Ближнем Боре, от расхлябанных и шпанистых друзей брата, угощавших Мишку пивом, — Мишка с важным видом уверял, что от пива прыщи проходят. Вообще, Мишка был переполнен сознанием собственной значимости и пытался весь класс подмять под себя, и были у него свои прихвостни, но к Высику он как один раз сунулся, так больше не приставал. Просто оставил в покое, потому что Высик сам в драку никогда не лез, но свое право держаться в сторонке от всех союзов и компаний и никому не подчиняться охранял остервенело, неистово, когтями и зубами. Потом Мишка даже сам дал Высику почитать истрепанную древнюю книжку, приключения Ната Пинкертона, и тот момент, когда Мишка швырнул эту книжку на кроватьВысику и сказал: «На, прочти, убойная книжица», стал моментом заключения вечного и прочного мира.
…И почему ему сейчас вспомнился Мишка? Вспомнилось это причмокивание губами, с которым Мишка просвещал своих однолеток, и все это вдруг показалось безмерно далеким от этой освещенной солнцем прогалины, от светлой, едва вибрирующей в легком ветерке, зелени вокруг, от великолепного лесного аромата, за которым скрывался ледяной и темный ужас недавно пережитого.
Вернулся Скворец, небрежно и насмешливо хмурый.
— Все ясно, — сказал он. — Пошли.
— Куда? — спросил Воробей.
— В лагерь. Опоздаем к предобеденной линейке — с тебя шкуру спустят.
— Я не пойду! — опять заявил Воробей.
— Не бойся. — Скворец несколько секунд присматривался к мальчику, потом добавил: — Пока я с тобой, ничего с тобой не случится. Ты мне веришь?
Воробей, в свою очередь, поглядел на Скворца. Не поверить этому парню было невозможно. Он понял, Скворец берет его под свою защиту — и от сознания могущества этой защиты у него перехватило горло.
— Котенок… все еще там? — спросила Тамарка.
— Нет, — коротко ответил Скворец.
— Ты… ты понял, куда он делся?
— Да, — ответил Скворец также коротко. — Ну пошли.
Они шли через лес, почти ни о чем не разговаривая.
— Осенью я покидаю детский дом, — сказал Скворец, когда они уже подходили к лагерю. — Начинаю трудовую жизнь.
Непонятно, кому адресовались эти слова — Воробью или Тамарке. Было видно, что каждый из них воспринял их по-своему.
…К линейке они опоздали. А потом был барак столовой, с вечной дракой за места, за миски и ложки, за кусок хлеба, за то, чтобы одним из первых оказаться в очереди к котлу, чтобы эта жижа, именуемая похлебкой, в твоей миске оказалась погуще. Высик обычно одним из первых прорывался к заветному котлу, работая своими острыми худыми локтями, но теперь он не мог себя заставить к нему подойти — хотя и не повар разливал похлебку, а его помощница. И все равно близость повара ощущалась, он был здесь, и ноги Воробья отказывались слушаться. Воробей стоял, растерянно держа миску в руках, и, может быть, остался бы вообще без обеда, если бы не Скворец, заметивший его нерешительность. Он забрал миску у своего нового друга и подошел к раздаче — ему даже пихаться не пришлось, и он спокойно дал наполнить миску и принес ее Высику.
— Садись и ешь, — сказал он все с той же странной суховатой интонацией, которая, видно, вообще была свойственна его голосу.
Воробей ел машинально, не замечая, что ест, во все глаза следя за Скворцом. Тот, доев, неспешно сдал свою миску и исчез за дверью кухни. С поваром о чем-то поговорить хочет, догадался мальчик — но о чем? Он глядел как завороженный, словно пытаясь взглядом проникнуть сквозь стену, и оттого, видно, упустил, с чего возник небольшой водоворотик рядом с ним — впрочем, возникнуть он мог из-за чего угодно, ведь в центре водоворотика оказался Цыганок, а его постоянно шпыняли, он вызывал в других ребятах глухую враждебность — и своей болезненностью, и тем, что вечно ковырял в носу, словно в своей ноздре ища защиту от жестокого внешнего мира, и — может быть — своей чернявостью, непохожей на чернявость других, самых темных и смуглых. Ашот тоже был черняв, но при том боек, свой парень, и щеки у него круглились, несмотря на более чем скудную жратву, и сама округлость его щек предполагала, неким смутным образом, его законную принадлежность к общей ребячьей стае. А Цыганок был и безропотен и зажат, и непонятно было, о чем он думает и чем живет, — словом, идеальный козел отпущения, какая неприятность ни приключись или какое дурное настроение ни накати на ребят. Умей Воробей четче формулировать свои мысли, он бы сказал, что травля Цыганка даже поощрялась старшими, педагогами, что, может быть, они и положили начало этой травле, дав всегда улавливаемым намеком понять, что Цыганок им неприятен и что его жалоб, попробуй он пожаловаться, они слушать не будут. Они как бы спустили свору, науськали ее своим пренебрежительно-холодным отношением к Цыганку, звучавшим как «ату!». В глубине души Воробью все это не нравилось, но он соблюдал железный закон — не вмешиваться, если только дело не касается тебя самого. В их детском доме все постоянно прощупывали друг друга на «слабо», и горе было тем, кто хоть раз давал слабинку, пусть и после долгих лет успешного сопротивления. Таких загрызали. Не буквально, конечно… Хотя случалось, что и буквально. Воробей, с трех лет в детском доме, успел несколько раз повидать, что такое смерть. Его самого, туманно припоминалось ему, сперва записали в нежильцы на этом свете, так он был слаб и хил и должен был, по идее, загнуться либо от дурного питания, либо от одной из эпидемий, забредавших к ним, либо еще от чего. Но он оказался удивительно упорным и цепким — и выжил, и утвердил себя, свое право на существование.
А теперь толстый Мишка сквозь стиснутые зубы говорил Цыганку:
— Ну все, Цыган, сучонок сраный, допрыгался ты. Считай, что мы тебя сделали.
Цыганок сидел как-то даже слишком спокойно и не побледнев — на смуглой коже бледность всегда проступает особенно заметно — и взгляд его был не испуганным, не виноватым, не обреченным, а каким-то отрешенным: словно он со стороны наблюдал за тем, что с ним происходит, и ему, стороннему наблюдателю, было ни тепло, ни холодно знать, что какого-то плюгавого мальчонку в очередной раз измордуют до полусмерти.
Воробей, может, и поинтересовался бы, что произошло, но тут открылась дверь кухни и вышел Скворец. Перехватив взгляд мальчика, он подошел к нему.
— Порядок, — сказал он. — Ни о чем не волнуйся.
— Скворцов, Виктор! — послышался голос. Это был Петр Иваныч, преподававший им сразу несколько предметов, — и математику, и историю партии, но по изначальной профессии бывший столяром и основным своим предметом считавший трудовое воспитание.
— Что, Петр Иваныч? — откликнулся Скворец.
— Столярная работенка есть. Пошли.
— Иду, — спокойно отозвался Скворец. — А если я этого мальца в подмогу возьму? Рукастый малец. — Скворец кивнул на Серегу Высика.
— Этот? — Петр Иваныч остановился перед Высиком и оглядел его с головы до пят, хотя и так отлично знал. — Что ж, парень ладный, хоть и с виду не того. Бери. Готовь себе трудовую смену.
— Пойдем, — сказал Скворец Воробью. — Все лучше, чем в поле ковыряться или в строю маршировать, — это он о военной подготовке, недавно у них введенной. И преподаватель новый появился, смурной — почти анекдотический — дядя, отставник из нижних чинов, обучавший ходить строем, заставлявший отрабатывать ружейные приемы с палками в руках и в виде учебных пособий использовавший плакаты Осоавиахима. Он не считал не педагогическим или зазорным угостить кого-нибудь из ребят постарше папироской, и это вызывало несколько ироническое отношение к нему, рассматривалось подсознательно как признак слабости или даже тайной боязни своих учеников, но, с другой стороны, от одного его присутствия веяло той армейской казенностью, которая у самых лихих и бесшабашных порождала зябкое неудобное чувство. Благодаря ему их детский дом превращался в частицу огромной армии, военизированный язык не только проникал во все закоулки быта, но и сознание отравлял своей настырностью. «Бойцы трудового фронта», «трудармия» — все эти термины как будто говорили о том, что и мирный труд является подготовкой к некоей грядущей войне. В сотнях ячеек, подобных их детскому дому, выковывалась будущая армия трудовой революции, до картонности победоносной, как было обещано, но от того не менее неведомой и страшной. Как страшен бывает наркотик, навевающий блаженные видения, — всегда занозой сидит опасение, что перегруженный наркотиком мозг даст сбой и вместо прекрасных картин начнет вырабатывать кошмары, от которых некуда будет деться.
Приблизительно так Сережа Высик воспринимал эту военизированность быта, нарастающую с каждым годом, хотя и не смог бы выразить своих ощущений в словах.
Во всяком случае, он был только рад убраться со Скворцом и Петром Иванычем подальше от лагеря — хотя бы на время.
По дороге никто не заговаривал. Воробей, семеня за двумя попутчиками, шедшими довольно быстро, бочком поглядывал то на Скворца, то на Петра Иваныча. Скворец вышагивал с отрешенным видом, словно заранее сосредоточившись на работе и выкинув из головы все беспокойные мысли, к ней не относящиеся. Руки его слегка болтались на ходу, и в нелепом своем, несколько безразмерном пиджаке темного непонятного цвета, похожем на взъерошенные перья, он действительно очень смахивал на скворца, с притворным безразличием высматривающего краем глаза аппетитного червяка.
Так они дошли до деревни и завернули во двор одного из крайних домов, с широкими воротами. Во дворе стояло несколько телег, над крыльцом висел, обмякнув в безветрии, красный флаг. Петр Иваныч поднялся на крыльцо, постучал и, не дожидаясь ответа, прошел вовнутрь. Ребята прошли вслед за ним.
Встретил их молодой парень в кожанке, с резкими чертами лица. Петр Иваныч поздоровался с ним, назвав Алексеем, и сказал:
— Подобрал я вам работника. Рукастый парень, дела не испортит.
— Вот и хорошо, — сказал Алексей. — Проходите, старшой объяснит, что делать.
Они прошли в довольно скудно обставленную комнату: стол, несколько стульев, запирающийся шкафчик, стоящий на большом табурете, — вид у шкафчика был вполне канцелярский и как-то сразу угадывалось, что в нем должны храниться всякие документы. Не будь шкафчик таким очевидно хлипким, ему бы вполне удалось выдать себя за сейф.
За столом сидел «старшой». Он проглядывал всякие бумажки, разложенные перед ним, — сводные таблицы, списки, графики и отчеты. Сережка почему-то прежде всего обратил внимание на то, с какой аккуратностью выполнены все эти документы — каким почти каллиграфическим почерком выведена каждая буковка, как ровна каждая линия. Было в этой аккуратности нечто странно не соотносящееся с ситуацией и оттого чуть ли не удушающее. Она говорила о внутреннем трепете, с которым здесь относились к каждой бумажке — благоговейно до сладострастия, до той чиновничьей бумажной похотливости, за которой всегда брезжит бездушие… Но тут сидевший за столом поднял взгляд — и мальчик уже не мог оторвать глаз от этого лица. Оно притягивало тем пустым выражением, которое иногда бывает вполне естественным для животных, но страшит ненормальностью, когда встречаешь его в человеке. Животное отсутствие жизни — вот как это можно было бы определить. Пустота, не способная жить полноценно сама по себе, пустота, паразитирующая на окружающем, подкармливающаяся кровью, насилием и разрушением, которые она сеет вокруг. Сеет, и собирает урожай, и пожирает, чавкая — а иначе умрет с голоду.
Серое одутловатое лицо — оно бы выглядело приятно округлым, если бы не общая дряблость, не эти складки щек, не этот сальный поблескивающий лоб. Глаза без всякого выражения, бесцветные глаза, похожие на два кусочка чуть подтаявшего льда. Глаза, зрачки которых передвигались со странной медленностью и могли подолгу застывать на одной точке. Мальчик увидел коричневый пиджак, рубашку под пиджаком, а у горла — красный галстук. Мальчик не сразу сообразил, что же так смущает его в этом галстуке, и лишь потом, вглядевшись, понял — галстук был выкрашен красной масляной краской и оттого отсвечивал тусклым ненатуральным отливом, и мелкие трещинки шли по нему. Он поглядел на Скворца и Петра Иваныча. Но если их и смутил этот галстук или это лицо, то виду они не подали.
«Старшой» заговорил — таким одышливым и прерывистым голосом, как будто он только что держал долгую вдохновенную речь и еще не перевел дух:
— Работники? Хорошо. И хорошо, что молоды. Молодая смена. Наше будущее. Вам объяснить вашу задачу?
— Меня попросили подобрать из наших воспитанников такого парня, который хорошо умеет столярничать, — сказал Петр Иваныч.
— Да. Столярничать, — кивнул «старшой». — И не только. Работы много. Для начала надо приготовить стенд наглядной агитации. Агитационный материал уже готов. Подойдите сюда.
Они подошли к столу. «Старшой» открыл аккуратную папку и вынул оттуда ряд рисунков с сопроводительным текстом. Листы были пронумерованы, чтобы не ошибиться, в каком порядке их размещать. Высик увидел карикатурно злобного толстого мужика, похожего на борова. Этот мужик с ненавистью глядел на трактор в отдалении на роскошном поле зрелой пшеницы. Следующий рисунок представлял этого же злодея крадущимся с обрезом. На отдельном листке было выведено чертежным шрифтом название стихотворения: «Плач кулака». Одну из строф этого стихотворения мальчик запомнил на всю жизнь:
— Это все, — объяснил старшой, — надо разместить на деревянном щите. Щит сделать гладенький, рамочки, под стекло… Вот такая важная наглядно-агитационная задача. И кроме того, есть еще ряд ответственных поручений.
— Колесо у одной из телег починить надо, — сказал Алексей.
— Да. Колесо. Мы не можем доверять чинить колеса кому попало. Любой в деревне может оказаться вредителем, тайным врагом Советской власти, и якобы починенное им колесо отвалится по пути. Может быть даже там, где нас будет ждать засада. Вовсе не исключено, что кулаки могут попробовать отбить и уничтожить конфискованное у них на пользу трудового народа зерно. Мы их знаем — ни себе ни людям. Поэтому надо, чтобы все ремонтные работы выполняла наша советская молодежь, на которую мы можем положиться. — Он с необычной живостью встал из-за стола и подошел к Скворцу. Мужчиной он оказался не очень высоким, но грузным, одутловатым — и от этой одутловатости он смотрелся неряшливым, хотя и было заметно, что он старается следить за собой и одеваться с канцелярской аккуратностью. — Ты в радио что-нибудь смыслишь? — спросил он у Скворца.
— Я много в чем смыслю, — ответил Скворец. — Мне всякое приходилось налаживать. Но вообще-то, мне сперва поглядеть надо, чтобы понять, справлюсь я или нет.
— Хорошо. Тебе все покажут. Замок у сейфа сменить надо, — «Старшой» кивнул на шкафчик. — И сам сейф жестью обить, для надежности. Жесть имеется. Враг бы многое дал, чтобы получить доступ к нашим документам.
— Многовато работы, — прикинул Скворец.
— Работы на всех хватит. Работа сейчас повсюду кипит. Приступайте. Вам покажут, где все материалы и инструменты.
— Ну, вижу, я тут больше не нужен, — сказал Петр Иваныч. — Пойду к моим пацанам. Оставляю этих двоих в ваше распоряжение. Если поймете, что работы много и за день не управитесь, — обратился он к Скворцу и Сережке, — то в лагерь можете не возвращаться. Переночуете тут и завтра закончите. Я предупрежу ответственных за группы, чтобы вас не искали.
На том он и ушел. Скворец и Воробей получили отдельную комнатку, в которой и приступили к работе. Скворец взялся за разметку деревянного стенда, а Воробья усадил пробивать в жести пробойником дырочки по периметру, через каждые пять сантиметров — под шурупы, которыми эти листы жести будут «пришпандорены», по выражению Скворца, к деревянному шкафчику. Сережка работал со всей ответственностью и сознанием значимости этой работы; отмерял пять сантиметров, ставил метку, тщательно прикладывал пробойник, сильно и резко бил молотком — иногда бить приходилось по несколько раз, пробить толстую жесть с одного удара силенок не хватало — и переходил к изготовлению следующей дырочки.
Пока они работали, в доме шла своя жизнь, не прекращалась активная деятельность, которую они не очень воспринимали, сосредоточившись на своем. Мимо открытой двери их комнаты проходили люди — то кожанка промелькнет, то шинель. Слышались голоса, один раз лошадь во дворе заржала после того, как послышался скрип въезжающей телеги. Иногда разговоры шли на повышенных тонах, особенно когда говорил «старшой», иногда доносились короткие неразборчивые реплики. Ребята не обращали на все это особого внимания. Часа через три, когда стенд был готов, они перешли в главную комнату, где Скворец быстро и ловко забрал шкафчик в жестяные листы, моментально всаживая шуруп за шурупом, а потом еще с замком шкафчика повозился. «Старшой», выходивший куда-то, вернулся, когда они уже заканчивали работу, и одобрительно покивал.
— Где стенд устанавливать? — спросил Скворец.
— Перед воротами, — ответил «старшой», — чтоб всем на обозрение.
Стенд установили перед воротами на двух столбах, которые Скворец с Воробьем вкопали в землю, да еще чуть забили для основательности обухом топора, а потом Скворец собрал весь инструмент и отправился чинить колесо телеги. Сережка подавал ему необходимые инструменты и материалы и вообще набирался ума-разума, следя за работой Скворца. Уже вечерело, когда они справились с колесом. Подошел Алексей, одобрительно осмотрел их работу, позвал ужинать.
Уселись они в небольшом закутке, справа от главной комнаты. Смеркалось, и Алексей зажег керосиновую лампу. Достал чугунок с пшенной кашей, бутылку мутноватой жидкости.
— Пьешь? — спросил он у Скворца.
— Помаленьку, почему бы и нет, — солидно ответил Скворец.
— А этот? — Алексей кивнул на Сережку Высика.
— Ему не надо. Мал еще, — сказал Скворец.
— Ну, и мальцу можно иногда капнуть, чтобы крепче спалось, — сказал Алексей.
— Не надо ему, — твердо повторил Скворец.
— Как знаешь, — пожал плечами Алексей и разлил самогонку по двум кружкам.
У Воробья и без всякого самогону глаза слипались. Это не помешало ему приналечь на кашу — опыт всей недолгой, но насыщенной жизни научил его, что лучше всегда есть, когда дают, и лучше впрок набить брюхо, чем сожалеть потом об упущенной возможности. Поэтому, в силу привычки, он отправлял в рот ложку за ложкой, усердно прибирая свою порцию, хотя даже и вкус каши не очень чувствовал. В нем спадало наконец напряжение, державшееся после утреннего потрясения, и лагерь казался так далеко, так невозможно далеко, и верилось, что он никогда туда не вернется, и весь ужас, казалось, произошел вовсе не с ним… Голова была чугунной, в ушах звенело, и словно кулак внутри разжимался, отпуская его душу. Он не слышал, о чем идет разговор, не замечал входящих и выходящих. Откуда-то проникли в мозг слова — даже не как услышанное, а как странное воспоминание об услышанном:
— Старшой наш опять поугрюмел и рано спать собрался, — это, кажется, Алексей сказал. — Как бы беды не вышло.
Скворец что-то заметил или спросил, а Алексей в ответ:
— За ним глаз да глаз нужен. В прошлый раз вчетвером держали, чтобы голову не расшиб, а зубы пришлось металлической ложкой разжимать.
— А в деревне знают? — спросил Скворец.
— Кто их разберет. К ним, как ты понимаешь, у нас доверия особого нет.
Скворец кивнул.
— Но народ вроде смирный, — продолжал Алексей. — Не то что у нас бывало… Хотя, конечно, в тихом омуте…
— Тоже верно, — сказал Скворец.
— Пацаненок твой совсем засыпает, — сказал Алексей. — Может, его на лавку переложить?
— Сейчас переложу.
И Воробей почувствовал, как его отрывают от стула руки Скворца, потом он проплыл на этих руках метра два и оказался на жесткой широкой лавке. Под голову ему подложили сверток какой-то одежды, вместо подушки, и он сразу заснул.
Он разок-другой полупросыпался на секунду и слышал тихое журчание неторопливой беседы. Ему показалось даже, что Скворец опять с чем-то возится, шильцем или отверткой ковыряется в чем-то черном и плоском, не отрывая взгляда от ремонтируемого им предмета и подкидывая реплики Алексею, чтобы поддержать разговор.
— Здорово ты соображаешь, — услышал Сережка сквозь сон уважительный голос Алексея.
— Да тут и поломки-то особой нет, — ответил Скворец. — Так, немножко поправить кое-что. То ли уронили, то ли при перевозке тряхнули, вот и все дела.
Сережа Воробей закрыл глаза.
Опять он проснулся уже в темноте и тишине. С каким-то неуютным чувством проснулся — словно разбудил его дурной сон, который он в ту же секунду забыл, и лишь нехорошая тревога после него осталась. Напрягая память, он припомнил, что вроде снился ему какой-то здоровый мужик зверского вида, совсем на их повара непохожий, хотя и было в них что-то общее, и словно бы этот мужик настаивал на чем-то своем… Но и в этом мальчик не был уверен. Закуток был без окон, совсем темный, даже слабый свет ночных звезд не проникал в него, но за приоткрытой дверью виднелся тусклый свет. Мальчик еще немного полежал, пытаясь заснуть — без особого старания пытаясь, как бы лениво убеждая себя, что надо опять закрыть глаза, что ночь на то и ночь, чтобы спать, но сон не шел, и это Воробья как-то не очень расстраивало. Он присел на лавке, поглядел на тусклый лучик света за дверью. Да, а где же Скворец? Может, еще сидит, болтает с кем-нибудь, а может, спит уже в одном из соседних помещений. Воробей встал, постоял немного, спросонья заново привыкая к своим ногам, и, почти на ощупь, пошел из закутка.
Он опять оказался в большой, главной комнате. В ней тоже все было темно, пусто и тихо. Свет горел в другом помещении, рядом с этой комнатой. Мальчик осторожно направился туда.
Подойдя к приоткрытой двери, он тихонько заглянул вовнутрь. Никто его не заметил, и немудрено. В тусклом свете закопченной керосиновой лампы он увидел странную картину — словно застывшую — увидел он «старшого» на кровати, вцепившегося обеими руками в матрац с такой силой, что у него костяшки пальцев побелели, голова его была в крови, и двое людей крепко держали эту голову, а один сидел у «старшого» на ногах, в то время как Алексей одной рукой стискивал челюсти «старшого», вроде открыть их пытаясь, а другой рукой, похоже, собирался кормить его с ложки, только ложку держал почему-то обратным концом. Мальчик сразу отпрянул и попятился, в глазах у него помутнело. Сквозь тьму он двинулся к выходу, а моментальная картина продолжала стоять перед глазами. Он не помнил, как пробрался через все двери на улицу, выбрался на крыльцо, и с крыльца увидел темный силуэт часового во дворе. Лунный свет блестел на штыке винтовки, и сперва у него был позыв окликнуть часового, попросить его о помощи, но непонятный внутренний голос шептал, что лучше этого не делать, и так настойчив был этот голос, что Воробей его все-таки послушался. Он тихо-тихо спустился с крыльца и нырнул в тень под крыльцо, услышав, как заржала лошадь. Часовой повернулся на ржание, сделал несколько шагов в ту сторону, и этого было достаточно, чтобы мальчик незаметно прошмыгнул через открытый участок в кусты с другого краю большого двора, и, прикрытый кустами, стал пробираться на задворки, то пригибаясь в три погибели, то просто ползя на четвереньках, и остановился, только оказавшись за большой поленницей на задворках. Там он привалился спиной к поленнице и перевел дух.
Ему надо было решить теперь, куда идти и что делать дальше. Вернуться в дом он не желал. В лагерь? Тоже не привлекало, да и ночью туда добираться… Дорога была почти прямая, но все равно Воробей был не уверен, что не заблудится в темноте. Его состояние нельзя было даже назвать растерянностью, он просто ощутил себя в тупике. Весь бойцовский опыт прожитых лет был здесь бессилен. Будь в ситуации хоть что-нибудь узнаваемое, Воробей знал бы, как постоять за себя. Но не за что было зацепиться, нигде не найти было, не разглядеть опоры для сопротивления. Хоть плачь — но Сережка не заплакал, только глаза кулаком потер — и стал пробираться через задворки на дорогу, чтобы вернуться в лагерь. Там хоть все свое, и можно будет почву под ногами почувствовать, и любому самому темному и зловещему дать отпор.
Дорогу он нашел довольно быстро и пустился по обочине, старательно держась теней. Ему почему-то казалось, что в большом доме его наверняка хватятся и пустятся в погоню, потому что он стал свидетелем чего-то тайного, о чем никто не должен знать. По пути он недоуменно размышлял, где может быть Скворец. Скорей всего, он спит в одной из комнат большого дома. А вдруг он уже ушел?.. Нет, он не ушел бы, не предупредив Сережку — а скорей, он бы просто забрал его с собой. Но если он до сих пор там, то разве не надо его предупредить, что в доме происходит что-то нехорошее? А то, выходит, он покинул Скворца на произвол судьбы? При этой мысли Воробей остановился. Скворец бы ни за что так не подвел друга. Воробью вдруг сделалось очень стыдно. Как он ни мал, но, останься он в доме, их все равно было бы двое. А теперь Скворец там один, и, несмотря на то, что с ним никто не справится и он даже смерти неподвластен… Эта странная и жуткая картина, окровавленная голова «старшого» все еще стояла перед мысленным взором Воробья, и чудилось ему за этой картиной нечто такое, чужеродное и не людское, с чем не справится даже Скворец. Он повернул на сто восемьдесят градусов и пошел назад.
С приближением к дому ноги Воробья все тяжелели, одновременно становясь как ватные, и каждый следующий шаг давался все с большим и большим трудом. Но он упрямо пересиливал себя и вскоре оказался перед главными воротами. Светила неполная луна, в ее свете отсверкивало стекло, которым была забрана «наглядная агитация» на установленном ими стенде. Сквозь расплывчатые отсветы на стекле проглядывала в одном месте голова злобного кулака-мироеда, гротесково изуродованная колеблющимися наслаивающимися отсветами. От этого возникало на лице кулака несколько иное выражение — выражение звероподобной и отчаянной тоски, выражение жадного, но в своем праве, мальчишки, у которого отняли заработанный на побегушках пятак.
Воробей стоял, глядя на это лицо, в котором тонкая прорисовка лунного света убрала излишнюю схематичность и проявила нечто доподлинное, когда из дома донесся громкий крик — не крик даже, а вой, долгий протяжный вой, сперва однотонный и надрывный, потом перешедший в членораздельные слова. Воробей увидел, как метнулась тень часового во дворе, как штык блеснул в последний раз, когда часовой взбежал по крыльцу и исчез за дверью, а голос заходился, срывающийся, наколенный до хрипоты:
— Слезь, слезь, уберите его с меня!.. Уберите его!.. Всех… всех… всех… всех под расход!.. Без пощады, гадов!.. Раздавить!.. Всех!.. Всех!.. К стенке!.. Всех их к стенке!.. Все врут, все против!.. Через одного!.. Чтоб знали!.. Чтоб знали!..
У Воробья, застывшего на месте, сердце оборвалось от ужаса, когда он ощутил, как на плечо ему легла чья-то рука. Он боялся оглянуться — и было даже желание стряхнуть эту руку и рвануть наугад, куда ни попадя, или вцепиться в эту руку зубами, укусить до крови, чтоб хоть не дешево продать свою жизнь… И он почувствовал тяжесть и болезненное жжение в мочевом пузыре и понял, что вот-вот может напустить в штаны, когда знакомый голос спокойно сказал:
— Пошли отсюда. Без шума и поживей.
— Скворец!.. Ты тут… Я… я… Я шел за тобой, предупредить тебя…
— Молодец, — то ли насмешливо, то ли одобрительно сказал Скворец. — Но нам тут делать нечего. Пошли, у деда отсидимся, подумаем, что делать.
— Тут Воробей заметил рядом со Скворцом еще одну фигуру — худого деревенского старика, который наверняка смотрелся бы человеком высокого роста, не будь он так сгорблен. Ни слова не сказав, Воробей последовал за Скворцом и их вторым попутчиком.
— Это его бесы мучат, — сказал дед.
— Заткнись, дед, — коротко бросил Скворец, без всякого уважения к старшим.
Как ни странно, но дед, похоже, признал правоту Скворца — глянул на него внимательно, кивнул и больше ничего не говорил, пока они не отошли на достаточное расстояние.
— Тут недалеко уже, — проговорил старик, когда они оказались за деревней.
— Сами знаем, — отозвался Скворец.
И опять период молчания, пока они спускались в небольшую ложбинку и поднимались из нее. После ложбинки прошли сквозь мысок перелеска и оказались у крестьянского двора, расположенного на отшибе. Дед провел их мимо ветхих сараев — то ли коровников, то ли курятников, в любом случае безмолвных и лишь смутными очертаниями видневшихся — в избу, кивком головы указал на лавку возле стола, зажег лучину, когда его гости сели, и лишь потом опять заговорил.
— С тех пор, как порченный пришел, жизнь кончилась, — произнес он и тем же тоном добавил: — Табачку у тебя не будет?
Скворец вытащил папиросу, протянул старику, потом достал еще одну и закурил.
— Ишь ты, набивные гильзы, заводского производства, — восхитился старик. — У нас тут и махоркой не всегда разживешься.
— Раньше вроде у вас побогаче было, — сказал Скворец.
— То было раньше, — коротко ответил дед, бережно раскуривая папиросу.
— У тебя-то много зерна изъяли? — спросил Скворец.
— У меня чего, у меня и взять нечего, — хмыкнул дед. — Ни зерна, ни скотины толковой, чтоб в колхоз забрать. Наше дело особое.
— Все то же, что и прежде? — Скворец спросил это, как показалось, с определенной иронией.
— Известно. В наши годы ремесла не меняют.
— Власти нет у вас, иначе бы погорел ты на своем ремесле.
— У нас здесь всякая власть бывала, — возразил дед. — Не скажу, что похлеще нынешней, но тоже лихая. Один закон — наган тебе под нос и делай что велят. Тут, знаешь, дело такое… При любой власти устроиться можно, если ей не перечить.
— Счастливый ты человек, дед, — сказал Скворец. — Только вряд ли кто из деревенских с тобой согласился бы. Они не перечат, а их все равно под ноготь берут.
— Так то ж порченный, — сказал дед. — Это уже и не власть, а так… бесовщина. Ему что перечь, что не перечь — все равно не отстанет, пока твоей кровушки не напьется. Он за этим сюда и приехал, чтоб народ извести.
— И много он уже кровушки выпил?
— Достаточно. Он, знаешь, если кого в расход не пустит, так сам не свой становится. Говорю тебе, бесы его мучат, вопят в нем, что проголодались. А стоит ему «разоблачить» кого-нибудь, как он говорит, так ему сразу легчает, дня два-три спокойным ходит, пока его опять подзуживать не начнет.
— И эти дни он спокойный был?
— Вроде да. Завтра беды бояться надо.
— Завтра беды не будет, — почему-то с большой уверенностью сказал Скворец.
— Это еще бабушка надвое сказала. А я тебе вот что скажу — недаром он в этом доме поселился. Как говорят, что рыбак рыбака видит издалека, так бесы издали бесовское место чуют и как мухи на мед на него слетаются.
— Что ж такого неладного с этим домом? — спросил Скворец.
— Он ведь с шестнадцатого года пустым стоял, — принялся рассказывать дед. — Нехорошая в нем история произошла. Страшный грех. Дом, как ты видел, ладный, лучший в деревне. В нем до революции самый богатый мужик жил. Свой обоз имел. За всю деревню с купцами торговал. И жена у него была, молодая, красивая. И вот однажды этого мужика мертвым в доме нашли, удушенным. Обвинили в убийстве жену и его приказчика — молодого парня, который у него запись всех дел и амбарные книги вел. Они клялись и божились, что невиновны, но все было против них, и осудили их обоих на каторгу. Только парень до отправки на каторгу не дожил — руки на себя наложил. Кто говорит, что совесть заела, кто — что любил он свою полюбовницу до безумия и жить не смог, когда их разлучили… А есть и такие, кто все-таки его невиновным считают. С тоски, говорят, повесился, что его преступником заклеймили. Тут дело такое… Правду, как сам понимаешь, один Господь Бог ведает. Но после этого стал вроде призрак по дому гулять. Что за призрак — тут тоже по-разному толкуют. Кто говорит — мужика убитого, кто говорит — что повесившегося. Только в доме этом никто жить уже не мог. Проклятое место. Всех из себя выживает. Кто только через нашу деревню за войну ни прошел — и красные, и белые, и зеленые. И много раз в этом пустом доме свой штаб устанавливали. Только никто там не задерживался, всех призрак изводил. Один атаман у нас тут гулял, на что суров был мужик, а и он в этом доме усидеть не смог. Никто не знает точно, что там произошло, только он даже священника приглашал, дом заново освятить, всю нечисть из него изгнать. Только ничего у священника не получилось. Он на входе в дом спотыкнулся и всю святую воду расплескал. Хотел перекреститься — и не смог, рука словно онемела. Атаман как увидел это, так плюнул и в другой дом переехал. А теперь эти…
— Откуда он взялся, не знаешь?
— Странные вещи о нем говорят. Один из красноармейцев рассказывал, что вроде он — художник.
— Да ну?
— Вот-вот. Говорит, впервые видел его в восемнадцатом году, на главной площади города. Они там иконы жгли, у церквей отобранные, а порченный наш орал «Долой старое искусство!». Не знаю, правда ли, но так рассказывают.
— А сам он что рисует?
— Кто ж его знает. Сам я не видел, да и никто не видел, у кого я ни спрашивал. Богохульное что-то, наверное. Известно только, что он из художников в комиссары пошел. Вот и добрался до нас, за грехи наши.
— Он не жилец, — хмуро заметил Скворец.
— Конечно, не жилец, — согласился дед. — Удушит его этот дом, если он в нем останется. Уже душить начал — сам небось видел.
— Да не о доме я говорю, — отмахнулся Скворец.
Сережка Высик, притихший, слушал этот разговор, жадно ловя каждое слово. Кое-чего он не понимал, но того, что он понимал, было вполне достаточно. Малец он был приметливый и сообразительный и во многом мог разобраться сам, не задавая лишних вопросов.
— Думаешь, мужики его порешат? — спросил дед. — Нет, такого не будет. Не скажу, что народ у нас смирный, но властью наш народ крепко пуганный. Никто на рожон не полезет.
— У власти свои разборки бывают, — сказал Скворец.
— А, ты вон куда гнешь?.. — Дед призадумался.
Скворец только кивнул. Тут его взгляд упал на Сережку.
— Треплемся мы с тобой, а у парня глаза слипаются. — Скворец взглянул на окно, за которым начинало слегка сереть. — Скоро нам в путь трогаться. Ты бы побаловал мальца со своего промысла, дед.
Дед охотно извлек откуда-то горшочек с черной икрой, из печи добыл другой горшок, отлил из него в миску варева, в котором плавали куски осетрины, и все это поставил перед мальчиком.
— Жаркая икра уже пошла, — заметил он при этом.
Воробей сам не ожидал, что в нем вдруг проснется зверский аппетит и он так накинется на еду. Казалось бы, все треволнения и переживания должны были притупить в нем желания и чувства. Но нет — видно, здоровый молодой организм брал свое. Поев от пуза, мальчик взглянул на старшего друга.
— Мы что, куда-то далеко отправляемся? Разве не в лагерь? — спросил он.
— Ты ж сам в лагерь возвращаться не хотел, — сказал Скворец.
— Не хотел и не хочу. Но ты-то, наоборот, считал, что сбежать — это глупость.
— А разве мы сбегаем?
— Но как же…
— Вот так. — Скворец встал и потянулся. — Мы не в кусты прячемся, мы попытаемся большую беду предотвратить.
— Что-то еще случилось? — Воробей почувствовал, как внутри у него все похолодело. Было что-то очень мрачное и пугающее в том, как Скворец произнес последнюю фразу.
— Случилось, — буркнул Скворец.
— У нас в лагере?
— Да.
— Значит, ты там был?
— Был. — Скворец нахмурился. — Когда ты уснул, я ушел потихоньку, с Тамаркой повидаться… Цыганок — из твоих однокашников? — спросил он вдруг.
— Да, — Воробью показалось, будто он начал что-то понимать, — с ним что-нибудь случилось? Его сегодня ночью вроде бить хотели, — добавил Воробей, припомнив сценку во время обеда. — Мишка толстый со своими дружками.
— Вот как? — Скворец, похоже, сильно заинтересовался. — За что?
— Не знаю, — Воробей пересказал ему то, что видел и слышал.
Скворец несколько секунд размышлял.
— Понятно… — протянул он наконец. — А что, Цыган действительно такой тихий?
— Вроде да. — Воробей пожал плечами. — Ты видел, как его били?
— Я другое видел, — коротко и с неохотой ответил Скворец. Он еще подумал. — Знать бы, из-за чего этот Мишка на него взъелся… Хотя и это уже не важно. Ты не знаешь случаем, на повара твой Мишка зла не держал? Не задумывал ему какую-нибудь свинью втихую подложить?
— Не знаю. Мишка кому угодно может свинью подложить. Но чтобы он зуб на повара имел, я не замечал. А что?
— Ничего. Словно все вдруг в бешенство впали. Дни, что ли, такие… — Скворец встал и потянулся. — Путь нам не близкий предстоит. Выдержишь?
— Выдержу, — заверил Воробей.
— Хорошо. А с тобой, дед, мы договорились, — повернулся Скворец к старику. — Тамарку с Цыганом не оставляй. И ни полсловечка никому…
— Да уж можешь на меня положиться, — сказал старик. — Чтоб я да своего напарника подвел…
Скворец взглянул на Воробья и улыбнулся.
— Я иногда деду браконьерствовать помогал, есть такой грех, — объяснил он. — А это все равно что побратимами стать. Верно, дед?
— Верно, — подтвердил дед. — Мы теперь всегда друг за другом стоять должны.
— Но почему Тамарка с Цыганом прячутся? — спросил Воробей.
— По пути объясню, чтоб не скучно шагать было. Времени, боюсь, у нас мало. Хорошо хоть тебя, несмышленыша, вытащить успел.
— Отчаянное ты что-то задумал, — пробормотал дед.
— А ты помолись за нас, — усмехнулся Скворец. — Хуже не будет.
Воробей уже понял, что приключилось нечто совсем нехорошее, и боялся даже спрашивать, что именно.
— Ступайте с Богом, — вздохнул дед.
Скворец вынул еще пару папирос, положил на стол.
— Последним делюсь.
И не давая деду времени рассыпаться в благодарностях, взял Воробья за плечо и повел из избы.
…Когда они вышли на крыльцо, то в сером полусумраке наступающего утра увидели на небе красноватый отблеск — за лощинкой, за перелеском, в стороне деревни.
— Значит, вовремя мы с тобой успели, — сказал Скворец.
— Что это? — спросил Воробей.
— Большой дом горит, — сказал Скворец. — Со всем зерном конфискованным — и, может быть, со всеми, кто был в этом доме. Я поэтому так и спешил тебя оттуда вытащить. Прикидывал, как тебя незаметно разбудить и увести. — Он зашагал со двора, Воробей, отупевший, подавленный и растерянный, заспешил рядом с ним. — Ты почему на улице оказался?
Воробей рассказал ему. Когда он кончил рассказывать, Скворец резко остановился и остро поглядел на мальчика.
— Ты знаешь, что такое падучая? — спросил он.
— Слышал.
— Так вот оно самое ты и видел… Это хорошо, что тебя дурной сон разбудил. А еще лучше, что мы не разминулись. Видно, ты у Боженьки в любимчиках ходишь.
— Значит, ты знал, что дом подожгут?
— Подозревал.
— А кто поджег? Мужики, у которых зерно отобрали?
— Нет. Хотя все на мужиков подумают. Несладко им теперь придется. Если, конечно, мы с тобой ничего сделать не успеем.
Воробей с восхищением поглядел на друга — с какой спокойной уверенностью он говорит о том, что лишь нехватка времени может помешать ему — им! он и Воробья сюда зачислил — остановить нарастающую лавину темного и страшного.
— Я отправился повидать Тамарку, — с оттенком равнодушной рассеянности заговорил Скворец, он шел ровным шагом и, не глядя на Воробья, словно для самого себя пересказывал то, что с ним было, для собственного лучшего понимания. — Подождал ее около девчоночьего барака…
Барак, где жили воспитанницы женского детского дома, находился чуть на отшибе; девочки и кормились отдельно, хотя с той же самой кухни.
— Она не выходила. Мне удалось, постучав в окошко, тихо разбудить одну из ее подруг. И узнал я, что с Тамаркой какая-то разборка была, старшая воспитательница увела ее к себе. — Скворец имел, конечно, в виду ту постройку, в которой жили педагоги, крепкое строение, некогда бывшее, похоже, приказной избой, — и орала на нее, а потом заперла у них на чердаке. Я сразу подумал, что тут нечто вроде женской ревности взыграло, потому что Татьяна Николаевна — женщина на излете, а Тамарка только в молодость входит, и я замечал, как она порой злится на Тамарку, словно Тамарка ей нарочно в нос своим видом тычет, что ее время ушло. Ну, предлог придраться всегда найдется. Только мне знать надо было, что это за предлог. Стал думать, где бы разузнать. От нашего года почти никого не осталось, всех одного за другим по заводам и по ремесленным училищам распределили, трудовую жизнь начинать. Меня и еще троих попридержали до осени, чтобы мы здесь за старших были, помогали педагогам вами, мальцами, управлять. Ну, двое — ребята сволочные, а третий, Митян, ничего. Я его разбудил незаметно от тех двоих. И точно — эти двое на пару во всем и виноваты. Видно, счеты свести хотели. А может, по дурости. Треп у них с военспецем вышел, знаешь ведь, как он умеет с ребятами разговорчики вести. То да се, там, насчет женских прелестей. О Тамарке упомянули. Наш вояка заметил, что она уже девка в соку, хотя по соображению еще и девочка. А один из них возьми и ляпни, что не такая уж она и девочка — вон и наш повар на нее глаз положил, и она ему, кажись, не отказывает, да и не ему одному, похоже. Не знаю, почему он повара сюда приплел, а про меня даже словом не обмолвился. Видно, соображал, что повар — мужик бессловесный, несмотря на весь свой зверский вид, а со мной шутки плохи. И, на то смахивает, военспец сразу Татьяне это донес, на ус намотав… И пошло-поехало… А с поваром-то что, спрашиваю я. Его ведь тоже по этому доносу к ответу должны притянуть, разве нет? Нет, говорит Митян, вроде с поваром все спокойно. Хорошо, думаю, это, наверно, значит, что его завтра с утра взашей погонят. А может, и нет — нового работника сейчас не очень сыщешь, в нашей глуши. Так или иначе, но с поваром мне надо было обязательно немедленно потолковать. Не верил я, будто он не знает, почему эти два гаденыша на него зуб точат — и они ли точат вообще, или просто с чужих слов, в свою очередь, всякие гадости военспецу о нем повторили… Только не было повара на кухне, на его лежаке… Я сразу недоброе почувствовал, хоть повар, конечно, куда угодно на минутку отлучиться мог, до ветра, к примеру, выйти. Сперва я подумал, не навестить ли твой барак на случай, если повар мне все-таки не поверил… Но потом решил, что тебя все равно в бараке нет и что лучше я сначала до Тамарки доберусь. В тот момент я не знал, куда кидаться, — за одно возьмешься, другое упустишь, и никто не знает, что сейчас важней и неотложней, и у меня на душе кошки скребли. Вот так, с задней мыслью, что я могу опоздать, куда опаздывать не следует, я все-таки отправился на выручку Тамарки. Мне через крыльцо и пристройку удалось незамеченным на крышу взобраться, а там я через слуховое окно на чердак пролез. Тамарка перепугалась до смерти, когда я спрыгнул прямо перед ней. У нее, оказывается, уже был до меня один посетитель…
— Повар? — спросил Воробей.
— Он самый. Только он в слуховое окно не сумел протиснуться, маловато оно для него оказалось. Странно он себя повел, даже не удивился, когда Тамарка рассказала ему, что ее прорабатывают за то, что она якобы с ним шуры-муры имела. Почему-то сразу о Цыгане стал спрашивать, очень он его интересовал — не говорила ли Тамарка с Цыганом, и вообще… Ну тут Тамарка не поняла, чего он хотел и почему этот самый Цыган его так волнует. Ну и кое-что другое она мне рассказала. Я прикинул, что к чему, и сказал, что надо ей сматываться — все равно хуже не будет. Уговорил, хоть она и боялась. С моей помощью вылезла она на крышу, там я ее подстраховал, спуститься на землю помог. Увел ее в сторонку, за пристройки, велел там меня ждать и никуда не уходить. А сам отправился назад. Надо мне было с этим Цыганом разобраться. Я об него и спотыкнулся, на входе в ваш барак. Сидел там, за дверью, весь в комочек сжавшись. Мне хватило несколько слов из него вытянуть, чтобы понять, какие дела… — Тут Скворец чуть ли не впервые глянул на Сережку, взглядом задумчивым и проницательным. — Боюсь я, Цыгану уже ничем не поможешь. Он так забит, что в нем внутри что-то сломалось. Хребет перешиблен. Не знаю, кем он вырастет, но человека из него, похоже, уже не сделаешь. Но от таких людей можно чего угодно ждать. И жалкие они, и несчастные, и кто угодно ими помыкать может — шпынять их как бездомную дворняжку, понимаешь. Но и психануть они могут запросто и таких зверств натворить, что просто диву даешься. Как бездомная дворняжка, которую добрые люди и отогрели, и откормили, а она в ответ возьми и покусай кого-нибудь, хотя до этого всю жизнь с поджатым хвостом ходила. Ты понимаешь, о чем я?
— Приблизительно, — сказал Воробей. — Так что Цыган рассказал? — спросил он, увидев, что Скворец примолк.
— Странную историю. Я сам многого еще не знаю, потому что чуть не клещами из него вытягивал. В общем, он покорно пошел после отбоя в их помещение, хотя и знал, что его будут бить. И бить его действительно начали. Резко начали. Так резко, что всякое соображение потеряли, когда в раж вошли. Цыган хоть и привык такое сносить, но тут перепугался и даже отбрыкиваться попробовал. Но где ему отбрыкиваться — только еще больше их распалил. Последнее, что помнит, что двое его держали, а Ашот, схватив за волосы, о стенку бил. И еще кто-то ему шею сдавливал. Тут он отключился и ничего не помнит. Очнулся он от того, что ему свежий воздух в лицо ударил. Понял, что его кто-то на руках несет. Пошевелил головой, увидел — повар. Чуть не помер от страха…
— И он сбежал от повара? — спросил Воробей.
— Сбежал.
— А как?
— Не рассказывает. Вообще замок на рот навесил, только глаза таращил. Одно я понял — он боится возвращаться спать не потому, что опять бить будут, а потому что вроде там невесть какая жуткая беда приключилась, и он в этом, мол, виноват… Я понял, что вытрясать из него все до конца времени не хватит, поэтому просто взял его за руку и отвел кТамарке, ее заботам поручил. Велел ей спрятаться пока что в одном месте, которое мы с ней знаем, а я разберусь что к чему и приду за ними. Если все нормально — они тихо вернутся. Если нет — я придумаю, куда их дальше девать. Но чтобы ни шагу не делали, пока я не объявлюсь… Ладно. Вернулся я в ваш барак, прямиком прошел в комнату, заглянул — ну, словно ищу кого. Все сидят тихие как мыши, никто не спит, но никто и не шевелится. В чем дело, спрашиваю. Но они мне и ответить не успели, как я сам разглядел. Один парень, Антон такой…
— Ну да, Антон Сапов, — кивнул Воробей.
— Так вот, у этого Антона башка раскроена, а у Мишки вашего живот распорот, чуть не кишки торчат. А остальные мальцы, они вообще перетрусили, не знают, что делать. И бежать звать на помощь боязно, и помочь раненым не умеют. Сидят и ждут неизвестно чего. Я и гаркнул на них, чтобы дурака не валяли, бежали будили всех, кого положено, потому что тут и первую помощь оказывать надо, и врача вызывать, и в больницу их везти, если больница еще поможет. Трое из них рванули педагогов и воспитателей будить, а я остался раненых осмотрел. Как ты понимаешь, большая буза поднялась.
— А что ребята рассказали? — спросил Воробей.
— Понятное дело, что рассказали. Мол, Цыган давно им грозился, что у него повар в дружках ходит, и он любого в порошок сотрет, стоит только Цыгану у него попросить. Мишка и Антон поймали Цыгана на воровстве и сказали ему, что утром кому надо пожалуются. Цыган сказал: «Ах, жаловаться?» — и ушел гулять, а после отбоя ускользнул из барака и вернулся вместе с поваром, и повар по указке Цыгана отделал ребят, а потом повар и Цыган смылись…
— Но ведь это же вранье! — сказал Воробей, недоумевая, неужели мог кто-нибудь поверить такому наглому, беспомощному и белыми нитками шитому вранью, которое на каждом слове ловится.
— Правильно, вранье, — согласился Скворец. — Но это такое вранье, в которое все будут крепко верить и держаться за него, потому что правда никому не нужна. Ее и услышать не захотят, очень уж много придется расхлебывать, если правду признать. Ты понимаешь, о чем я?
— Если рассказать правду, то им надо будет признаться, что они каждый день позволяли Цыгана бить и словно синяков его по утрам не видели, верно? — спросил Воробей.
— Верно. И не только это… В общем, удобней и легче для всех, чтобы Цыгана с поваром числили бандитами в бегах и чтобы их взгрели как следует, когда поймают, не слушая их. Никто в виноватых ходить не хочет.
— Повара сразу ловить кинулись?
— Да, заметались, заголосили, что надо облаву проводить. Но куда посреди ночи облаву затевать? К тому же сообразили, что одним им не справиться, и решили просить помощи у коллективизаторов.
— У тех, кому мы все чинили?
— У них самых. Какая-никакая, а военная сила. С самого утра решили к ним обратиться.
— А откуда ты узнал, что их подожгут?
— От деда. Он мне одну вещь рассказал, сам не понимая, что она значит… Я ж, как суматоха малость улеглась, и за врачом послали и посты выставили, сразу к нему отправился. Мне его помощь была нужна. От него и узнал, между делом… Сразу подумал, что ты в этом доме, и отправились мы тебя оттуда извлекать. Я думал тихо зайти и увести тебя, но ты снаружи оказался.
— А разве нельзя было предупредить их, чтобы их не подожгли?
— А зачем? — удивился Скворец. И, помолчав, добавил: — Это бы еще больше все запутало. И невинных людей я бы тем самым подставил. Мне ведь главное — Тамарку из этой передряги вытащить. Теперь, после пожара, им, хочешь не хочешь, правду принять придется. Другого выхода не будет. Только бы не опоздать нам.
Они спустились к Волге. Там, в укромном месте, их ждала небольшая и верткая парусная лодка.
— Залезай, — сказал Скворец. — Ветерок попутный, и плыть нам вниз по течению. Авось часа за два доберемся.
Сережка Высик, Воробей, забрался в лодку. Скворец осторожными гребками весел вывел лодку из тихой заводи и уже на открытой воде поставил парус. Тот сразу трепетнул и вздулся под ветром. Лодка пошла ровно и хорошо.
— Ничего, умеешь ногами топать, — сказал Скворец. — Порядочный кусок мы с тобой отмахали. Теперь, если хочешь, можешь прилечь и подремать. Делать пока нечего.
Воробей покорно прилег на широкую кормовую скамью. Сквозь полуприкрытые веки он следил за Скворцом. По тому, с какой аккуратностью Скворец вытащил папиросу и как тщательно ее раскуривал, Воробей понял, что с табачком у его друга уже не ах. Скворец курил, явно стараясь растянуть удовольствие, а Воробей наполовину размышлял, наполовину дремал. Он только сейчас начал более-менее живо представлять, какие же жуткие вещи произошли. Подлинный ужас сперва не зацепил его — то ли очень усталым он был, то ли Скворец, рассказывая ему обо всем — обо всем ли? — взял ту единственно верную интонацию, которая снимала и отстраняла ужас перед произошедшим. Он не давал времени испугаться, предлагая голую схему событий, заставляя поспешать за выводами. А если бы он, Сережка Высик, проводил эту ночь с остальными? Как бы он все это воспринял? Мальчику почему-то казалось — может, таково было благотворное воздействие на психику той манеры, в которой Скворец ему все рассказал, — что он бы даже не очень испугался. Скорей, он воспринял бы все происходящее вокруг как-то пусто и тупо, словно не у него перед глазами разворачивающееся. И было бы противно, наверно, но он не стал бы сидеть в оцепенении испуга, как остальные. Он пытался живее представить себе эту кровь и эти жуткие раны, но как-то не получалось. Интересно, а с ним бы повар что-нибудь сделал, когда ворвался в их комнату? В том, что Антона и Мишку изувечил повар, Воробей не сомневался. И зачем ему нужен был Цыган? Связано это как-нибудь с тем, что Цыгана хотели избить — и чуть не убили — или нет? Цыган тоже видел что-нибудь страшное, связанное с поваром, и повар хотел помешать рассказать об этом другим? Задобрить или запугать? Наверно, задобрить, если он так зверски расправился с мучителями Цыгана.
— А меня повар тронул бы или нет, если б я там был? — спросил вслух Воробей.
— Вряд ли, — ответил Скворец. — Я ведь ему насчет тебя втолковал.
— Когда ты говорил с ним, во время обеда?
— Да.
— Ты сказал ему — я никому не расскажу, — что видел, как он повесил котенка?
Скворец оглянулся на лежащего мальчика:
— А ты разве видел, как он его повесил?
— Нет.
— Вот то-то и оно. И потом… Даже расскажи ты кому угодно, что повар повесил котенка, никого бы это на самом деле не тронуло. Его котенок, что хочет, то и делает. И с работы его бы не погнали, и отношение к нему не изменилось бы. Его и так не любят. Ну, стали бы любить еще меньше, подумаешь, делов. Нет, твой длинный язык ему ничем не грозил.
— Так что же было?
— Было… — Скворец нахмурился. — Я сказал ему, что, голову даю на отсечение, это не ты повесил его котенка. И он мне поверил.
Воробей дернулся, словно его током ударило, и резко присел.
— Погоди-ка…
— А чего годить? — буркнул Скворец. — Он этих котят больше жизни любил. Отправился искать их, потому что они пропали. Находит повешенного котенка — и тебя рядом с ним. Тебе повезло, что ты успел ноги сделать — он бы точно тебя на месте пришиб, никаких твоих объяснений не слушая. — Скворец помолчал. — Не знаю, зачем ему Цыган понадобился, но одно знаю точно — повар искал и ищет, кто с его котятами расправился. Не позавидую я этому человеку. То ли он Цыгана в чем заподозрил, то ли выяснил каким-то образом, что Цыган нечто видел и знает. И хотел из него все вытрясти. Да, повар еще может делов натворить. Я не знаю, что у него за жизнь была, но одно сразу видно — озверилаего эта жизнь до предела, и ему человека порешить — раз плюнуть. Он людей и ненавидит, и сторонится, и вообще внутри у него мрак и все умерло. Оттого он с такой отчаянности к котятам и привязался — это для него как выплеск было. Все, что в нем человеческого оставалось, он им отдал — ровно как родным детям. Ну, и Тамарке чуть-чуть перепало. Не знаю, почему, но, думаю, она, скорее всего, права — или у него дочь была, на нее похожая, или любимая женщина, только, так или иначе, он в ней свое загубленное прошлое видит. Какого-то умершего человека, о котором забыть не может. И, я так соображаю, этот человек страшной смертью погиб.
Воробей пообмозговывал услышанное.
— Значит, не одного котенка убили, а всех?
— Да, — сказал Скворец. — По нескольким местам поразвесили. Он их собрал и схоронил. Видел я эту могилку. И сегодня ночью еще раз на нее заворачивал, прежде чем за дедом пойти. Думал, что, может, повар там сидит. Не застал я его там, но что он прямо передо мной там побывал — это факт. Следы свежие там оставил… Эх, покруче бы мне за это дело надо было взяться. Кто-то повара очень ненавидел и отомстить ему хотел — и нюхом своим самое больное место учуял, понимаешь? Я у него спросил тогда, не было ли у него ссор с кем-нибудь или неприятностей, но он отмолчался. Сказал, ни с кем не ссорился, никого не обижал. Может, и соврал, но ведь правды из него было не вытрясти.
— Выходит, повар не успокоится, пока убийцу котят не найдет?
— Выходит, да.
— А если он снова ошибется? — спросил Воробей. — Вот насчет меня чуть не ошибся. Так ведь и с другими может быть, разве нет? Возьмет и вообразит, что именно этот с его котятами расправился, и убьет его. Потом поймет, что нет, не он, и на другого подумает. Так он невесть сколько людей угробить может. Сам ведь говоришь, ему человека убить — раз плюнуть. А если он на этих котятах совсем с ума спятил, то… — Воробей не договорил, потому что и так все было понятно.
Скворец одобрительно посмотрел на него.
— А ты смышленый! Мне это почему-то в голову не пришло. Я так представлял, что он будет охотиться за своим обидчиком, выискивать его, пока не найдет. И что все, кроме настоящего обидчика, сейчас более-менее в безопасности. Но ведь он, с его простым соображением, может и действовать совсем по-простому: бей всех, на кого подозрение есть, среди них и настоящий виноватый попадется, а если кроме виноватого еще и ни к селу ни к городу кого-нибудь приберешь — это пустяки. И кто знает, какие подозрения в его башке зародиться могут. Башка-то ненормальная. Он так и половину трудлагеря перережет, глазом не моргнет. Эх, знать бы, зачем ему Цыган был нужен — и что он из него вытянул, когда у ребят отнял…
— Может, Цыгана потому и бить хотели, что он что-то видел, и это не понравилось…
— Тогда бы это значило, что котят ребята перевешали.
— Они могли, — с серьезной мрачностью, неожиданно по-взрослому, кивнул Воробей.
— Могли. Это все равно, знаешь, как местного сумасшедшего или буйного пьяницу мальчишки иногда дразнят. Камнями в него швыряют, и все такое. И знают ведь, что человек не в себе, что может и пришибить ненароком, если поймает, — а все равно изгаляются над ним, до озверения доводят, а потом драпают от него врассыпную. Тут я прямо не знаю, что срабатывает. Злость со страхом перемешаны. Да еще и сознание, что это — такой взрослый, который у других взрослых защиты не найдет, что над ним ни сотвори… Понимаешь, я сам в сомнении, кто такую штуку учинить мог. Вся эта земляника, поеденная и вытоптанная… Очень похоже на ту бессмысленную злобу, которая обычно у гадливых мальчишек бывает. Пакость, задуманная просто так, чтобы себя над поваром утвердить. Прямо вижу, как они, хихикая, уносят котят за пазухой, и бегут со всех ног, и радуются — может, еще больше радуются от подленькой мысли, что этот жуткий мужик будет как маленький младенец реветь, обнаружив, что у него его котят отняли. Но есть и другое… Кое-что очень по-взрослому сделано. Я ж говорил, что котенка уже не было, когда мы туда подошли… Ну, когда я на полянку пришел, а вы с Тамаркой ждать меня остались… Котенка не было, но петля, из которой его повар вынул, на месте была. И не по-мальчишески эта петля была завязана, навык чувствовался… Мне бы еще кое до чего дознаться, я бы скумекал, кто это сделал. Есть у меня несколько прикидок. И конечно, если уж я сразу нескольких людей под подозрением держу, то повар тем более будет… Ладно! — махнул рукой Скворец, не желая больше ни о чем говорить. — Раз все кругом врут, то и мы соврем, поубедительнее всех прочих.
— То есть как? — ошарашено спросил Воробей.
— Узнаешь, как. Отдохни пока, если эти разговоры тебя настолько не растравили, что уже и отдых не в отдых. Зря мы с тобой об этом разболтались. Мне и самому муторно, хотя япоболее твоего повидал, а тебе-то, наверное… — Скворец сплюнул в воду. — Выкинь все из головы.
Сережка понял, что Скворец больше ему ничего рассказывать не будет — хотя знал он наверняка еще многое. Поэтому Воробей закрыл глаза и, незаметно для себя самого, задремал.
Спал он, по всей видимости, совсем недолго. И сон его, несмотря на то, что он чувствовал себя странно спокойным, был, похоже, дерганный и взбудораженный. Слишком яркие картинки он видел во сне, чтобы сон этот был глубок и умиротворяющ.
Сперва, как это часто бывало, он увидел иссиня-радужный промельк в темноте, понемногу этот промельк обрел формы и очертания, словно наводка на фокус состоялась — и оказался чучелом птицы. Это чучело парило в темном воздухе какого-то сводчатого погреба, без всякой видимой опоры. Потом — опять, как обычно, но на сей раз с большей яркостью, с почти болезненной яркостью — он увидел письменный стол, настольную лампу с зеленым абажуром и, в круге света от этой лампы, коробку с папиросами — на коробке было изображение какой-то то ли турчанки, то ли персиянки, в шароварах и прочих цветастых одеяниях, которая весьма призывно держала длинный мундштук с заправленной в него сигаретой и выпускала струйку голубоватого дыма. В круге света появилась рука, протянутая за папиросой… Словом, все те же повторяющиеся образы. Сережка Высик сильно подозревал, что в этом сне запечатлены каким-то образом картины его самого раннего детства, того, что было еще до детского дома — чего по малолетству он запомнить не смог, но что отложилось каким-то образом в его подспудной памяти, чтобы вот так проявляться во снах.
Потом и картинка на папиросной бумаге изменилась. Такая зелено-черная она стала, с длинным названием золотыми буквами, с узорчиками по краям. Папиросы в ней были большие, толстые, крупные — вальяжные папиросы. И руки, державшие эти папиросы, стали множиться, словно одна рука веером разложилась на несколько, и разными, непохожими были эти руки, и освещение падало на них по-разному, а папиросы были одинаковыми, неприятно одинаковыми… И это уже было что-то новенькое, раньше в Сережкинах снах не возникавшее, и, скорей всего, здесь причудливым образом сгустились и отразились все переживания прошедших суток. Словно мозг не мог избавиться от навязчивой подробности, приставшей к нему как репей, и ее раздражающее воздействие играло роль клапана, спасительной помпы, через которую из сознания — тонущего корабля — выкачивалось то, что психологически невозможно вынести, тот излишек черной воды в трюме, который иначе мог запросто на дно утянуть.
— Ты что, Воробей? — несколько озабоченно окликнул Скворец, и Сережка, открыв глаза, осознал, что, кажется, он застонал во сне — от того, что ему начало видеться что-то еще, и он бы, может, запомнил, что привиделось ему напоследок, если б оклик Скворца так резко не вернул его к реальности. Лишь общее ощущение осталось — нахрапистого и властного вторжения.
Воробей, несколько обалделый, присел:
— Послушай, Скворец, ты какие папиросы куришь? — спросил он, все еще не вполне прочухавшись от своего сна.
— Разные курю, — пожал плечами Скворец. — Какие попадутся.
— Те, которыми ты с дедом поделился…
— А, это Алексей угостил.
— Мне кажется, я их еще где-то видел…
— Очень может быть, что и видел. Марка известная.
— Нет, я имею в виду, совсем недавно.
— То есть?
Воробей зажмурился. В мозгу нехорошо звенело, дребезжащим звоном усталости и буксующей памяти, настырно возвращающей к одному и тому же, не давая взять барьер, за которым станут ясно видны до бешенства ускользающие сейчас воспоминания, — так заедает запиленную пластинку, и игла граммофона, срываясь, воспроизводит все одну и ту же визгливую ноту. И надо вручную переставить иглу чуть дальше запиленного места, надо выкинуть из головы этот мозги насилующий тренькающий звук, сосредоточиться, чтобы дальше все опять пошло нормально, чтобы мелодия заструилась…
— Я вспомнил, — сдавленным голосом сказал Воробей.
— Что ты вспомнил? — Скворец очень посерьезнел.
— Где я видел окурок такой папиросы.
Воробей замолк, собираясь с мыслями. Он теперь догадывался, почему эти папиросы с такой настырностью лезли в его сон. Тот окурок… Он втайне поразил его неуместностью на общем фоне увиденной им картины, но он был слишком напуган тогда, чтобы уделить этой неуместной подробности хоть сколько-то сознательного внимания, — но, может быть, эта крохотная и безобидная деталь и напугала его почему-то больше всего, стала живым зернышком, из которого пророс весь последующий ужас, и только своего времени ждала, чтобы вынырнуть. Так, или приблизительно так, описал бы это Воробей, умей он анализировать свои мысли и переживания. Но сейчас он был просто напуган — воспоминание об этой мелочи, об этом окурке было знаком чего-то страшного, придавало всему случившемуся иной — и более зловещий, чем разумом можно было представить, — смысл… И Воробью казалось, что сейчас, когда он произнесет вслух вдруг вспомнившееся, это зловещее окончательно воплотится — как по колдовскому заклинанию — и обретет такие реальность и власть, которые лучше бы не вызывать к жизни…
Непонятно, чего было пугаться в такой малости, как оброненный окурок — но от этой непонятности страх делался еще горше…
— Ну, и где ты его видел? — спросил наконец Скворец, понаблюдав, как лицо его примолкшего друга становится все бледнее.
— На той полянке… Сбоку от вытоптанных кустиков земляники… Он там лежал, и я подумал… Не помню, о чем я подумал… — Может, именно этот окурок и вызвал в Воробье такой ужас, когда он ощутил запах табака от пальцев перехватившего его Скворца — ассоциативная связь сработала, сомкнув одно с другим, на одном из уровней подсознания…
— Когда я пришел на поляну, окурка там не было, — твердо сказал Скворец.
— Но это значит… — Воробей чувствовал, что значит это что-то очень важное, но не мог додумать мысль до конца.
— Это значит, что окурок подобрал повар, — сказал Скворец. — И по этому окурку он о чем-то догадывался. Именно этот окурок навел его на мысль допросить Цыгана. Причем навел не сразу, а когда он что-то поворочал в своих медлительных мозгах…
— Но Цыган не курит, — возразил Сережка.
— Не важно. Этот окурок почему-то убедил повара в том, что Цыган знает очень и очень многое. Он знал, что я был на той полянке, — я ведь ему сам об этом сказал. Догадывался, что Тамарка была рядом со мной. Решил, видно, меня порасспрашивать о Цыгане — и, не найдя меня, полез к слуховому окну чердака беседовать с Тамаркой. Интересно…
Скворец вынул изо рта почти до корня докуренную папиросу и бережно расправил картонный мундштук.
— Ты можешь вспомнить, как тот окурок был надломлен? — спросил он.
Воробей взглянул на него непонимающе.
— Ну, каждый человек прикусывает папиросу по-своему, зубы у всех по-разному сидят, — объяснил Скворец. — И в пальцах мнет ее тоже по-своему, так, как лично ему будет удобней курить. Можешь вспомнить, как именно тот окурок был согнут и надкушен?
Воробей кивнул, теперь поняв, и закрыл глаза — чтобы вызвать перед мысленным взором живую картинку увиденного им там, на полянке. Небольшое усилие — и он увидел тот окурок во всех подробностях.
— Да, пожалуй, смогу, — сказал он. — Дай сюда окурок.
Скворец вручил ему окурок, и Воробей, иногда останавливаясь и закрывая глаза, чтобы поточнее вспомнить, стал аккуратно сгибать и приминать толстую и пустотелую трубочку мундштука гильзы.
— Вот, — сказал он наконец, в последний раз мысленно сравнив результаты своей работы с образом, стоявшим у него перед глазами, — и отдал окурок Скворцу.
Скворец бережно взял окурок двумя пальцами. Теперь наступила его очередь сосредоточиться. Он сидел, отключившись от мира, глядел на бумажную трубочку в своих руках, и просто почти въяве было ощутимо, как в его мозгу с легким щелканьем проходят один за другими фотографические кадры, на которых запечатлены разные люди с их разной манерой курить.
Так он сидел минут пять, не отрывая глаз от окурка. Потом глубоко вздохнул и сказал:
— Меткий у тебя глаз, черт. Теперь мне многое ясно. Хотя и не все. Не понимаю, как… Ладно! Если бы раньше знать… Дела у нас, Воробей, неважнецкие. Эх, если б я раздвоиться мог! Но мне надо добраться до… Тебя, что ли, послать? Боюсь, ты один не справишься.
— Почему не справлюсь? Справлюсь! — с бодрой уверенностью откликнулся Воробей. — Что сделать-то надо?
— Надо предупредить Тамарку и Цыгана. Добраться до них, увести их в другое место. Потом вернуться, деда подождать и сказать ему, что за ним следить могут — поэтому лучше ему назад не возвращаться. Если за ним действительно следят, и если вас вместе накроют — то скажешь, что драпанул из большого дома, никем не замеченный, когда пожар начался, прямиком в леса пустился и заблудился там. И вот теперь на деда случайно наткнулся, и он тебя взялся к людям вывести. Деду то же самое сказать успей, чтобы вы одно и то же повторяли. Ну что, пойдешь?
— Конечно, пойду, — горячо заверил Воробей. — Только куда идти?
— Ты старую церковь знаешь?
— Это за лесом?
— Да. Она пустая стоит, разваливается, никто туда не ходит. Священника, говорят, несколько лет назад расстреляли и все имущество вывезли. Они не в самой церкви… Дом священника спалили, но погреба от него остались. Они в этих погребах под пепелищем. Надо сказать им, чтобы в овраг уходили, к Девичьему броду. Там можно будет отсидеться, под обрывом пещерка есть небольшая.
— Все понял, — сказал Воробей.
— Мы уже довольно далеко отплыли, — недовольно проговорил Скворец. — Тебе надо долгий путь проделать, и как можно быстрее. Не знаю, успеешь ты или нет, или до тебя их накроют, — продолжил Скворец, поворачивая лодку к берегу. — Нам, понимаешь, важнее всего Цыгана схоронить… Надо, чтобы он мог рассказать то, что было на самом деле. Если его сцапают, его заставят сказать что угодно — то, что им надо будет, — и мы уже ничего не докажем.
Днище лодки заскребло по прибрежной отмели, потом лодка вообще остановилась.
— Снимай ботинки, чтоб не намочить. На берегу наденешь, — сказал Скворец. — Эх, не хочется мне тебя посылать, но с тем, что мне предстоит сделать, ты еще меньше справишься. Видишь, как солнце стоит? Держись почти по нему, чуть правее забирая. Выйдешь на лесную дорожку, там чуть подальше примета будет хорошая — родник, ухоженный, под двускатным навесиком, кружка на цепочке… Прямо по дорожке не иди — вдоль нее, за кустами и деревьями. Кто их знает, где они свою говенную облаву поведут. А я постараюсь как можно быстрее.
Воробей снял ботинки, прошлепал несколько метров по воде и выбрался на берег. Скворец упер весло в дно реки, оттолкнулся, снимая лодку с отмели, и, пока Воробей надевал ботинки, лодка уже опять развернулась и понеслась дальше.
Следуя указаниям Скворца, Воробей пустился через лес, начинавшийся почти от берега. Сперва он попробовал бежать что есть сил, но потом понял, что долго так не выдержит, — хотя зеленый лесной воздух и освежал, и бодрил, и легкие промывал своим благоуханием — и перешел на легкую рысцу. На дорожку он вышел минут через двадцать. Солнце еще было довольно низко. Не больше восьми утра, прикинул Сережка. Он опять перешел на бег, ему хотелось поскорее добраться до родника и убедиться, что он идет правильно. Родника не было довольно долго, и Воробей уже начал бояться, что направился не по тому пути. В нем начала возникать легкая растерянность — еще не паника, но предвестие паники. Он не знал, что делать — продолжать движение по этой дорожке или попробовать поискать другую, уйдя ненадолго круто вправо, а потом, если справа ничего не найдет, круто влево. Он уже совсем уверил себя, что идет не туда, когда родник наконец появился. Воробей выглянул из придорожных кустов, убедился, что рядом с родником никого нет, и напился сладкой и ледяной воды. Не позволив себе большей передышки, он опять припустил вдоль дорожки, легким надрывным бегом, стараясь как можно правильнее распределить свои силы. Он понятия не имел, сколько ему еще двигаться.
Так он шел, не сбавляя темпа, и ему казалось, что прошла целая вечность. Вода, так жадно им выпитая и так его сперва подстегнувшая, теперь вяло и муторно побулькивала в животе. Пот застилал глаза — едкий и не избавлявший от жаркой тяжести пот. При всем том Сережка не терял бдительности и чутко реагировал на каждый звук, долетавший до его слуха. Иногда он нырял в кусты и, затаившись там, выжидал несколько секунд, пока не убеждался, что тревога ложная. Несколько раз ему показалось, что впереди мелькают какие-то люди, — но в итоге все оказывалось лишь игрой света и тени в пышной листве. Дорожка шла под уклон, по обеим сторонам ее начался густой орешник, и Воробей сообразил, что он уже где-то поблизости, — если только этот орешник, совсем другой, просто не был похож на знакомый ему, приблизительно в часе ходьбы от трудлагеря. Нет, скорее всего, это тот самый.
Он и здесь не решился выйти на дорожку и стал продираться сквозь орешник, стараясь производить как можно меньше шума. Опять до него донесся какой-то неестественный для леса звук — на ауканье похожий — и он опять поспешил затаиться среди высоких папоротников. Да, на этот раз он явственно расслышал человеческие голоса. Похоже, люди полукругом двигались по лесу, беря в кольцо определенный участок. Из-за эха сложно было понять, захватят они то место, где затаился Воробей, или нет. Потом послышались шаги по дорожке, и Воробей сквозь папоротники увидел тех двух ребят, с которыми Скворец позавчера — только позавчера? как же давно это было! — разобрался по-своему. Они остановились почти перед тем местом, где прятался мальчик, и один из них заорал:
— Ау! Слышите нас? Ау!
— Брось, — сказал второй. — Без толку. Хрен мы кого поймаем, в таком-то лесище.
— Поймать не поймаем, но хоть от своих бы не оторваться, — возразил первый. — Хорошо, если нам Тамарка или Цыган попадутся. А если это медведь? Тогда скажи спасибо, если на помощь позвать успеешь — и если они успеют добежать…
— Интересно, куда Скворец делся? — заметил второй.
— Теперь и на Скворца управа найдется, — хмыкнул первый.
Из лесу раздалось ответное ауканье.
— Пошли, — сказал второй. — А то и в самом деле отстанем.
Они двинулись дальше, а Воробей еще некоторое время лежал, распластавшись под папоротниками. Значит, облава началась и идет вовсю. Неужели младших ребят тоже погнали, ради большего шума? И участвуют ли эти военные, погорельцы? Наверно, да. Воробей отполз чуть в сторону от дорожки — но так, чтобы не терять ее из виду — и, приподнявшись, пошел на полусогнутых ногах, весь скрючившись в три погибели. Красться так было неудобно, и все мускулы скоро болезненно заныли, но распрямиться он боялся, и осторожно продвигался метр за метром, и лихорадочно соображал: старая заброшенная церковь располагалась на небольшом открытом холме, только с одного боку к ней подступали деревья, и надо ведь как-то подойти к ней незамеченным, а если цепь облавы идет густо, то его вполне могут углядеть… Значит, надо подойти со стороны тех деревьев. Занятый этими мыслями, он на какую-то секунду отвлекся — и чуть не обмер от ужаса, когда что-то, пахнущее поношенной кожей, ткнулось ему в нос. Уже в следующий миг он сообразил, что это — носок сапога, и весь сжался, уверенный, что владелец сапога, небрежно поддев его по носу, или схватит его сейчас за шкирку, или вторым ударом приложит со всей полновесностью. «Я испугался, когда начался пожар, и незаметно сбежал, и до сих пор от испуга блуждаю по лесу, прячась от всех…» — быстро подумал Воробей. И тут только понял, что нигде перед собой не видит ног толкнувшего его человека — словно тот либо быстро спрятался, либо над землей парит. Скорей, над землей парит — носок сапога пребывал в непосредственной близости от носа Воробья, а вот рядом с ним и второй… Мальчик поднял взгляд.
Военрук висел с почти анекдотично благодушным видом, словно марионетка, оставленная после спектакля болтаться на крючке. Его голова поникла набок, по щеке тянулась ссадина. Сук, хотя и крепкий, пригнулся под тяжестью его коренастого тела.
Воробей почему-то не ощутил ничего, кроме легкого звона в голове и подташнивания, будто с «чертова колеса» слетел или на солнце перегрелся — видно, первый испуг, когда его нос встретился с носком сапога, был слишком велик, и дальше пугаться было уже некуда. Скорей, он смотрел на повешенного с тупым недоумением, словно это покачивающееся тело было частью какой-то игры. Он тихо попятился и нырнул в кусты, и отполз сквозь них на какое-то расстояние, и свет неожиданно сделался ярче, и оказалось, что он лежит на самой границе леса и смотрит на холм с церковью, слегка раздвинув густую траву. И лишь здесь Воробья пробрало мелкой дрожью — ознобом запоздалого осознания того, что он увидел. Он прижался лицом к сырой и влажной земле — и чтобы остудить распаренные лоб и щеки, и чтобы не вскрикнуть, ведь кто знает, нет ли поблизости других людей… Полежав так, он почувствовал себя даже не плохо — будто матушка-земля перекачивала в него свою силу. Он опять посмотрел вдаль, на церковь, на черные обугленные развалины рядом с ней, посреди которых торчала массивная кирпичная труба большой печи, тоже вся почернелая и уже малость объеденная снегом, дождями и ветром. Мысок леса, через который можно более-менее незаметно подобраться к развалинам, находился в другой стороне. Значит, надо либо по краю леса пробираться туда, либо попытаться пробраться напрямую — мчась во весь дух, прячась после коротких перебежек за кочки и редкие кустики и рискуя тем, что тебя все-таки заметят, кому не надо… Воробей решил, что лучше медленней, но надежней. Прислушиваясь к каждому звуку, ловя взглядом любое шевеление травы и сразу затихая, он направился по краю леса в обход.
Позади него, чуть в отдалении, грохнул ружейный выстрел, и он приник к земле. Слабый ветерок донес до него неразборчивые голоса — голоса взволнованные и, похоже, напуганные. Это, наверно, нашли тело военрука.
Воробей двинулся дальше, надеясь, что обнаружение тела отвлечет всех на какое-то время от активного прочесывания леса. Он то полз, то пробегал, согнувшись, то выжидал, если где-то поблизости раздавался посторонний звук. Так он добрался до мыска — не очень удобного для передвижения, деревья там росли достаточно разреженно, и подлеска густого под ними не было. Но была неглубокая канавка, дождями и талой водой сотворенная, и трава достаточно высокая, и толстые стволы… Все же лучше, чем ничего.
— Он где-то совсем близко! — прозвучало буквально в нескольких шагах от Воробья. — Не мог он далеко уйти!
Воробей узнал голос Алексея. Значит, воинский отряд участвует в облаве.
— Если только он не ушел сквозь нашу цепочку, когда этого олуха повесил, — сказал другой голос.
— Надо в оба смотреть, чтобы ни с кем из нас такого же не произошло. И чуть что — стреляйте без предупреждения. Он, видно, совсем с ума рехнулся, псих ненормальный.
— Интересно, куда он детей спрятал? И живы ли они еще?
— Тоже мне, дети!.. Прихвостень его сопливый, шпана малолетняя, который небось и взрослому уголовнику нос утрет, и девка-скороспелка, с которой он… Все они одна шайка!
— И те двое тоже?
— Малец, наверно, перепугался и удрал посреди суматохи, когда пожар начался. — Это опять голос Алексея. — Небось до сих пор по округе шляется. Может, заблудился, может, возвращаться боязно после такого… А старший… Не верю я, что это он дом спалил. Скорей всего, с ним на реке что-то случилось, когда они с дедом в ночную рыбалку ушли. А дед в этом сознаться боится. Нет, этот Скворец нормальный парень. Он потому и улизнул, что у него с дедом была договоренность попромышлять незаконно…
— Глупо деду отпираться. И сети у него нашли, и рыбу, и икру, и те папиросы, которыми ты Скворца угощал… Понятно ведь, что виделись они. Может, сам дед его и того?..
— Вряд ли. Скорей всего, утоп парень, а дед от всего отнекивается, потому как ответственность на него ведь ложится. Вот что дед поджигателей знает — это очень может быть. Ничего, пусть пока посидит под замком, а мы, когда вернемся, всю правду из него вытрясем. Старшой на это мастер…
— Надо бы оцепление перестроить…
— Надо. Церковь заброшенную проверяли?
— Проверяли. Вроде никого в ней нет.
— Тогда надо бы в той стороне пошарить. И кучнее держитесь, чтобы он еще кого…
Голоса удалились. Воробей перевел дух. Деда арестовали и чуть ли не подозревают, что он Скворца убил? Это значит, что дед не придет. Но это еще и значит, что «хвоста» он за собой не приведет, и нечего ломать голову, как незаметно увести Тамарку и Цыгана в пещеру под оврагом — можно и в погребах отсидеться. Тем более, там участники облавы все уже осмотрели, ничего не нашли и вряд ли вернутся повторно… А вдруг это значит, что Тамарки и Цыгана там уже нет? Что они драпанули с испугу куда глаза глядят? Или — еще хуже — что их повар нашел и куда-то с собой уволок? И потом… а вдруг дед не выдержит допроса и выложит все, что знает? Нет, Тамарку и Цыгана уводить надо, если они еще там. Но об этом можно потом подумать; успеется прикинуть, как это осуществить. Сейчас главное — вообще до них добраться.
И Воробей стал осторожно продвигаться по дну канавки.
Двигался он ровно и быстро и скоро шмыгнул уже в тень задней стороны церкви. Обогнуть церковь и оказаться среди развалин дома было делом двух минут. Укрытый от посторонних взглядов обгорелыми развалинами, Воробей стал искать вход в погреба. Сперва он ничего найти не мог. Потом ему подумалось, что если бы этот вход был достаточно заметен, то участники облавы наверняка бы его обнаружили — и выволокли бы уже на свет божий Тамарку и Цыгана. Значит, вход должен быть не виден, может даже как-то замаскирован, чтобы незнающий о нем никак его не углядел. Сообразив это, Воробей стал искать какую-нибудь примету, указывающую на закрытый подземный спуск. Сперва ему ничего в глаза не бросалось, но потом он заметил, в одном из углов периметра, образуемого развалинами дома — где, наверно, кухня прежде была — что проросшая трава там чуть желтее, и не просто желтее, а четыре желтоватые линии травы тянутся, образуя правильный квадрат. Он попробовал подцепить с одного боку этого квадрата — безуспешно. Взялся с другой стороны — и замаскированный люк поднялся на удивление легко, а под ним обнаружилась приставная лесенка. Сережка спустился вниз на несколько ступенек, руками придерживая над головой люк, потом опустил его — и оказался в полной тьме. Крепко держась руками за лесенку, он ногами стал нащупывать ступеньку за ступенькой и очень осторожно спускаться, пока не уперся обеими подошвами в ровную и твердую землю. Тогда он вздохнул с облегчением и стал оглядываться вокруг. Но тьма стояла кромешная — сколько ни вглядывайся, а все равно глазам к ней не привыкнуть. Отходить же от лесенки Воробей боялся — вдруг в погребе имеются какие-нибудь углубления, или груда осыпавшихся кирпичей, или ржавые железяки торчат — сослепу запросто ногу сломаешь, а то и еще что похуже.
— Эй, есть здесь кто-нибудь? — позвал он.
Ни звука в ответ. Но Воробей не был уверен, что его услышали. Он невольно приглушил голос, и тот прозвучал совсем потерянно — казалось, он только ушам самого Воробья и был слышен.
— Есть здесь кто-нибудь? — погромче повторил он.
Опять ни звука. Но может быть, они боятся отвечать.
— Бросьте! — проговорил Воробей в полный голос. — Это Сережка Высик, Воробей. Меня Скворец прислал.
Легкое копошение — словно кто-то недоверчиво встрепенулся, потом сомневающийся голос Тамарки:
— Воробей?..
— Да, я это, я. Где вы там? Ни хрена не видно.
— Подожди, я сейчас свечку зажгу.
Шипение спички, тусклый ее свет, потом от этой крупинки света занимается другая, побольше, язычок огня вытягивается, разрастается, желтовато-белесый ствол свечи на верхнюю треть становится почти полупрозрачным, и Воробей видит смутные очертания погреба, состоящего из двух камер, между которыми имеется низкий сводчатый проход. Он понимает, что не зря боялся продвигаться на ощупь, — чего тут только нет, и бочонки какие-то, и инструменты, и снасть рыболовецкая, а в этих больших сетях и запутаться можно так, что в темноте не распутаешься, а можно даже и задохнуться.
— Это что еще такое? — ошарашенно говорит Воробей.
— Это все дедово. Главный его склад, браконьерский, — говорит Тамарка. — Только дед и Скворец знают.
— Отсюда до реки далековато… — произносит Воробей, а потом соображает, что на самом деле не так уж и далеко. Скворец высадил его намного ниже по течению, и он все это время шел почти вдоль берега, чуть вглубь от него забирая — а если по прямой к реке двигаться, то, наверно, и четверти часа хватит, — тем более, припоминает Воробей, где-то на этом уровне реки и должна быть та тихая заводь, глубоко вдающаяся в берег, где они со Скворцом сели в укромно припрятанную лодку.
Но самое главное — можно не беспокоиться, что дед выдаст их убежище, при любом допросе. Раз это не случайное место, а часть его собственного потайного хозяйства, он будет молчать… Скорей признает, что Скворец во время их ночного промысла утонул, а он, дед, побоялся в этом сразу признаться… Да, отсиживаться тут можно. Вот только сколько им предстоит просидеть? Воробей не сомневался, что Скворец их всех выручит, — он вернется, сделав что-то такое, после чего никому из них больше нечего будет бояться…
Поскорее он появился бы…
— Скворец послал меня, чтобы увести вас в другое место, — сказал Воробей. — Он почему-то решил, что за дедом будут следить и накроют вас всех вместе, когда дед вас навестить придет. Но деда арестовали, поэтому прийти он никак не сможет. Значит, и нам не имеет смысла куда-то перебираться. Это сейчас опасно, наверху облава идет. Будем здесь отсиживаться, — Воробей сам поразился той спокойной и солидной уверенности, которая в нем возникла — тому, как почти по-взрослому прозвучали его слова. Он почувствовал себя человеком, на котором лежит ответственность за судьбу Тамарки и Цыгана, — и готов был нести эту ответственность до конца.
— А где сам Скворец? — спросила Тамарка.
— Он на лодке куда-то поплыл. Сказал, все нормально будет. Главное, чтоб до его возвращения нас не поймали.
— Это на нас облава идет?
— На повара, в основном. Вас… вас его сообщниками считают.
— Это все военрука дела… — мрачно проговорила Тамарка. — Ты знаешь, что со мной произошло?
— Скворец рассказал, — кивнул Воробей. — Тебя заперли, после того, как военрук донес, что у тебя с поваром…
— Он не просто донес, — сказала Тамарка. — Он сначала приставал ко мне, — увидев непонимающий взгляд Воробья, она спросила. — Что, об этом Скворец тебе не рассказывал?
— Нет.
— Я ему все рассказала. Зазвал меня под вечер в сарайчик для инвентаря и сказал, что ему, мол, известно, что я с поваром живу… и что ему одному… даю… и что с ним можно комедию не ломать, если я с ним побуду, то он никому ничего не скажет… Стал уже меня руками хватать, я стала отбиваться… Сказала, я сама расскажу, как он ко мне приставал, а он ответил, что никто мне не поверит, все решат, это я со злости на него наговариваю, за то, что он меня разоблачил… Что меня под замок посадят, а потом врач проверять будет, если я… Но я все-таки вырвалась и убежала… Он меня еще малолетней шлюхой назвал… И так все и получилось, как он говорил… Когда я Татьяне Николаевне возразила, что ни с каким поваром я… ничего такого, и попыталась рассказать, как военрук ко мне лез и угрожал доносом, если я не… — Тамарка не утерпела и употребила грубое слово, выплюнув его со всем отвращением и горечью. — Тут Татьяна от бешенства чуть ногами под потолок не взбрыкнула. Мне Скворец сказал потом, это оттого что у нее с военруком свои шашни были, и она, видно, знала его как облупленного и, конечно, поверила мне, но эту веру сразу от себя спрятала, и всю злобу на военрука на меня обратила, как будто это я виновата, что такая молодая и бесстыжая, что ее мужика отбиваю… Он умный, Скворец…
— Нет, как раз об этом он мне не рассказывал, — покачал головой Воробей. А перед его глазами встала увиденная им раз картинка: освещенное незанавешенное окно в низком первом этаже учительского дома, и в этом светлом квадрате окна видны военрук и Татьяна, початая бутылка между ними, и оба уже малость раскрасневшиеся — и сидели они тихо, неподвижно, когда Воробей проходил мимо окна, но в самой их неподвижности — в развороте их тел, в мутноватом блеске их глаз, направленных друг на друга, в по-хозяйски наглой расслабленности друг перед другом — Воробей ощутил что-то неприятное… И даже ненормальное, если искать слова — чувствовалось, что эти двое находятся внутри одного магнитного поля, возникшего между ними, и это магнитное поле протекает через обоих тусклым зудом некоего желания, для этих двух неподходящего и почти неестественного, животного притяжения, от которого вдруг видишь сквозь все одежды их обнаженные тела и понимаешь, до чего же эти тела тупы и уродливы, — и настолько же тупо, уродливо и тошнотворно все то, что можно совершить с помощью такого тела… Теперь Воробей понял, откуда возникло тогда в нем это, в словах для него невыразимое, неприязненное и гадливое чувство.
— Наверно, Скворец решил, что об этом тебе знать не стоит, — сказала Тамарка. — Может, и мне болтать не следовало, но… — Тамарка махнула рукой. — Теперь, значит, меня как полюбовницу повара ищут. Наверно, в колонию для несовершеннолетних отправят, если у Скворца ничего не получится.
— Повар военрука убил, — сказал Высик.
— Что?! — вырвалось у Тамарки, и — эхом — у Цыганка.
— Совсем недавно, — объяснил мальчик. — Военрук в облаве участвовал. Повар подловил его и удавил.
— Это он за котят, — сказал Цыганок, и Воробей поразился незнакомости его голоса: действительно, Цыганок так много молчал, что Воробей уже и позабыть успел, как же тот разговаривает. Он сам удивился, когда, прикинув, понял, что последний раз слышал голос Цыганка чуть ли не месяц назад.
— А от тебя-то что повару надо было? — спросил Воробей. — Что это за история с папиросами?
— Это… это, понимаешь, тайная революционная организация, — пробормотал Цыганок.
— Какая еще тайная организация? Вы хотели новую революцию делать?
— Нет, нашу революцию охранять…
— И кто ж был в этой организации?
— Да почти все наши ребята были…
— Почему ж я ничего не знал?
— Тебя недостойным признали, — объяснил Цыганок.
— А тебя, значит, признали достойным?
— Меня… да…
— И кто же все это затеял? Кто достойных и недостойных отбирал?
— Военрук. Ну, и голосованием…
— Выкладывай. — Воробей сурово — насколько это возможно для воробья — нахмурился. За всем этим шутовством с тайной организацией явственно проглядывало что-то нешуточное.
— Военрук собрал нескольких ребят, которых считал самыми надежными — которые нравились ему больше всего, Мишка Толстый и другие… И сказал им, что надо создать тайную ребяческую организацию, чтобы овладевать военным делом и готовить себя к отпору врагам революции… Ну, и этих врагов тайно выслеживать и разоблачать, за что нам наша Советская власть спасибо скажет… Главное — быть на боевом посту… Но чтобы никто не знал, ни-ни, потому что враги так повсюду вокруг и кишат, и если они что заподозрят, то еще хитрее маскироваться начнут… Спросил у них, кого еще можно взять в юные бойцы. Они стали все обсуждать, нескольких ребят назвали, тебя помянули, но решили, что ты ненадежный и от тебя, наоборот, все скрывать надо… У них свои клятвы были, сборы…
— Понимаю, — кивнул Воробей. До этого он недоумевал, почему его так часто оставляют в покое, позволяют гулять в одиночестве, вместо того, чтоб или заставить с другими строем маршировать, или на какие-нибудь работы направить, — не вязалась эта предоставляемая свобода с организацией жизни их детского дома. Теперь понятно — его не трогали, чтобы он гулял в сторонке и не мешал другим заниматься важным революционным делом. Почему Мишка Толстый считал его ненадежным и недостойным доверия — это Воробей тоже отлично понимал. И в глубине души радовался… — Так тебя-то как в эту фигню занесло?
— Они с меня клятву взяли, что я буду молчать. Сказали, для меня есть очень важное дело. Что я должен все вытерпеть, если хочу быть полезным революции…
— И что ты должен был вытерпеть?
— Они на мне тренировались, как добывать признания у пойманных врагов народа.
— Ну?! — Воробей весь напрягся, ему стало нехорошо. Он почувствовал, что, попадись ему кто из этих революционных бойцов — Мишка Толстый, Ашот, Антон или кто другой — он бы так его заставил кровью умыться, что век бы Сережку Высика помнил.
— Ну, они били меня и пытали. Руки выкручивали, спички между пальцев ног зажигали… Заставляли говорить, что буржуй и шпион… А я должен был не говорить этого как можно дольше — чтобы быть по-настоящему заклятым врагом народа…
— И ты, кретин безмозглый, все это терпел и не жаловался? — взорвался Воробей.
— Нет, я же клятву дал… И вообще… Они меня хвалили, когда все кончалось… Говорили, я молодец и сам не знаю, какую важную работу выполняю… И что теперь меня можно советским шпионом к буржуям посылать — я так закален, что ничего не выдам, если меня поймают…
— И военрук был при этом, когда они тебя?.. — сдавленным голосом спросила Тамарка.
— Иногда был, иногда нет… Когда меня по-настоящему больно пытали, его не было, это они сами затевали… При нем они больше понарошку меня, как бы учились…
И когда военрук уходил, ребята оказывались уже настолько распалены его практическими занятиями, что начинали действовать не понарошку, подумалось и Воробью и Тамарке.
— Понимаю, почему тебя Скворец так бережет, — сказал Воробей. — Если ты все это расскажешь посторонним, то… Всех взгреют, и ни тебя, ни Тамарку не посмеют тронуть. Но ты ведь сопля, если наши до тебя раньше Скворца доберутся, ты повторишь все то, что они велят тебе говорить… Здесь Скворец тоже прав. А теперь объясни мне, почему из-за окурка папиросы повар на тебя вышел?
— Так это все из-за того же… Когда говорили, что меня можно будет советским шпионом посылать… Военрук сказал, что мне нужно проверку устроить… Чтобы я вообразил, будто деревня — это вражеская заграница, и проник туда, и добыл важные буржуйские документы или секреты… «Вы, цыгане, народ изворотливый, — сказал он. — У вас воровство в крови сидит. А ты должен обратить изворотливость своего народа не на преступные цели, а на пользу мирового пролетариата». Ну, я и пошел.
— И?..
— У самого края деревни большой дом стоял. Народу вокруг много ходило, и все казенный такой народ. Я подумал, что совсем на вражеский штаб похоже. Пробрался туда потихоньку, заглянул в окно. На столе возле окна коробка папирос лежала. Я сделал вид, будто это папка с документами или военные секреты, схватил ее и дал оттуда деру. Никто не заметил.
— Заметил бы — вздули бы тебя по первое число, — сказал Воробей.
— Мне не впервой, — просто ответил Цыганок.
Крыть было нечем.
— А потом, — продолжил Цыганок, — я на повара наткнулся. И он у меня папиросы увидел. Я перепугался до смерти, а он только глянул на меня и сказал: «Все приворовываешь, цыганье семя?». Я пробормотал, что я не для себя, а он только рукой махнул и отвернулся, дальше по своим делам пошел. Я папиросы принес, военрук меня похвалил, папиросы себе забрал…
— И котят, выходит, он перевешал? — спросил Воробей.
— Мы учились казнить врагов народа, — ответил Цыганок.
Тут и Воробей употребил выражение, естественное для воспитанника энкавэдэшнего детского дома, но в печатном виде не воспроизводимое. Тамарка сидела с округленными глазами.
— И, значит, про котят вспомнили? — спросил Воробей.
— Да.
— Кто котят унес?
— Мишка Толстый и Антон. Дождались, когда повар вышел ненадолго…
— Угу, — кивнул Воробей. — А за что тебя ночью чуть не убили? Тоже тренировались?
— Мне плохо стало, когда котят вешали, — сказал Цыганок. — А военрук то ли пошутил, то ли всерьез сказал, что я проявляю недопустимую мягкость к врагам народа и за это наказывать надо… В общем, ребята это всерьез поняли…
— Интересно, посмели бы они расправляться с тобой, если бы я тоже был в спальне, — сказал Воробей. — Я ведь ваших секретов не должен был знать…
— Не знаю, — пожал плечами Цыган. — Меня и вправду чуть не убили… Очнулся у повара на руках, он тряс меня сильно и все повторял вопрос: «Для кого ты папиросы нес?». Я, еще не совсем в себя придя, ответил: «Для военрука». Тогда повар просто бросил меня на землю, разжав руки и пошел куда-то… Я кровь на нем заметил, и на себе тоже… А я ведь ничего не помнил, я догнал его и спросил: «А кровь на нас откуда?». Он усмехнулся, криво так, и ответил: «А ты еще спрашиваешь? Если бы я не пришел и не уволок тебя — смертоубийство было бы. Не помнишь, откуда кровь? Пойди, на толстого парня вашего погляди — может, вспомнишь?». Я остался стоять на месте, а он ушел. Я решил, по его словам — ну, понял их так, — что я, когда меня уже до потери сознания удушили, психанул и в беспамятстве что-то с Мишкой сделал… Подошел к бараку, но заходить в него боялся… Там, у входа, меня Скворец и подобрал…
— Может, ты психанул, а может, повар их швырнул со всей дури, когда их от тебя отрывал, — сказал Воробей. — Мишка, наверно, напоролся на что-то, а Антон в твердое головой влетел. Скорей, все-таки повар их уделал.
— Какая гадость, — тихо проговорила Тамарка.
— Скворец знал о вашей революционной организации? — спросил Воробей.
— Не знаю. По тому, какие он мне вопросы задавал, мне показалось, что он о многом догадывался, — ответил Цыганок.
— Не выберемся мы из этого… — сказала Тамарка.
— Скворец нас вытащит, — твердо заявил Воробей.
— Да, но сколько нам еще здесь сидеть?
— Кто знает… — Воробей попытался прикинуть. — Не знаю, что задумал Скворец. Когда мы отплывали, он сказал, что мы часа через два на месте будем. Что за место, какие у него там дела, сколько времени он там проведет — не знаю. И часа два-три на обратную дорогу.
— До вечера, наверно, не появится…
— Но и времени уже много прошло, — возразил Воробей. — С полчаса мы проплыли, когда он меня высадил. Я, наверно, часа два до вас добирался, со всем петлянием. И просидели мы тут, с тех пор, как я к вам спустился… Если все нормально, Скворец давно уже на месте и, может быть, в обратный путь собирается. Или едет уже. …Выходит, зря он меня высадил, — добавил Воробей. — И деда предупреждать не понадобилось, и вас в другое место уводить. Досидели бы вы тут спокойно до его возвращения…
— Нет, не зря, — сказала Тамарка. — Мы же знали, что дед скоро должен прийти, и уже пугаться начали, что его нету. Стали думать, что делать. Если б ты не пришел, мы бы наверняка наружу вылезли.
— Ага, и попались бы как миленькие, — согласился Воробей. — Значит, все правильно.
Они примолкли. Прошло какое-то время. Они сидели, изредка перебрасываясь незначительными фразами. Потом Воробей, продолжая чувствовать себя ответственным за все, встал и пошарил в дедовском хозяйстве. В одном из бочонков обнаружилась свежезасоленная рыба, а в большой фляге армейского образца оказался довольно крепкий яблочный сидр домашней выделки — наверно, эту флягу дед брал с собой, уходя на промысел. Они поели рыбы, запивая сидром, который им, непривычным, сразу в голову ударил, и, в общем-то, стало тепло и хорошо. Цыган даже задремал, и Воробей с Тамаркой тоже почувствовали, что у них глаза слипаются. Может, они и в самом деле заснули, потому что слишком неожиданным оказалось для них легкое изменение в освещение погреба, — с опозданием в долю секунды они поняли, что этот свет падает сквозь приподнятый люк. Свечка уже почти догорела, и первым движением Воробья было задуть ее, в то время как Тамарка зажала рот Цыганку, чтобы он вдруг не закричал, — впрочем, в этом не было, пожалуй, особой надобности, Цыганок привык молчать. Весь проем люка заполнила какая-то крупная темная форма — что не Скворец, это факт. В сероватом зыбком свете, едва освещавшем погреб, глаза Воробья, привыкшего к темноте, все видели отлично, но пришедший никак не смог бы ничего разглядеть. Да он и не смотрел в их сторону.
Решение пришло к Воробью мгновенно.
— Чиркни спичкой, когда я крикну, — тихо шепнул от Тамарке, а сам, подхватив один из валявшихся на полу кирпичей, неслышно шмыгнул в угол, перед которым лежали и свисали с потолка рыболовецкие сети.
Человек начал спускаться. Воробей уже не сомневался, что это — повар. Как он нашел спуск в погреб? Звериным нюхом учуял? Незамеченным он добрался сюда, или его выследили и следом за ним вот-вот ввалятся в погреб его преследователи?
Люк над поваром опустился, стало слышно, как он в полной тьме осторожно спускается вниз.
Вот он уже стоит на земле, доносится его тяжелое дыхание. Он произнес то же самое, что и Воробей:
— Есть здесь кто-нибудь?
Никто ему не ответил. Он сделал два мелких шаркающих шажка и опять неуверенно проговорил:
— Эй?..
Набравшись духу, Воробей ответил:
— Я здесь, в углу… Кто там? Идите на мой голос, здесь пусто, ничего нет…
— Кто это? — спросил повар.
— Я из детдомовских, Сережка Высик, прячусь тут после пожара в деревне…
Повар издал неопределенный звук, вроде хмыканья или хрипа, как будто хотел спросить, зачем Воробью прятаться и какое он имеет отношение к пожару, но спрашивать ничего не стал и осторожно двинулся на голос. Потом Воробей услышал ругательство и звук падения тяжелого тела — это повар рухнул, запутавшись в сетях.
— Чиркай! — отчаянно заорал Воробей.
Свет спички, которой чиркнула Тамарка, держался всего секунду, но для Воробья этого было достаточно, чтобы разглядеть, где находится голова упавшего повара, и изо всех сил приложить эту голову кирпичом. Он выждал немного, убедился, что повар затих, и севшим голосом сказал:
— Тамарка, зажги свечку.
После легкой возни свеча загорелась. Воробей убедился, что по повару он попал хорошо. Из рассеченной кожи на его голове шла кровь, склеивая волосы, сам он явно был без сознания. Воробей с помощью Тамарки и Цыганка поспешил как можно крепче связать повара всем тем, что имелось в наличии, — веревками, ремнями, перемотанными и свернутыми в жгут сетями — с ужасом думая о том, что будет, если повар очнется раньше, чем они закончат работу. Он перебьет их как щенят.
Только когда повар был крепко и многократно связан — так, что ни рукой, ни ногой он уже пошевелить бы не смог и пут своих не разорвал бы, как ни будь силен, — Воробей облегченно вздохнул и вытер пот со лба. Только теперь до него дошло, что же он сделал и в какую смертельно опасную игру он играл. Ему уже и самому не верилось, что он, с помощью хитрости и удачи, одолел такого огромного и мощного мужика. Не попадись повар в сети так основательно, не получись удар кирпичом — и… Что «и» — лучше было даже и не думать.
— Ты его не совсем пришиб? — спросила Тамарка.
— Да нет, дышит — и сердце стучит, — ответил Воробей, проверив.
— Что мы с ним делать будем? — спросил Цыган.
— Будем Скворца ждать, — сказал Воробей. — Он решит, что с ним делать.
— А если Скворец не придет?
— Обязательно придет.
Повар застонал и пошевелился. Ребята напряженно замерли. Повар опять застонал, пошевелился, дернулся — видно, начиная осознавать, что связан. Потом его глаза медленно открылись.
— Кто это меня так? — спросил он.
— Я, — ответил Воробей.
— Ты?.. — Повар с трудом повернул голову. — Как же ты… Зачем ты…
— Потому что ты псих, — сказала Тамарка. — Мы все из-за тебя влипли. А вдруг бы ты и нас решил прикончить, как военрука?
— Вас… нет… Зря не стал бы… — ответил повар. — И тебя бы не тронул… Ты на мою дочь похожа.
— С вашей дочерью что-то случилось, да?
— Я ее убил, — ответил повар.
Ребят пробрал озноб.
— Не подумайте, — прохрипел повар. — Я ее из милосердия, чтоб не мучилась. Беглый я, из ссыльных. — Он примолк на некоторое время, потом стал рассказывать. — В наших местах еще в прошлом году начали раскулачивать. А я был мужик зажиточный, крепкий. Вот и пострадал. За грехи свои, видно, потому что богатство мне неправедным путем досталось. Все у нас отобрали, а меня с моей семьей — в телячий вагон и в Сибирь. Жена и младший сын еще в пути отмучались. А высадили нас посреди зимы, только снег и пустота кругом — как хотите, так и устраивайтесь. Мы и землянки какие-то строили, и коренья из-под снега выкапывали, и снег на воду топили… У нас за первые две недели больше половины народу перемерло. Потом и дочка стала отходить. От голода, да и хворь ее взяла… Я сидел возле нее, беспомощный, она есть просит, а я на нее гляжу, в глазах мутится и мерещится всякое… Словом, не выдержал я, придушил ее, чтоб не мучилась. Потом взял на плечи, понес подальше от стойбища нашего, чтобы похоронить с толком. Я боялся, тело могут выкопать и… У нас многие уже всякий облик потеряли. Отошел я так, что лишь снежная равнина кругом. Не помню, сколько часов снег и мерзлую землю рыл, но дочку схоронил пристойно и молитву над ней сказал… А потом оглянулся вокруг — и думаю: чем на месте помирать, лучше попробовать куда-нибудь выбраться. В крайнем случае, упаду без сил и снегом занесет — все равно хуже не будет. И пошел. Долго шел, много дней, но до людей дошел. Видно, по-особому меня Бог сделал, если я все это выдержать мог. Не буду рассказывать, как я с людьми объяснился, кто я такой и откуда, как новые документы выправил. Подработал немного, подкормился, стал думать, куда дальше податься. И тут во сне мне тот мужик явился, и велел он мне идти в те места, где мое богатство начиналось… Сюда то есть…
— Что за мужик? — спросил Воробей.
— Давняя эта история, еще до революции. Я тогда извозом занимался. Несколько раз здешние места проезжал, с мужиком одним богатым дела имел, его товар перевозил. И как-то заночевал я при его доме. Рядом со мной приказчик ночевал, полюбовник жены евойной. Все об этом знали, кроме самого мужика. Страсть между ними, говорят, была такая, что совсем их ослепила. И вот, когда приказчик встал, тихо окликнул меня и вышел — а я-то сделал вид, будто сплю, — стал меня бес искушать. Или еще днем он меня искушать начал, когда мужик со мной рассчитывался и я увидел, где он деньги хранит. Мужик-то был осторожный, но я уже несколько раз с его товаром ездил… Я знал, что на ночь он дом на все засовы накрепко запирает, но, думаю, если жена его полюбовника впустит, то и дверь должна открыть и открытой оставить, на случай… Вот я и встал, пошарил в вещах приказчика, его кисет с табаком нашел… С этим кисетом прошел к двери, попробовал — открыта. Я мужика удавил, деньги его забрал, кисет возле кровати подкинул — как будто убийца уронил. На следующий день и приказчика и жену повязали, а я уехал спокойно, с казной мужиковской… Тошно мне потом было, и во снах убитый чуть не каждую ночь приходил, и долго я этот грех отмаливал — да не отмолил, видно… Потом и забываться стало, жизнь-то благополучная, тихая пошла. И войны, и грабежи, и поборы — все, едва меня задев, миновало. Семьей хорошей обзавелся, и вот…
— Значит, приказчик действительно не убивал? — проговорил Воробей.
— Слышал от местных эту историю, да? Не убивал он. Вот он, убивец тогдашний, перед вами… Да, и явился этот мужик убитый во сне, и велел в эти места идти… Там, говорит, ты последнюю муку примешь… И точно, принял, горше некуда. Я… Отозвалось во мне что-то, и я к этим котятам так привязался — как к детям родным. Видно, этой любовью меня Бог покарал. Вот, думал, единственная отрада моей жизни конченной. Так радовался им, так душа по ним болела… Поэтому, когда их — так… Сорвалось что-то во мне, совсем черно стало.
Повар помолчал, потом сказал:
— Вот ведь как Бог привел. Сам на судьбу свою нарвался. Я ведь раза два бывал проездом в этом доме, у священника расстрелянного, и, когда развалины увидел — сразу их узнал. Вспомнил, что в доме погреба большие были. Попадья из них разносолы доставала, потчевала… Я и подумал, что если погреба не завалило, то смогу в них отсидеться какое-то время. Где был спуск в подвал, я помнил. Пробрался сюда, стал его искать, увидел, что спуск травой аккуратненько замаскирован. Значит, кто-то им пользуется… Кто пользуется, думаю, тот не в ладах с законом, а мне-то что. И спустился сюда. А тут ты меня здорово ошарашил… — Он опять поглядел на Воробья. — Вы выдадите меня, ребята? Они думают, вы со мной заодно. Если вы меня выдадите, то перед ними во всем оправдаетесь. А моя жизнь кончена.
Наступила тишина, во время которой каждый думал о своем. Воробей отчаянно молился в глубине души, чтобы Скворец появился как можно быстрее и чтобы им не пришлось принимать самостоятельного решения насчет повара. Ему претила мысль о том, чтобы выдать кого-то ради спасения собственной шкуры. То есть повар заслужил, чтобы его передали властям, — но вот это «ради собственного спасения» придавало всему другой смысл, ставило все с ног на голову…
Скворец, к счастью, не заставил себя ждать.
Крышка люка опять поднялась, внутрь хлынул солнечный свет. Воробей быстро задул свечу. И все они оцепенели — кто спускается на этот раз? Но никто спускаться не стал — просто сверху донесся бодрый голос Скворца:
— Эй, вы там? Если там — вылазьте!
— Скворец! — заорали в один голос Воробей и Тамарка, и даже Цыганок издал какой-то звук. Потом Воробей опомнился и крикнул:
— Мы тут не одни! У нас повар, связанный! Что с ним делать?
В погреб спустились Скворец, Алексей и двое людей в военной форме.
— Ух ты! — восхитился Алексей. — Кто его так?
— Воробей, — кивнула на Сережку Тамарка. — То есть Воробей его кирпичом ошарашил, а вязали мы его все вместе, пока он без сознания был.
— Товарищ начальник, что с преступником делать? — крикнул наверх Алексей.
— Вынимайте его, тут разберемся! — ответил голос — не голос «старшого», порченного, а какой-то другой.
— Кончайте меня побыстрее, — проговорил повар.
— Не беспокойся, мы тебя быстренько, — усмехнулся Алексей, разрезая ножом веревки сетей и ремни на ногах повара. — Ну и намотали вы тут, ребята! Со страху, что ли, так его опутали, да? И не разрежешь.
Повар поджал ноги, резко поднялся со связанными руками и потоптался, разминая затекшие мускулы. Его подвели к лесенке, помогли подняться, поддерживая за узел на руках. Когда повар вылез до половины, сверху его подхватили и выволокли наружу — только ноги его мелькнули. Вслед за ним вылезли и все остальные.
Повара уже уводили. Тамарка кинулась, всхлипывая, на шею Скворцу. Воробей и Цыганок остановились в нескольких шагах.
— Ну-ну, все в порядке, — сказал Скворец, без всякой видимой неловкости перед посторонними похлопывая Тамарку по спине. — Я вижу, и Воробей до вас добрался…
— Ох, он такой молодец! — оглянулась на Сережку Тамарка. — Я прямо и не знаю, что с нами было бы, если бы не он…
Скворец одобрительно взглянул на Воробья, и Воробей почувствовал приступ небывалой гордости.
— А это, значит, Цыган? — спросил, подходя к мальчику, высокий человек в кожанке — явно главный здесь.
Воробей исподтишка рассматривал лицо этого человека — одно из тех аскетических лиц, по которым как-то сразу видно, что человеку не составляет никакого труда — и даже в радость — быть аскетом, что он испытывает большее наслаждение при отказе от всех удовольствий земных, чем при погружении в эти удовольствия. Таким людям всегда надо прилепиться к какой-нибудь высшей идее, чтобы оправдать свою всепобеждающую тягу к аскетизму, чтобы их аскетизм не работал вхолостую…
— Не бойся, Цыганок, — проговорил аскет, пристально осмотрев мальчика. — Ты еще расскажешь нам все, что знаешь. Мы тебя в обиду не дадим.
В стороне, за церковью, там, где начинался подступающий к холму мысок леса, Воробей увидел довольно-таки порядочное скопление народа — там были и их, детдомовские, воспитанники и воспитатели, и красноармейцы, и люди в кожанках, и вроде бы даже деревенские мужики. Вся эта толпа стояла тихо и неподвижно, только суетливо переходившие туда и сюда кожанки вносили некоторое оживление движения.
— Рад тебя видеть, — сказал Алексей Скворцу, когда Тамарка немного выплакалась и Скворец смог как-то общаться и с другими людьми. — Как мы получили сигнал от комиссара, так сразу и разобрались. Но как ты догадался?
— Это все пустяки. — сказал Скворец. — Деда освободили?
— Припечь бы твоего деда за незаконный промысел, — сказал Алексей. — Но, ради тебя… Только сделаем ему строгое внушение, чтобы впредь он не так баловал.
— Горбатого могила исправит, — усмехнулся Скворец. — Не надо его со всей строгостью, он вам еще пригодится… Довольно и того, что он свой главный тайник потерял.
— Ничего, новым обзаведется, — беспечно и весело откликнулся Алексей. Было ясно, что судьбе деда ничего не угрожает.
К комиссару подбежал человек в кожанке, что-то зашептал ему на ухо.
— Да, конечно, — кивнул комиссар.
Человек в кожанке убежал за церковь, в сторону небольшой низинки между холмом и лесом. Вскоре оттуда что-то глухо хлопнуло.
Скворец поглядел на Тамарку и Воробья.
— Пошли, — сказал он.
— А Цыганок? — спросила Тамарка.
— С Цыганком комиссар еще побеседует, ты же слышала. И он расскажет комиссару все как было. После этого его, наверно, в другой детский дом переведут. В дом для детей погибших работников органов… — Скворец как будто хотел еще что-то добавить, но осекся и замолчал.
Когда Скворец с Воробьем и Тамаркой огибали угол церкви, с другой стороны, из низинки, наперерез им выехала телега, сопровождаемая несколькими красноармейцами. Телега была прикрыта рогожей, из-под которой торчали две пары босых ног. По размеру ступней Воробей догадался, что ближние к ним ноги — ноги повара.
— А рядом с поваром кто? — спросил он у Скворца.
— Порченый, — коротко ответил Скворец.
— За что его?.. — спросила Тамарка.
— За поджог и вредительство, — ответил Скворец. — Ну пошли, нам тут больше делать нечего…
К вечеру Воробей и Скворец вышли на берег Волги. Теперь они сидели на крутом берегу и смотрели на спокойное и величавое течение почти безбрежной воды. У них состоялось общее собрание. Все педагоги и воспитатели сидели бледнее некуда, а комиссар говорил со стальной суровостью.
— Свили себе гнездо… Вовлечение в троцкистскую террористическую организацию… Потакали… Смотрели сквозь пальцы… Если бы не бдительность Виктора Скворцова, проявившего себя, несмотря на молодость, истинным… Отрава контрреволюции, проникшая в детские души… Задача исправления нанесенного вреда…
Воробей знал, что «троцкизм» — это что-то очень плохое. И он теперь спросил у Скворца:
— А откуда ты понял, что они троцкисты?
— Ниоткуда, — ответил Скворец. — Просто заявил комиссару, что они троцкисты — и все, — увидев, что Воробей недопонял, Скворец начал объяснять: — Ведь было ясно, что, если их не признают виноватыми, они нас всех съедят. По-тихому нас с тобой уберут куда-нибудь, и Тамарку переломят… На Тамарку, как ты видел, настоящая охота шла. Нет, я бы вас в обиду не дал, и, если б не удалось мне добраться до комиссара, я бы вас с собой увел, и хоть бы до самой Москвы с вами добрался… Я знал от деда — а он по цепочке слухов узнал, — что комиссар с большим отрядом находится в одном из самых крупных сел, ниже по течению — ревизию коллективизации проводит. Плыл я на лодке и думал — только б успеть, только б он еще из села куда-нибудь дальше не ушел. Вот я и успел. Попросился к комиссару с неотложным политическим сообщением. Я знал, что слово «троцкизм» безотказно сработает, вот с ходу и заявил комиссару: «В трудлагере нашего детского дома троцкисты и террористы гнездо себе свили». — «Ты точно знаешь?» — спрашивает комиссар. «Еще бы не точно! — говорю я. — Кто, кроме троцкиста, будет детей, тех детей, которых он вовлек в секретную организацию якобы для помощи Советской власти, — учить котят вешать?» Комиссара так и подкинуло. «Вот, — говорю я, — отсюда мне ясно, что он их уверяет, будто они будут бороться за Советскую власть, а на самом деле готовит их к террору против Советской власти». Тут, конечно, котята своей смертью очень нам помогли. Если б они Цыганка до смерти забили — они бы выкрутились. Но повесить котенка — сам понимаешь, столько в этом подлого и ничтожного, что любой комиссар поспешил бы их троцкистами объявить — чтобы, не дай Бог, самому от них не замараться. «Более того, — говорю я. — Они уже начали проводить теракты, и РИКовский дом подпалили, вместе со всем зерном колхозным, только что собранным для отправки в город. Им хочется, чтобы Советская власть в этом мужиков обвинила, и чтоб мужики, несправедливо так обвиненные, взбунтовались бы на Советскую власть». «И ты знаешь, кто поджигал?» — спрашивает комиссар, весь уже напрягшись и готовый с места срываться. «Да, — говорю я. — Поджигал тот, кому в первую очередь это зерно подлежит собирать и охранять, — глава местногоРИКа». — «И твердые у тебя доказательства?» — спрашивает комиссар. «Доказательства есть, — говорю я. — Но вам даже доказательств не понадобится. Обвините его в глаза — он сразу сознается, он ведь себя таким хитрым считает, мол, никто не раскусит… Если он увидит, что вы все знаете — то даже запираться не станет, от неожиданности… А кроме того, тут есть сговор и умысел. Котят при нем вешали, может, он даже сам помогал и детей наставлял… Возле повешенного котенка нашли окурок папиросы той марки, которая только у него была, а прикус на этой папиросе — другого человека, того троцкиста, который под видом военрука в наш лагерь проник и ребят против Советской власти растлевает. Явно, он угостил военрука своей папиросой, пока ребята их гнусные команды выполняли…»
— Эти папиросы Цыганок спер, — сказал Воробей.
— Теперь я знаю. И даже с самого начала подумывал, что так может быть. Но… но нам же лучше, если есть доказательство их сговора — доказательство разветвленной организации. И что Порченый по решению своей троцкистской ячейки дом поджег, а не просто потому, что психом был. Вот я и подал это в таком свете. «И более того, — говорю я. — Есть три свидетеля из воспитанников детского дома. Я этих свидетелей взять с собой не мог, поэтому спрятал их в укромном месте, чтобы они не пострадали до вашего прибытия. Надо спешить, потому что на них сейчас облаву проводят, под предлогом ловли уголовного преступника. Там, понимаете, хозяин этих котят, который очень их любил, от их смерти с ума спятил и теперь убивает всех, кого только заподозрит в причастности к их смерти… Его тоже перехватить надо, а то он больших бед натворит». Ну, мы погрузились в две машины и полетели во весь опор. Порченого сразу раскололи и в расход списали. Алексей его лично расстрелял. Теперь Алексея временно на его место назначили…
— Но как же все-таки ты догадался, что это Порченый был поджигателем? — спросил Воробей. — И даже заранее догадался, что он это сделает…
— Понимаешь, очень он мне одного человека напомнил, — сказал Скворец. — Я как впервые его увидел, так сразу подумал — ну, точно он!.. То есть я этого человека ни разу не видел, но по тому, как я его представлял… Порченый просто точной копией мне показался, прямо ожившим… Император Нерон того звали, не слышал небось?
— Нет, не слышал, — сказал Воробей.
Скворец вытащил небольшую книжицу.
— Вот, единственная книжка, которую читаю и перечитываю, — сказал он. — Случайно нашел, и очень она меня захватила. Иногда в ней ответы про всю нашу жизнь нахожу.
Воробей увидел, что у книжки нет обложки и первых страниц, да и другие страницы частично порваны.
— Вся история Рима, — сказал Скворец, листая книжечку в поисках нужного места. — Вот, читай.
И Воробей стал читать, беззвучно шевеля губами, — дореволюционный текст, с «ятями», со странным написанием многих слов:
«Наконец одно нещастное происшествие довело до высочайшей степени бедствия Римлян и их ненависть к Нерону. Ужасный пожар вдруг распространился в нескольких частях города, как будто бы огонь был подложен с намерением; вихри дыму и пламени поднимались со всех сторон, а Император не велел тушить огня, и между тем, как посланные Нероном злодеи запрещали подавать помощь, сам он взошел на террасу своего дворца, откуда можно было обозреть весь город, и, играя на лире, воспевал разрушение Трои из Гомеровой „Илиады“.
Бесчувственность Нерона, как бы смеявшегося над столь великим бедствием, возбудила величайшее негодование Римлян, и с сей минутой можно было предвидеть, что чудовище скоро будет наказано за все преступления, совершенныя или им самим, или по его приказанию.
В это время Христианская вера, которую Апостолы начали проповедовать в Иудее, достигла Рима, где Апостолы Петр и Павел своею проповедию размножили число Христиан. Все принявшие новую веру отличались добродетельными поступками и особенно удалением от беспорядочных празднеств и игр, которые одобрял Нерон своим присутствием. К несчастью, это удаление от зрелищ сделало Христиан ненавистными народу и доносчики обвинили их в том ужасном пожаре, который опустошил Рим. Нерон, бывший истинным виновником пожара, приказал казнить всех Христиан. Таким образом, самый худый из Императоров был первым преследователем святой веры».
— Ну так вот, я этого Нерона представлял совсем таким, каким увидел Порченого, — продолжил Скворец. — А потом, когда мы говорили с ним и он нам толковал, что могут колхозное зерно уничтожить или засаду устроить… Он так об этом говорил, как будто этого ему даже хотелось бы, как будто он сам мог бы это подстроить, чтобы потом всех, кого он объявит виноватыми… Потом, когда мы пили с Алексеем, он упомянул, что у Порченого все приметы близкого приступа падучей, а это значит, что он может после приступа любых сумасшедших бед натворить. Я как услышал про «бед натворить» — так сразу подумал о поджоге, потому что переодетого Нерона в Порченом видел, ничего с собой поделать не мог. А тут еще вся эта ночная история в нашем лагере… И я понял, что мне надо поскорее забрать тебя оттуда: мало ли что — или наш Нерон чего натворит, или… В общем, я тебя перехватил и увел. А потом, когда мы с дедом калякали… Он рассказал, что Порченый — художник. И что он иконы жег. Ага, думаю, совсем похоже. Во-первых, страсть к поджиганию, к огню… И чтобы при этом что-то святое для других оскорбить, как Нерон с христианами. Такая страсть, она уже от рождения в человеке есть. Мальком — спичками балуется или кострами, потом чего-нибудь посерьезней подпалит, потом настоящий пожар устроит… Словно одержимость какая есть в некоторых… Да и то, что он себя художником считает… Нерон себя считал великим певцом, поэтом и актером, и все должны были его хвалить. Видишь, он и Рим поджег, чтобы лишний раз перед всеми выступить… Ну хорошо, хвалят его взахлеб, хотя, может, и плюются заглазно, но ведь себя-то не обманешь — сколько ни внушай самому себе, что ты самый лучший, все равно внутри тебя шепоток будет слышен: говенный ты певец и актер, и никуда тут не денешься… И от этого зудящего шепотка правды человек — бесталанный человек — звереть начинает, и хочется ему все жечь, крушить, народ резать и казнить почем зря — через полоумную жестокость собственное ничтожество преодолеть, или хотя бы голосок заглушить, об этом ничтожестве твердящий… Так вот, если наш Нерон был плохим художником — тогда тем более все понятно. Твердо можно сказать, что лютует он от понимания собственной никчемности. Самоутверждаетсячерез это. Поэтому, когда большой дом полыхнул — я ни секунды не сомневался, что это дело рук Порченого. И конечно, он думал о том, чтобы в поджоге мужиков обвинить, записать их во враги Советской власти и колхозного строя и кровью их умыться… Но это только часть правды, внешняя правда. Ему только казалось, что поджигает он ради этого. А на самом деле он поджигал из-за неодолимой тяги к огню, к разрушению — в момент поджога, зверства, расправы он мог на миг почувствовать себя настоящим художником. Да еще таким, который судьбы других людей держит в своих руках. Ну не знаю, понятно тебе это или нет — я лучше не объясню. Все это я вот из этой книжечки вычитал. И проникся пониманием…
Воробей не очень понял, но признаться в этом постеснялся, поэтому кивнул с умным видом.
— В общем, я ни минуты не сомневался, кто поджигатель, когда зарево пожара увидел, — сказал Скворец. — Это тоже было нам на руку. И деда я у комиссара выторговал. Сказал комиссару, что дед — горой за Советскую власть, но грешки за ним водятся, поэтому он с властью сотрудничать боится… Если ему пообещать, что все грехи браконьерские ему спишутся, он все что надо расскажет и во всем поможет… Я и повара думал спасти, — сказал Скворец. — Говорили мы с комиссаром, что не надо его расстреливать на месте, когда поймают, — надо его в тюремный дурдом для буйных, ведь ясно, что спятил человек… Но он, видишь, как его вывели, сразу им рассказал, что он беглый из раскулаченных. Помощник комиссара доложил комиссару об этом — и тот велел повара немедленно в расход пустить. Сам себя погубил своим языком… Хотя, возможно, он сознательно смерти искал, — задумчиво добавил Скворец.
— Мишку и Антона в город отправили, в сопровождении фельдшера местного, — сказал Воробей. — Еще неизвестно, выживут или нет.
— Да, я знаю, — кивнул Скворец. Он вытащил папиросу и аккуратно ее раскурил. Потом он поглядел на Воробья. — Тамарка мне рассказала, каким ты был молодцом. И как ты до них добрался, и по-взрослому ими правил, не дав в панику удариться, и как ты повара подловил… Не знаю, почему, но я такого от тебя не ждал, — он усмехнулся. — Скворец и Воробей — славно мы вдвоем поработали. Бог даст, полетим мы с тобой по жизни… Хотя меня, наверно, побыстрее уберут — и куда-нибудь подальше.
— Почему? — спросил Воробей.
— Не очень я нужный свидетель для всех них, включая комиссара. Слишком много знаю, слишком до многого своим умом допер…
Это Воробей тоже не очень понял. Ему хотелось, чтобы Скворец оставался рядом с ним всегда, — где еще найдешь такого друга? Ведь очень велика вероятность, что они на одном и том же заводе учениками окажутся — Скворец раньше, Воробей позже — может, Скворец к тому времени уже квалифицированным рабочим будет, и Воробей попадет в ученики не к кому-нибудь, а прямиком к Скворцу…
Но действительно, Скворца поздней осенью услали куда-то за тридевять земель, в Среднюю Азию, а Воробей через три года оказался в одном подмосковном местечке. Вот так и разошлись их пути…
— Главное, что Тамарку спас, — сказал Скворец. — Больше ее никто не тронет, даже если меня рядом не будет.
Воробей задумался:
— Да, насчет Тамарки, — сказал он. — Ведь ничего у нее не было с поваром, так если б ее врач проверил — ведь это только оправдало б ее, разве нет?
Скворец вынул папиросу изо рта, поглядел на ее сизый дымок, ленточкой утекающий вверх, и сказал с задумчивым недоумением:
— Странный ты все-таки, Воробей. Иногда — смышленей некуда, а иногда — дурак дураком.
Молчание, установившееся после этого между ними, длилось довольно долго. Только речные чайки порой хрипло покрикивали, да ветер с легким шелестом пробегал сквозь кроны деревьев.
— Это… Это твоя первая женщина? — вдруг спросил Воробей.
Скворец кивнул.
Воробей поглядел вдаль, за речку. Он чувствовал в себе легкую зависть — не потому, что Скворец уже испытал то, о чем ребята много рассказывали, а потому, что он полно и глубоко проникся ощущением того хорошего и светлого, которое угадывалось в легком кивке Скворца. В нем возникло непередаваемое в словах понимание отношений междуТамаркой и Скворцом — отношений, прямо противоположных тому, что ему привиделось в отношениях между военруком и Татьяной. Насколько там было все антиестественно и уродливо, настолько здесь было все естественно и красиво, настолько любовью и жизнью полнился и дышал союз — скоротечный или нет, кто знает — этих двоих… Одним небрежным кивком Скворец заложил в него глубинное понимание того, что такое любовь, и насколько она может быть по-земному прекрасна. Для Воробья, все знания которого проистекали из матерщины и сальностей окружающих, это было потрясающим открытием… И ему хотелось, чтобы он, когда придет его срок, тоже пережил это так же красиво… Он многое увидел теперь другими глазами — он понял, что Скворец ради Тамарки совершил почти невозможное, — как понял и то, что нет такой вещи на земле, которой Скворец не совершил бы, чтобы защитить свою любовь. Одновременно он с новой, морозящей ясностью почувствовал весь ужас того, что произошло с ними за последние двое суток, — как и постиг интуитивно, где корни этого прорвавшегося на поверхность ужаса, — скорбное прозрение пришло, что корни эти не выполоты, а выполоть их не под силу даже Скворцу, и что ничегошеньки-то они не победили, а лишь на время отгородили себя — своим малым выигрышем… Но ведь они не уступили — и никогда не уступят — и, быть может, в этом залог того, что ужас не вечен, что он развеется когда-нибудь дымным призраком… Что они — малые и ничтожные — несут в себе ту силу сопротивления, при столкновении с которой любая махина кошмара рассыплется в прах. В Скворце эта сила была изначально, а теперь он щедро поделился ей с Воробьем, вдохнул ее в него, чтобы она и в Воробье жила и крепла.
Скворец перехватил устремленный за реку взгляд Воробья:
— На том берегу незакрытая церковь есть, и вроде даже с чудотворной иконой, — проговорил он. — Если приглядишься, увидишь купол и крестик — вон там, совсем крохотные… Дед рассказывал, ее тоже закрыть хотели, но не получилось. Мол, Порченый со своей командой приехал, сразу в церковь — и наган выхватил. Священник уже решил, что его последний час настал, и молиться начал, чтобы Бог его грехи простил и его душу покаянную принял, но Порченый в священника стрелять не стал, в икону эту нацелился. И не успел первый раз курок нажать, как с ним один из его припадков сделался. Пуля в потолок ушла, а дальше ему уже не до стрельбы было. Его выволокли из церкви, пока его колотунтрепал. И уехала вся команда подобру-поздорову. И больше не возвращалась… Не знаю, что тут правда, что нет, но дед клянется и божится, что так оно и было, что вся округа про это знает… — Скворец встал, потянулся, разминаясь. — Если и правда, то все равно они в конце концов и до этой церкви доберутся, и священника порешат, и икону уничтожат, и никакое чудо не поможет. А насчет деда… Он сегодня ночью опять на промысел собирается, и я с ним. Хочешь, тебя с собой возьму?
— Конечно, хочу, — сказал Воробей.
И они пошли от берега по предзакатной лесистой дорожке, где каждый листик светился литым проникающим золотом, уже чуть тронутым нежно- розовыми оттенками. Легкий трепет пробегал сквозь эти золотисто-зеленые волны, и, чуть отставая от трепета, промелькивала по ним синевато-огненная рябь невесомых теней — сами тени казались сгустками уплотненного света. И почудилось на миг, вся жизнь их будет подобна этой тихой дорожке… И Воробей думал почему-то о чудотворной иконе — и по-детски не сомневался, что здесь-то Скворец и не прав, ничего не случится ни с церковью, ни с иконой, ни со священником — если надо, то и чудо произойдет… Просто так хотелось чего-нибудь чудесного — чудесного, распахнутого в будущее заманчивым обещанием, несмотря ни на что.