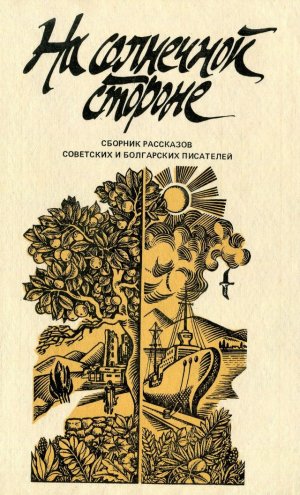
Предисловия
Когда я думаю о Болгарии, то передо мной встают покрытые мягкой зеленью горы, с их склонов в долины как бы сбегают виноградники, обступающие белые уютные города, населенные людьми добрыми и работящими. Их трудом Народная Болгария преобразована в одну из передовых и процветающих европейских стран, где книга стала насущной потребностью каждого гражданина.
Глубоки исторические корни, связывающие нашу страну с дружественной Болгарией. Их навсегда связали славянские истоки, война против османского ига и фашизма, борьба за победу социализма. Эта дружба приобретает первостепенное значение в современном мире, полном противоречий и опасностей, создаваемых агрессивными кругами империализма, вдохновляемых реакционными силами США.
Но дружба не может держаться только на воспоминаниях и общности целей, она нуждается в постоянном подтверждении конкретными делами. Об этом нужно думать всем нам: и политикам, и ученым, и рабочим, и крестьянам, и, конечно же, писателям.
Книга играет великую роль в установлении взаимопонимания между народами. Книге не страшны ни расстояния, ни языковой, ни иные барьеры. Но только в том случае, если она написана честно и талантливо.
Мне приятно представить болгарским и советским читателям эту книгу, выпущенную в результате дружной работы двух профсоюзных издательств. На ее страницах советские и болгарские писатели, рассказывая о жизни своих соотечественников, поднимают проблемы, интересные для самого широкого круга читателей Болгарии и Советского Союза. И я надеюсь, что содержание этой книги не оставит равнодушным человека, с доверием взявшего ее в руки.
Советская литература воспринимается не только как литература о судьбе одного народа или содружества народов, а как литература, повествующая о современности и будущем всего человечества. Фундаментом для такого эпохального явления могла послужить только великая русская литература. Никогда никакая другая литература не оказывала такого всеобщего возрождающего воздействия на все народы.
Советские писатели нашли своих героев в Октябрьской революции, широко распахнувшей двери к новой жизни, но воистину чудом оказалось то, что образы, созданные ими, явились примером для высокого подражания тысячам новых реальных героев. В освобожденной Красной Армией Болгарии произошла социалистическая революция, но еще раньше, задолго до прихода советских воинов-освободителей, буревестником революции ворвалась на нашу Родину победоносная освободительница человеческого духа — советская литература.
Она переводилась на болгарский язык в тюремных застенках осужденными на смерть антифашистами, она распространялась в рукописях, эта литература бессмертного подвига. И недавно, когда Болгария отмечала свой светлый праздник 40-летия освобождения от фашизма, товарищ Тодор Живков сказал: «Победа Девятого Сентября была великой встречей Болгарии с Советским Союзом. На протяжении уже сорока лет Советский Союз является нашей опорой в построении социализма, в движении Болгарии по пути к коммунизму. За прошедшие годы наши страны связали настолько прочные узы, что нет силы на земле, способной их разорвать».
Прошедшая через самые жестокие битвы во имя торжества гуманизма, советская литература обессмертила имена их героев, и по праву может называться литературой мира, литературой надежды.
Вадим Кожевников
Гудок
Печь была больная и старая.
Закованная в ржавые доспехи, она вздымалась в небо железной башней.
Рыжее пыльное облако висело над ней.
Дыхание печи было затрудненным — неровным.
Доменщики, знавшие эту печь когда-то молодой, преданно и отважно боролись с недугом, изнурявшим ее.
Но печь хворала упорно и безнадежно.
У моряков и доменщиков есть много общего в суровом мужестве их профессии. Недаром площадка домны напоминает палубу броненосца.
И каждый выпуск чугуна — это аврал, где каждый сосредоточен, где каждый знает свое место и в любую секунду готов помочь товарищу в беде.
Для красоты мысли посторонний человек может представить себе домну как неприступную башню, осажденную людьми, таранящими ее пневматическими бурами и атакующими в проложенные бреши залпами огненного воздуха.
Но это будет неверно.
Частые тревожные сигналы доносились от домны к силовой станции.
Горновой Полещук, забравшись на колошник домны, сидя на корточках, прикрыв рот смятой кепкой, терпеливо следил за вращением нижнего конуса.
Шихта, ссыпаясь с огромной воронки, должна равномерно заполнять шахту.
От пыльного газа из глаз текли слезы, тошнотная слабость кружила голову.
Полещук махал головой, стряхивал слезы и снова глядел — подсчитывал медленные обороты конуса.
Засыпной аппарат работал правильно.
Но первую плавку в эту смену добыли с трудом.
У печи угрожающе поднималась температура.
Сбавили дутье. Пробили летку. Но чугун не шел.
Огненный нарыв находился где-то выше свода горна.
Кипящий чугун, проедая кладку, мог бедственно прорвать ее.
Пронзительным пламенем кислорода прожгли ходы в запекшейся массе, чтобы выпустить кипящий чугун.
Потом началось падение температуры домны.
Ее бессильное замирание.
Пустили горячее дутье. Сжатый жгучий воздух с песчаным дерущим скрежетом врывался в домну.
Частые, огромной мощности, тугие удары газомоторов. Это они нагнетали в каупера воздух. Леточное отверстие, пробитое, развороченное, зияет.
Но чугуна нет.
С шипеньем и фырканьем вылетает из летки горячий мусор, но не чугун.
Расплавленная шихта спекается, твердеет. Закупоривает цельной, тяжелой глыбой шахту домны.
Пробили кладку. Изменили температурный фокус. И почти по капле снова начал оттаивать чугун. Сочится.
Печь работала на малом ходу, с неполной нагрузкой.
Густой шлак залепил стволы фурменных рукавов. Полещук с красным и злым лицом кричал на рабочих. Расставив ноги, натянув до рта кепку, отворачивая лицо от парящих холодильников, он закручивал болты новой фурмы.
И внезапно «козел» — гигантская спекшаяся глыба — дал осадку.
Она ударила в горн, словно гигантский поршень, и выбила фурму.
Кипящий чугун хлестал из отверстия. Полещук нагнулся к железному лому, чтобы ударить им по подвешенному буферу — дать сигнал о прекращении дутья. И этой секунды промедления было достаточно.
Лужи кипящего чугуна окружили его. Он полез вверх по железному плетению колонны, чтобы спасти ноги.
Лицо его было обожжено, одежда тлела.
Глоба, помощник горнового, подняв лист рифленого железа, защищаясь им от чугунных брызг как щитом, бросился на помощь к Полещуку. Он вынес Полещука на руках.
А сам, широко ступая горящими деревянными колодками, выбежал на литейный двор и стал кататься в песке, чтобы погасить горящую одежду.
Полещук месяц пролежал в больнице.
Он вышел оттуда с новым лицом.
Его лицо, омоложенное ожогом, блестело розовой, туго натянутой кожей. Только шея была по-прежнему темной, морщинистой, как старое голенище.
Вместе с изношенной кожей пропали усы.
Замечательные, пышные усы горнового, взлелеянные годами долгого и нежного ухода.
И теперь, привычно подняв к голой губе сложенные щепотью пальцы, Полещук ловил только воздух.
Но самое скверное было то, что вместе с усами у Полещука пропала охота работать на доменной печи.
Видно, ужас прикосновения огня не так легко побороть человеку.
Полещук ушел с завода.
Он не хотел встречаться с прежними товарищами, потому что нет у доменщиков презрения более сильного, чем презрения к трусам, изменникам их смелой профессии.
Полещук поступил на курсы железнодорожных машинистов.
На курсах училась молодежь.
Полещук стыдился своего возраста и старался ничем не выделяться от своих сокурсников.
Преподаватель теоретической механики вынужден был часто призывать Полещука к порядку.
— Что это вы разбаловались, Полещук? А ну, пересядьте за первый стол!
Полещук, оставив своего соседа, с которым он мерился силой, шел, тяжело и косолапо передвигая ноги, ничего не видя перед собой от стыда.
Конечно, Полещуку не хотелось баловаться. Знания и так давались ему с трудом. Но боязнь, как бы его не уличили в старости, заставляла его переносить эти страдания.
Полещук прослыл среди курсантов чудаком. К нему относились с игривой веселостью. От него ждали всегда какой-нибудь штучки.
И он знал, что от него ждут этих штучек, и у него не было воли не выкидывать их, и, содрогаясь от стыда, он их выкидывал.
Здоровался он так: наклонит голову и подвигает ушами, — а волосы уже седые.
Если бы кто-нибудь из доменщиков увидел Полещука во время этих унизительных шутовских проделок, никто не поверил бы, что перед ним Полещук.
Полещук пришел на завод двадцать лет тому назад кротким деревенским парнем. Он прошел многие профессии доменщика, пока стал горновым. Он изучил характер печи, командовал ею снисходительно и властно, по-хозяйски. И печь слушалась его. Полещук упорно не принимал заводских терминов. Пользовался своими.
Колошник называл кормушкой. Ход печи разделял на рысь и галоп. Иногда печь шла махом. Ковш — горшок. Сталеваров обзывал супниками. Когда давали плохой кокс, он кричал, что не желает работать на полове.
У него существовали свои приметы, и если сменный инженер спрашивал, сколько он сегодня думает дать чугуна, Полещук оглядывался на печь и безмятежно отвечал:
— А кто ее знает. Это как она захочет.
Но печь перестала слушаться Полещука. Яростная и непокорная, она вышла из повиновения. И Полещук растерялся, он уже не верил, что печь снова можно подчинить себе. Авария явилась как грозное свидетельство его беспомощности.
И Полещук решил стать железнодорожным машинистом, чтобы мчаться мимо этих неподвижных мест, напоминающих ему о его трусости-измене.
В мастерской депо Полещук изготовил для будущего своего паровоза гудок.
Блестящая медная труба лежала на дне его сундучка, завернутая в полотенце.
О достоинстве паровозного гудка судят не по блеску сияющей шлифовку а по звуку.
Звук этого гудка был великолепен.
Из медного горла его, клубясь, исходил грозный, многоголосый напев, полный могущественной силы.
Для того чтобы создать такое дивное звучание, Полещук потратил много времени и сил.
Дома у Полещука был чайник с наглухо запаянной крышкой и с нарезным носиком. На этот носик Полещук навинчивал трубу гудка. Поставив чайник на примус, завесив окна одеялом, он ждал, пока пар, набрав силы, не начинал своего пения.
Полещук регулировал, подтачивал стальную пластину, чей трепет и придавал звуку это многоголосое пение.
Машинисты любят музыку паровозных гудков.
Но ни у одного водителя, даже самого мощного паровоза, не было такого гудка, какой сделал для своей будущей машины Полещук.
Но он вовсе не собирался внушать себе мужество великолепным голосом гудка.
Он сделал этот гудок просто для того, чтобы на его паровозе стоял хороший гудок, а не сипатая трубка.
На экзаменах Полещук, ослабев от волнения, шепотом давал ответы. И ответы его были неважные. Если бы не письменная работа и практические поездки, Полещук провалился бы.
Седой машинист, стриженный ежиком, с угловатым, сердитым лицом, испытав Полещука в поездке, сказал:
— Характер у тебя ко всему хлипкий, а машина строгость любит, повелительность. Не быть тебе машинистом.
Полещук, виновато улыбаясь, расслабленными, дрожащими руками одергивая на себе пиджак, жалобно попросил:
— Мне хоть какой-нибудь паровозик, старенький…
— Пассажиром — это можно, — коротко бросил машинист и, не желая больше разговаривать, вынув из кармана паклю, стал ею протирать и охорашивать и без того сияющие ручки кранов и управления.
Полещук получил все-таки аттестат и три путевки на выбор.
Первая путевка — паровой кран на карьере каменоломни. Вторая — водить кукушку на строящейся ветке. И третья — в транспортный отдел доменного цеха, развозить ковши с чугуном и шлаком.
Полещук выбрал третью путевку.
Но не сразу он пришел к этому решению. Вернуться в свой родной цех, но не доменщиком, а машинистом. Какими глазами он будет глядеть на своих товарищей? Где найдутся слова для оправдания?
Но не было у него сил окончательно отрешиться от завода. И главная тайная мысль была у него — увидеть Илью, своего бывшего подручного, который должен вернуться со дня на день на завод инженером. С ним, с Ильей, у Полещука была душевная дружба, и он хотел рассказать обо всем Илье и попросить совета.
Грязный паровозик стал на запасных путях с пустыми ковшами. Афанасий Терещенко дремал на круглом сиденье, ссутулясь, положив сложенные ладони меж колен. Плохо пригнанная арматура парила. В котле урчало и всхлюпывало. К подножке пристыли ноздреватые лепешки шлака.
Терещенко презирал эту работу. С машиной обращался грубо. Придя домой, старался не думать о ней.
Раньше он водил пассажирские составы. Однажды он пролетел красный сигнал автоблокировки. Медицинская экспертиза установила, что он дальтоник. Он не понимал, что это значит. Ему показали красный, потом синий круг — он не мог различить их. Раздражаясь, он кричал, что на него просто имеет зуб начальство. Потом он расплакался и стал умолять излечить его.
От дальтонизма не лечат.
Ему разрешили работать днем на внутризаводском транспорте.
Он мечтал изобрести очки, которые бы ему помогли правильно определять цвета.
Дома у него стоял ящик с разноцветными стеклами.
Разложив перед собой обрезки картона равной величины, прикладывая к глазам разноцветные стекла, он старался определить цвета картона.
Иногда ему казалось, что он начинает правильно угадывать.
Он стучал кулаком в стену, звал соседей.
Суетился, извинялся, просил проверить и снова, поднося дрожащими руками стекляшки к глазу, называл цвета и… ошибался.
Поднявшись, машинист сказал Полещуку угрюмым, сонным голосом:
— Значит, красный от зеленого отличаешь? Ну, чего еще надо! Вполне механик!
И ушел, сутулый, не сказав больше ни слова.
Доменщики делали вид, будто не узнают Полещука. И говорили только те слова, какие полагались по делу.
Первое время, правда, они чрезмерно наполняли ковши. И, стоя на площадке, долго испытующе глядели вслед паровозу.
Полещук, положив одну руку на кран машиниста, другую на ручку реверса, чувствовал эти взгляды, и всем существом своим он хотел передать машине плавную осторожность, чтобы не расплескать из ковшей тяжко колыхающийся металл.
Полещук полюбил машину. Он очистил ее от жирной грязи, покрыл заново бандажи кожуха котла бронзовой краской, подогнал арматуру и изгнал из кабины извечный банный пар. Надел брезентовый чехол на сиденье и даже под слоем копоти обнаружил позади места машиниста зеркало в деревянной раме.
Наконец он решился и привинтил свой гудок на место старой свистульки.
Терещенко, сменяя его, услышав звуки нового гудка, бледнея, спросил:
— Ты что это, нарочно, для издевки?
Полещук, отворачиваясь, ответил:
— Мечта была — паровоз настоящий водить, да вот не вышло.
— Не повезло, значит? — обрадовался машинист.
— Не повезло, — вздохнул Полещук.
Из-за этого гудка вначале Полещуку приходилось терпеть большие неприятности.
Директор кричал: гудок мешает ему работать.
Сменный инженер — что ему страшно ходить теперь по путям: звук как у курьерского.
Рабочие подсмеивались:
— Чайник, а голос как у настоящего!
Но потом все привыкли к звуку гудка и даже полюбили его.
Однажды Полещук, задержавшись с выброской шлака на терриконе, подал с запозданием ковши под чугун.
Доменщики не ругали его за это, как обычно всех машинистов.
Горновой Глоба, рыжий, весь в блестящих веснушках, бывший моряк, одессит и грубиян, с руками, исколотыми татуировкой, взяв ком леточной глины, подкравшись, бросил ее с размаха в трубу паровоза.
Ничего не подозревая, Полещук дал ход, но вдруг весь его паровоз окутался черным удушливым дымом. Ничего не видя в сумраке, задыхаясь, Полещук выскочил из будки.
Глоба, связав проволокой два кирпича, изловчившись, накинул их на рычаг гудка.
Окутанный дымом, паровоз заревел отчаянно, несмолкаемо.
Полещук, поняв, в чем дело, полез на паровоз, снял кирпичи с гудка, потом долго выгребал глину из паровозной трубы.
Окончив это, он полез в кабину. Глоба прокричал:
— Это я, чтоб ты не спал, джаз устроил!
Полещук повернулся к нему черным, закопченным лицом, из изъеденных дымом глаз текли слезы.
Глоба, встретившись с ним взглядом, вдруг опустил свои огромные плечи и сказал виновато и жалобно:
— Я же больше не буду. Извиняюсь.
От самого Краматорска Илья не отходил от окна вагона. Теплая пыль и копоть покрыли его лицо шершавым налетом. Пассажиры, страдая от зноя и пыли, просили его закрыть окно. Тогда он перебрался в тамбур.
И, глядя на мелькающую рыжую, сухую степь, на черные хребты терриконов, ему хотелось спрыгнуть на эту бегущую мимо землю и идти пешком напрямик.
Все эти пять лет Илья учился жадно, нетерпеливо. Часто забыв, что он на лекции, перебив профессора, восхищаясь и не доверяя, Илья требовал немедленно объяснить откровенную суть формулы, назначение ее жизненного содержания.
Профессор прощал ему это.
Он уважал юношу, видя в нем незаурядного математика. Илья ночами просиживал над интегральными уравнениями. И когда студенты удивлялись непонятному рвению, он отвечал, растерянно улыбаясь:
— Так ведь это интересно, все равно как в карты играть.
Профессор пророчил ему карьеру блестящего математика.
В тетради Ильи рядом с формулами, полными возвышенного полета свободной мысли, имелись свои озабоченные записи о том, что из всего этого можно практически осуществить на производстве.
В конце тетрадей были подклеены письма доменщиков. Кроме общих приветствий и деловой информации о работе цеха, в каждом из этих писем заключалась просьба — спросить у профессоров совета по целому ряду технических вопросов.
Здесь также имелись письма Полещука. Обычно эти послания кончались одним и тем же вопросом. Полещук спрашивал:
«Пускай я глупый, а кто вас учит, те умные, но почему эти ваши ученые, если они все знают, не скажут, что творится с моей печью? Пускай они приедут сюда и поглядят. И чего-нибудь скажут. Наркомы ездиют, а они не могут. Поговори с каким-нибудь ученым, объясни, что человек лично просит — страдает. Вчера… снова сожгли фурму. Вот значит, какие мои успехи… По поселку хожу зажмурившись: стыдно в глаза людям смотреть».
И, стоя сейчас в тамбуре, Илья думал об этих письмах Полещука. Илья решил применить новый, смелый и дерзкий способ исцеления домны. И ему очень хотелось увидеть скорей Полещука, рассказать обо всем, поспорить и вместе с ним, со старым горновым, приступить к скорейшему выполнению своего замысла.
Директор завода был человеком не то что толстым, а скорее обрюзгшим. У него была приседающая походка. Улыбался он редко, думая, что улыбка не пристала хозяйственнику. Да и притом улыбка на его жирном лице получалась какой-то действительно глупой. Он любил хмуриться, морщить чело, говорить медленно, с отдышкой, и ничего не решать сразу.
Он был из породы людей непостоянных в своих взглядах, неуверенных в себе, но хитроумных и дотошных.
Придя домой, он говорил со вздохом жене:
— Ну, кажется, сегодня все благополучно сошло. И вроде как план выполняем.
Вообще же он был человеком честным и искренне признавался жене в своей неспособности руководить заводом.
Директор принял Илью. Косясь на телефонную трубку, он долго и нудно рассказывал Илье о положении завода. Директору втайне очень хотелось спихнуть большую печь молодому специалисту, но сразу об этом сказать он как-то не мог.
Илья сам пришел к нему на помощь.
Илья заявил, что он уже успел ознакомиться с состоянием печи. Причина ее скверной работы — в настыли. Злокачественная чугунная опухоль, многотонная глыба, впаялась в стены шахты и мешает нормальному ходу печи. Настыль нужно взорвать.
Директор при слове «взорвать» вскочил, уронил телефонную трубку, прищемив живот между столом и креслом, воскликнул:
— Останавливать печь! Не позволю!
И снова решительно рухнул в кресло.
Илья обстоятельно изложил свой план.
Печь останавливать не нужно. В районе залегания настыли просверлить отверстие в кладке домны, забив в шурфы, заложенные в настыли, аммонал — взорвать. Настыль будет уничтожена.
Сорвав с пресс-папье чистую бумагу, вытирая лоб, директор взмолился:
— Но ты мне домну развалишь, она старая…
— Я все рассчитал, — заявил Илья и положил на стол чертеж.
Через два часа Илья вышел из директорского кабинета. Разрешение на взрыв настыли было получено.
Директор, оставшись один, позвонил секретарше и попросил принести нарзану.
Илья пробирался по цеху знакомыми железными тропами.
Толстые кишки газопроводов висели у него над головой. Газомоторы стучали выхлопными трубами, словно кто-то бил гигантской подушкой о гулкую, сухую землю.
Был Илья высок, силен, широк в плечах, и глаза у него были светлые, сияющие и застенчивые.
Илья шел к Полещуку, к своему доменному учителю. Он знал о его падении, но не мог понять причины.
Илья знал Полещука как отважного, опытного доменщика, и он думал, что все это произошло от каприза, от обиды. И Полещук не откажет ему, Илье, пойти снова горновым, чтобы помочь в трудном и ответственном деле.
На паровозе в эту смену работал машинист Терещенко.
Он сказал Илье, что Полещук дома.
Потом, наклонясь к Илье, он спросил шепотом:
— Слыхал я, в Москве профессор объявился — с мертвых живым глаза пересаживает. Правда? Нет? Поеду в отпуск в Москву. Мне все равно — хоть карие, хоть голубые, лишь бы правильно глядели. Я же наизусть маршрут Москва — Баку знаю. Закрою глаза и весь профиль пути вижу. Изнурился я на этом котелке чумазом.
Полещук сидел дома и пил чай, заедая рисовой кашей. Он был холост.
В пещере русской печи был устроен горн. Полещук, как любитель, по вечерам занимался слесарным делом.
Когда Полещук увидел Илью, у него жалобно задрожал подбородок, бессильно опустились руки; растерянно улыбаясь, он глядел на Илью и молчал.
Илья обнял Полещука, встряхнул, поднял и, глядя в лицо ему, спросил:
— Что же ты, брат, извозчиком заделался? Обиделся на кого, что ли?
Полещук сразу съежился — и стал вызывающе вежливым.
— Садитесь, — сказал он дрогнувшим голосом, — Илья Иваныч, очень рад.
Илья участливо спросил:
— Ты что, не хочешь со мной разговаривать?
Полещук опустил голову, вздохнул.
Усевшись верхом на табуретке, Илья громким голосом стал рассказывать Полещуку свой план.
Полещук слушал, и чем больше он слушал, тем сильнее блестели его глаза, и он уже не мог сидеть, он ходил по комнате и громким голосом подавал реплики:
— Так. Правильно. Можно. Вчистую. Здорово!
Но когда Илья кончил говорить и, хлопнув Полещука по плечу ладонью, спросил, уверенный в ответе:
— Так, значит, договорились? Поможешь? — Полещук вдруг отступил, мелко усмехнулся и спросил тоненьким, гаденьким голосом:
— Орденок отколупнуть на этом деле хочешь?
Илья замер. Вначале ему показалось, что он ослышался, но, видя мутные и злые глаза Полещука, он нахлобучил на голову кепку, повернулся и вышел.
Полещук остался один. В окно он увидел, как прошел Илья, широко и сильно шагая.
Тоскующую боль одиночества почувствовал Полещук. Ему хотелось выбежать, нагнать Илью, остановить, поведать всю правду. Рассказать о мучающей его боязни огня, попросить прощения за незаслуженную обиду. Ему ведь давно снова хочется на домну, но он не верит себе, боится.
Томительная слабость заставила его опуститься на скамью, положить голову на стол, и он сидел так, в тяжелом бездумье, с глазами, уставленными в темный угол.
И невольные, какие-то глупые мысли лезли ему в голову.
Он видел выпавшую замазку из щели половицы, и ему очень хотелось подняться и вложить эту засохшую замазку снова в щель, но не было сил это сделать.
Печь стала на холодное дутье.
Илья спустился в шахту домны.
Сквозь холодную, только что засыпанную шихту проникал горячий, удушливый зной.
Где-то недалеко под ногами лежал расплавленный, мягкий металл.
Глоба отплевывался от едкого, горько пахнущего газа, слюна, попав на комья шихты, шипела, как на сковородке.
Глоба храбрился и старался говорить громко, но голос его звучал слабо, придавленный тяжестью спертого воздуха.
Кровь стучала в пальцах и в висках, в горле першило.
Электрическая лампочка горела в этом химическом сумраке слабым, серым светом.
В нескольких местах кладка блестела стеклянно спекшимися кирпичами.
Илья, наклонившись, прокричал Глобе:
— Как в кратере вулкана мы здесь! Похоже?
Глоба, не расслышав, пробормотал:
— Это верно, как в бане угарной.
Погружая стальные щупы, они определяли место расположения настыли.
И когда от жары, от удушья в голове начинало шуметь и в глазах всплывали ярко-оранжевые едкие круги, они подходили к воздушному шлангу и, поднося к губам дующий конец его, жадно глотали пахнущий пылью воздух.
Выбравшись на колошник домны, они отдыхали. Илья смотрел с этой вершины на степь, столько раз виденную, — она сейчас была необычайно яркой, чистой и новой. А небо, прохладно светящееся голубизной, казалось вкусным.
Глоба снял брезентовую шляпу и, наклонившись, хотел отряхнуть ею с одежды пыль и копоть. Но вдруг, взвизгнув, он ухватился за подбородок и закружился на месте. Это застежка «молния», соединявшая воротник куртки, накалившись в шахте домны, обожгла его.
Илья начертил мелом контуры настыли на кожухе домны, наметил точки, где нужно сверлить.
Установили леса. Целую ночь стучали перфораторы, просверливая глубокие отверстия. Отверстия набили аммоналом, соединили электрическими проводами, бригада покинула площадку домны.
Глоба тревожно заглядывал в лицо Ильи, потом переводил взгляд на домну.
Пенистые облака неслись в небе, луна выскальзывала из них бледным обмылком.
Знойный, пыльный ветер дул из степи.
Над шлаковой горой висела огромная туча с розовым брюхом. Малинового цвета лава медленно сползала с горы, мерцая. Видно было ковш, круглый, головастый, склоненный. Гуськом серые столбы подымались на эту гору. На откосе горела лампочка, сливаясь со звездным краем неба.
— Илюша, — сказал Глоба, — а вдруг печь развалится?
Илья оглянулся, глаза у него были серые, прищуренные. Нижняя губа набухла и дрожала. Доменщики глядели на домну.
Директора не было здесь. Он разумно решил не впутываться в этот опасный эксперимент. Но бездеятельным оставаться он тоже не мог. Стоя на подоконнике у себя в кабинете, он самолично наклеивал бумажные полосы на окна, чтобы стекла не вылетели от воздушного толчка взрыва.
Домна не дышала.
На заводе было тихо. Стояла тишина, полная приглушенных звуков.
Тяжкий, глухой, мягкий удар раздался в домне. Лязгнули конуса колошников. Столб дыма и пыли поднялся над домной.
Но люди не отпрянули назад, — подчиняясь какой-то силе, они бросились вперед, к домне, словно на помощь к ней.
Домна была цела. Илья, не спавший четвертые сутки, обследовал с фонарем каждое ее кольцо. Трещин не было. Прозвучал сигнал силовой станции, застучали газомоторы. Со свистящим воплем воздух ворвался в домну. Двое суток домна давала малую плавку. На третьи сутки Илья приказал повысить давление и температуру воздуха до предела.
Отработавшие свою смену доменщики не хотели отходить от печи.
Некоторые спали тут же, на песке литейного двора.
В эту плавку Илья решил дать норму.
Он наклонялся к фурменному глазку. В глазок было видно, как белые, словно из ваты, комочки шихты, подпрыгивая в горне, таяли.
Плавка шла полным ходом.
Сгустившиеся тучи заволокли небо. Ночь была черной.
Толстые, редкие капли дождя ударялись о землю. Потом дождь разошелся сильнее. Но дождя не было видно из-за темноты. Тяжелые всплески воды, сырое колыхание воздуха доносились сюда, под своды доменного навеса.
В три часа ночи выпустили шлак.
Полещук пригнал ковши для чугуна. Ковши, заросшие чугунной накипью, давно не выбивались. Вместо тридцати пяти тонн котел вмещал десять, стены его заросли ноздреватым серым чугуном.
Полещук, забравшись в пустые ковши, вычерпал из них дождевую воду, закрыл крышками. Стали пробивать летку. Но летка не давала чугуна. Илья приказал прожечь кислородом. Кислорода не было. Нужно получить со склада по специальному разрешению директора.
А печь шла полным ходом.
Привезли кислород. Осторожно, исподволь направили шуршащее пламя горелки. Но вдруг летка зафыркала. Глоба успел отскочить с горелкой.
Клокочущая жижа выбилась из летки.
Чугун тек с журчанием, бело-оранжевого цвета.
Высокий, светловолосый помощник горнового с грязным, захватанным руками носом и золотистыми распушенными усами, секунду тому назад осторожно, брезгливо вытянутыми двумя пальцами, уберегая усы, докуривавший цигарку, теперь, прикрывая лицо защитно согнутой рукой, разгребал железным шестом чугунную гущу, давая ход, одновременно сбивая ногами листы железа, прикрывавшие от дождя канаву.
Нестерпимая жара сушила его лицо. Казалось, еще немного — и его белокурые пышные усы сморщатся, запахнет паленым, и лицо осветится желтыми веточками горящих усов. Но он отскакивал и, скаля зубы, приложив руки ко рту, кричал:
— Пошел!
Полещук принял во второй ковш чугун. Ковш быстро наполнялся.
Илья подошел к нему, поздоровался и спросил, почему мало посуды.
Полещук сказал:
— По теории на семьдесят тонн.
— А на самом деле?
— Двадцать.
Илья посмотрел на Полещука и сказал тихо, серьезно:
— Отцепляй паровоз, давай вези еще посуды.
Полещук шепотом сказал:
— Больше нет посуды.
Илья как-то чрезмерно спокойно, медленно подошел к горновому и коротко бросил:
— Забить летку. Посуды нет.
Забить летку с ходу — это почти безнадежно.
Глоба, наклонившись над пушкой, поспешно забивал комья глины.
Опустили над леткой железный фартук, вмиг ставший красным, прозрачным.
С размаху загнали пушку в леточное отверстие.
Но пушку выбило оттуда.
Чугун растопил конец ствола, превратив его в изогнутую белую сияющую сосульку.
Неудержимо чугун выпирал из домны.
Выпустить металл на литейный песчаный двор было нельзя. Песок набух водой; соприкоснувшись с ним, металл будет взрываться, словно гранаты, связанные пачками, калеча и разрушая.
Чугун грозил вылиться из наполняющегося ковша на пути. Сваренные чугуном рельсы — катастрофа, остановка всего доменного цеха.
Илья позвонил директору. Сонный голос ответил ему. Потом директор стал кричать:
— Безобразие! Анархисты! Почему не доложили? Откуда я знал, что будет столько металла!
Илья сказал в трубку, что он по плану должен давать двести шесть тонн и он их дал.
Илья бросил трубку и побежал к ковшам. Трубка висела, вздрагивая, крутясь на шнуре, и что-то долго трещало в ней и шелестело.
Илья понял: единственное — это отцепить паровоз и гнать его в депо, привезти оттуда стоящие на ремонте ковши.
Илья побежал к ковшам — чугун хлюпал, приближаясь к краю. Но паровоза не было.
— Где паровоз? — бросился он к Глобе.
Глоба взглянул вниз, снял шапку, вытер лицо, сказал глухо:
— Полещук угнал. Понял, чем здесь пахнет, — ну и угнал.
Дутье прекратили. В домне слышалось грозное ворчание. Показывая обожженные руки, Глоба сказал:
— Вручную забивать пробовал — не вышло.
Илья подошел к доменщикам, смотревшим на него с надеждой, спросил:
— Так что же, товарищи, будем выпускать на литейный двор, в скраб, другого выхода нет.
Доменщики знали, как будет рвать чугун на мокром литейном дворе, какой огненной картечью будут разлетаться во все стороны брызги чугуна. Они знали, как высоко могут взлетать взъерошенные чугунные глыбы в воздух от соприкосновения с водой.
Но выхода действительно не было.
И люди встали по своим местам.
Но вдруг все услышали клубящееся, воркующее пение гудка паровоза…
И все невольно остановились и повернули головы.
Черный паровоз мчался по путям, толкая вперед себя огромный грушевидный ковш-термос типа клинга с большим объемом, но маленьким входным отверстием.
Поймать чугунную струю с ходу в этот ковш была почти невозможно.
Струя чугуна, не попав в отверстие, ударившись о плечи ковша, будет бить сжигающим фонтаном. Машинист должен сразу суметь точно установить ковш — или чугун хлынет на будку, прожжет ее, и тогда конец машинисту.
Обычно эти ковши долго и тщательно устанавливают для наполнения перед пустым желобом.
Кроме того, нужно было сдвинуть два переполненных ковша так, чтобы не расплескать чугуна. Чугун, попав на рельсы, застынет на них, заварит скаты, и паровоз окажется прикованным под падающей струей металла.
Дождь громко шуршал.
Паровозный фонарь выхватывал из тьмы две косые полосы из толстых дождевых струй.
Все остальное было погружено в черноту.
Даже над шлаковой горой не было привычного багряного отблеска.
Паровоз не замедлял хода. Дождевые струи ударялись о него, разбиваясь в пыль. Паровоз, зажатыми в колодки тормозов колесами скользя по рельсам, толкнул ковши. Выплеснувшийся чугун, упав на землю, громко взорвавшись, ударил в упор чугунными брызгами.
В треске, в грохоте, в клубах рвущегося горячего пара скрылось все.
Оранжевая толстая кривая струя чугуна, казалось, висела в этом мраке.
Потом вдруг чугун взметнулся вверх косым высоким светящимся крылом.
Это струя чугуна упала на плечо котла-термоса.
Куски подброшенного вверх чугуна, падая, с грохотом ударялись о паровоз.
На секунду мелькнуло в окне паровоза искаженное лицо Полещука.
И вдруг все померкло. Послышалось тяжелое, чавкающее падение чугунной струи в ковш.
Прибитый дождем пар медленно рассеивался.
Снова появились белые столбы паровозных огней и в них — дрожащие косые струи воды.
Чугун потрескивал, стрелял от попадавших в канаву дождевых капель, но тяжко и верно лился в узкое горло ковша.
На подножке паровоза стоял Полещук. Лицо его было бледно, плечи подняты, шея замотана масленой тряпкой.
Илья спустился к Полещуку и, протягивая руку, сказал:
— Спасибо!
Полещук поежился и сказал:
— Не за что.
Глоба тоже хотел подойти к Полещуку, но, махнув рукой, поднялся на паровоз и стал очищать его кожух от налипших, впившихся в металл чугунных лепешек. Потом, усевшись верхом на котле паровоза, повернувшись, он спросил Полещука:
— На радостях, Федор Феоктистыч, позволь подудеть?
И, протянув руку к рычагу, надавил его.
Мужественный голос гудка наполнил ночь своим пением.
Розовый рассвет размывал грязное небо.
Над разливочной машиной стояло яркое зарево.
С глухим грохотом падали свежеиспеченные чугунные батоны в железнодорожные платформы, приседавшие под их тяжестью. Воздух колебался от тающего тепла прозрачными струями.
Полещук, высунувшись из окна паровозной будки, глядел на домну.
Закованная в железные доспехи, она возвышалась в небо башней.
Оранжевые облака теплились над ней.
Внизу, возле паровоза, стоял машинист Терещенко. Подняв голову, он говорил Полещуку смирным голосом:
— Выходит, мне очки не на глаза, а на голову надеть нужно.
И, оглянувшись на ковш, склонившийся над конвейером разливочной, он увидел, как из оттянутой губы его стекал чугун великолепного синего цвета.
— Чугун, — сказал машинист, — папаша всех металлов. Это понимать нужно.
Полещук тоже смотрел, но видел алые струи металла. Он слышал дыхание домны. И по звуку знал, что печь идет полным ходом.
Павел Вежинов
Я — атомная
Когда они подъезжали к городку, Нора Шишкова впервые увидела песчаный ветер. Сначала она даже не поняла, в чем дело — просто воздух вокруг приобрел цвет недозрелого мандарина. Она протерла ладонью переднее стекло автомобиля, пыльное и исцарапанное. Его вытирали перьями — целая связка их валялась на заднем сиденье. Эти перья — ласточек, воробьев и даже чаек — они с Фитом когда-то привезли с моря, с Солнечного берега… Тогда они еще любили друг друга, целыми днями плавали вместе, а вечерами танцевали на кругу в ресторанчике… Но стекло было очень пыльным и поцарапанным, поэтому протереть его Норе не удалось, желтизна так и не исчезла.
— Бозвелиев, что это такое? — спросила она.
— Что?
— Да вот эта желтизна, которая висит в воздухе?
— Я ничего не вижу, — сказал Фит.
Он вел машину так, словно впал в состояние оцепенения — остекленевший взгляд, сжатые губы, напряженная спина. Только его дряблые щеки легко подрагивали, когда машина подскакивала на ухабах. К тому же от него пахло спиртным. Он казался несколько ниже Норы. Залысины, круглое бесцветное лицо, которое даже в эти напряженные минуты ничего не выражало, расплывшаяся фигура. Сегодня Нора как бы впервые увидела его таким, каким он был на самом деле. Она с удивлением думала о том, что этого человека она столько времени любила. Ничтожество, жалкий паршивый доцент, к тому же дурак. Ему уже под сорок, жена, дочь-школьница. И как она только могла влюбиться в него, как могла…
— Где ты увидела эту желтизну?
— Вон там, на горизонте.
Он опять ничего не увидел, только грустно произнес:
— Нора, я люблю тебя.
— Не зли меня, — раздраженно ответила она.
Они ехали мимо созревшей кукурузы, золотистые початки которой напоминали свечи. Когда они достигли того места, где кукуруза была уже убрана, желтое песчаное зарево стало почти осязаемым. Над этой опаленной солнцем придунайской низменностью всегда дули ветры — то спокойные и приветливые, то резкие и яростные, но песчаные ветры появились лишь год назад. Это произошло, когда сюда явилось огромное стадо бульдозеров и грейдеров и стало вгрызаться в желтую песчаную почву. Древняя земля оголилась, зелень растаяла в желтой каше дождей. Вся низменность покрылась новыми дорогами, и было не понятно, куда они ведут и зачем проложены. Но вскоре по ним пошли бесконечные колонны самосвалов и грузовиков, именно они подняли песчаный занавес. Ветры, дующие со стороны реки, понесли песок к городку. Красные крыши домов пожелтели, желтыми стали даже арбузы на пригородных бахчах. Песок проникал всюду: в аптеку, в роддом, в кухни, люди жевали его вместе с салатом, котлетами, кабачковой икрой, соленой беломорской рыбой, несметные запасы которой были в местном магазине.
Вскоре пыльная машина Фита остановилась в центре городка. Доцент вышел, недоверчиво озираясь. Неужели это будущее атомное сердце Болгарии? Центральная площадь была пыльной, маленькой, ее окружали низкие ветхие дома, построенные, вероятно, еще в начале века. Ему не приходилось видеть в Болгарии более захолустного города, чем этот. Похоже, что преобразования обходили его до сих пор стороной. Он, казалось, спал вечным сном. Нигде не было видно людей, перед закрытой кондитерской сидел только пес со свесившимся языком. Наверно, его привлекли запахи халвы и печенья, но по его угасшему взгляду было видно, что и эти соблазны не слишком волновали его. Наконец Фит заметил гостиницу и направился к ней, шаркая своими одеревеневшими ногами. Администратора на месте не оказалось. По лестнице спускалась потная растрепанная женщина, на ее ногах синели набухшие вены. Она мрачно посмотрела на Фита, намереваясь пройти мимо.
— У вас есть свободная комната?
— Комната! — презрительно бросила она. — У нас места свободного нет!
— А частную квартиру снять можно?
— Проверьте в гостинице на пристани… Но это далековато, за городом.
По неровному асфальту они поехали к пристани. Машина медленно двигалась по аллее из пожелтевших деревьев. Что-то стучало в двигателе, и Норе казалось, что машина выстукивает: как я могла, как я могла, как я могла! Несколько слезинок вытекли у нее из глаз и поползли по щекам, но Фит, судорожно вцепившийся в руль, не видел их. Сегодняшний день был их последним днем. Они долго ждали его и так долго откладывали, что он созрел и перезрел, как чирий. Они оба боялись прикасаться к нему — не знали, что хлынет изнутри. Лучше всего не медлить, не прикасаться к нему даже краешками пальцев — пусть все свершится мгновенно!.. И в тот же миг в двигателе что-то затарахтело — мгновенно, мгновенно, мгновенно…
Эта гостиница была новой, хотя и неказистой на вид. Был здесь даже ресторан — на террасе стояли красные столики с железными ножками, кое-где даже пестрели скатерти. Тут было прохладно, несколько деревьев отбрасывали густую тень. Гостиница стояла на самом берегу, круто спускавшемся к большой реке. Река казалась бесцветной и гладкой, как жидкая пластмасса.
— Жди меня здесь! — сказала Нора. — На этот раз я попробую сама.
Она с трудом вытащила через узкую дверцу автомобиля свои прекрасные загорелые ноги в голубых сандалетах. Она была высокой, стройной, как тростинка, сухопарой — то ли юноша, то ли девушка. Фиту захотелось заплакать от любви, нежности, ярости, жалости к себе. Она пошла к гостинице легким мальчишеским шагом, ее золотистые, немного поредевшие волосы касались плеч. Это была она — единственная, несравненная, прекрасная, как языческая богиня, а он должен был потерять ее. Это уже решено. Нет, лучше об этом не думать.
И все же, когда он остался один, от старых страхов и тревог у него засосало под ложечкой, во рту стало горько. Он уехал из дома, вернее, убежал, ничего не сказав жене, не позвонив в университет. Рано утром. Они долго ехали, не сказав друг другу ни слова, ее застывшее лицо просто разрывало на куски его сердце. Потом они остановились в каком-то придорожном ресторанчике, будто бы позавтракать. Утро показалось им бесконечным. Они плакали и говорили друг другу бессмысленные и глупые слова. Наконец они сами себе стали противны из-за своей бесхарактерности, безволия — и поехали дальше. Фит знал, что завтра он рухнет, его жизнь превратится в безжизненное дерево, вокруг которого нет ни единой зеленой травинки. Нет, нет — и в самом деле лучше не думать ни о ней, ни о расставании, ни о встрече со своей заплаканной испуганной женой, которая сегодня поздно ночью бросится ему на шею, обливая его горячими слезами.
Нора скоро вернулась.
— Мне нашли комнату, — сказала она. — Но только на одну ночь.
— Неважно, — ответил он. — Завтра ты переберешься к брату.
Они стояли друг против друга и молчали в замешательстве. И вдруг все то, что было давно оговорено и решено, разрушилось так внезапно и быстро, что они даже и сами не могли понять, что же произошло.
— Ну? — произнесла она.
— Давай зайдем в ресторан, — предложил он с робкой надеждой. — В самый последний раз.
— Хорошо, — согласилась она, — в самый последний.
Но ресторан оказался закрыт — его должны были открыть лишь в шесть часов. Тогда они спустились к реке и пошли вдоль берега. Казалось, это не сами они идут, а кто-то толкает их в спину — подальше от машины, подальше от людей, подальше от этого отвратительного ресторана. Наконец они увидели кустарник и, не сговариваясь, шмыгнули в него. Наступила тишина, большая река бесшумно неслась мимо них. Потом послышался легкий шорох, словно рядом прополз еж, но и этот шум вскоре затих. Возмущенно затараторила сорока и улетела делиться с другими своими жалкими сплетнями.
Река постепенно оживала. Сначала появились ласточки, целая стая, гладкая поверхность реки покрылась легкой рябью, потом вечерний ветер понес волны к берегу. Они мерно плескались о берег, утомленные этой вечной игрой вечного мира. Все чаще мимо проплывали суда, тащя на буксире баржи, шум двигателей еще долго слышался после того, как они исчезали за песчаной косой острова. Вдали река потемнела, но небо над ней оставалось желтым, закат угасал медленно и неохотно, словно хотел продлить этот бесконечный день. Наконец кусты опять зашелестели, первой появилась Нора с несчастным лицом. Следом за ней вышел Фит — разнеженный и грустный; они направились к ресторану.
Они сели за дальний столик. Говорить было больше не о чем. Время от времени Нора вытирала со щек слезы. Два раза они заказывали ужин, но оба раза официантка уносила тарелки полными. Это была молодая женщина, беременная, она еле передвигала по мозаичному полу свои отекшие ноги. Под конец и официантка расстроилась и прослезилась. К десяти часам в ресторане осталось только несколько незанятых столиков — и только на террасе. Больше всего здесь было парней в расстегнутых до пояса рубашках, с отвернутыми манжетами на рукавах, у многих были бородки и усы. Они часто смотрели в сторону их столика и тихо переговаривались, но потом словно забыли о них, увлеченные воплями гитары. Наконец Фит не выдержал и снова разразился потоком слов:
— Другого выхода нет, — жарко начал он. — Я или женюсь на тебе, или сойду с ума… Зачем мне губить свою жизнь? И ради чего? Ради чего, я тебя спрашиваю?
— Молчи! — глухо ответила она.
— Ради чего я должен приносить жертвы? Ради чего?.. Разве можно приносить жертвы сейчас, когда в мире так много глупости и алчности?.. Почему я должен быть выше других?..
— Надо было думать раньше! — ответила Нора.
— О чем надо было думать?
— И где ты нашел эту толстую ленивую женщину?
— Тогда она не была толстой! — ответил Фит, не сразу осознав неуместность такого заявления.
— Тем хуже, значит, ты сам виноват!.. Теперь кто на ней женится?.. Ты к тому же и университет не дал ей закончить, теперь она не сможет устроиться на работу.
— С университетом так получилось не из-за меня, — уныло, возразил Фит. — Она сама его бросила, ей не хотелось учиться.
— К чему же ей было учиться, если ты ее на руках носил… Любил… А сейчас обманываешь, говоришь мне неправду.
Нора была права и неправа. Фит в самом деле женился по своей воле на этой пухленькой аппетитной девушке с хитрыми ленивыми глазами. И жил с ней счастливо и безмятежно до тех пор, пока она не забеременела. С тех пор все переменилось.
— Я только тебя любил! — почти крикнул он. — Тебя одну!.. Ты что, ненормальная, разве это так трудно понять?
Нора знала это. Иначе, зачем бы она жила с этим полуплешивым занудным ученым. Его любовь была, как водопад, который обрушился на нее, и в котором она готова была каждый миг захлебнуться. Каким бы жалким ни выглядел он, у него было сердце, способное любить. Этим он отличался от остальных, от всех тех мужчин, с кем ей приходилось встречаться.
— А ребенок? — сказала она. — О ребенке ты думаешь?
— Думаю! Думаю, как же не думать.
— Она такая же, как ее мать. Эти две толстухи высосут у тебя капля по капле всю кровь, так и знай, — с горечью произнесла Нора.
Парни с соседнего столика снова начали смотреть на них и перешептываться. Нора, которая давно наблюдала за ними краешком глаза, наконец не выдержала:
— Пошли отсюда! — решительно сказала она.
— Давай по последней, — в отчаянии попросил он. — По самой последней.
Ему давно не хотелось пить, но он не мог заставить себя встать из-за стола.
— Ни капли больше! — возразила Нора так решительно, что он сейчас же сник.
Фит вынул целую пачку банкнот по одному леву и целую вечность отсчитывал нужную сумму. Под конец он отсчитал и пять левов чаевых для официантки, которая непонятно почему снова расплакалась. На улице они снова прильнули друг к другу. Фит задыхался, его губы начали бессвязно шептать клятвы и заклинания. Наконец она высвободилась из его липких щупалец, чтобы выбраться из этого болота человеческих чувств, не знающих ни стыда, ни жалости, навязчивых и наступательных.
— Уходи! — сказала она. — Уходи, уходи.
— Нет! Я останусь с тобой… А завтра мы поженимся, хочешь?
— Какие глупости ты говоришь! — разозлилась она. — Иди!
Но он не уходил, и она сама побежала и скрылась за грудой каких-то ящиков. Он долго искал ее в темноте, спотыкаясь и сопя, потом упал и с трудом поднялся, потирая ладонью пораненный голый затылок. Фит отчаялся найти ее и остановился.
— Нора! — позвал он жалобно. — Нора, где ты?
Нора молчала. Фит еще долго жалобно звал ее, невидимый в темноте, его голос то приближался, то удалялся.
— Нора! — в последний раз, как утопающий, позвал он.
Нора молчала и глотала соленые слезы. Сейчас она не презирала его, сейчас она снова его любила и прощалась с ним. Наконец машина стремительно тронулась с места, но поехала назад, наскочила на дерево, которое охнуло, как живое. Двигатель заглох от удара, но вскоре опять заработал, машина снова тронулась с места, проехала по декоративным кустам, по лежащим на земле водопроводным трубам и исчезла. Только тогда Нора пошла к гостинице. Администратора не оказалось на месте, она сама взяла ключ и с трудом поднялась на второй этаж. Комната оказалась тесной и жаркой, пахло пылью и канализацией. Но простыни были чистыми. Нора раскрыла окно и легла, не раздеваясь. Чувствовала она себя скверно, ее тошнило, пот заливал глаза. Комната кружилась вокруг нее, как заколдованная. Она встала и с трудом дошла до окна. Ей казалось, что пол уходит у нее из-под ног.
Возле окна ей стало полегче. Дул ветерок, пропитанный запахами реки. Тихо и скорбно шумела листва, река ласкала влажные берега. И неожиданно она почувствовала, как покой властно вливается в ее душу. Мир огромен, жизнь богаче любой выдумки. Прощай, Фит, прощай, ночная мгла! Эту жизнь не может вобрать в себя никто и ничто, она всегда огромнее всех мыслимых понятий.
В коридоре раздался топот многих ног, шаги неожиданно затихли возле ее двери. Кто-то нажал снаружи на дверную ручку. Нора увидела, как ручка медленно повернулась. Послышались тихие голоса, сопение, ругань. Вышибить эту крепкую массивную дверь вряд ли было возможно. Нору вдруг охватил безрассудный слепой гнев. Она прекрасно знала, чего ищут здесь ночью. И, возможно, совсем не случайно администратора не оказалось на месте. Наверно, в дверь ломились те развязные парни, которые косились на них с Фитом в ресторане. Она огляделась, но не обнаружила в комнате ни одного тяжелого или острого предмета. И все же кое-что нашлось — совок для угля, оставшийся здесь, видимо, с зимы. Не бог весть что, но что поделаешь, если выбора нет.
Она резко распахнула дверь. Их оказалось трое, они опирались друг на друга. Тот, который налег на дверь плечом, упал на пол. Нора с яростью пнула его ногой и подняла совок. Двое других отпрянули. Они были молодыми и сильными, как быки, рубашки обтягивали их широкие плечи.
— Марш отсюда! — вне себя от ярости крикнула Нора. — Пока я кого-нибудь не покалечила.
Тот, который упал, пошатываясь, встал. Его пьяные мутные глаза тупо уставились на нее. Нора замахнулась.
— Я размозжу тебе голову, слышишь?
И Нора с силой захлопнула дверь. За ней послышался болезненный стон, отчаянная ругань. Потом шаги быстро удалились. Нора вдруг сообразила, что завтра может встретиться с кем-нибудь из этой троицы.
Когда Нора проснулась, вокруг стояла такая тишина, что ей показалось, что она внезапно оглохла. Пол был залит лучами теплого осеннего солнца, в комнате все так же пахло рекой. Нора взглянула на часы — без десяти девять. Она вскочила и посмотрела в окно. Стоял обычный спокойный осенний день, сквозь листву деревьев проглядывала река, светлая и спокойная в этот час. Было безлюдно — перевернутые стулья на веранде, окурки на столиках, масляная бумага. И все же день был прекрасным, казалось, тишина растворила его в себе. Нора чувствовала себя хорошо, несмотря на тяжелую голову. Вчерашний день словно выветрился у нее из памяти.
Через полчаса она уже ехала по шоссе к стройке на случайном грузовике, который сам остановился, чтобы подобрать ее. Лицо шофера, молодого парня, голого по пояс, с фиолетовым платком на шее, вылинявшим и грязным, казалось одновременно и приятным и немного нахальным, его улыбка обнажала белоснежные зубы. Он больше смотрел на ее ноги, чем на дорогу, отчего пострадала кошка, которая даже не успела мяукнуть, когда на нее наехал грузовик. Но держался шофер учтиво, обращался к ней на «вы».
— Вы к кому приехали?
— К брату… Он работает здесь на стройке инженером.
— A-а, наверно, я его знаю… Как его зовут?
Нора назвала имя, но шофер его не знал. Они уже выезжали из городка, когда им чуть не попала под колеса свинья. Она с тревожным хрюканьем ринулась во двор, растревожив гусей и куриц. Если так пойдет дело, подумала Нора, то ее путь на стройку окажется усеянным трупами.
— В здешнем кинотеатре дают «Клеопатру», хотите пойти со мной вечером в кино?
Нора вежливо отказалась. Он любезно довез ее до самого здания управления, весело помахал ей на прощанье рукой.
Она тоже улыбнулась ему в ответ — как-никак, он ради нее совершил наезд.
Здание управления построили совсем недавно, пахло известью и краской. Кругом висело множество лозунгов, а у входа — стенгазета с карикатурами, грубоватыми, но довольно остроумными. В центре была изображена телефонистка и надпись: «Алло, я — атомная!» Значит, с этой женщиной ей теперь работать. Мимо Норы прошел человек с ведром, она спросила его о своем брате.
— Третий этаж, тринадцатая комната, — сейчас же ответил незнакомец.
Нора стала подниматься по лестнице — нашел же себе номер! Но, в общем-то, брату везло в жизни, разве что семейная жизнь не слишком удалась, жена почти оторвала его от родительской семьи. В тринадцатой комнате стояло три письменных стола, за одним из них сидел Саша. Двое его сослуживцев сейчас же устремили взгляды на ее ноги. Брат сначала нахмурился, потом добродушно засмеялся:
— Это моя сестренка, ничего, правда?
Сослуживцы что-то пробормотали в ответ, а один из них, с бакенбардами, облизнулся. «Напрасно облизываешься! — сердито подумала Нора. — Я тебя не пригрею…» Ни с кем не поздоровавшись за руку, она села на единственный свободный стул.
— Когда приступать к работе? — деловито осведомилась она.
— Не спеши! — Все трое рассмеялись. — Ты, наверно, не завтракала?
— Нет.
— Тогда давай сначала позавтракаем, а потом я отведу тебя к начальству, тогда станет все ясно. Где твой чемодан?
— В гостинице на пристани.
— Хорошо, у меня машина, съездим туда.
В лавке не было ничего, кроме колбасы. Нора почти не притронулась к еде, но ее брат съел все с большим аппетитом. В отличие от Норы он рано располнел, пояс с золотой пряжкой делил надвое его мягкий живот. У брата и сестры были только глаза одинаковые — ясные и веселые, но характерами они совсем не походили друг на друга. Нора обладала скорее мужским характером, а Саша тяготел к семейному уюту, заботился о своей внешности, был скуповат. Под влиянием жены он отказался от курения и регулярно бросал в детскую копилку деньги, которые раньше тратил на сигареты. Нора так же сильно любила его, как и презирала.
После завтрака Саша отвел ее к начальнику. Это был мужчина среднего возраста с видом молчальника.
— У вас что, нет другого платья, подлиннее? — буркнул он.
Нора снисходительно взглянула на него:
— У меня есть брюки…
— Хорошо, пусть будут брюки… Нельзя ходить с голыми ногами… Здесь, как на фронте, девушка.
— На вашем фронте стреляют главным образом по ногам? — едко спросила Нора.
Начальнику, видимо, понравился этот ответ, потому что он посмотрел на нее с уважением.
— Надевай брюки, — повторил он. — Ты что-нибудь понимаешь в телефонах?
— Только в телефонах и понимаю, — искренне ответила Нора.
— Наверно, как моя Сузи, — начальник улыбнулся, — моя младшая. Как встанет утром, так сразу, не успев помыться, хватается за телефон… Иногда до двенадцати часов разговаривает…
— Ну, раз вы ей это позволяете…
— А кто ей может запретить? Сейчас же заявит, что это насилие…
— Сочувствую вам.
Начальник поднял телефонную трубку.
— Стефка, я посылаю тебе… как тебя зовут? — Он вопросительно посмотрел на нее. — Нору, да, Нору Шишкову, твою сменщицу. Введи ее в курс дел. С завтрашнего дня она выйдет на работу.
— А квартира? — осторожно осведомился Саша.
— Да-а, — протянул начальник. — Это и в самом деле проблема. В крайнем случае, не мог бы ты устроить ее у себя на пару дней?
Саша покраснел, как девушка.
— Об этом не может быть и речи! — решительно ответила Нора. — Предпочитаю спать на улице.
— Они не очень ладят с моей… — забормотал ее брат.
Нора презрительно замолчала. Начальник набрал другой номер.
— Дончо, зайди ко мне.
Вскоре пришел Дончо — крупный парень, голубоглазый, аккуратно одетый, с ярким румянцем на щеках. Норе показалось, что длинные руки парня свисают почти до колен.
— Видишь ли, шеф, — начал он, не ожидая вопроса, — сейчас я могу поселить ее только у бай[1] Тако. С ним уже был разговор.
— Вот и прекрасно! — обрадовался начальник. — Кто от тебя требует чего-то другого?
— Все не так просто, — продолжил Дончо. — Конечно, комната приветливая, чистая. Никто в ней не жил с тех пор, как умер его мальчик. Там, правда, нет водопровода и придется воду носить из колодца, но не в этом беда.
— Не в этом, — согласился начальник. — А в чем?
— Дело в том, что бай Тако и слышать не хочет о том, чтобы туда кого-то поселяли. Когда я ему сказал об этом, он чуть не заплакал. Сказал, что лучше пусть ему глаз выколют, чем чужого человека там поселят. Говорит, что у него в доме чужие люди не жили ни во время войны, ни в пору бомбежек, что его родной дом принадлежит только ему.
— Ну и стервец, — с досадой произнес начальник. — А ты поднажми на него.
— Поднажать можно, — хмуро согласился Дончо. — Я так на него поднажму, что он и не пикнет… Но дело не в этом.
— А в чем?
— Не знаю, как это объяснить, но мне его жалко. — Дончо залился краской. — Очень он жалостливо глядел мне прямо в глаза, так глядел, словно я пришел зарезать его. Уж я ему и так, и этак объяснял, что не какого-то хулигана хочу поселить к нему, а образованную и воспитанную девушку. За дочь вам с бабкой будет, говорю. Но он и слушать ничего не желает, заладил свое — не хочу чужого человека в своем доме!
Дончо в первый раз обернулся к Норе, осмотрел ее с головы до пят. Она не могла понять, какое впечатление произвела на него.
— Ладно, а вы сами согласны жить у такого человека? — поинтересовался он.
Нора до сих пор слушала этот не совсем понятный для нее разговор совершенно равнодушно.
— Буду платить ему, сколько захочет, — ответила она. — И в конце-концов, не съем же я его.
— Тогда пошли! — сказал Дончо.
— Сначала я разберусь с делами, — ответила Нора. — Этот бай Тако никуда не убежит.
Нора одна поднялась в тесную комнатку телефонистки. Та оказалась крупной полной женщиной лет тридцати пяти, разведенной, как вскоре выяснилось. У нее была большая розовая бородавка на левой щеке. Телефонистка оглядела ее довольно критически.
— В этом наряде дело не пойдет! — заявила она. — Здесь такая тупая провинция, что тебя сожрут с потрохами за твой вид… Садись!
Нора села.
— Ты когда-нибудь работала телефонисткой?
— Представления не имею об этой работе.
— Это не имеет значения, дело не хитрое. Да здесь и не София, люди не нервные… Ты нервная?
— Как оса!
— И я… Да и как не быть нервной, если живу здесь, как монашка.
— А это имеет значение? — удивилась Нора.
— Конечно!
— Я тогда… ну да ладно, — смутилась Нора.
— Это зависит от того, с кем имеешь дело, — туманно сказала телефонистка. — Садись на мое место, покажу тебе, что к чему.
Через четверть часа Нора уже довольно бодро отвечала по телефону: «Я — атомная!». Сменщица продолжала с любопытством разглядывать ее.
— Твой брат давно женат? — поинтересовалась она.
— Недавно.
— Очень симпатичный! — с легким разочарованием сказала Стефка. — Но в его жене нет ничего особенного.
— Пожалуй, — охотно согласилась Нора. — Но что касается нервов, то ты на него не рассчитывай, тут уж он непробиваем.
Обедать Саша повел ее в столовую. Столовая была совсем новая, просторная и приветливая, вся облицованная светлым деревом. Здесь еще приятно пахло стругаными досками и лаком. И кроме того — постным картофельным супом.
За одним из столиков сидел начальник, он улыбнулся брату и сестре и знаком показал им на места за своим столом. И сразу же к ним подбежал заведующий столовой, склонился к ним, сложив руки за спиной. Вид у него был довольно странный — острая лысая голова, продолговатая и гладкая, как голова выдры. Нора не была еще прикреплена к столовой, поэтому он обслужил ее, как гостью. Он принес всем чечевичный суп и прекрасные ароматные колбаски, поджаренные на масле.
— Ужасный подхалим! — с неудовольствием буркнул начальник. — Все ломаю голову, как его уволить… Решимости не хватает. Да и как ее хватит, если сегодня утром он принес мне целую сетку великолепной дунайской стерляди.
— Я никогда не ел стерляди, — грустно заметил Саша.
— Вот ты сам себя и пригласил! — начальник улыбнулся. — Вечером приходите ко мне домой, мы ведь соседи. Только уж в брюках, — он посмотрел на Нору. — У меня такая жена, что не приведи боже перед ней в этом виде появиться.
Пока мужчины с аппетитом ели колбаски, Нора рассказывала им о ночном приключении с хулиганами, которые пытались войти в ее комнату.
— Это определенно из «бруклинской банды», — зло сказал Саша.
И он неохотно рассказал ей о группе местных хулиганов, которые сами себя так многозначительно назвали, их было человек десять, все дети состоятельных родителей, людей довольно влиятельных, если можно так говорить о людях, живущих в таком захолустном городке. Среди этих парней был и сын начальника местного отделения милиции, что осложняло дело. Парни приставали к женщинам и девушкам, жены инженеров и работников управления буквально плакали от них, не смели без мужей пойти ни в кино, ни в местную плохонькую кондитерскую. Начальник официально пожаловался на них в милицию, но никаких особых мер не последовало.
— Ничего не поделаешь, придется обратиться в министерство, — хмуро заключил начальник. — Это переходит уже всякие границы.
— Зачем же в министерство? — удивилась Нора. — Наверно, над вами там просто посмеются!.. Здесь столько мужчин, соберитесь и отлупите их разок хорошенько.
— Знаешь, а это идея, — оживился Саша.
После обеда Саша усадил Нору в свой «Запорожец», который он купил по случаю и который сейчас выглядел куда новее, чем при покупке. Они отправились в гостиницу за чемоданом, чтобы потом поехать на новую квартиру Норы. «Запорожец» бесшумно завелся и легко тронулся с места, словно на показательном уроке на шоферских курсах. Саша и с машиной обращался аккуратно и бережно, он делал добросовестно все, за что брался.
— Как дома? — поинтересовался он, увеличивая скорость.
— Ничего нового, — неохотно ответила Нора.
Но Саша уловил в ее тоне что-то такое, что заставило его внимательно посмотреть на сестру.
— Рассказывай!
— Да что тебе сказать… У отца появилась любовница.
Саша буквально подскочил — вместе с «Запорожцем».
— Что за глупости! — воскликнул он пораженно.
— Да вот так уж, — Нора пожала плечами.
— Откуда ты знаешь?
— Тут и знать нечего. Каждый день бреется и поливает себя одеколоном, как прыщавый гимназист.
— Глупости! — успокоенно ответил Саша.
— К сожалению, не глупости. Однажды утром я видела их вдвоем в парке Свободы. Отец ведь прогуливается по утрам — вроде бы из-за больного сердца. Это было часов в шесть утра.
— Может, случайность?
— Нет! — уверенно сказала Нора. — Я же их видела, они напоминали влюбленных голубков.
Мотор взревел, Саша переключил скорость.
— Мама знает?
— Узнает. Только она вообще не обращает на него внимания.
Это была правда. Уже несколько лет их мать словно не замечала своего мужа. Целыми днями она читала старые любовные романы, которые покупала в букинистическом магазине. Там работала ее подруга, и она откладывала для матери эти книги. Почтенный адвокатский дом, который в былые времена выглядел почти зажиточным, теперь напоминал оставленное поле боя, где некому было даже собрать трофеи. Саша подавленно молчал.
— Как она выглядит?.. Молодая?
— Ты что, думаешь он влюбился в студентку? Пожилая женщина, маминых лет. А была в спортивном костюме, представь себе. Возможно, они вместе совершают кроссы.
Только теперь Саша усмехнулся. «Запорожец» поехал более уверенно.
— Глупости! Только бы они не затеяли развода.
— Большое дело! — Нора пожала плечами. — Но если они решат разводиться, знай, что я приму сторону отца. Он уже сам себе рубашки стирает, сам гладит. Это разве дело?
— Не дело, конечно, — согласился Саша. — У тебя не отвалились бы руки, если бы это стала делать ты!
Нора виновато замолчала. Брат был прав. Но до отца ли ей было, пока они выясняли отношения с Фитом.
Вскоре они подъехали к гостинице. Саша отправился за чемоданом. Нора осталась в машине. Ей не хотелось выходить — каждый куст словно напоминал ей о вчерашней кошмарной ночи. Когда Саша вернулся, она сидела в глубине машины, сжавшись в комочек, словно маленький злой ежик.
— Это все? — спросил Саша, поднимая поношенный чемодан.
— Естественно, — мрачно ответила она, — я ведь не твоя Цуца.
Когда они тронулись с места, она так же мрачно продолжила:
— Нашли место для гостиницы… Кругом такая грязища, хоть бы убирали время от времени.
— Свинство, — согласился Саша.
Когда Нора впервые проснулась в своей комнатке, ей показалось, что она попала в другую эпоху, давно отшумевшую и преданную забвению. Воздух в этот ранний час был голубым-голубым, сквозь раскрытое окно проникал острый аромат осенних цветов и айвы. И в этот аромат вплетался острый запах перезревшего перца — терпкий и приятный. Было неправдоподобно тихо, только время от времени слышалось едва уловимое кудахтанье.
Нора встала и босиком подошла к окну. Небо порозовело. Сад тонул в цветах, все они имели приглушенные осенние тона. Стояла мертвая тишина, даже воробьи молчали, хотя солнце уже вставало. Нора вернулась к высокой кровати и снова легла. Она почувствовала голод, но здесь она не могла пойти, как дома, к холодильнику и вытащить оттуда кусок арбуза и брынзу.
Вчера она мельком видела хозяина дома. Это был пожилой человек, почти старик, сутулый, с одеревенелыми сухими ногами. Он мрачно посмотрел на нее, и потом она словно перестала существовать для него. Его жена, невысокая, худая женщина, беззвучно послала кому-то проклятье и скрылась в доме. Сейчас Нора вспомнила о них и поняла, что сделала ошибку, поселившись здесь.
— Я стану платить вам по тридцать левов в месяц, — сказала вчера Нора. — Этого достаточно?
— Ты что, с ума сошла? — тихо ахнул Дончо.
Но хозяин даже не ответил ей. Он презрительно сплюнул и тоже скрылся в доме.
— Ты зачем бросаешься деньгами! — сердито сказал Дончо. — Ему не нужны деньги. Все у него есть, у него и расходов-то всех на пять левов в месяц.
— Во мне все перевернулось, когда я увидела его кислую физиономию.
— Деньгами ты его не смягчишь!.. Тридцать левов!.. А ты знаешь, какая у тебя зарплата?
— Нет.
— Когда узнаешь, подскочишь… Уж не решила ли ты, что тебя назначили директором, ты — самая обыкновенная телефонистка.
— Хватит меня отпевать! — рассердилась Нора.
Дончо пошел прочь, бормоча себе под нос: «Тридцать левов… Об этом не может быть и речи, я утрясу этот вопрос…».
Комнатка оказалась совсем голой — кровать и шкаф, только и всего. Но зато светилась от чистоты, хотя уже несколько лет в ней никто не жил. Чистыми, голубоватыми, крахмальными оказались и простыни. Над кроватью висела дешевая иконка — Дева Мария. Ни стола, ни стула, ни зеркала. Не было даже ключа в выкрашенной зеленой краской, изъеденной древесным червем двери.
Когда Нора уходила на работу, откуда-то из-за дома вышел в одних кальсонах хозяин. Увидев ее, он остановился и застыл на месте. Норе стало не по себе — в его глазах сквозила не только ненависть, но и отчаяние. Почему-то она вдруг разозлилась.
— Нельзя ли поставить в мою комнату столик? — спросила она. — В конце-концов, я плачу вам немалые деньги!
Хозяин не проронил ни слова, повернулся к ней спиной и исчез за домом. Нора вышла на улицу вконец расстроенная. Увидев в обед Дончо, она крикнула так, словно была его женой!
— Я не желаю больше оставаться в этом доме!.. Они смотрят на меня так, словно я убила их сына!.. Я не могу, не могу…
— Я ведь предупреждал. Потерпи немного. При первой возможности переселим тебя.
К счастью, Нора больше не видела своего хозяина. Она возвращалась рано, но как только раздавался скрип входной калитки, он мгновенно исчезал. Нора тоже старалась не появляться ни во дворе, ни в коридоре. И все же приходилось выходить во двор за водой. Она никогда раньше не брала воду из колодца, это занятие доставляло ей радость. Колесо поскрипывало, влажная веревка медленно разматывалась, деревянное ведро глухо ударялось о темную воду. Она склонялась над срубом и подолгу вглядывалась в глубину с затаенным чувством волшебства и таинственности… Казалось, что у черной блестящей воды нет дна, что там, внизу, подземный мир. Каждую ночь оттуда выходят злые духи или чудовища — бррр! — не стоит спать с открытым окном.
Вскоре Нора привыкла к одиночеству. Ей даже казалось порой, что это лучше, чем бесконечные разговоры с какой-нибудь болтливой хозяйкой. Нора часами стояла у окна, смотрела на пыльные цветы — до тех пор, пока не стемнеет и над крышами не покажется луна, похожая на надкушенное яблоко. Двор становился темным, в мраке светились лишь желтые хризантемы и ночные бабочки. Нора смотрела из черной рамки окна, как со старинной грустной картины. Но она не испытывала грусти. И ей не приходило в голову оставить этот городок. Она привыкла к работе, к людям, к медленному течению времени. Впервые в жизни она ни от кого не зависела, работала, была свободна. Она больше не думала о Фите, не читала книг, не смотрела кинофильмов. Даже не курила. Наверно, ее ненормальный хозяин упал бы в обморок, если бы в его доме запахло табаком. Нора спала, как убитая, просыпалась рано, любовалась голубыми красками утра.
Однажды Саша пригласил ее посмотреть его объект.
— Не люблю я смотреть незаконченные работы! — сказала она.
Это было именно так, но увидев огорченное лицо брата, она поспешила добавить:
— Ладно, пошли! Что стоишь, как столб?
— Вот еще! — обиженно произнес Саша.
Когда они пошли вдоль строительных объектов, она вдруг почувствовала себя маленькой и незначительной. Казалось бы, тут был лишь хаос — котлованы, траншеи, строительные леса, бетонные колонны, стальная арматура. И везде сновали люди. Но все это дышало силой, во всем чувствовался могучий и тяжелый ритм, от которого захватывало дыхание. Среди рева бульдозеров Нора и Саша почти не слышали друг друга. Железные челюсти машин жадно хватали желтую землю и высыпали ее в самосвалы. Моторы ревели, со стороны реки поднималась желтая пелена песчаного ветра. Здесь, среди машин, людей уже почти не было. Интересно, где же те тысячи и тысячи рабочих, которые заполнили городок?
Наверно, этот хаос поглотил их, как гидра. Когда они подходили к Сашиному объекту, к ним подбежал заросший щетиной мужчина в синих парусиновых штанах, пожелтевших от пыли.
— Товарищ инженер, Михо напился, у него в глазах двоится! — возмущенно крикнул он. — Так он может какую-нибудь стену своротить.
Крановщик Михо был хорошим парнем, Саша не видел, чтобы он пил что-нибудь крепче ликеров.
— А Стоил? Бай Митю, надо его вызвать.
— Не можем его найти.
— Как это не можете, это вам не София!
— Нет его!.. Возможно, отправился на острова ловить сомов.
Второй крановщик, Стоил, и в самом деле был заядлым рыболовом. Пока они шли до объекта, бай Митю, забыв о пьяном крановщике, говорил о сомах. Весенние наводнения размыли венгерские дамбы, и теперь река буквально кишела карпами и сомами. Бай Митю родился в этих местах, на стройку приехал из села. До этого он несколько лет работал в рыбацких бригадах. Что-то в нем осталось от тех лет, хотя стройка захватила его. Но инженер почти не слушал его, шагал хмуро, молча. До сих пор они шли первыми в соревновании, не хватало теперь провалить все дело.
На месте выяснилось, что Михо не пьян — просто сказывалось вчерашнее. Глаза у него налились кровью, от него пахло то ли травой, то ли одеколоном.
— Ты что пил? — спросил Саша напрямик.
— Всякую дрянь, — уныло проговорил крановщик.
— Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не пил, — раздраженно произнес инженер.
— Все со мной в порядке, — Михо попытался придать себе бодрый вид.
— Иди спать! — решительно скомандовал инженер. — Разбужу тебя через два часа.
— Удастся ли это? — озабоченно спросил бай Митю.
— Ты занимайся бригадой! — отрезал инженер и обратился к Норе: — Вот такое положение. Если хочешь, гляди, а не хочешь — возвращайся. Мне придется поработать на кране.
— Я останусь с тобой.
Эта монотонная на первый взгляд работа показалась Норе занимательной и интересной. Громадная стальная рука целиком подчинилась ее брату, словно была его собственной рукой. Понаблюдав с полчаса за его работой, она спросила:
— Можно, я попробую?
— Это не такое простое дело, — улыбнулся Саша. — Уж не хочешь ли ты стать крановщицей?
— А почему бы и нет? Если тем более и платят хорошо…
— Но руки у тебя огрубеют.
— Это не имеет значения, так даже лучше, уж если залеплю кому-нибудь пощечину, так почувствует.
Вскоре случилось событие, о котором в двух словах не расскажешь. «Бруклинская банда» привязалась к жене одного из инженеров. На этот раз дело зашло довольно далеко, и терпение людей лопнуло. Человек двадцать строителей, в основном инженеров, разыскали банду на одном из городских пляжей. Незаметно приблизившись, они внезапно напали на хулиганов. Те не успели даже подбежать к своей одежде, в карманах которой находились ножи. Безоружную шпану били долго и безжалостно. Были разбитые головы, сломанные носы… Строители исполосовали на куски их узкие джинсы, обрезали им бороды и пинками погнали их голыми к городку. Такого жители еще не видали.
Разумеется, из округа прибыла милиция, началось следствие. Руководивший следствием подполковник в гражданском костюме время от времени усмехался в свои черные усы. Дело кончилось тем, что наказали только начальника местного отделения милиции — его с понижением перевели в другой город. «Бруклинская банда» совсем распалась, два парня — самых честолюбивых — устроились официантами в окружном центре, навсегда оставив родной городок.
По этому поводу победители устроили шумный банкет в ресторане на пристани. Нора с братом тоже присутствовала на нем, Саша заметно прихрамывал после битвы. Беременная официантка теперь еле ходила и в довершение ко всему порезала себе палец. И жены инженеров сами взялись за дело — все, кроме Цуци, естественно. Цуца — это статья особая. Вместо нее жарить колбаски отправился Саша, он же взялся подобрать салаты. Но это мало что изменило. Колбаски из фарша были жилистыми, лимонад теплым, пиво несвежим. Тогда они заказали вино. Нора даже не притронулась к еде. Напротив нее сидел Дончо с синяком под глазом, который еще больше подчеркивал румянец его щек. Когда он протянул руку, чтобы налить ей содовой, она заметила, что кожа на его руках была почти содрана. Говорили, что он сражался отчаяннее всех. А на вид он был таким кротким — девичий румянец, опущенные ресницы, стеснительность, скованность движений. Норе казалось, что он слегка ухаживает за ней — слишком большую заботу он проявлял о ней, постоянно интересовался, не нужно ли ей чего.
Сначала мужчины и женщины сидели за столом вперемежку — жены заняли места рядом со своими мужьями, неженатые расположились один против другого. Но постепенно силы поляризовались — женщины заняли левую сторону общего стола, мужчины — правую. Только Дончо остался на своем месте. Нора оказалась ближе всех к мужской половине и могла расслышать разговоры. На этот раз мужчины не говорили ни об автомобилях, ни о футбольных матчах. Они оживленно беседовали о каких-то эргах и омах. А на противоположном конце стола женщины горячо обсуждали последний телевизионный фильм. От нечего делать Нора обратилась к Дончо:
— Ты женат?
Дончо удивленно посмотрел на нее и ответил:
— Нет и не собираюсь.
— Что же так? В этом городе человеку нечего делать, кроме как заниматься собственной женой.
— Ты права, — охотно согласился Дончо. — У меня даже телевизора дома нет. Ты как, накручиваешь себя на эту мысль?
— Как раз раскручиваюсь, — сердито ответила Нора. — Так что тебе придется долго ждать…
— Подожду, — покорно согласился Дончо.
Заиграл оркестр, начались танцы. Разгоряченные спором мужчины неохотно направились к своим женам. Дончо пригласил Нору, она тихо вздохнула, ей было так хорошо сидеть за столом. И как она станет танцевать? Дончо танцевал весьма прилично, но почему-то все время смотрел в потолок, словно там было написано нечто такое, чего он никак не мог прочесть. Видимо, его и самого смущало это обстоятельство, потому что ладони у него стали влажными.
Наконец банкет закончился. Часы показывали одиннадцать. Как и следовало ожидать, Дончо вызвался провожать Нору. Ночь выдалась темная и глухая, только время от времени где-то неподалеку лениво лаяла собака. Нора с раздражением подумала, что, наверно, это единственная собака в городке. Ей вдруг показалось, что в одиноком лае сквозят еле уловимые нотки отчаяния и безнадежности — от одиночества, от собачьих невзгод, от ржавой цепи, на которую ее посадили. Дончо молча шагал рядом со своей спутницей, опустив руки и время от времени посматривая на нее с явным опасением. Эта длинноногая атомная телефонистка часто спотыкалась, даже наткнулась на какое-то дерево и тихо выругалась.
— Возьми меня под руку! — с досадой произнесла она. — Я тебя не съем!
Дончо взял ее под руку, его правое бедро постепенно одеревенело. Они шли так довольно долго, наконец Нора снисходительно заметила:
— Какая у тебя горячая рука!
— Я готов! — грустно признался Дончо. — Меня спокойно могут использовать вместо атомного реактора.
Наконец они подошли к дому, где жила Нора, Дончо заглянул за низкий забор. Дом давно спал, погруженный в темноту, только хризантемы светились. Дончо с сожалением выпустил голую прохладную руку, такую тонкую и хрупкую по сравнению с его огромными лапами.
— Спокойной ночи! — сказал он.
— Пусть твоя будет еще спокойней! — пошутила она. — Рыцарь, я тронута до слез.
Она и в самом деле была тронута. Она устала, у нее вряд ли хватило бы сил на сопротивление, предприми он что-нибудь. А в ней вызывала отвращение сама мысль об этих вещах. Ей казалось, что пережитого с Фитом ей хватит на всю жизнь.
Перед домом Нору ждала неожиданность, сразу отрезвившая ее. Входная дверь оказалась закрытой. Она постояла, нерешительно постучалась, потом пошла к окну. Оно тоже было заперто изнутри, хотя она отлично помнила, что оставила его открытым. Что это означает? Что ей отказали от дома? Она растерянно села на каменную ступеньку, чуть не плача. Она чувствовала себя маленькой, отвергнутой, несчастной.
— Фит! — в отчаянии позвала она. — Где ты, Фит?
Но Фит в это мгновение мирно похрапывал возле своей жены, которая спала в желтой ночной рубашке с полотенцем на голове — перед сном она втерла масло в свои поредевшие волосы.
— Фит! — испуганно звала Нора.
Собака снова залаяла где-то, потом жалобно заскулила и замолкла. Нора все так же сидела на каменной ступеньке, по ее голым ногам текли слезы. Да, она совсем одна в этом мире, всеми забытая и несчастная. Неожиданно ее обуял гнев, она встала и застучала кулаками по двери.
Дом молчал. Ясно, что ее слышали, но не открывали. Тогда ее осенила новая мысль. Она нащупала в темноте какую-то деревяшку и, не раздумывая, разбила одно из небольших стекол. Потом легко нащупала внутренний запор, открыла окно и влезла внутрь. Она совсем обессилела от пережитых волнений, сняла только платье и бросилась на кровать.
Проснулась она рано утром с пустой головой и легкостью во всем теле. Она уже забыла, как попала в дом, но разбитое окно напоминало ей о вчерашних событиях. Сейчас она не испытывала ни сожаления, ни страха, наоборот — в ее сердце была злость, смешанная с удовлетворением. И чего эти бездушные люди хотят от одинокой девушки? Они заслуживают того, чтобы она разнесла в щепы их проклятый дом. Такие мысли одолевали Нору, пока она ходила босиком по дощатому полу. Где, черт возьми, ее туфли? Оказалось, что она зашвырнула их под кровать. Когда она, морщась от боли в висках и пыхтя, вытащила их оттуда, ее взгляд случайно упал на иконку.
— Отвратительные лицемеры! — крикнула она и, не раздумывая, запустила в иконку туфлей. И как на зло попала в нее, стекло разбилось, иконка упала на пол. Нора подошла к ней — голубые лубочные глаза Девы смотрели на нее холодно и безразлично. «Все равно, — думала Нора, — больше они меня не увидят, лучше сквозь землю провалиться, чем снова ступить на порог этого дома!»
Нора взглянула на свои часы, они остановились точно в три часа. Наверно, еще рано, так как вся комната была залита прохладной утренней голубизной. Она прислушалась — в доме никакого шума, ни шагов, ни старческого покашливания, ни шарканья шлепанцев. Нора взяла свою сумку, сунула в нее только пару чулок, щетку для зубов и неизвестно почему — лак для ногтей. Потом выбралась через окно наружу и, гордо подняв свою красивую головку, пошла по тропинке между цветов. Двор был совершенно пуст, только на дощатой крыше колодца, сжавшись в клубочек, дремал маленький белый котенок, он мирно глянул на нее своими розовыми прозрачными глазками. Нора почувствовала странное облегчение. Через десять минут она уже с аппетитом жевала теплый, только что вынутый из кипящего масла пончик, посыпанный сахарной пудрой.
Утром не случилось ничего особенного, время от времени звонил телефон, и она протяжно отвечала: «Я — атомная!» А в полдень у нее за спиной открылась дверь, и кто-то вошел в комнату. Она как раз соединяла абонентов.
— Кто там? — не оборачиваясь, спросила она.
— Это я, — ответил Дончо.
В его голосе было что-то такое, что заставило ее обернуться. Он все еще стоял на пороге, смущенный и расстроенный, неловко закинув за спину свои длинные руки. Нора смотрела на него молча и виновато, она знала, что совесть у нее не совсем чиста.
— Случилась большая неприятность! — еле слышно сообщил наконец Дончо.
— Что?
— Твой хозяин повесился!
— Как повесился? — пораженно произнесла Нора.
— В сарае во дворе. Сам повесился, самоубийство…
Нора почувствовала, что все поплыло у нее перед глазами, она едва не упала со стула.
— Из-за чего?
— Не знаю.
Но он знал. Жена хозяина фурией носилась по улице, писклявым голосом кляня сумасбродку и безбожницу, погубившую ее мужа. Она кляла не только Нору, но и Дончо, который первым пришел в ее дом, кляла всех тех, кто без приглашения заполнил их городок и разрушил их жизнь.
— Этого не может быть! — сказала Нора, а в ее сердце не было ни сожаления, ни сочувствия — только страх.
— И тем не менее это случилось.
Норе показалось, что до сих пор она скользила по поверхности этой жизни, как по льду, не задумываясь, что находится под этой обжигающе-холодной броней. Наверно, существует две жизни — одна видимая, полная иллюзий, ненастоящая. И другая — подземная и страшная. Иначе как объяснить это странное самоубийство? Кто из нормальных обычных людей мог его ожидать? Но она сейчас же взяла себя в руки и тряхнула головой:
— Он или сумасшедший… или есть иная причина.
— Вчера вечером что-нибудь случилось?
— А я откуда знаю?
И она подробно рассказала ему обо всем. Дончо слушал очень внимательно, черты его лица постепенно смягчились.
— Это все?
— Все, — искренне ответила она.
Дончо озадаченно молчал.
— Может, все же из-за иконы?
— Глупости!.. Не настолько же он потерял рассудок. Да и что это за икона была, бумага, обсиженная мухами.
— Ты права, — согласился он. — Да, ты права.
Он помолчал немного и добавил:
— В сущности, все ясно.
— А мне ничего не ясно! — зло ответила Нора. — Или я — не человек, или он не был человеком… Середины тут нет…
— Все не так просто… Человек есть человек, независимо от того, злой он или добрый. Но вы оба страдали от несовместимости. А это дело нешуточное.
Она не поняла его, да и не желала понимать, только хмуро поинтересовалась:
— А в милицию меня станут таскать?
— Тебя так страшит милиция? Конечно, тебя допросят.
— Почему?.. Пусть мне лучше квартиру найдут. Я и без того туда не желаю возвращаться.
— Подожди меня здесь. Постараюсь что-нибудь сделать.
Дончо, не попрощавшись, исчез. У Норы опять разболелась голова, появилось такое чувство, будто в желудке оказался кусок льда. Ей захотелось выйти отсюда и пойти одной по пыльному полю или берегу реки… Нет, нет — никакой реки, а то вдруг потянет броситься с обрыва вниз головой. Человек не знает сам себя — тем лучше. Он не видит своего пути, не знает своего конца — и в этом его утешение. Такие мрачные мысли смутно проносились в ее голове, но она не пыталась прогнать их. Лучше уж вовсе не думать, достаточно того, что дышишь! К ней заглянул брат, он выглядел озабоченным, что-то бормотал себе под нос, но не предложил ей пожить у него. Они с Цуцей, правда, занимали всего одну комнату, но, по крайней мере, на эту ночь могли бы и потесниться. Нора окончательно расстроилась. Если даже брату до нее нет дела, на кого она может рассчитывать?.. Наверно, только на Фита, но Фита уже не было в ее жизни. Она оставалась одна в этом огромном мире, совсем одна. Как бы то ни было, у Саши, по крайней мере, есть его Цуца — такое рабство все же лучше пустоты.
Рабочее время уже кончилось, а Дончо все не возвращался. Да она и почти забыла о нем — с какой стати он должен был заниматься ею? Он не интендант, не комендант, не секретарь комсомольской организации. Если бы он был хотя бы мужчиной и вчера настоял на своем, они бы оба несли сейчас моральную ответственность. А теперь что ей делать? Куда идти? Кого просить приютить ее? Да и не из тех она, кто просит.
Перед самым приходом Стефки зазвонил телефон, и незнакомый голос спросил простовато и нетерпеливо:
— Стефка, это ты? Или это софиянка?
— Допустим, что софиянка, — сухо ответила Нора.
— Привет! Я как раз тебя ищу… Звонит Пешо… Шофер Пешо, ты меня помнишь?
— Помню! — призналась Нора без воодушевления.
— Послушай, хочешь пойти со мной вечером в кино?
— А что показывают?
— «Одиссея».
— Я смотрела этот фильм еще в детстве.
— И я смотрел… Ну и что из этого?
— Да, ты прав. Послушай, у тебя есть квартира?
— Есть, конечно.
— Я хотела спросить, один ли ты живешь?.. Потому что со мной тут приключилось одно дело.
— Не один, но я все могу устроить.
Он понимал ее с полуслова, даже не удивлялся. Когда она расскажет ему вечером о хозяине, он только презрительно бросит: «На свете полно старых дураков!»
— Ладно. Где ты меня будешь ждать?
Они быстро договорились о встрече. Нора нервно кусала губы. Этот глупец невесть что о ней думает. Но это не страшно, как-нибудь она с ним справится. Только бы он не явился на свидание с этим нелепым платком на шее. Ее совсем перестанут уважать, если увидят с Пешо приятели Саши. А они обязательно ее увидят, городок совсем крохотный. Все в нем без конца встречаются друг с другом. Тем лучше. Она отомстит этим людям, для которых она все равно что пустое место.
Но настроение было скверное, когда она направилась к городку. В довершение ко всему служебный автобус оказался переполненным, ее со всех сторон толкали. Автобус сонно покачивался, на поворотах шофер ловко перехватывал руль своими сильными руками с татуировкой. Нора вышла из автобуса в центре и посмотрела на часы. До свидания оставалось еще много времени. Ничего, прогуляется пока по городку, зайдет в кондитерскую. А потом что? Потом — ничего. Опять полетит, как одуванчик, куда ветер подует.
Рядом раздался лязг тормозов и свист шин. Это был пожелтевший от пыли «газик» начальника. Из него выпрыгнул багровый от негодования Дончо.
— Далеко отправилась? — поинтересовался он. — Я ведь просил тебя подождать!
— Я и ждала, — холодно ответила Нора. — До каких пор можно ждать?
— Раз я тебе сказал, что вернусь, значит, вернусь. Куда ты идешь?
— В кино.
— Господи, в кино! Я сбиваюсь с ног в поисках квартиры, а она отправилась в кино! Хоть бы записку оставила. Где ты собираешься ночевать?
— Не знаю.
Она видела, что Дончо по-настоящему злится.
— Раз не знаешь, подожди немного. Хорошо, что тебя видели, когда ты садилась в автобус. Я без спроса взял машину начальника.
— Большое дело!
— Знаю, что для тебя ничто не имеет значения… Давай, садись.
Нора забралась в «газик».
— А мои вещи?
— Я все забрал, они сзади!.. Ну, что ты за человек!.. Тебе что, до сих пор все с неба падало?
— Почти…
— У нас такого не бывает…
«Газик» понесся по улице. Нора так непринужденно откинулась на спинку сиденья, словно всю жизнь ездила в такой машине. «Газик» подскакивал на неровной мостовой. Дончо продолжал возмущенно говорить что-то, но она уже не слушала его. Она чувствовала радостное облегчение. Чувствовала себя как человек, который упустил автобус, а за ним вдруг прислали самолет. Какая-то старая, давно забытая детская радость снова пробуждалась в ее сердце, словно ей вплели в косички новые голубые ленты и она, немного смущенная, но счастливая, любуется собой в зеркале. Она даже не чувствовала неловкости от того, что Пешо ждет ее перед кинотеатром с двумя билетами в потной руке. Пусть ждет! До свидания, Серый Волк!.. До свидания, маленький белый одуванчик! Я — атомная!
Николай Хайтов
Барабанщик
После захвата здания общины партизанами в день вооруженного антифашистского восстания в Крушице состоялся всенародный митинг. Рассыльный куда-то делся, и некому было перед митингом бить в барабан, чтобы собрать народ. Тогда роль глашатая взял на себя сельский пастух бай Крыстю — бывший военный барабанщик. Люди видели, как он направился, стуча по булыжнику своей деревянной ногой, к сельской площади, и вскоре оттуда разнесся по селу торжественный и тревожный речитатив призыва к атаке. В наступившей после мертвой тишине прозвучал голос старого ветерана:
— Сообщается господам селянам…
Еще живы, кто помнит, как в те мгновения выглядел бай Крыстю — усы торчком, побледневшее лицо, горящие глаза, величественная фигура, хоть ростом бай Крыстю не вышел. Но никто не мог воспроизвести то ликование, с которым он провозгласил о падении капитализма. Сто валторн, гайд и скрипок, слитых воедино, не могли бы передать трепет его охрипшего от волнения голоса.
С тех пор барабан и барабанщик стали нераздельны, потому что на следующий день новый народный староста назначил бывшего пастуха бай Крыстю общинным глашатаем, и он надел мундир с высоким, отделанным галуном, воротником и неведомо откуда раздобытую им красноармейскую фуражку. Потертый ремень барабана новый глашатай заменил парадным офицерским ремнем. Бронзовые застежки он натер золой и уксусом, и они заблестели, как золотые; старые палочки он выбросил и заставил мастера Сулю, который делал веретена, сделать новые — из ясеня, с медными кольцами на шейке и серебряными шишечками наверху.
Новые обязанности ветеран выполнял ревностно. Новости день ото дня становились все интереснее, а глашатай становился все неистовей.
Когда 9 мая 1945 года пал Берлин, у бай Крыстю был такой вид, словно он только что спустился с крыши Рейхстага, на которой советский солдат водрузил красное знамя с серпом и молотом. Милиционер по этому случаю одолжил ему свою кожаную портупею, а красноармейская фуражка сидела на голове бай Крыстю так высоко, что казалось вот-вот улетит в голубое безоблачное небо. Глашатай ударил в барабан два раза, и еще два раза под окном Таню Бубары. Подумав, бай Крыстю ударил в барабан еще два раза, набив через длинные интервалы громовые звуки. Никогда на площади не раздавалось такое дружное и радостное «ура». Позднее говорили, что Бубара затрясся и опрометью бросился в подвал. Узнав об этом, бай Крыстю задумчиво покачал головой и попросил передать Таню, что бежать в подвал ему еще рано.
Если бы Бубара знал, что проведут национализацию, он бы не вылез из своего подвала. Что же касается бай Крыстю, то он не мог простить старосте, что его не включили в семерку, которая рано утром национализировала маслобойню Бубары.
— Одна моя нога — в фундаменте этой маслобойни, — сказал он старосте. — Я отдам и вторую ногу за то, чтобы ты разрешил мне ударить в барабан…
На этот раз у бай Крыстю не было времени облачаться в милицейскую портупею, он взял барабан, и по селу разнеслись тревожные звуки все того же призыва к атаке. Пока он бил в барабан, он совершенно не обращал внимания на своих юных почитателей — ребятишек, которые первыми примчались на площадь. Его взгляд был устремлен на двускатную крышу маслобойни Бубары, где реяло знамя бесшумной битвы, закончившейся утром этого декабрьского дня.
Таню не выдержал «атаки». На следующий день он отправился в город к своему зятю и уже не вернулся. Не мог видеть, как создается земледельческое хозяйство.
Бай Крыстю не подозревал, что на этот раз не он будет бить в барабан, а дома ему дадут истинный бой. Причиной послужило следующее простое обстоятельство: он хотел стать организатором первого трудово-кооперативного земледельческого хозяйства в селе Крушица, а его сын — нелюдимый увалень Стоилко — запротестовал, науськанный своим богатым тестем. Дело дошло до того, что бай Крыстю покинул крамольный дом и трое суток прожил во дворе, под домотканой дорожкой, натянутой на четыре кола. На четвертый день под напором общественности, которая подняла на смех Стоилко, тот попытался водворить старика в дом. Но старый ветеран заартачился, и тогда под оглушительный хохот соседей его внесли в дом вместе с дорожкой. На следующий день семья Глоговых в полном составе стала полноправным членом кооперативного земледельческого хозяйства «Красное знамя», а вечером того же дня старик оповестил селян о поступивших новых двадцати заявлениях. Его барабан призывал не к атаке, не к параду, а к пахоте — тяжелому и славному походу кооператоров в завтрашний день, который начинался в этот пасмурный декабрьский вечер. В истории этого похода летописцу следовало отвести целую главу «боевому» барабану бай Крыстю, «боевым» его прозвали после истории с хлопком.
Произошло это тихой спокойной осенью. На улицах царило обычное вечернее оживление, когда бай Крыстю явился на площадь в одной рубашке, простоволосый. Было видно, что он только что вернулся с поля. У любопытных не хватило времени на то, чтобы обсудить, что бы это означало — посыпались сокрушительные, быстрые удары без интервалов, не похожие на грациозную и торжественную барабанную дробь, которую обычно исторгал из своего барабана бай Крыстю. Фронтовики сразу смекнули, что это сигнал тревоги. Да и вид барабанщика, забывшего о своей куртке с галунами, свидетельствовал о необычности сообщения. Стал быстро собираться народ. Явился на площадь даже толстый неповоротливый буфетчик Лазар. Бай Крыстю продолжал бить в барабан, глядя на золотой от заката купол старой колокольни, когда дверь канцелярии кооперативного хозяйства открылась и на пороге показался Вичо — председатель кооперативного земледельческого хозяйства. Тогда бай Крыстю отбил заключительный такт и начал свое сообщение:
— Сообщается господам селянам, звеньевым, бригадирам, кооператорам и председателю кооператива, что хлопок в Старой впадине начал осыпаться и если его за два-три дня не собрать, ветер оденет в него голые ветки кустов на Милином холме.
Посиневший от негодования Вичо свирепо смотрел на глашатая, не одобряя этой самодеятельности, но бай Крыстю не дрогнул:
— Если не будут посланы бригады собирать хлопок, завтра вечером я буду бить в барабан под окнами околийского комитета, — заявил он.
Вичо не стал рисковать, и хлопок был моментально собран.
Во второй раз общинный глашатай и председатель «скрестили шпаги» из-за того, что бай Крыстю начал проявлять нетерпимость к действиям председателя и говорить об этом кооператорам. Вичо решил сделать бай Крыстю серьезное внушение, но тот прервал его:
— Когда наше кооперативное земледельческое хозяйство занималось землей, я всем был доволен. Но с некоторых пор мы забросили землю и занялись магазинами, изготовлением извести, кирпичей… Мы превратились в торгово-кооперативное вспомогательное хозяйство. Пусть люди нас рассудят, — обратился он к собравшимся односельчанам.
Староста вынужден был отчитать барабанщика за это своеволие, а Вичо решил вынести вопрос о нем на общее собрание кооператоров.
Неравная схватка показала, что бай Крыстю был уже не только глашатаем новой жизни, но и ее активным участником благодаря своему барабану и самобытному юмору — он сочинял стихотворные пародии типа вот этой:
— Сообщается селянам, что Митко Бонин не работает как надо!
Такая острая хроника бай Крыстю вызывала горячий интерес. Что и говорить, некоторые сердились на него, но глашатай продолжал вытравливать темные пятна и регулярно передавал приказы и объявления с неповторимой артистичностью, не подозревая, что его дни, как глашатая, сочтены.
Беда свалилась на него внезапно. Случилось так, что рабочие, которые тянули в Крушицу водопровод, наткнулись на минеральный источник. Совет поспешил провозгласить село курортом и начать коренное благоустройство. Главную улицу расширили и покрыли асфальтом, на площади установили каменного длинноухого медведя. А в одну из пятниц рабочие вбили и столбы для радиофикации села. Бай Крыстю запомнил этот день, потому что точно в 11 часов председатель совета позвал его к себе в кабинет и сообщил, что решено отправить старого ветерана на пенсию… Новости теперь станут передавать по радио…
Разговор был кратким. Председатель даже не заметил влажных глаз старика, который молча повернулся и вышел, поскрипывая деревянной ногой. Если бы он даже хотел что-то сказать, то не смог бы — удар был таким неожиданным, обида была так глубока, что оглушила его.
С гребня волны, на которую он поднялся, бай Крыстю вдруг погрузился в спокойные, холодные пласты житейского моря, где не было ветра, куда не пробивался свет звезд. Потрясенный случившимся, бывший глашатай долго не выходил из своего дома. Люди пошумели, посудачили да и перестали. А тут и весна пришла с ее заботами.
Но однажды вечером, похоже, сердце бай Крыстю не выдержало, и он направился к площади в своем старом пастушьем плаще — поседевший, осунувшийся. Он прошел мимо общины, не поглядев в ту сторону, и сел на скамейку возле каменного медведя. Солнце скрылось за Голой грядой, на небе сияли розовые облака, а по земле уже ползли тени — предвестники вечера.
Бай Крыстю не успел поздороваться со своими старыми знакомыми, сидящими на скамейке, не успел сесть на свободное место рядом с ними, когда репродуктор чихнул и зазвучал вступительный марш, несколько заглушенный обычными помехами. После марша диктор сообщила программу и начала передавать сообщения сельсовета.
Бывший барабанщик сначала внимательно слушал бесстрастный голос диктора, но когда она сообщила о скором торжественном пуске водопровода, он беспокойно заерзал, его палка нервно забарабанила по булыжнику. Водопровод! В село впервые придет прохладная горная вода, весело зажурчит в кранах, а диктор сообщила эту необычайную радостную весть вялым, безразличным голосом, словно речь шла о разведении цыплят. Бай Крыстю забыл, что у него в руке сигарета, натянул на уши дрожащими руками колпак и быстро заковылял к дому, словно спешил гасить пожар.
С тех пор старый ветеран не выходил на улицу. Изредка только появлялся в саду, да и то после обеда, когда никто не проходил мимо их забора. Он садился на солнышке и сидел неподвижно, словно дремал, до тех пор, пока солнце не начинало клониться к закату. Он смотрел, как деловито снуют пчелы, вьют гнезда птицы, спешат по выбитым сельским дорогам в поле трактора, и ему становилось грустно от сознания, что лишь он ничего не делает. Даже букашки имели свои заботы, они катили лапками какие-то комочки, повсюду сновали вечно занятые муравьи, а он сидел и зазря отягощал землю своими шестьюдесятью тремя годами. Дни казались ему длинными, ночи — кошмарными. Он беспокойно ворочался в кровати. Слушал, как ветер носился по улицам, стучал по железной крыше пекарни, ему казалось, что это смерть притаилась в темноте, посмеивается в трубе, чтобы уйти утром, когда посветлеет окно. И снова наступал день, пустой и праздный. Ему опять оставалось только греть свою ревматичную ногу и считать букашек.
И зачем такая жизнь?
Однажды утром бай Крыстю разобрал стоявшие под навесом доски и отобрал из них штук десять самых сухих. Озадаченному Стоилко он объяснил, глядя в сторону:
— Если случится что-нибудь со мной, тебе не придется заботиться о гробе…
Вечером он вернулся к себе в комнату, и более не вышел из нее. Первые пару дней ни сноха, ни Стоилко не обратили внимания на это, но когда увидели, что он не встает с постели, испугались — то ли за него самого, то ли за его пенсию — и бросились за лекарствами. Они принесли целую гору таблеток, порошков, микстур, но все это пошло в печку — старик собрался отправиться на тот свет не окольными, а прямыми путями.
Наверно, это вскоре и случилось бы, не появись в доме старого ветерана Илия Дуйнов, начальник почтовой станции. Илия отличался веселым, приветливым нравом, страстно любил рыбалку и считал бай Крыстю своим лучшим другом, тем более, что бывший глашатай был опытным рыболовом.
Как-то после полудня Илия решил зайти к своему старому приятелю. Погожий июньский день заставил людей покинуть дома, и Верхняя слобода, где жил бай Крыстю, выглядела безжизненной. Никого не было и во дворе его дома, но, когда Илия вошел в калитку, то до его ушей долетело тихое постукивание, словно кто-то пересыпал фасоль из одного решета в другое. Начальник почты подошел к окну и понял, что странные звуки идут из дома. Он заглянул в окно и увидел барабанщика — он сидел на кровати с барабаном на коленях и палочками в руках. Телогрейка сползла с его острых худых плеч, глаза были прикрыты, но палочки двигались в его жилистых руках, выбивая тихие звуки походного марша. Илия, подождав пока затихнут удары, предупредительно покашлял и вошел в дом. Он не видел своего друга месяца два. Нет, это не бай Крыстю — жизнерадостный, с озорными глазами. Перед ним сидел невероятно состарившийся человек с пожелтевшей кожей, угасшими глазами и серыми свалявшимися волосами.
С первых же слов Илия понял, что старик простился не только с рыбалкой, но и жизнью… Он попытался заговорить с ним о его болезни, но бай Крыстю ни на что не пожаловался. Уходя, Илия уже все знал и без объяснений о болезни о том, как бороться с ней. Поэтому он направился не домой, а к почте. В голове у него уже созрел план спасения старика.
На следующий день почтальон принес домой бай Крыстю Глогову ставший позднее знаменитым приказ о его назначении на должность «оператора крушевской почтовой станции». Приказ содержал и один необычный, торжественно-патетический параграф о том, что бай Крыстю надлежит явиться завтра в 19 часов на работу в мундире, очках и с барабаном.
Прочитав приказ, бай Крыстю оперся на стену сидя на кровати и несколько минут сидел с закрытыми глазами. «В мундире, очках и с барабаном»… Этих слов было достаточно, чтобы вернуть его к жизни.
После ужина он закрылся в своей комнате. Сняв барабан, он принялся «настраивать» его. Кожа стала совсем сухой и надо было, чтобы она обмякла и приобрела ударную силу. Приведя в порядок барабан, бай Крыстю стал рыться в шкафу, под подушкой, в сундуке, пока не нашел две металлические прищепки. Он смочил водой усы и прижал их прищепками, чтобы они приобрели к утру «форму».
На этом подготовка к завтрашнему дню закончилась. Бай Крыстю погасил лампу и лег спать. Голова у него гудела от утомления, но на душе полегчало. В эту минуту он не думал, что его назначили не глашатаем, а оператором на почте, что пока он блаженно готовится ко сну, его приятель Илия ломает голову над тем, как сочетать радиотрансляцию с барабаном бай Крыстю.
На следующий день в шесть часов пятнадцать минут вечера новоиспеченный оператор спускался по дороге из Верхней слободы к центру села. Но скорее это был не спуск, а восхождение. Он медленно шествовал с барабаном в своей обшитой галуном куртке, с закрученными вверх усами. За ним бежала целая ватага ребятишек, с каждой минутой их становилось все больше. К ребятишкам вскоре присоединились и взрослые, которые поняли по парадному виду старика, что станут свидетелями чего-то необычного. Перед почтой бай Крыстю остановился. Из окошка выглянул Илия, он попросил старого ветерана войти внутрь, чтобы взять сообщение, которое тому предстояло зачитать. Селяне остались на улице, ожидая дальнейших событий. Прошло пять минут, глашатай не выходил, прошло десять минут — его все не было. С каждой минутой людей на площади становилось все больше. Почта находилась в том же здании, что и сельсовет.
Из дверей сельсовета вышел председатель, вынул часы, посмотрел на них — было без двух минут семь. Точно в семь часов, когда возбуждение толпы переросло в многоголосый ропот, из репродуктора радиоузла посыпались торжественные и стройные барабанные удары. Это была не та красивая и капризная барабанная дробь — импровизации бай Крыстю, которые так нравились ребятишкам, а мужественные, густые и равномерные удары, от которых по спинам поползли мурашки.
И самому барабанщику, который в эту минуту стоял перед микрофоном в операторской, тоже было не совсем по себе. Его побледневшее от волнения лицо было серьезным и сосредоточенным, как в те времена, когда его барабан поднимал в атаку бойцов. Правда, сейчас вокруг него не свистели пули, не гудела турецкая картечь, не падали раненые, не раздавалось оглушительное «ура», но зато на столе перед ним лежало написанное крупными буквами сообщение о начале строительства Белореченского водохранилища, о новой беспримерной битве, которую крушевцы совместными усилиями собирались дать своему извечному врагу — засухе. И бай Крыстю чувствовал себя сейчас и барабанщиком, и — простим ему это — главнокомандующим.
Юрий Нагибин
Школа для взрослых
Улесов осторожно приоткрыл дверь класса. В ушах еще звенел хрипловато-пронзительный отзвук школьного звонка, подгонявшего его по пролетам лестницы. Ну, так и есть: опоздал. Анна Сергеевна, учительница русского языка и литературы, сидела за своим столиком, листая классный журнал. Она была очень старательна, мелочно добросовестна, входила в класс по первому звонку. «Держится за свое место, — вскользь отметил Улесов, — учителей русского и литературы хоть завались». Он хотел было войти, но помедлил, удивленный странным обликом класса. Впервые он увидел класс со стороны. За детскими партами с трудом умещались три десятка учащихся: взрослые, здоровенные парни и под стать им девушки. Народ все был рабочий, крепкой, широкой кости, плечистый и большерукий. Несколько учащихся были при усах, а на безусых лицах глянцевела синь после бритья. Девушки были все, как одна, в перманенте, носы припудрены, а одеты они так, будто собрались не в вечернюю школу, а в клуб.
В среднем ряду на третьей парте было свободное место. Улесов мысленно заполнил пустоту своей фигурой и криво усмехнулся. Если его товарищи выглядят смешновато, что же говорить о нем, самом рослом и крупном в классе, заводском чемпионе по тяжелой атлетике!
Юнее всех и потому тоже не на месте выглядела учительница. Небольшая, худенькая, стройная, с веснушками на чуть вздернутом носу, в темном коротковатом платье, открывавшем острые, детские колени, она была бы за партой уместнее любого из своих учеников.
— Что же вы не входите, Улесов? — послышался ее голос.
— Разрешите? — запоздало произнес Улесов и под легкий смешок товарищей прошел на свое место, втиснулся на скамейку, руками засунув под парту левую ногу. Улесов знал, что теперь, увидев класс в смешном свете, он постоянно будет чувствовать, насколько сам он смешон за детской партой. Улесов был самолюбив, из самолюбия и пошел он учиться в вечернюю школу.
Улесов, как большинство мещерских ребят, проучился всего три класса. Когда ему стукнуло одиннадцать, отец вручил ему ружье и горсть патронов, присовокупив: «Потратишь заряд на чирка, голову сниму». С учением было покончено. Пройдя полный курс лесной и озерной академии, дающий человеку совсем не малое знание о мире, он считал себя вполне подготовленным к мещерской жизни. Он бил чирков влет, мог с одного выстрела заломить лося пулей домашнего литья, ловко работал веслом при любой волне, до полного подобия подражал голосам в природе и знал все про птиц, зверей и рыб. Вся эта мещерская наука годилась, пока не умер отец. Матери Улесов не помнил. Его взял к себе в дом дядя, шорник, болезненный, озлобленный нуждой и своей многосемейностью человек: приемыш оказался в доме девятым. У дяди в заводе не было ни пороха, ни дроби. Улесов подбирал на озере старые гильзы, высушивал их, накручивал взамен пороха головки спичек, а вместо дроби свинцовую стружку и кое-как охотился, пока однажды в его руках не разорвалась старая отцовская ижевка. Единственная его отрада исчезла, и жизнь Улесова стала невыносимой: в доме он был нянькой, им помыкал и стар и млад. Когда в деревне появился вербовщик с бакшеевских торфоразработок, Улесов, выглядевший в свои неполные пятнадцать восемнадцатилетним, подрядился в торфяники. На торфоразработках Улесов впервые увидел машины и с тех пор всем сердцем полюбил технику. Он сбежал из Бакшеева и устроился в ремесленное училище, откуда вышел токарем пятого разряда. В числе других своих товарищей он попал на крупный московский завод, и здесь началась совсем иная полоса жизни мещерского парня.
За два года Улесов, полюбившийся за свою понятливость и острый охотничий глаз старшему мастеру цеха, прошел под его руководством высшую заводскую науку. Он стал токарем-универсалом, а вскоре прославился и своим особым, «улесовским» методом обточки деталей. О нем написали сперва в заводской, потом в центральной газете, его приняли в комсомол, и с той поры стали все время куда-то назначать, выбирать, посылать. Он заделался непременным членом различных комиссий, делегаций, с которыми ездил в другие города страны и за рубеж. Улесов был очень здоровый, много вмещающий в себя человек. Он и работал с полной отдачей, и занимался спортом, и старательно посещал технический кружок — его на все хватало.
Товарищи, с которыми он два года назад приехал вместе из ремесленного училища, остались где-то далеко позади, растворились в заводской массе, и Улесов потерял их из виду. Они жили в барачном общежитии, а Улесов получил в заводском доме комнату на двоих, но вскоре ему предстояло переехать в отдельную однокомнатную квартиру. На самом разлете своих жизненных успехов Улесов не поленился сесть за школьную парту. Случилось это так.
Дочь главного инженера завода, проходившая в цехе Улесова преддипломную практику, пригласила его на встречу Нового года. Улесову предстояло впервые окунуться в незнакомую ему студенческую среду. Он пошел туда с любопытством, но без смущения. Придя в назначенный час, Улесов пожелал осмотреть большую, нарядно обставленную квартиру главного инженера. Желание его было исполнено. Он осмотрел все, вплоть до кухни, ванны и уборной, прикидывая в уме, что ему следует завести в его новой квартире. У него давно уже образовалась привычка примериваться ко всему хорошему, красивому и нужному, что он встречал с мыслью: у меня должно быть то же.
После ужина начались танцы. Улесов выбрал высокую, темноволосую, с маленьким, полуоткрытым ртом подругу хозяйки и танцевал с ней весь вечер, хотя это было явно не по вкусу спутнику девушки, зализанному студенту в четырехугольных очках без оправы. Девушка тоже чувствовала себя неловко, но покорилась властной и открытой манере Улесова.
Потом затеяли играть в литературные вопросы и ответы. Улесов был убежден, что это придумал зализанный студент, чтобы отомстить ему. Но поначалу он не почуял опасности и выдвинул свое кресло чуть не в центр круга. Вопросы были самые неожиданные, порой понятные, но чаще непонятные Улесову.
— Отчество Анны Карениной?
— Аркадьевна, — сказала хозяйка дома.
— Верно! — вскричал Улесов и захлопал в ладоши, хотя и понятия не имел об отчестве Карениной.
— Каким литературным героям поставлены памятники? — спросил зализанный студент.
— Тому Сойеру и Геку Финну, — неуверенно произнес кто-то.
— Дон Кихоту и Санчо Панса, — добавил другой голос.
— Шерлоку Холмсу в Лондоне, — весело сказал зализанный.
— Правильно! — воскликнул Улесов, обрадованный, что услышал знакомое имя: он читал книжку про Шерлока Холмса.
— Ах, вы это знали! — насмешливо проговорил зализанный студент.
Игра продолжалась. Улесов, подогретый вином, — как большинство мещерцев, он был непьющим человеком, и вино всегда ударяло ему в голову, — вертелся в своем кресле, хлопал угадавшим, радостно смеялся невесть чему и вскрикивал: «Здорово!», «В самую точку!» И в какой-то миг задремавший в нем инстинкт самосохранения подсказал ему: стой, тут дело неладно! Коротким, неприметным взглядом своих прищуренных, упрятанных под крепкую лобную кость, быстрых и цепких глаз Улесов окинул компанию и понял, что смешон: шумный, активный, благодушный и неспособный ответить ни на один вопрос. И тут хозяйка дома произнесла:
— Фамилия мужа Татьяны Лариной!
— Гремин! — грохнул Улесов и даже приподнялся, боясь, что его кто-нибудь опередит.
Ответом был взрыв смеха.
— Разве не так? — растерянно пробормотал Улесов. — Гремин — его еще Михайлов поет.
Теперь нарочито громко рассмеялся лишь зализанный студент.
— Это в опере Гремин, — сострадательно сказала хозяйка. — У Пушкина он не назван.
— Вот как! — проговорил Улесов, затем, смерив взглядом своего узкоплечего противника, добавил: — Конечно, разные люди знают про разное. Я верно, не читал этих книжек, не до того было. А вот кому-нибудь из вас приходилось бить плывущего лося?
— Нет, и неплывущего тоже, — насмешливым тоном отозвался студент.
Но его девушка тихо попросила:
— Расскажите.
И Улесов рассказал, как осенью сорок шестого года они обнаружили во время охоты лося, плывущего наперерез озера Великого. Лось был громадный, матерый самец с могучими рогами. Казалось, будто молодой дубок плывет по воде. Как назло, ни у кого не нашлось ни жакана, ни домашней пули. Охотники со всех сторон устремились к лосю на челноках. Первым его настиг крестный Улесова, Макар Семенович, и выстрелил лосю в голову, но тот и глазом не повел. Потом его ударил старейший охотник Дедок, но тоже безрезультатно. Это было в пору прилета чирков, и дробь у всех была мелкая, седьмой номер. Тогда Макар Семенович всунул ствол прямо в ухо лосю, бабахнул, но лось только тряхнул головой и поплыл дальше. Улесов выстрелил ему в другое ухо, лось продолжал плыть. И сколько в него ни стреляли, он все так же мерно рассекал грудью воду, словно заколдованный. Охотники преградили ему путь к берегу, он свернул на чистое, оплыл Березовый корь, взял курс на Прудковскую заводь, и у преследователей не осталось патронов.
— Он спасся? — с надеждой спросила подруга зализанного студента.
— Какой там! — усмехнулся Улесов. — Порубали топорами, порезали ножами, разве от наших уйдешь?
— И вам его не жалко? — спросила девушка, округлив глаза.
— Нешто не помните, какой сорок шестой год был? Засуха. У нас на что местность сырая, и то в земле все погорело. Картошка с горох уродилась. А уж о хлебе или там овсе говорить нечего. Лосем этим наши Выселки чуть не месяц кормились. А так, конечно, жалко, красивый был лось, отважный!.. — Улесов встал, включил радиолу и, обращаясь к своей партнерше, вежливо проговорил: — Разрешите?
Она поднялась с покорным видом, и Улесов понял, что своей грубоватой, но сильной выходкой он сполна расквитался за понесенное поражение. Но все же в тот самый вечер он решил поступить в вечернюю школу.
В школе у него не все пошло гладко. С математикой и физикой он справлялся отлично, в английском хромал равно со всеми, но вот с литературой и русским не заладилось. На худой конец, литературу, которую Улесов не любил и не понимал, можно было одолеть зубрежкой, но писал Улесов на редкость неграмотно, чуть не хуже всех в классе.
Ко всему еще русский и литературу преподавала молоденькая Анна Сергеевна, а перед ней разыгрывать олуха было особенно неприятно. Но на сегодня Улесов приготовил сюрприз, он блеснет совсем особым пониманием поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Надо только, чтобы его спросили. А в этом Улесов почти не сомневался. Анна Сергеевна и так вызывала его чаще других, к тому же сегодня Улесову хотелось, чтобы его вызвали, а его желания обычно сбывались.
Так оно и случилось.
— Товарищ Улесов, — раздался голос Анны Сергеевны. — Образ Евгения Онегина.
С преувеличенным усилием Улесов выпростался из-за парты и стал во весь рост, слегка расправив плечи.
— Онегин, — начал он задумчиво, словно подыскивая слова, — человек пустой, ни на что не годный, так сказать, паразит общества…
— Ох, не надо!.. — совсем не учительским, а каким-то детским, просящим и обиженным голосом сказала Анна Сергеевна и знакомым всему классу движением поднесла обе руки к прядкам волос над ушами. Этим движением она словно поправляла аккуратно причесанные, нисколько не нуждавшиеся в тем волосы, на деле же то был невольный защитный жест, каким она отгораживалась от всего неприятного, болезненного, досадного. — Это же не ваше мнение, это Писарев. Надо знать, чем вызвана его оценка, а не рубить с плеча!
Улесов покраснел: в своей наивности он полагал, что эта книга неизвестна Анне Сергеевне. Писарева ему подсунул сосед по комнате, сотрудник заводской многотиражки. Улесов постарался накрепко запомнить все рассуждения Писарева. Он хотел сразить Анну Сергеевну в споре, который, без сомнения, должен был возникнуть, или, хотя бы, доказать, что его нелюбовь к стихам вообще, а Пушкина в частности, имеет под собой надежное основание.
Но Анна Сергеевна поймала его. С досадой думая о своей промашке, Улесов почти не слушал рассуждений Анны Сергеевны о взглядах Писарева на искусство. Вдруг он услышал свое имя.
— Я не поверю, товарищ Улесов, чтобы вы, такой способный человек, не могли понять и полюбить слово Пушкина, Тургенева, Горького. Вот потому-то вы так плохо пишете. Кто много читает, не может писать, ну, хотя бы так… — Анна Сергеевна щелкнула замком вытертого портфельчика и достала какой-то листок, испещренный броскими красными значками. Улесов даже издали узнал свой размашистый, неровный почерк. Это был последний диктант. Кто-то засмеялся, кто-то шумно вздохнул: «Вот это да!»
«А чего, собственно, она ко мне привязалась? — подумал Улесов. — Что я ей, мальчик-восьмиклассник, что ли? Смекнула бы лучше, кто она со своими Пушкинами и кто я!..»
Тут он заметил, что все еще стоит с неловкой, ущемленной между партой и скамейкой ногой. Сузив зрачки, он сказал нарочито громко:
— Могу я сесть?
Анна Сергеевна поднесла руки к прядкам волос над ушами.
— Пожалуйста… простите… — пробормотала она почти жалобно.
«Так-то лучше!» — подумал Улесов, не отводя цепкого, недоброго взгляда от учительницы. В ее глазах, слабой улыбке было что-то жалко-заискивающее.
«Милый, дорогой мой, — думала Анна Сергеевна, — я же говорю это только для тебя. Ты сам не понимаешь, как обкрадываешь, как беднишь свою жизнь. Такой красивый, сильный, одаренный человек — и совсем глухой к самому прекрасному, что есть на свете, — к слову…»
Урок продолжался. А когда прозвенел звонок и класс в едином порыве устремился к дверям — урок был последним, Улесов подошел к Анне Сергеевне и попросил извинения за свою резкость. Он был отходчив.
— Ну что вы, я совсем не сержусь, — сказала учительница, покраснев. — Но, Сергей Иваныч, дорогой мой, скоро экзамены, что же мы будем делать?
Улесов развел руками.
— Знаете что, — сказала учительница. — Давайте заниматься дополнительно.
— Спасибо. Только — где?
— Приходите ко мне, — просто сказала Анна Сергеевна. — Я живу поблизости. Хотите, начнем прямо завтра.
Улесов записал адрес, пожал руку учительнице и крупными шагами сбежал вниз по пологой лестнице.
В вестибюле, пристроив на подоконнике зеркальце, две ученицы старательно работали губной помадой и тушью для ресниц. Одна из них, Муся Лопатина, повернулась к Улесову.
— А учительница по тебе сохне-е-т! — произнесла она нараспев.
Он посмотрел на маленький лобик Муси, на завивку барашком, на недокрашенный, будто испачканный красным рот, понял, что это любовный вызов, и не принял его:
— А нас это нисколечко не интересует!..
…Улесов поднялся на пятый этаж указанного ему дома, позвонил три длинных, два коротких, и дверь открылась раньше, чем он отнял палец от кнопки звонка.
— Заходите, Сергей Иваныч, — сказала Анна Сергеевна.
Он с трудом узнал ее в полутемной передней, освещенной одинокой лампой под самым потолком. На ней было что-то вроде халатика в цветочках, и это делало ее по-хорошему старше, женственней, чем обычное ее глухо-коричневое платье, похожее на школьную форму… И волосы не были так гладко и плоско стянуты к небольшому тугому узлу на затылке, они лежали пышней и свободней.
Анна Сергеевна повела Улесова длинными коридорами старой, запущенной квартиры. Они прошли один коридор, заставленный сундуками, древними, хранящими лишь пыль шкафами, свернули в другой, затем в третий, более узкий, с низким потолком. Анна Сергеевна толкнула дверь. То, что открылось Улесову, было как бы продолжением этого коридорчика. Сразу за дверью стояла раскладная алюминиевая коечка, крытая серым солдатским одеялом, с толстой, очень белой подушкой, на которой лежала еще одна маленькая, плоская подушечка. С потолка свешивалась лампочка с фунтиком из тетрадочного листка вместо абажура. Другая лампа, похожая на гриб, стояла на маленьком столе, уставленном книгами. Книг было много, толстых и тонких, больших и маленьких. Обернутые в чистую белую бумагу, они стояли рядком на столике, тесно забили висящую на стене полку, штабельками лежали на полу, на подоконнике высоко прорубленного в стене окошка. Книги да яркая картинка — крыша и купола старинного городка под закатом — единственно скрашивали убожество комнаты. И ничто не говорило, что здесь живет женщина: не было ни флакончиков, ни коробочек, ни пудрениц, ни даже зеркала.
— Любуетесь моими хоромами? — спросила Анна Сергеевна.
Улесов перевел взгляд на хозяйку. Здесь, при более ярком освещении перемена в облике учительницы была еще приметнее. «А она симпатичная!» — с некоторым удивлением отметил про себя Улесов. Портили Анну Сергеевну лишь серые, некрасивые нарукавники, но ведь она собиралась работать.
— На коридор похоже, — пробормотал Улесов, решивший не врать, что ему здесь нравится.
— Да это и есть коридор! — просто сказала Анна Сергеевна. — Как-никак, мне ужасно повезло. Приехать в Москву и сразу получить работу и площадь! Я везучая.
«Не много же тебе надо!» — подумал Улесов, еще раз оскользнув комнату взглядом.
— Вы разве не москвичка? — спросил он.
— Нет, я из Мышкина.
— Откуда? — Улесов невольно улыбнулся. Невзрачное название городка подходило к Анне Сергеевне с ее тощей коечкой, крытой солдатским одеялом, ко всей этой несуразной комнате, выкроенной из коридора.
— О! Вы не смейтесь. Мы чуть ли не самой Москве ровесники!
— Производство там есть? — спросил Улесов.
Нет, производства в Мышкине не было.
— У вас там родня осталась?
— Мама. Хотите я вам ее покажу? — Анна Сергеевна достала из сумочки небольшую выцветшую фотографию: под деревом, на скамейке, пожилая женщина читала книгу, отведя ее от дальнозорких глаз. — Правда, красивая? Я не в нее пошла… Она продавщица в книжном магазине, единственном у нас в городе.
— Это у вас от нее? — Улесов кивнул на книжную полку.
— Да! — радостно подтвердила Анна Сергеевна. — Мама так любит и знает книги. Ей бы учиться, да приходилось тянуть меня и брата.
— У вас есть брат?
— Погиб на фронте. Это мама заставила меня ехать в Москву. Мне так страшно было ее оставить, она совсем плоха, почти не видит. Я была в заочной аспирантуре, но мама говорит, что это не настоящее, в Мышкине нет даже таких книг, которые мне нужны для работы. Вот я и приехала. Правда, пока меня не перевели на «очное» отделение, но с будущего года обещали. Мне уже скоро защищать.
— А кем вы будете, когда защитите?
— Кандидатом филологических наук.
Улесов почувствовал к Анне Сергеевне уважение. И сама она, и то, что ее окружало, предстало перед ним в новом свете. Эта ее жизнь была лишь разбегом перед прыжком. «Молодец, — думал он, — не побоялась бросить старую, больную мать, приехать в чужой, огромный город, без угла, без пристанища. Видать, цепкая, такая осилит жизнь…»
— А много получают кандидаты? — спросил он.
— Ужасно много. Более двух тысяч. Конечно, если заниматься преподавательской или научной работой.
«Сильно! — подумал Улесов. — Почти столько же, сколько вышибаю я».
— Знаете, Анна Сергеевна, — сказал Улесов. — А ведь у нас с вами много общего. Мы оба приехали, чтобы завоевать Москву.
Знакомым отстраняющим движением она поднесла руки к прядкам волос над ушами.
— Какое там! — слабо усмехнулась она. — Самой бы уцелеть.
Это была шутка, но шутка прикрывала какое-то серьезное возражение. Улесов угадал это по ее жесту.
«Почему люди боятся прямых слов? — подумал он. — Почему любят прикидываться маленькими и тихонькими? Вот не боюсь же я думать и говорить: все хорошее, чем пользуются люди здесь, в Москве, должно быть и у меня, мещерского парня».
И он пустился в рассуждение о своей жизни, о пути, который проделал за последние годы. Улесов говорил только правду, даже не всю правду, потому что настоящая, полная правда выглядела бы хвастливо, и он не мог понять, почему, слушая его, Анна Сергеевна так часто подносит руки к вискам, которые были в полном порядке. Это мешало и раздражало.
— Как много вам дается! — сказала Анна Сергеевна, когда он замолк. — Ведь это трудно, поди…
— Что ж, дается! Ведь не даром дается, — проговорил он обиженно. — А дается потому, что могу взять. Жизнь меня не баловала, Анна Сергеевна, мне куда горше вашего приходилось. Так чего же мне прибедняться теперь?
Она чуть наклонила голову.
— Нет, мои устремления куда скромнее. Защитить бы только диссертацию — и назад в Мышкин.
— Это зачем же? — грубовато спросил Улесов.
— Там мама!.. А потом, ну как же иначе? — Она улыбнулась. — Единственный мышкинец с ученой степенью, гуманитарной, правда, и не вернуться в свой город!.. А работать там будет куда интереснее, чем в Москве. Здесь таких, как я, пропасть.
— В смысле работы — это да! — сказал Улесов. — Случись, что мой завод загонят в черты на яры, я, не задумываясь, с ним поеду.
«Нет, не поедешь, — сказал внутри него какой-то холодный и трезвый голос. — Перейдешь на другой завод и сохранишь Москву».
Он почувствовал неприязнь к учительнице, заставившей его солгать, а он не терпел лжи, натолкнувшей к тому же на неприятное и неожиданное открытие в самом себе.
Анна Сергеевна прервала его мысли.
— Я совсем вас заболтала, — сказала она озабоченно. — Давайте заниматься.
На столике было все приготовлено для занятий. Лежала развернутая тетрадка с промокашкой, ручка с новеньким пером, стояла открытая непочатая бутылочка с чернилами. Улесов с трудом уместился за маленьким столиком, и эта теснота напомнила ему школу.
«Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца, — начала Анна Сергеевна, — мелькали бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью».
Она взглянула на Улесова, но тут же вспомнила, что пишущий диктант не слышит музыку и красоту фразы. Ей показалось, что Улесов работает очень внимательно. Она стала диктовать дальше, чуть-чуть плутуя сама с собой, — излишне четко выговаривая слова, чтобы он сделал меньше ошибок и поверил в себя.
Но Улесов думал совсем не о диктанте. Анна Сергеевна отвела его щедрую попытку приравнять их судьбы. Неужто она считает, что достигла или достигнет большего? Нет, тут что-то иное, какое-то странное превосходство, которое не оставит ее, даже если все ее планы рухнут. Или это просто какая-то незнакомая ему бабья дурь? А все-таки с ней интересно, ни с одной женщиной не было ему так интересно… Улесов вспомнил свою последнюю подругу, красивую, рослую Лину. Если с ней не танцевать и не лежать в постели, то можно с тоски удавиться. Только и знает, что кинофильмы рассказывать. Даже когда они совсем рядом, стоит им перестать обниматься, как пошло: «А тут этот Жульен и говорит ей…» — «Кому еще?» — «Да графине, нешто забыл?» Прямо зубы ноют. Здоровенная деваха, а картины рассказывает все какие-то кислые и слезливые.
— Ну, все! — услышал он голос Анны Сергеевны и жирно поставил точку. — Красный карандаш не понадобится? — спросила она с улыбкой.
Но красный карандаш понадобился. Улесов наделал множество ошибок. У Анны Сергеевны стало огорченное лицо.
— Сергей Иваныч, милый, ну, почему же «халмы»? Разве вы не слышите: «холм» — «холмы»? Когда не знаете, как писать, попробуйте найти корень, от которого слово происходит.
Она принялась объяснять Улесову его ошибки, и впервые Улесов почувствовал, что мог бы писать куда правильнее, если бы делал так, как говорит Анна Сергеевна. Заметив в его глазах интерес, она воодушевилась, и огорченное выражение покинуло ее лицо.
— А теперь послушайте, как это звучит. — И она красиво и выразительно прочла продиктованный отрывок. — Вы чеховскую «Степь» не читали?
— Нет, я смешные его рассказы читал.
— Прочтите, это так хорошо! Я никому не даю книг, но для вас сделаю исключение. Возьмите, — она протянула ему обернутый в бумагу томик.
— Спасибо, — немного удивленно проговорил Улесов. Ему показалось странным, что книги, которых полно в магазинах, представляют для нее такую ценность.
— Ну, а сейчас довольно науки! — весело сказала Анна Сергеевна. — Давайте чай пить. — Она сняла свои серые нарукавники, и освобожденная легкая ткань халата красиво взметнулась над ее маленькими круглыми руками.
Быстро и ловко двигаясь в узкой комнате, Анна Сергеевна расчистила стол, чуть выдвинула его вперед и накрыла белой, жесткой от крахмала, скатертью. Она принесла из кухни чайник, затем на столе появилась коробка с печеньем, баночка с вишневым вареньем и вазочка с конфетами.
«Неужели она все это для меня покупала?» — подумал Улесов, и какое-то новое, странное чувство шевельнулось в нем.
— Анна Сергеевна, вы были замужем? — Это спросилось как-то само собой, против воли.
— Была! — ответила она живо. — Ведь мне уже двадцать шесть лет.
«Так ей двадцать шесть! Она на четыре года старше меня, а я думал, мы ровесники».
— А где ваш муж?
— Вот уж этого не знаю. Он заготовитель, ездит по районам. Так мы с ним и познакомились у нас, в Мышкине. Прожили два года, а потом оказалось, что у него есть другая семья. Ну, мы и разошлись, хотя и без суда. Это такая поблажка для двоеженцев. — Говоря так, она продолжала собирать на стол. — Да… я и забыла, вас, мужчин, чай не очень привлекает, вам главное — бутылочка. — Она подошла к полке и вытащила из-за книг бутылку портвейна.
— Я не пью, — пробормотал Улесов.
— Ах, как досадно! — огорченно воскликнула Анна Сергеевна. — Наверное, надо было купить водки.
«Значит, и портвейн для меня», — подумал Улесов.
— Нет, Анна Сергеевна, я вообще непьющий, а водку и в рот не беру. У нас, в Мещере, редко кто пьет. Но от рюмки портвейна и мещерец не откажется.
Он взял бутылку, открыл ее толчком ладони в донышко и разлил вино по маленьким стопкам.
— За что же мы выпьем?
— Знаете, за что? Чтобы вы полюбили родной язык… Нет, правда, — говорила Анна Сергеевна. — Вся поэзия, вся красота жизни в слове, в языке. Без него все было бы мертво для нас.
Улесов заметил, что глаза ее странно блеснули и она тут же поднесла рюмку к губам, словно закрылась ею.
— Анна Сергеевна, — сказал он тихо и серьезно, — вы не думайте, что я уж такой серый и ничего не понимаю… Я, может, выразить не умею… Только для вас… это самое в словах, а для меня, что ли, в цифре. Я правду говорю. Вы нашего дела не знаете, а вот когда я нашел одну нужную цифру, так у меня тоже вся душа ходуном ходила и слезы на глазах… Из-за этой цифирки новый метод обточки появился. Его теперь «улесовским» называют…
— Я понимаю вас, — сказала Анна Сергеевна с таким видом, будто он доверил ей сокровенную тайну.
Они пили остывший чай, и Анна Сергеевна, словно об одолжении, попросила Улесова послушать еще стихи. У нее был приятный мягкий голос, и она не читала, а словно рассказывала стихи. Улесову понравились строчки: «Мы все в эти годы любили, а значит — любили вас». Он повторил их вслух.
— Хорошо как, правда? — воскликнула Анна Сергеевна. — Это Есенин.
— Земляк! — сказал Улесов, обрадованный, что он может говорить о чем-то дорогом Анне Сергеевне. — Наш, мещерский! В Спас-Клепиках учился.
— Ой, как здорово! — Анна Сергеевна благодарно посмотрела на Улесова. — Значит, вы видели те же зори, те же березы, те же восходы, закаты, звезды… Как чудесно описал он ваш край!
— Хорош наш край, что говорить!
И Улесов принялся расписывать Мещеру с ее озерами, реками, тростниками, плавнями и лесами. А в памяти стояла продымленная, вонючая изба дяди, кислый запах кожи и грязных пеленок, голодная, холодная, унизительная жизнь у чужих людей. «До чего же не люб ты мне, край мой!» — стучало у него в мозгу в то время, как язык молол про мещерские красоты.
— Иной раз так бы все бросил и уехал в Мещеру, — закончил он с отвращением к собственной лжи.
«Зачем я вру? — думал Улесов. — Ведь мне от нее ничего не нужно. Зачем же я выламываюсь ей в угоду?»
Раз испытанное раздражение против учительницы охватило его с новой силой. Она заставляет его лгать, притворяться иным, чем он есть. Разве у него что-нибудь не в порядке? Никто этого не считает. Пусть она восхищается своим Мышкиным, а он любит Москву и терпеть не может Мещеру, исковеркавшую его детство. Так зачем же он подделывается под нее?
Улесов мутновато посмотрел на Анну Сергеевну. Она раскраснелась от вина и сидела рядом, такая теплая, домашняя, протяни руку и возьми. Но Улесов понимал обманчивость этой незащищенности, и протестующее чувство против нее не улеглось, лишь приняло другую форму. Смять, подчинить, чтоб без остатка исчезло ее мнимое превосходство, чтоб она забилась в руках его, покорная, бессильная, чтоб была только его сила, его воля и власть.
Он поднялся.
— Я пойду, — сказал он, ощущая во рту неприятную сухость.
— Так скоро? — воскликнула она огорченно. — Но еще рано!
— Нет, пора… — проговорил он и пошел к двери, где висело его пальто.
Она шла за ним. Только обернуться… Ведь он же нравится ей, она готовилась к его приходу, ждала его. Накупила всякой всячины, даже бутылочку вина. Ей двадцать шесть, она все понимает. Пусть он в чем-то обманывается, но бутылочка-то была, он чувствует в голове и в сердце выпитое вино, оно было для него. В расчете на эту бутылочку Улесов обернулся и голосом, которому страх перед поражением, перед ошибкой, которой нет прощения, придал умоляющую искренность, воскликнул:
— Анна Сергеевна!
«Милый, дорогой мой, — думала Анна Сергеевна, — я знаю, что ты меня не любишь, знаю, что этого делать нельзя, не надо делать. Но я не могу больше жить без счастья, даже без такого коротенького счастья. Слишком черны мои ночи, слишком пусто вокруг меня. Только не думай, что ты меня обманываешь, я все понимаю».
Она подошла к нему и, встав на цыпочки, обняла его шею, прижалась к нему неожиданно сильным, крепким телом.
Последней отчетливой мыслью Улесова было озорное: выдержит ли меня эта коечка?..
Улесову совсем не улыбалось, чтобы в школе проведали о его отношениях с Анной Сергеевной. И не потому даже, что по глубоко въевшимся мещерским его представлениям двадцатишестилетняя Анна Сергеевна была чуть ли не старухой. Но уж больно неказисто, неярко и ненарядно она выглядела. Ее домашняя прелесть ведома ему одному, а для других она просто недомерок — не девочка и не женщина. Даже глуповатая Муся Лопатина с ее маленьким лобиком и прической барашком рядом с Анной Сергеевной смотрелась павой. Ради чего ему было подвергаться пересудам и насмешкам острых на язык девчат?
Встретившись с Анной Сергеевной в школе, он сделал такое отчужденное лицо, что сам тут же решил: между ними все кончено. Ничуть не бывало. Когда он выходил из класса, Анна Сергеевна шепнула ему: «Вы придете?» Оглянувшись, не видит ли кто, Улесов коротко кивнул головой. Встречи их продолжались, но в школе Улесов придерживался раз избранного поведения и начал даже слегка ухаживать за Мусей Лопатиной. Он догадывался, что эта его наигранная отчужденность, граничащая с пренебрежением, огорчает Анну Сергеевну. Но она никогда не жаловалась, и Улесов оставался верен себе. Так было проще и спокойнее и для него, и для учительницы, убеждал себя Улесов.
Но однажды, когда он был у нее, Анна Сергеевна спросила:
— Тебе в самом деле нравится Муся?
— Что за чепуха? — недовольно отмахнулся Улесов.
— Но ты так внимателен к ней!
— Для отвода глаз, — усмехнулся Улесов. — Ты наших девчат не знаешь, у них язычок — только держись!
— Странный способ охранять дружбу!
— Кабы у нас дружба была!.. Да и то — народ такой: из мухи слона сделают.
— Я не понимаю твоей боязни. Разве в любви есть что-нибудь унизительное?
— В любви… — повторил Улесов. — А ты разве меня любишь?
— Ну, а как ты думаешь? Могла б я быть с тобой?
«Я-то вот могу!» — подумалось Улесову. Разговор заставил его задуматься. С этим нужно было кончать: зачем морочить ей голову, ведь он же не любит ее. Лучше сделать это сейчас, чем дальше тянуть…
Он ушел раньше обычного, в одиннадцатом часу вечера. Густой снег, накануне устлавший город, слегка подтаял, его пятнали дегтярно черные следы прохожих и зубчатые отпечатки автомобильных шин. Мальчишки вели снеговой бой. Один паренек в ушанке с торчащим ухом отстреливался от двух противников. Ему крепко доставалось, но он не падал духом и упрямо шел в атаку. Принимая в лицо снеговые гранаты, он потеснил своих противников в подворотню. В ребячливом порыве Улесов ухватил горсть снега, умял в плотный комок и пустил в мальчишку. Снежок угодил тому в макушку и разлетелся брызгами. Паренек оторопело глянул на Улесова и вдруг разревелся. Ему большее доставалось от товарищей, но ведь это был взрослый дядька, которому он не мог ответить тем же.
— Эх ты! — разочарованно проговорил Улесов и, посмеиваясь, двинулся дальше.
На другой день вечером Улесов отправился в клуб на танцы. Его подруга Лина была там и танцевала с летчиком-лейтенантом в картонно-жестком кителе и ярко начищенных сапогах. Она была очень крупная, под стать Улесову, и кавалер, хоть и танцевал на носках, едва дотягивался ей до подбородка. Завидев Улесова, Лина тут же оставила лейтенанта и подошла к нему.
— Объявился, пропащая душа! — сказала она, кладя ему руку на плечо.
Улесова обрадовала эта непритязательная простота, но, прежде чем начать танец, он померился взглядом с лейтенантом. Пробуравив своими голубыми, обиженными глазами темные, в прищуре, зрачки Улесова, лейтенант смирился и оставил поле боя.
После танцев Улесов пошел провожать Лину домой. У нее была своя комнатка неподалеку от завода. Вопреки обыкновению, Лина не рассказывала последнего кинофильма, а молча висла у него на руке. У небольшого домика, обнесенного заснеженными кустами, они остановились. Улесов высвободил руку.
— Зайдешь, Сережа?
— Поздно, спать хочется, — неожиданно для самого себя ответил Улесов.
— Вон какой нежадный!.. Или правду говорят, что ты с учительницей крутишь?
Улесов не ответил. Слова девушки перенесли его в длинную, узкую комнату, выкроенную из коридора. Он физически ощутил шерстистую жесткость грубого, солдатского одеяла на груди и подбородке, а рядом ночную, живую теплоту Анны Сергеевны. Как сильно захватила его маленькая учительница! Ну и ладно, пусть будет и такое воспоминание, жизнь его идет мимо этой встречи, а на хорошем не следует спотыкаться, как и на дурном.
Обиженно вскинув голову, Лина ушла. Улесов даже не посмотрел ей вслед. Он думал об Анне Сергеевне. Слишком неровня она ему по годам, да и не только по годам. У них все разное: характеры, интересы, взгляды. Даже на самой заре отношений приходилось как-то приспосабливаться к ней, кривить душой, словно бы он ощущал в себе какую-то неправду. Нет, придет пора, и он выберет себе подругу по плечу, с ней он будет самим собой, а коль что у них не сойдется, так не себя будет он ломать, а ее вывернет на свой лад. И все-таки хоть бы еще раз подняться по знакомой лестнице, услышать тихий возглас: «Сережа!», почувствовать ее рядом.
«Нельзя!» — жестко стукнуло в мозгу, и, чтобы легче было выполнить этот внутренний приказ, Улесов решил некоторое время не ходить в школу.
На другой день Улесов с головой погрузился в работу. По окончании смены он заперся в лаборатории, затем пошел на квартиру старшего мастера, чтобы поделиться со стариком своей новой, заманчивой и неожиданной находкой. Эта находка так захватила Улесова, что он появился на занятиях лишь через неделю и узнал, что Анны Сергеевны уже нет в школе, а русский и литературу ведет старенький Павел Игнатьевич из параллельного класса.
Добрые души сообщили Улесову, что этому предшествовала бурная сцена между Мусей Лопатиной и учительницей.
Муся Лопатина провалила контрольную по литературе. Обозлившись, она сказала Анне Сергеевне перед всем классом:
— Конечно, будь на мне брюки, вы бы меня не засыпали.
Анна Сергеевна вспыхнула, потом побледнела и тихо сказала:
— Или вы сейчас же извинитесь…
— Или — что? — вызывающе спросила Муся.
— Или один из нас покинет школу.
И тут Муся, тряхнув перманентом, окончательно сбросила с себя вынужденную покорность школьницы и предстала в своем подлинном обличье самой отчаянной заводиловки женского общежития, привыкшей все в жизни брать с бою.
— Мне покидать нечего, у меня все чисто! Я за парнями не бегаю, и они от меня не бегают!
А дальше произошло то, о чем Улесову не могли рассказать. Анну Сергеевну попросили зайти к директору.
— Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал? — спросил директор, пожилой, с ватным, слабым голосом человек. Он долгие годы директорствовал в обычной десятилетке, но тяжелая болезнь сердца заставила его избрать «тихую гавань», какой считалась школа для взрослых.
— Догадываюсь, — сказала она.
— Вы согласны со мной, — продолжал директор своим замедленным, ватным голосом, — что сцена, которая произошла у вас с Лопатиной, не должна иметь места в стенах школы?
Анна Сергеевна чуть приметно кивнула.
— У нас не обычная десятилетка, — говорил директор, — и ученик восьмого класса Улесов вполне мог быть вашим мужем…
— Он не будет моим мужем, — сказала Анна Сергеевна.
— Я не имею права вторгаться в вашу личную жизнь, но вы понимаете сами, что ваше дальнейшее пребывание в школе делается крайне затруднительным. Конечно, — сказал директор и вздохнул, — если бы ваш друг сумел охранить вас от подобных сцен… Но сейчас я, право, не знаю, что делать. Без авторитета, без уважения учеников нельзя работать в школе.
— Я не думаю, чтобы меня не уважали, Алексей Григорьевич.
— Я тоже этого не думаю. Я сам вас глубоко уважаю и ценю, Анна Сергеевна.
— Я должна подать заявление об уходе? Вот оно, — Анна Сергеевна достала из портфеля сложенный вдвое листок бумаги и положила на стол перед директором.
— Мне очень, очень жаль, Анна Сергеевна…
Он смотрел, как Анна Сергеевна пошла к двери. Подобно всем маленьким женщинам, она держалась подчеркнуто прямо, и сейчас спина ее была прямой, с легким прогибом внутрь. Двери школы, расположенной в старом особняке, были огромны и тяжелы, как ворота, с высокими, массивными ручками. Анна Сергеевна чуть приподнялась на носки, по-детски взялась двумя руками за медную ручку и качнула ее вниз, словно колодезное коромысло. Дверь медленно приотворилась и тут же плотно закрылась за учительницей.
Директор некоторое время сидел очень тихо, прислушиваясь, как глухо и неровно бьется в нем сердце, затем вызвал секретаршу.
— Когда появится Улесов, попросите его ко мне.
Узнав, что его требует директор, Улесов сразу смекнул, откуда ветер дует. «Ну, я вам не Анна Сергеевна, меня колесом не объедешь», — подумал он со злобной решимостью.
— Вы знаете, что Клевцовой приходится оставить школу? — были первые слова директора.
— Да… я слышал.
— Что вы об этом думаете?
— Трепачам рта не заткнешь, — угрюмо проговорил Улесов.
— Я не о том… Что сделано, то сделано. Меня интересует будущее.
Улесов весь подобрался, как перед выстрелом.
— Я полагаю, это мое личное дело.
Директор чуть помолчал. «Маленькие дети — маленькие хлопоты, большие дети — большие хлопоты, — думал он. — Вот тебе и тихая пристань!»
— Анне Сергеевне будет очень трудно, — сказал директор.
— Это почему же?
— Преподавательской работы в середине года она не найдет. Ей придется покинуть Москву, значит, рухнут ее планы.
— Это все поправимо, — проговорил Улесов и сел поудобнее. — Я буду помогать ей, пока она не устроится.
— А вы думаете, молодой человек, что Анна Сергеевна примет такую помощь?
— Так у нее же нет выхода! — простодушно сказал Улесов. — Будьте покойны, я сумею ее убедить!
Директор со странным интересом разглядывал Улесова.
— Говорят, товарищ Улесов, что вы передовик производства, отличный физкультурник, на прекрасном счету в комсомольской организации, это все верно?
«Вот оно — начинается!» — отметил про себя Улесов: ему почудилась скрытая угроза в словах директора.
— Давайте завод не трогать, — произнес он холодно, — завод тут ни при чем. — Улесов решил идти в открытую. — И вообще, к чему весь этот разговор? Мне и самому неприятно, что так вышло, но никакой вины я за собой не чувствую. Анна Сергеевна не девочка, она старше меня и сама отвечает за свои поступки.
— Ваша вина в одном, — послышался слабый, ватный голос, — любили вы или не любили, а ваше место было радом с ней…
Мысль ускользнула от Улесова, но зато он понял одно: директор не станет раздувать эту историю и доводить ее до завода.
— Оставим прошлое, — продолжал директор. — Жизнь свела вас с чужой душевной невзгодой, с большой человеческой бедой, а где же ваше сердце, душа? Где ваша ответственность за судьбу человека?
— Ладно, — сказал Улесов и поднялся…
«Чудак!», — с добрым чувством думал Улесов о директоре, быстро шагая к дому учительницы. Теперь, когда он не опасался, что эта неприятная история может ему повредить, ему искренне хотелось помочь Анне Сергеевне. Он от души жалел ее, к тому же его увлекала необычная и благородная роль спасителя. Но было и еще одно, едва ли не главное: ни близость, давшаяся ему так легко, ни кажущаяся безответность Анны Сергеевны не уничтожили странного превосходства учительницы, которое он ощутил еще в первый день. Она никогда не давала ему почувствовать это превосходство, и все равно Улесов его чувствовал. То, на что он больше всего полагался в себе, его жизненная хватка, странно обесценивалось в ее близости. Но сегодня ей придется признать свое поражение…
Улесов легко взбежал по лестнице на пятый этаж. Анна Сергеевна не ждала его, и Улесов впервые довольно долго протомился у входной двери. Эта маленькая заминка как-то странно сбила то победное настроение, с каким он спешил сюда. Знакомо звякнула дверная цепочка.
— Сережа?! — Голос Анны Сергеевны звучал чистой радостью, будто ничего не произошло. На ней был все тот же халатик и серые нарукавники. Видимо, она работала.
Они прошли в комнату, и Улесов увидел, какой работой занималась Анна Сергеевна: она укладывалась.
Книжки в белой обертке были увязаны в аккуратные пачки, на столе стоял раскрытый чемоданчик, на дне его лежала картинка с видом старинного городка, стопки, из которых они пили вино, чашки, из которых они пили чай; рядом с чемоданчиком лежала горка белья. Свежевыглаженное темное платье, в котором Анна Сергеевна ходила в школу, висело на спинке кровати, покрытой серым солдатским одеялом.
Вид этого разора неприятно поразил Улесова. В голову полезли какие-то жалкие, мешающие мысли. Фу, как гадко, как скверно все получилось!..
— Анна Сергеевна, — сказал он глухо. — Вы не должны уезжать. Неправильно это… Беда наша общая, и сладить мы с ней должны вместе.
— Слишком поздно, Сережа… Вместе — надо бы немножко раньше. Тогда все было бы по-другому.
Улесову вспомнились слова директора: «Ваше место было рядом с ней». Лишь сейчас понял Улесов свою вину перед учительницей. Из мальчишеского самолюбия, из боязни огласки и насмешки, из боязни хоть немного осложнить свою жизнь он предал Анну Сергеевну. Никогда бы не случилось того, что сломало ее жизнь, если бы он открыто встал на защиту их дружбы. Люди всегда уважают все настоящее, честное и смелое…
— Ну, не делайте таких глаз, — услышал он голос Анны Сергеевны. — Вы меня совсем не обидели. Я вам так благодарна за наше милое, хорошее… Ну, не надо, дорогой, это же все пройдет, все будет опять хорошо…
Ее маленькие теплые пальцы тихонько коснулись его руки. Она хотела помочь ему справиться с этим, помочь жить дальше, ему, который считал себя сильным, который шел сюда, чтобы спасти ее. Разве нуждается она в помощи? Она споткнулась, правда, но ничего не потеряла в себе, потому что она сильная и чистая. Из ее руки к нему шло нежное, мягкое тепло. Не было ничего в мире надежнее, вернее, прочнее этого тепла.
— Анна Сергеевна, — тихо сказал Улесов. — Анна Сергеевна, вам не надо уезжать, нельзя уезжать… Анна Сергеевна, давайте будем мужем и женой. — Он мучительно покраснел от бедности и неуклюжести этих слов.
— Ну, как же так — без любви? — Она пристально заглянула ему в глаза.
— Вы ж сами сказали, что любите… — пробормотал Улесов.
— Этого мало, Сережа.
Улесов смешался. Сказать, что он тоже любит ее? Так ведь неправда, нешто такая она, любовь?
«Милый, — думала Анна Сергеевна, осторожно гладя плечо Улесова, — ну, узнай, угадай меня, как твое единственное, ведь я нужна тебе, быть может, больше даже, чем ты мне. Ну, загляни в себя поглубже, ты много сегодня понял, сделай еще одно усилие…»
— Разве нам плохо было вместе? — уклончиво проговорил Улесов.
Анна Сергеевна тихо улыбнулась и отошла.
— Не надо больше об этом, Сережа, — сказала она. — В жизни всякое бывает: и хорошее, и плохое, и не знаешь, что человеку труднее — плохое или хорошее. Пожалуй, плохое легче — силы прибавляются, в хорошем и потеряться можно. А за меня не бойтесь, я, как писал Лесков, «на коротких ножках», а такие устойчивы. — Она засмеялась и протянула Улесову руку.
Улесов вышел на улицу. Он был немного смущен, растроган, немного сбит с толку и будто раздосадован, что его порыв пропал впустую, но над всеми этими смутными ощущениями вначале подспудно, а затем открыто и ликующе подымалось радостное чувство освобождения. Он от души был благодарен Анне Сергеевне, что она не приняла его жертвы, не связала по рукам и ногам тяготой чужой судьбы.
Ночная улица лежала перед ним, как дорога в новую жизнь, и Улесов радостно и легко зашагал вперед…
Прошло несколько лет. Маленькая учительница из Мышкина, мелькнувшая как дорожный огонек в юные годы жизни Улесова, вернулась острой, незатихающей болью. Улесов и сам не знал, почему это давнее переживание всплыло в его душе в ином, странном, тоскующем образе. Не то чтобы он испытывал запоздалые угрызения совести или раскаяние, нет, сейчас, через годы, Анна Сергеевна не казалась ему ни обиженной, ни оскорбленной, ничего ущербного не было в этой новой памяти о ней. Все мелкое, жалкое, дурное отшелушилось от воспоминания, осталось что-то горячее, трепетное, летящее, необыкновенное, перед чем меркли другие воспоминания, другие радости, другие переживания его жизни.
Неужто и впрямь все это было? Да, было, было такое, чего уж никогда потом не было: маленькая комната, тихий свет лампы, остывший чай на столе, белые корешки обернутых в бумагу книг, теснота узкой кровати, ночное тепло нежного и сильного тела, дневное тепло руки, самое надежное тепло в мире…
Ивайло Петров
Любовь в полдень
Речь пойдет, естественно, о любви вне брака. О любви супружеской не стоит и говорить в этот июльский полдень, вряд ли кто-нибудь возьмет на себя этот неблагодарный труд. И все же, если кто-нибудь поднимет знамя законной любви, когда дерево и камень трескаются от жары, то это значит только одно — в его жилах течет жаркая кровь. Иван Мавров, наш злосчастный директор, не только не обладает бешеным темпераментом, но скорее ленив, что не мешает нашему предприятию выполнять годовой план и даже перевыполнять его, и это принесло нашему руководителю известную популярность. Но я не намерен говорить о его деловых качествах. Как вы, верно, уже поняли по моему краткому предисловию, я хочу рассказать о его любви.
Любезные, или, как выражались в прошлом веке французы, галантные истории директоров, министров, полководцев, епископов, пап и прочих высокопоставленных духовных и светских лиц претерпели тысячи литературных инфляций от Илиады до наших дней. И если я осмеливаюсь рассказать такую «галантную» историю, то смелость мне придает бесспорная истина, что хоть мир уже и постиг природу человеческих страстей, все же любовь в различные эпохи, говоря языком критиков, имела свою «специфику». Воспевая это самое сладостное и высшее благо, данное человеку в вечное и безвозмездное пользование природой, авторы, жившие несколько веков назад, впадают обычно в многословие, похожее на сплетни, но никто не сообщает нам, например, что высшее начальство имело интимные связи со служительницами вверенных им предприятий. Это обстоятельство, в сущности, не должно нас смущать, потому что в те времена женщины не несли никакой иной службы, кроме как при папских или императорских тронах. В описаниях этих авторов нигде не говорится и о том, что древние греки, римляне, средневековые рыцари и даже граждане девятнадцатого века покупали колесницы, кареты, брички, фаэтоны и другие транспортные средства для осуществления своих галантных связей с нежным полом. А наш Иван Мавров страдал как раз из-за отсутствия транспортного средства, притом служебного. Собственный автомобиль он все еще не собирался покупать, а его служебная «Волга» месяц назад попала в катастрофу, это случилось в начале июля, и вот уже месяц, как он испытывал истинную ностальгию по тихим, теплым и полным любви вечерам, когда они с Дафи уезжали за город и сворачивали с шумной магистрали на какую-нибудь глухую сельскую дорогу. Если в мае природа все еще лихорадочно листает журналы мод, чтобы выбрать подходящие для сезона наряды, и примеривает новые туалеты, то в июне она уже облачилась в них, и над лесами, горами, полями носятся ароматы самых дорогих духов — не парижских, а собственного производства. Итак, молодая, ослепительная в своем великолепии, она с безумной щедростью дарила свою красоту Ивану Маврову, а Иван Мавров впадал в трогательное опьянение, потому что — и об этом давно следовало сказать — весну он отождествлял с Дафи, а Дафи — с весной.
Интимные отношения между шефом и секретаршей, если таковые имеются, давно считаются деловыми, потому что каждый пользуется положением другого. Дафи сначала была чем-то вроде чернорабочей, потом перешла на более легкую работу, потом стала секретаршей и оказалась в соседней с директором комнате. Соответственно этим служебным переменам менялось и ее имя — Фина, Финче и, наконец, Дафи.
Наше предприятие довольно большое, и между людьми, кроме трудовых отношений, существуют и личные. Мы становились свидетелями разводов, измен, счастливых романов, искренней дружбы, вражды, одним словом, привыкли к самым разным событиям личного плана, и, в общем-то, любопытством никто у нас не страдает. Но отношения Маврова и Дафи составляли исключение, многих интересовало: любит ли Дафи Маврова или просто благодарна ему за продвижение по службе. Не исключали, что она считает это продвижение вполне заслуженным, соответствующим ее деловым качествам. В этом случае ее связь с Мавровым все готовы были признать бескорыстной, независимо от того, любила ли она его или проявляла легкомыслие. Как видите, любопытство к этой связи не таило в себе ничего преступного, все решали скорее нравственную проблему, тем более что Дафи обладала редкой красотой. Люди невольно испытывают ревность при виде красоты, внушают себе, что красота несовместима с обычными человеческими слабостями, готовы прощать красавицам эти слабости, если они их искупают с достоинством.
Нет смысла напоминать, что во внебрачных связях существуют два «смягчающих вину» обстоятельства — молодость и красота любовницы, которая должна быть красивее супруги и моложе ее хотя бы на десять лет. Иначе, как выразился один из наших сотрудников, игра не сюит свеч, потому что многолетний брак часто — всего лишь обмен колкостями. А Дафи была красива, даже слишком красива. То ли по наивности, то ли по молодости лет, которой не свойственна излишняя суетность, но Дафи словно не осознавала своей красоты, не пользовалась ею, и это придавало ей особенное очарование. Но очарование куда менее заметно, чем яркая красота, и, бьюсь об заклад, что хотя все у нас на работе и называли Дафи красавицей, никто, кроме меня, не оценил по достоинству ее очарования. Мне кажется, что даже и наш директор. А ведь красота вообще несет в себе нечто навязчивое, самодовольное, эгоистическое по отношению к некрасивым, таит в себе невольную нескромность. Очарование имеет иную природу, оно — изящество, волшебство, которое передается не только людям, но всему тому, к чему оно прикасается, без этого волшебства красота холодна и безлична. Как и большинство красавиц, Дафи не обладала блестящим умом, не стремилась получить высшего образования — она закончила какой-то техникум — но и статуи Фидия и Микельанджело, как и портреты больших живописцев, не блещут ни умом, ни образованием, а человечество не перестает восхищаться ими.
Как бы то ни было, но наш директор влюбился по уши, и никто не мог предугадать, что будет дальше — утонет ли он в бушующем море любви или благоразумие все же вернет его к семейному берегу. Во всяком случае, в его положении человек одновременно и счастлив и несчастлив, а кроме того и несколько смешон, потому что пытается скрыть и то, и другое. Что касается Маврова, то было видно за километр, что ему не по себе. Когда у него начался роман с Дафи, ему уже стукнуло сорок пять, возраст хороший для дел, но не для любви; мы, мужчины этого возраста, многозначительно называем его «зрелым». Когда Иван Мавров влюбился в Дафи, он стал тщательно следить за собой, подрезал бакенбарды, постарался скрыть седину на висках, начал делать массаж лица и предпринял еще целый ряд подобных мер, самой важной из которых стала борьба с полнотой — он к сорока пяти отрастил животик. Так как он не мог объяснить дома причину такой перемены, ему пришлось превратить свой кабинет в косметический салон и спортзал. Он приходил на работу за час до начала рабочего дня, растягивал какую-то пружину, делал всевозможные упражнения, прыгал, пыхтел, потел — и все для того, чтобы разница в возрасте в двадцать лет между ним и Дафи не так бросалась в глаза. Менее чем за два месяца он сбросил добрый десяток лет в виде излишнего, а может быть и нужного ему, жира. Такой режим едва ли привел бы к таким результатам, не сядь он на строгую диету. В сущности, он объявил во имя любви голодную забастовку, так что даже я, его первый советник и друг со школьной скамьи, не мог узнать его на расстоянии в двадцать метров.
Любовь воистину делает чудеса, и они не остались тайной для нашего предприятия. Говорят, что обманутый супруг последним узнает о своем позоре. В другие времена, наверно, это так и было, но в наше время, когда процветают средства массовой информации, он узнает об этом если не первым, то уж вторым или третьим непременно. Станиш, супруг Дафи, оказался вторым, он узнал о неверности своей жены в тот день, когда ее перевели на более легкую работу и когда она еще и не помышляла об измене.
Анонимные доброжелатели, как всегда, проявляли бдительность на своем тяжелом и ответственном посту. Несмотря на сигнал, Станиш, как мы позднее узнали от самой Дафи, даже словом не обмолвился дома об анонимках, он не верил, не допускал, что жена может изменить ему. Впервые он пришел к нам, когда Дафи работала уже секретаршей. Его внутренний мир, выражаясь несколько литературно, был написан, как лозунг на стене крупными четкими буквами, так что прочитать его могли даже слепые. Дафи представила его нам, а Иван Мавров встретил его с той любезностью, какую невольно проявляют только виновные. Эта чрезмерная любезность смутила Станиша, но сначала он не придал ей особого значения, счел, что большие начальники и должны быть воспитанными людьми. Смутили его и манеры жены, и выражение ее лица, которого раньше он не замечал у нее, но потом решил, что иначе и не может быть, ведь она секретарша большого начальника, ей нужно улыбаться, двигаться, одеваться соответствующим образом, ведь она постоянно на людях. Но когда Иван Мавров, вероятно от смущения, по-свойски назвал ее Дафи, Станиш так покраснел, что у него запылали уши. Поскольку я наблюдал эту сцену со стороны, спокойно, я заметил, что Станиш почувствовал неудобство именно из-за такого обращения. Он, как и большинство сегодняшних жителей столицы, родился и вырос в деревне, и не мог видеть в уменьшительных именах ни нежности, ни артистичности, ни приятного звучания, а только нарочитость, городскую распущенность, чуть ли не разврат. И хотя ему было только тридцать лет и он уже десять лет жил в столице, он не мог заставить себя называть своих сверстниц, которые были родом из того же села, что и он, Мимой и Диди, как давно звали их все знакомые. Называть жену Дафи для него означало преодолеть врожденную стыдливость, унаследованную от дедов и прадедов, которые всегда посмеивались над «городскими» чудачествами, даже до некоторой степени уронить свое мужское достоинство. Раз его жену называет Дафи чужой человек, значит он имеет на нее какие-то права, считает ее легкомысленной и может позволить себе разные вольности. Этот предрассудок был стар, но странен для нашего современника, вынужденного локтями прокладывать себе дорогу на тротуарах, заполоненных юношами и девушками, которые непрерывно целуются, а в паузах между поцелуями называют друг друга нежными словами, не имеющими ничего общего с их именами. В данном случае молодой муж, робко и беззаветно влюбленный в свою жену, проявил истинную прозорливость. Он посидел минуты три на краешке дивана и собрался уходить, а Иван Мавров, который знал о нем решительно все, принялся доброжелательно, то есть с глупым любопытством, расспрашивать, где он работает и т. д. Станиш ответил, что работает в одном министерстве, а после работы со своим приятелем по несколько часов клеит обои, циклюет паркет и делает ремонт в квартирах, за что получает дополнительную плату, вдвое или втрое превышающую его зарплату. Потом он взял у жены какой-то ключ и ушел. Он пришел убедиться в ее непорочности, а ушел преисполненный подозрений.
Дафи и в самом деле взяла по ошибке ключ от шкафа, в котором ее муж хранил инструменты, и влюбленные не заподозрили злого умысла в этом внезапном посещении, не заметили, что он за время этого краткого визита вобрал в свое сердце половину классической ревности Отелло. Кроме тех обязательных условий внебрачной любви, о которых уже говорилось, она требует еще таких качеств, как сообразительность, известные материальные возможности, ловкость, умение притворяться, а самое главное — крепких нервов. Иван Мавров сравнительно быстро приобрел все эти качества, присущие почти каждому современному человеку, но утратил самое важное из них — крепкую нервную систему. Раньше он был неуклюжим и даже несколько мрачным, теперь стал самым проворным мужчиной нашего предприятия, задиристым и подозрительным, словно все мы, служащие предприятия, только и делаем, что следим за ним и Дафи. От гимнастики и строгой диеты живот у него прилип к спине, а глаза постоянно горели от голода и любви.
Что касается жены Маврова, то она обладала крепкой нервной системой и бесспорным талантом полководца, будь она мужчиной и живи в эпоху войн, она наверняка прославилась бы боевыми подвигами. Но мирная жизнь заставила ее объявить холодную войну собственному мужу, а, как известно, это война характеров и нервов. В ее возрасте не пристало устраивать скандалы или затевать разводы. Наличие сына и дочери, уже почти взрослых, требовало от нее терпения, благоразумия, гордости, философского смирения — увы, брак похож на сад, где колючек столько же, сколько и цветов. Она ни разу не упрекнула мужа за измену, ограничивалась намеками на то, что она и дети знают о его любовных похождениях и недалек тот день, когда он вернется в лоно семьи, как блудный сын, и тогда с ним поговорят, как он того заслуживает. Супруга Маврова очень успешно использовала различные притчи. Когда все собирались вместе дома, она рассказывала одну и ту же притчу — в разных вариантах — о директоре предприятия, который сделал секретаршу своей любовницей, а та была в возрасте его дочери. Сын и дочь, имевшие школярское понятие о морали, жестоко издевались над отцом. Они с насмешливо серьезными лицами часами спорили о том, честно ли поступает этот директор, поддерживая незаконную связь с какой-то женщиной, не лучше ли ему развестись и не позорить свою семью.
Случилось так, что автомобиль Ивана Маврова попал в катастрофу, шофер получил тяжелые увечья, а сама машина вряд ли могла когда-нибудь выполнять свою функцию. Пришлось встречаться с Дафи на самом предприятии. Они оставались после работы, будто бы готовить какие-то доклады и планы. Эта хитрость была такой избитой, что уборщицы и вахтеры многозначительно подмигивали друг другу. Кроме того, многие работники пользовались случаем, чтобы проникнуть к директору по личным и служебным вопросам, и оставляли его в покое, лишь когда Дафи должна была возвращаться домой. Тогда они решили встречаться в обеденный перерыв, когда все уходили обедать в столовую. Для этого нужно было безрассудство, на которое способна только любовь, то безрассудство, которое так восхищает поэтов и которое они называют, безумной смелостью, самоотверженностью и так далее, чтобы толкать влюбленных на поступки, которые могут привести лишь к излишним страданиям и жертвам. По моему скромному мнению, лучше бы уж Дафи и Иван Мавров стали невидимками, чем безумно смелыми, потому что нервы Ивана Маврова и без того уже никуда не годились, в первые дни он прислушивался к каждому шуму и вскакивал при любом шорохе, доносившемся из коридора. По сравнению с ним Дафи была спокойна и даже весела, она часто давилась от смеха, и ее поведение не озадачивало, а успокаивало Ивана Маврова. Итак, пока все живое изнемогало от июльской жары, от испарений, от духоты прокуренных помещений, наши влюбленные изнемогали от счастья и совсем не ощущали нехватки чистого воздуха — они плотно задергивали занавески, чтобы их не видели из окон расположенного напротив жилого дома, затыкали бумагой даже замочную скважину, чтобы никто не подслушивал за дверью.
Им было невдомек, что за газетной будкой на противоположном тротуаре стоит Станиш, пристально глядя на окна директорского кабинета. Иначе и быть не могло, потому что тогда не существовало бы традиционного треугольника, без которого немыслима истинная любовная драма. Неразумность супруги Маврова состояла, возможно, именно в том, что она не пожелала принять прямого участия в этой истории, и таким образом, не создался четырехугольник, который бы уравновесил силы и уменьшил бы наказание провинившимся супругам; видимо, именно по последней причине четырехугольник не нашел места в мировой драматургии.
Всем известно, что в определенных ситуациях мы готовы скорее умереть, чем поверить во что-то. Так и Станиш — он уже знал, что Дафи изменяет ему, но не хотел верить в это. Его доверчивость зиждилась на страхе потерять ее и на каком-то первобытном этичном начале, просочившемся в его кровь из далеких времен. Анонимные доброжелатели, которые с ревностным усердием осведомляли его о ходе событий, к сожалению, не обманывали. В отличие от Отелло, Станиш испытывал ненависть не к истинной виновнице своих страданий, а к любовнику, увидев в нем «козла отпущения». Станиш несколько раз осторожно намекнул Дафи, что ей стоит уволиться с работы, потому что кругом уже злословят, будто между ней и директором «что-то есть», на что она беспечно отвечала, что ничего между ней и директором нет, при этом она смотрела в глаза мужу и искренне смеялась. Тогда Станиш окончательно убедился, что Иван Мавров посягнул на его жену, используя то ли служебное положение, то ли как-то иным образом принудив ее обратить на него внимание, потому что он не мог представить себе, что Дафи может отдавать свою молодость и красоту пожилому семейному мужчине в машине среди поля или в служебном кабинете, где ее могут увидеть сотни глаз… Думая об этом, он испытывал не столько ревность, сколько стыд, ужас, липкое омерзение. И он отправился к Ивану Маврову — не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы высказать ему свое возмущение и негодование, заявить, что он негодяй, потому что бросает тень на прекрасную женщину. Возможно, таким образом Станиш пытался оправдать свою ревность в собственных глазах. Во всяком случае он шел по двору предприятия и после этого по коридору третьего этажа с намерением только «крупно поговорить», он совсем не намеревался мстить.
Он толкнул дверь и вошел в приемную. Вместо жены он увидел за письменным столом верх от ее голубого костюма. Станиш потрогал его рукой, и вдруг ему стало нестерпимо жарко. Рубашка прилипла у него к спине, словно на него вылили ведро воды. Это был приступ отчаяния, потому что до этого момента он все еще надеялся застать жену на ее рабочем месте, хотя всего несколько минут назад он видел, как она занавешивает окна директорского кабинета. Но до полного, безутешного отчаяния оставалось еще два шага. Если дверь кабинета закрыта, значит, Дафи там, если не закрыта… Не трудно представить, с каким чувством он постучал в массивную дубовую дверь — сначала тихо, потом громче, потом забарабанил по двери кулаками. Удары по дереву, все более сильные и ритмичные, словно пробудили в глубине его души первобытную силу, как это случается с туземцами, когда бьют в деревянные музыкальные инструменты. Как это часто случается с добродушными и стеснительными людьми, он не мог обуздать отчаяния, и оно превратилось в безумие. В углу приемной стоял железный прут с крючком на конце, которым Дафи открывала и закрывала верхнюю часть окна. Станиш схватил его и стал бить им по двери.
— Откройте! Вот я вам! Выломаю дверь и поубиваю вас!
Краткость любовных встреч научила Дафи одеваться в считанные минуты. На этот раз она оделась за полминуты, отдернула занавески и встала напротив Ивана Маврова. Все остальное очень важно для объяснения мотивов последующих событий, каждая мелочь.
Тысячи любовников попадали в подобные капканы, так что ситуация сложилась не новая, но она оказалась роковой. За любовниками всегда шла по пятам опасность, поэтому они тысячи раз думали о том, как ее предотвратить, но она всегда вселяла в них панический страх. В таких ситуациях, как правило, любовники или становятся жертвами, или расстаются, а нередко и соединяются навсегда. Если правда, что в подобные моменты проявляются истинные качества людей и, тем более, влюбленных людей, то именно сейчас пора ответить на вопрос, любила ли Дафи Ивана Маврова. Она любила его, и этим все сказано. К сожалению, в этот решающий момент она молчала и смотрела Ивану Маврову в глаза, вернее, пыталась смотреть ему в глаза, потому что он при каждом ударе вздрагивал и отступал в глубину кабинета. Несколько раз он хватался то за одну, то за другую вещь, чтобы защищаться, но сейчас же ставил ее на место. Наконец он уперся спиной в стену и, побледнев, схватился руками за голову. Затем осмотрел кабинет, словно искал щель, но не найдя таковой, опустил руки и рухнул на диван. Дафи продолжала искать глазами его глаза, но это ей не удалось, тогда она подошла к нему, что-то шепнула ему на ухо и вышла на балкон. Управление нашего предприятия располагалось в здании, которое раньше было жилым домом, оно имело балкончики с железными витыми перилами. Директорский кабинет, похоже, служил раньше гостиной одной семье, а комната секретарши — кухней другой семье, потому что между балконами этих помещений было расстояние в один метр. Балконы соединялись узким карнизом, Дафи ступила на него и схватилась руками за перила своего балкона, чтобы через несколько секунд оказаться в своей комнате. Иван Мавров несколько пришел в себя, подошел к двери и попросил подождать — он должен обуться, так как прилег отдохнуть.
— А, это вы? — произнес он, открыв дверь. — Что это вы так расшумелись?
— Моя жена…
— Она в своей комнате…
— Ее там нет.
— Наверно, обедает.
— Посмотрим!
— Пожалуйста.
Закончив этот похожий на словесную дуэль диалог, Станиш и директор обменялись подозрительными взглядами. Станиш наклонился и заглянул под диван, потом под стоп, раскрыл дверцы книжного шкафа, заглянул даже в ящик тумбочки, наконец обследовал и балкон. И как до этого удары в дверь пробудили в нем дьявола, так теперь напрасные поиски жены пробудили в нем бешеную, неудержимую радость. Резкая смена настроений утомила его, и он тихим срывающимся шепотом попросил у Ивана Маврова прощения:
— Я встану перед вами на колени, только простите меня, — и он грохнулся на колени, под толстым ковром заскрипел паркет. — Я оскорбил вас, потому что люблю Дафи, люблю ее, но не могу объяснить ей этого. Не могу, не могу… Знал ведь, что она чистый человек, знал, но усомнился, потому что у меня черная душа. Иначе как бы я посмел усомниться в моей Дафи!
Впервые открыв душу постороннему человеку, Станиш все больше пьянел от собственных откровений. Продолжая стоять на коленях перед Иваном Мавровым, он быстро и бессвязно говорил о своей любви к жене. Директор, едва избежавший смертельной опасности и еще не вполне овладевший собой, стоял неподвижно и смотрел на Станиша, еще не веря до конца в то, что все разрешилось так счастливо. Но уже через несколько минут он понял состояние молодого мужчины и самообладание вернулось к нему. Нужно было, чтобы Станиш немедленно, пока не пришли служащие, ушел. И Мавров мягким, но не терпящим возражений голосом, каким разговаривают с «заблудшими овцами», произнес:
— Встань, дорогой, и уходи с миром, я тебя прощаю!
Станиш молча встал, вышел из кабинета и направился к столовой ждать, когда выйдет его жена. Но она в это время лежала на тротуаре мертвая.
Предвидя, что рано или поздно их может подстеречь опасность, как это и случилось сегодня, Дафи много раз изучала возможность перебраться с одного балкона на другой, и, наверно, она преодолела бы расстояние между балконами за несколько секунд, если бы не увидела, когда оказалась на карнизе, внизу на тротуаре трех мужчин. Она испугалась, что они могут закричать, если увидят, что она карабкается по карнизу третьего этажа, как лунатик. Она смешалась, ее нога всего на сантиметр не достигла соседнего балкона, но она успела обеими руками ухватиться за перила своего балкона. Мужчины не заметили ее и ушли, тогда она попыталась подтянуться на руках, хотела опереться на что-нибудь ногами, но острые железные перила врезались ей в пальцы, потекла кровь.
История эта печальна, но и банальна. Я бы не стал рассказывать о ней, если бы не осталось загадкой, почему Дафи не позвала никого на помощь, когда пять или шесть минут висела, схватившись руками за перила. Может быть, она слишком сильно любила Ивана Маврова, а когда увидела его в решающий для их отношений момент таким перепуганным, жалким и ничтожным, то ей уже было все равно — жить или нет. Может быть, она не хотела позориться перед мужем, ведь она знала, что он любит ее больше жизни. А если уж быть откровенными до конца, то для нас остается загадкой и то, что все еще существуют такие люди, как Станиш и Дафи.
Виктор Астафьев
Тревожный сон
Матерям нашим — солдатским вдовам.
Ружье было засунуто в штанину от ватных спецодежных брюк, а дальше укутано в детскую распашонку, в онучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Суслопаров распеленал из этого многослойного барахла ружье и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как будто издалека спросила:
— Заржавело небось?
Суслопаров хотел сказать — посмотрим, мол, поглядим, и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье, но тут же до него дошло — в голосе, которым спрашивала Фаина, нет сожаления о том, что ружье заржавело и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же обозначившая, все же прорвавшаяся.
«Ну, зачем оно тебе, зачем?» — хотел сказать Суслопаров и не сказал, а только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза. Фаина стояла, прислонившись поясницей к устью русской печи, опираясь обеими руками на беленой шесток, готовая в любую минуту забрать ружье и положить его обратно в сундук со звонким замком, ключ от которого, похожий на большую, искусно выпеченную из железа кренделюшку, уже давно и безвозвратно утерян. Во взгляде Фаины, открытом и усталом, были одновременно и смятение, и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет, как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть недобрым, таилось отчуждение и даже враждебность к нему, Суслопарову, который может насовсем унести ружье.
Суслопаров, так и не подняв глаз, давнул на рычажок. Ружье с хрустом открылось. Скорее по привычке, а не для чего-либо, Суслопаров заглянул в стволы, потом ногтем, пощелкивая, прошелся по ним, вдавил в отверстие ладонь и осмотрел синеватые вдавыши на буграх ладони, как печать с мудреными знаками. После всего этого он шумно дохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Еще дохнул, еще вытер, и серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу. Фаина поняла, что это последняя, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула:
— Ружье без осечки. Теперь таких уже не делают.
И Суслопаров, лучше, чем она, знающий это ружье и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил:
— Да, теперь таких нету. Потому и беру. — И, спросив тряпку, как бы окончательно отмел все возможные попытки к сопротивлению с ее стороны.
Фаина почти сердито издали бросила ему пегую от стирки онучу и опять нахохленно прислонилась к печи, но уже с мотком ниток, натянутых на ухват. Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промахиваясь мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом на окне.
Суслопаров досуха в каждой щелке и скважине протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки метались по ружью, гладили его, а по избе метался заяц, и раза два он угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась, взглядывала в сторону Суслопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты была полна охотничьими предчувствиями… а голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели.
Ружье это они покупали вместе с мужем Фаины Василием, другом его детства, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двуручной: тяни к себе — отдай напарнику.
Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую, как просяное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбирали это ружье из десятка таких же, замазученных, необмундированных и оттого смертельно жутких двустволок. Наконец отложили одну. Народу к этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку под полупальто, глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел: вынуть их, эти деньги, или не вынимать. Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог и раздумать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, вытаращил глаза на дружка своего Суслопарова и с натугой выдохнул:
— Ну?!
У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он оробело разводил руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, а он-то до глубины души понимал важность момента.
Это он вместе с Васькой еще в детстве мастерил деревянные ружья и пулял из них по чему попало, разил зверье, птиц, людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг — ствол из латунной трубки, ручка — сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще пороху щепотку натрясли из старой коробки, чтоб уж жахнуло так жахнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули соскобленные спички.
Васька вытащил обломок. Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке, — и тут жахнуло. Так жахнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелась в разные стороны. Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и траурная сыпь пороха на щеке. Но это нисколько не подействовало на Суслопарова. Вырос он и стал таскаться с пистонками, должно быть, еще пугачевских времен, разными обрезами, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось. Ружье настоящее он видел пока только во сне и потому был растерян даже больше, чем Василий. Но он был в эту минуту всего-навсего сватом — не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха, и потому Суслопаров решительно хватил целым кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах:
— Берем!
Они несли ружье по поселку гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия все сияло, и по нему пробегали разные хорошие чувства: и довольность собой, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг — шутка ли, ведь возврата вещей в казенной торговле нет.
Но испуг гасила закипавшая любовь к этому пока еще не обтертому, не обстрелянному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью.
— Жена! Отворяй ворота! — закричал на весь барак Василий, и чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая в окно (на покупку ружья ее, как бабу, из суеверных соображений не взяли), выскочила в коридор, где было много дверей и ворот никаких не было.
— Мамочка моя родная! — охнув, прижала она руки к груди.
Фаина знала, что ружье принесут. Она вместе со своим Васей копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него, и все же покупка эта казалась ей далекой, почти не осуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, в ее голосе — неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы не бывало сроду, а тут такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет?! Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая — недостает чего-то человеку, томится он, а ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то.
Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату, терли его подолами и рукавами чистых рубах, дышали на него, опять вытирали, взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики же забыли о ней совсем, подолгу глядели в стволы, отыскивая какие-то три теневых кольца, а их оказывалось то два, то вовсе ни одного, спорили, ругались, снова глядели, защурив один глаз. У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью. Суслопаров, крупный парень с большой головой, с большими руками и с маленьким носом, еще не был пока женат и ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, пробасил важно Василию, готовому теперь, по подозрению Фаины, не только днем, а и ночью обниматься с ружьем:
— Все! Дело за пристрелкой!
Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которой швырчала картошка. Суслопаров, глядя на окатистую спину Фаины, пока смутно представлял, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку, все же с двусмысленным значением заключил:
— Береги ружье! Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит! — сказал и подвинулся к столу.
Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Палили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собой и всем на свете. Еще малоношеная кепка Василия была вся, как терка, в дырках, и назавтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивали языками: «кучно», «резко», «дает», «сыплет» и всякие слова добавляли.
О Фаине Василий как будто совсем забыл, и вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий и раньше не особенно обращал на нее внимание в цехе, на работе, при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем Файка, не кликал, и вообще по возможности редко встречался тут с нею, и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, а приспичит, так и Фаюшкой, и горошинкой, и синичкой, и такие слова ей говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет.
Фаина понимала — так надо. Он мужик. И в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, а она все-таки вопрос поставит ребром — жена или ружье!
Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которыми был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе, а он себе, предварительно стукнув яйцом по ее лбу так, что хрустнула скорлупа, но Фаина не улыбнулась шутке.
Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к Лысманихе вымыть бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет в лес на три дня, охотиться. И так он это буднично сказал, что у Фаины весь гранит ссыпался и стало ей ясно — возражать бесполезно: в жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно без мужа, но представить до конца не могла, потому что никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не живала.
Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо трех дней Василий пробыл в лесу семь. Она металась по бараку. Она бегала в контору, и требовала искать мужиков, и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия «на сохатого». Провались в тартарары этот сохатый вместе с Суслопаровым, это ружье и эта тайга. Вот только явятся (явились бы!), и она сделает Суслопарову от ворот поворот, а потом станет точить мужа и доточит до саго корня. А потом они возьмут расчет и уедут в город. Из города не больно в тайгу ускачешь! Она, брат, тоже умная!
Но к той поре, как прибыть мужу домой, Фаина так уже исстрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымом пахнущей телогрейке Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой, стальной щетине, диковато-шалый, со звериным запахом в руках, тискавших ее, и совсем-совсем усталый.
Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню истопить, пытался поесть, но только выпил семь кружек чаю с сахаром, а сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уже ни сказать, ни сделать не мог.
Назавтра из тайги привезли во вьюках кровавые мешки, а на закорках Василий принес голову сохатого с разъемистыми рогами, напоминавшими закостенелые листья цветка марьиного корня. Голову свалили на скамейку около плиты, чуть оскаленную, с еще не дожеванной веткой ивы в зубах, с тихо остывшим глазом цвета речного голыша, по которому рассыпался золотой крупой и осел на дно глазного яблока дрожливый всполох ружейного пламени.
Фаина шарахнулась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатушке, роняла посуду, табуретки, и что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса, не знала. Но Василий сам со всем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на студень, а рога спрятал под кроватью, значительно подмигнув при этом жене, — скоро, мол, понадобятся.
И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она услышала от Василия рассказов с перескоками, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном. От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях и тому подобном дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни она уже не мыслила.
А так они разлучались редко. Как-то Василий ездил на три месяца в город на курсы, раза три-четыре на военную комиссию. И все!
Он никогда заранее не предупреждал о приезде. Он любил удивлять ее. Любил, чтобы все у них было весело и необычно.
А она по женской норовистости все делала вид, что не нравится ей такая жизнь, что все у них не как у добрых людей, и когда муж возвращался домой, она, заслышав его шаги, отворачивалась, дескать, вовсе и не чует, как он открывает дверь, как крадется к ней. А сердце ее так и млеет, так и млеет. И вдруг легко коснется головы ее мягкий, словно паутинка, платок оренбуржский, о котором она проговорилась как-то.
И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припасенные слова куда-то делись. А Фаина, баба слабая, трогает руками расплывшееся до ушей лицо мужа и говорит совсем другие слова: «Ну что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела! Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего…»
А он хохочет, и ничему не верит из ее слов, и никакого значения им не придает, а только жманет жесткими пальцами ее кругленький нос и изобразит, как об угол шлепнул невесть сколько добра. И она хлопнет его по руке и покачнет головой: «Чисто ребенок!»
Бывало, на работе или дома между делом мимоходом Василий спросит вдруг: «Фай! А ты пельмени из рябков ела?» Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спрашивала: «А что?» — «Да ничего, так», — скажет Василий и зевнет при этом. Но она-то знает, чем все это кончится. Василий убежит в воскресенье в лес. Придет поздно вечером, весь в паутине и закричит: «Фай! Зарублено! Завтра пельмени из рябков делаем!»
И назавтра покажет, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить. Покажет, как всегда, раз только, а потом уж пеняй на себя. Он всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если люди делали то же самое за два раза.
Фаина забеременела и сделалась вовсе похожей на горошинку. Она все чего-то шила и строчила, да скоблила столы, да подбеливала и без того чистенькую печку. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового колка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался бы охотником. Василий даже имя придумал сыну, легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышок, — Аркашка.
Но родилась Наташка.
Дом к этой поре был готов наполовину, и они сбили в нем печку, переселились весною в кухню, а горницу Василий думал за лето отделать.
В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, Василий забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собою Фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбегал в сторону, к срезу березовой рощицы и оттуда голосом давал знать о себе: «Я здесь, Фаюшка, недалече!..»
А ей все равно немножко боязно сначала, но обсидевшись, пообвыкнув к весенним шорохам и шумам, она переставала с недоверием озираться, опускала руки, притиснувшие дочку. Ее охватывало покоем и умиротворенностью. Наташка спала, не выпуская груди, и через какое-то время начинала быстро-быстро причмокивать. Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее и передавая материнскую доброту, трудолюбивость — все, что в ней есть, все ее соки, всю ее душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она и с закрытыми глазами и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно.
И вот уже видит она верткую, порывистую веснами, а летом, в межень, говорливую, светленькую и утихомиренную, как божья старушка, Лысманиху со студеной водой, которая в чаю крепка, а в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается и перхоть исчезает, а шелудивость с кожи мигом сходит. А с виду — речка и речка, кто не знает — мимо пройдет, кто ведает — плюнуть в нее не решится.
Вокруг поселка, по косогорам и осыпям, в особенности по валу маленькой плотники, желтая россыпь цветов мать-и-мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетевшие за зиму из труб поселка, раздуло вешним ветром по земле. Возле ног Фаины по бережку речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, а промеж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упруги и холодны, потому что в трубочках сине-розовых цветов даже днем не высыхает роса. Когда Фаина была маленькая, высасывала росу из хохлаток и медуниц, говорили ей: «Красивая будешь!» И не зря, видно, росой пользовалась — Василий уверяет: «Самая красивая!»
Травою густо и холодно пахнет, а березняком резковато, горьковато. Березняк весь в сережках и забусел в вершинах, а на стволах трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожицу меняет на новую. Новая кожица срыжа, и под кожицей этой ходит-бродит сок и будит в ветках листья. И как листья проникнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом, тепло будет, дочка начнет ползать по траве… Благодать!
А пока самая сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое кружение, самые радостные песни. Под песни и одолеет она все: снег лежалый смоет, лед унесет, мусор травою укроет, грязь высушит. «Большая земля-то, родливая, добрая. Без земли что мы были бы?»
Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивая дочку и себя неторопливыми тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеный. В пелене его шумит затяжелевшая Лысманиха и, обгоняя медленный туман, мчится во всю мочь до самой Камы. Толкнувшись в большой и мягкий бок реки, засыпает поток.
Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать матери и дочери, вдруг сладко, по-взрослому зевнувшей и открывшей глазишки, видеть, и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом близком и до зябкости ощутимом мире.
Но вот позади, там, где за березняком запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое «цвырк», похожее на вскрик испуганной трясогузки, и вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик, и еще скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, но зовущая музыка. Но только ухо начнет привыкать к кожаному скрипу, как его снова четко, словно нитку ножницами, отрезает тревожный вскрик.
Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет и даже молоко останавливается. Она, притиснув девочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть. Ждет.
Из зари, покрывшейся темно-синей окалиной, из тлеющих вершин березняка, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы, и замерший лес вдруг наполняется трепетным ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокром, неприбранном голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица с неуклюжим названием, которое перевирают во всех русских деревнях, роняет на землю зовущие звуки, как будто отсчитывает последние секунды своей жизни. Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить своего, наполненного любовным ожиданием полета.
«Как все-таки жестоко убивать за любовь!» — думает Фаина, но она уже научилась понимать, что все в жизни жестоко-разумно. Чтобы жить, человек должен косить и рвать красивые цветы, рубить зеленые, ни в чем неповинные деревья, убивать больших, до обидного незлых животных, ловить и стрелять птиц. Кабы человек мог жить только святым духом, он бы с радостью и удовольствием населил землю одними цветами, нюхал бы их, и сам, наверное, был бы кратковечен, хил и беззащитен, как цветок, закрывающийся белыми ушками к ночи и не знающий той древней радости, того азарта и внутренней силы, бросающей человека на тяжкие охотничьи дороги, в смертельные опасности, от горести неудач к радости добычи, той добычи, которой обязан своей вечностью человек.
Фаина ждет, но каждый раз видит внезапно сыпанувшую из ружья полосу искр и слышит припоздалый грохот выстрела. Птица, споткнувшись и оттопырив крыло, легко и послушно валится с неба в березы. И все. Снова успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля, только грустно-грустно становится.
Они сидят трое — отец, мать и дочка — над речкой Лысманихой. На траве лежит птица — вальдшнеп с чуть прищуренным круглым глазом, вся в нарядном пере, будто составляли ее из прошлогодних листьев, а кое-где по лепестку мать-и-мачехи вклеили и не забыли светящихся галушек подсыпать — на спинку и крылья. После все это позолотили весенним солнечным лучом.
Оборвалась песня птицы, оборвался еще один полет, еще одна живая любовь. Но над березовым колком, по грани темного леса, уже совсем в темноте и все же отделяющиеся от темноты черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканьем другие птицы, томимые любовью и жаждой вечного восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли. Дочка Наташка выпрастывает руку из одеялка, трогает неподвижный глаз птицы пальчиком и пугливо отдергивает руку. Что-то уже и она чует.
В поселке гаснут окна. В небе зажигаются звезды. На земле вылупилась и замерла молодая с проплешинами травка, от Лысманихи наплывают холодные волны пара, катятся по опушке леса, густеют там и уже плотным дымом ползут по березняку. Кажется, что березняк выше черных колен захлестнуло белопенным разливом. Это только кажется. Лысманиха — речка горная, в разлив, весной или после больших дождей шумит буйно, мчится быстро, но из берегов выйти не может, не тот простор. На островках стихают гулеваны — кулики. Лишь за речкою, на большой лиственнице какая-то ночная птица мрачно и мерно роняет: «бб-би-иннь, бб-б-иннь», и что-то заупокойное, мрачное есть в ее однотонной и тяжелой, как било, песне.
Вальдшнепы перестали тянуть. Все погружается в чуткий весенний сон, и они трое — отец, мать и дочь — идут в свой недостроенный дом по холодной траве. Идут молча, медленно, хотя и озябли, хотя и в тепло, в постель хочется. Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом ломаются непокорные всходы чемерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит обмякшую и раскачивающуюся птицу, а Василий несет ребенка. В поселке почти нет огней и шума, лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха да в окне конторки снуло горит лампешка — должно быть, нарядчик засиделся.
Дом, еще пахнущий смолистой тайгой, преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит чуть в стороне от поселковых посадов и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом и радуется тому, что следом за ней входят еще две живые души, и думает с тревогой, окажись она одна, ни за что не решилась бы зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и подавно.
Но ей пришлось входить одной в этот дом много раз и жить в нем одиноко много лет.
Полтора месяца спустя после того весеннего вечера началась война. Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом.
На пристани голосили бабы, играли гармошки, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого, спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви; все время натыкалась взглядом на плечо, где не было ружья. Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут! Ну, война, подумаешь, какое дело! Поедут вот, расчихвостят немцев так, чтобы не совали свое свиное рыло в наш советский огород, — и домой.
Свекровка косилась на Фаину, поджимала губы. Не выдержала и постучала согнутым перстом по костистому лбу Василия, дескать, голова ты садовая. Но Василий так и не проникся серьезностью момента. Он дурачился, нажимал жестким пальцем нос жены, говорил шутливо: «Мотри, горошина, не загуляй тут у меня!» Она колотила его по рукам, говорила: «У-у, бессовестный! У-у, дурной!» И было им в этой всеобщей тревоге хорошо, а Фаине чуть даже стыдновато от такой разлуки.
Только когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце, она всполошенно рванулась за пароходом, к Василию. А между ними уже вода…
В недостроенной избе зимою сделалось холодно, заболела воспалением легких дочка, не стало хватать хлеба, перевелись дрова, из лесопилки перекинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в хиусном ущелье Лысманихи. Но самое страшное было не это. От Василия через три месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу.
Ее Василий не мог пропасть без вести!
Уходя на работу, она прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе, под рушником. Ночью, даже во сне, сторожко ждал ее слух шагов, твердых, громких, какие могут быть только у хозяина.
Уже кончилась война. Выросла и уехала в город дочь. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка. Нет, она по-житейски проницательно просматривала будущее и понимала, что дочка — гость в доме, а хозяин вечен. Хозяин остается при жене до самой смерти, Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило и он понял — насовсем, остановил мать, заголосившую было над ним, и сказал: «Все правильно. Люди смертны. И кто-то должен первый. Лучше я. Ты женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь…»
«Обиходишь и снарядишь». Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь?
Она любила послушать про фронт и почитать про войну любила. Услышит о том, как в Ленинграде люди голодали, и про себя уж отмечает: «Вот и Вася мой тоже». Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие наоборот — двое суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, — и протяжно вздохнет: «Где-то и Вася там бедовал». И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем, — ее Вася был на всем фронте, нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним.
Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на драчливых и пьяных мужей. Не понимают они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки от побоев можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало неуставшее еще ярое бабье нутро? И кто родит Аркашку? Аркашкиных детей — ее внуков и правнуков?
Ей часто снится один и тот же сон: поле подсолнухов, бесконечно желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдется сердце, Фаина застонет, не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябым лицом вниз, стриженым, шершавым затылком кверху. По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти. И вот уже не подсолнухи, не поле видится ей. Видится остроклювая пуля, попавшая в Василия, зримо улетающая вглубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солнцеворотами.
Ночами снятся вдове нерожденные дети.
— Эх, ммм-а! — выдохнул Суслопаров, обтерев ружье и положив полсотенную на клеенку. Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая, но все равно не было никакой приятности от покупки. — Эх, ма! — повторил Суслопаров и пригорюнился, опершись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол, за рукомойник, бросил шапку на голову. — Я сейчас, Фаинушка! — крикнул он уже из сеней.
Фаинушкой звал ее только Василий, да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорей всего потому, что такой большой, а на фронте не был — «счастливую» спичку вытянул, когда из поджига палили с Василием. И еще оттого, что помнил Фаину кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений как будто. Такой же цветочный фартучек на ней, завязанный на окатной спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо не старо, даже румянец нет-нет да и взбодрится на нем, и волосу седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицей.
Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает взирать с усталым спокойствием и закоренелой скорбью.
Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаину, что все времена ожиданий уже минули, и хотел «пристроить» ее к детному вдовцу — старшине сплавщицкого катера Вохмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине, даже шутку придумал насчет писания, в котором говорится: возлюби, дескать, ближнего своего. Он почему-то был убежден, что с шуткой легче и лучше получится. Но начать разговор с шутки так и не решился, а привез как-то дрова на лесхозовском коне, осмотрел дом и буркнул: «Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?» И Фаина подтвердила: «Не долгая». И все, наверное, сделалось бы в ближайшее время к лучшему, да черт дернул киномеханика показать в леспромхозе длинную, переживательную картину «Люди и звери». Посмотрела ее Фаина, уревелась вся и от Вохмянина отказалась наотрез.
Суслопаров и ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны — пора ремонтировать так и не достроенный дом, а работает она второй год нянькою в детсаде, зарплатишка так себе, на харчи одни. На сплаве уже не может, от ревматизма обезножела.
«А может, и зря я затеял с ружьем-то? Может, у нее это последняя отрада? А я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестянка! Чтоб этому попке Гитлеру на том свете ни дна ни покрышки!» — смятенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину.
Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол поллитрой и развеселым голосом возгласил:
— Обмыть покупку полагается? Полагается!
Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе, и в глазах ее была настороженность. «Неужели даже и на меня думает — приставать буду пьяный?» — садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, отметил Суслопаров и решил: выше нормы не принимать. Он махом выплеснул в рот полстакана водки, покривился и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клюнула носом в рюмку и утерла ладонью губы украдчиво, по-женски церемонно.
— Так и не научилась, Фаинушка?
— Так и не научилась, — тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнув голосом: — Может, надо было научиться пить, матюкаться, может, легче б…
За Лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С нынешней вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и спешили побить и разогнать непуганую птицу.
Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить о Вохмянине — мужике непьющем, негулевом, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре боязно коснуться, и от этого чувство виноватости перед нею еще более возрастало, а от выпитого возникала слюнявая жалость к бабе. Он молча поднялся, надел телогрейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил:
— Прости, если что не так…
— Что ты, что ты! — замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не уронил ее давнего к нему уважения. — Стреляй на здоровье! Ружье без осечки, верное… — Больше о ружье она ничего не могла сказать. — Ну, да сам знаешь… Хорошо хоть к тебе попало.
Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой мачте болтались разные речные знаки — Суслопаров служил бакенщиком и еще разводил для лесхоза саженцы кедров и лиственниц.
Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота и пожалела, что Суслопаров не курил. Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощий от постоянной полутьмы фикус, доставшийся еще от матери, и дуром, на пол-избы разросшийся, но не расцветший розан. Помахала веником по полу. Нигде не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не наслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уже прилипли к полу. Из щелей пола куда-то делись дробь и пистоны отстрелянные. Прежде сплошь, как тараканами, желтыми пистонами были утыканы щели, и вот куда-то подевались. Все куда-то подевалось. Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы где попало не валялись, не свисали с полатей ремни болотных сапог, пахнущие дегтем, не торчали в оконном косяке шило, сапожная игла, а в желобках рамы не было старых свинцовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого, необходимого мастеровому мужику, добра.
Чисто в избе, ничего не тронуто, не сдвинуто, и не на кого поворчать за мужицкий, такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме.
В других домах хоть письма от погибших есть. А тут и письма пропали. Всего их и было три штуки, но давно еще четырехгодовалая Наташка, оставленная без присмотра, добыла эти письма как-то из шкатулки и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, прогорело возле печки. Дыру Фаина заколачивала наспех. До сих пор видно черное из-под железа. И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всех сил била ладонью по худенькому голому заду дочку, и без того задохнувшуюся в дыму. Плакала и била.
Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь даже огорчения из прошлой жизни кажутся ей неогорчительными. Но на сколько хватит этих ее усилий?
Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете человек с плоским лицом, напоминающим лопату, — единственное, по чему она и опознавала родного человека. Тот Василий, которого она знала, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф и никто другой на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, как будто сел человек мимо стула, а его в это время засняли. В тех глазах, какие она знала, было радостное крошево из приветливости, широкодушия и озорства. А уж если не оставили глаз, то и говорить больше не о чем и смотреть не на что. Без глаз, как без души, — человек уже не человек.
Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась как бы заново кругом, и в доме этом с давно прорубленными в горницу, но так и не поймавшими солнца окнами, с перекосившимся потолком, с чуть съехавшей со стены матицей, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от студеного ветра. И всегда люди почему-то затихали в нем, а ребятишки не любили играть в пароходе, из которого было вынуто сердце.
Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома с отслужившим свой век пароходом, который уже никуда не пойдет, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать.
Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаже печаль, как это бывает у девушек, вдруг настигнутых первой разлукой, первой бедой. Нет, в слезах ее не было ни сладости, ни облегчения.
Постукивали в лесу выстрелы. Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами на дрова, поздним вечером ахнул выстрел, раскатился по Лысманихе и по надгорью. После него как отрубило — ни выстрелов, ни стуку, ни дрюку. Темнота с густой синью тихим потоком хлынула в кухонное окно. Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до Камы. Белой жилою перечеркнуло окно в Фаинином доме.
Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда гораздо реже, тянули вальдшнепы, уставившись острым клювом и чутким взглядом в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой; пиликали неугомонные кулички по берегам; на ночь закрывались белыми ушками ветреницы; распарывая ножевыми всходами кожу земли, выходила черемица; бродили соки в деревьях, пробуждая листву; мигали звезды на небе все на тех же местах; студеный пар узорчатой прошвой ложился у подножий и на опушках темного леса; новый месяц прободнул небо острыми рожками; засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем огни и голоса; усмирялось ненадолго полупьяное буйство; природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника.
Ночь была на земле, весенняя, короткая, неспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах и таинствах, плакала женщина. Она прощалась с мужем. Прощалась двадцать лет спустя после его смерти.
И теперь уж навсегда.
Владимир Шорор
Возвращение к себе
I
С некоторых пор Дмитрий Павлович Шеменев стал ощущать недовольство своей работой. И чем дальше катилось время, тем сильнее становилось это чувство. Шеменев, пожалуй, и сам не мог точно определить, когда оно появилось. Может быть, в тот день, когда на его канцелярский стол поставили телефон. Это был старый военно-полевой аппарат, неведомо как попавший сюда, в сибирский райцентр. Телефон даже не звонил, а глухо гудел — «зуммерил», как говорят связисты. Был он не удобен: во время разговора приходилось нажимать на расхлябанный клапан, вделанный в трубку, иногда клапан выскальзывал из-под руки и связь прерывалась.
Но Шеменев обрадовался этому телефону. «Фронтовой», — подумал он и погладил зеленый, местами исцарапанный ящик. Глухие гудки его весь день напоминали Шеменеву о том уже далеком времени, когда он был командиром орудийного расчета в ИПТАПе — истребительно-противотанковом артиллерийском полку. Едва раздавался «зуммер», Дмитрию Павловичу хотелось сказать:
— Гвардии сержант Шеменев слушает!
Но произносил он совсем другое. Иногда: «Райисполком», реже: «У аппарата», а если «зуммер» отрывал от срочного дела, бросал в трубку коротко: «Да!».
Дмитрий Павлович раскладывал на столе деловые бумаги, читал их, распределял в папки с надписями: «К докладу», «На подпись», «В архив», некоторые подписывал сам. И временами, когда смотрел на телефон — точно такой же был у них, во второй батарее, ему казалось, что это совсем не он, а кто-то другой, молодой и отчаянный, нагнувшись к орудию, ловил в перекрестие панорамы надвигавшийся вражеский танк и простуженным голосом выкрикивал слова артиллерийской команды.
Скорее всего, Дмитрий Павлович привык бы к этому телефону, как привыкают люди ко всему на свете, перестал бы его замечать, а тем более предаваться фронтовым воспоминаниям. Но вскоре произошло еще одно небольшое событие, опять выхватившее из памяти военное прошлое…
Он прочитал в газете короткую заметку. Там сообщалось, что на строительстве гидростанции на Волге отличился экскаваторщик Терентий Малков. Был напечатан и портрет Малкова.
— Да ведь это Тереха, — взволновался Дмитрий Павлович. — Точно, Тереха… Вот, значит, как!..
В этом Малкове он без труда узнал заряжающего своего орудийного расчета, с которым расстался еще в Германии. И в тот день уже до конца работы, что бы Шеменев ни делал — отвечал ли на телефонные звонки, подписывал ли отпечатанные на машинке бумаги, приводил ли в порядок папки с документами, он думал о Малкове.
«Надо сегодня же написать ему», — решил Шеменев и вернулся домой в приподнятом настроении.
Ни Клавы, ни Валерки еще не было. «Совсем хорошо, не будут мешать», — подумал Дмитрий Павлович, хотя не любил, если жена и сын уходили надолго.
«Здравствуй, Терентий, привет из Сибири!» — вывел он своим аккуратным круглым почерком и остановился… Ведь придется написать, как сложилась жизнь, сбылось ли то, о чем мечтали перед демобилизацией. Шеменев ощутил холодок на душе и пустоту, а работа его показалась такой постылой, что не только писать — вспоминать о ней не хотелось.
Неожиданно он почувствовал зависть к Терехе Малкову. Это чувство удивило Дмитрия Павловича — был он не завистлив. Он понял, что зависть объясняется только одним: Тереха-то, наверно, не мучается, как он, не казнит себя мыслями, что жить надо бы по-другому. И Дмитрий Павлович попытался вспомнить, почему же все так у него получилось?..
Работать в райисполкоме стал он сразу после демобилизации. Времена тогда были все еще трудные. Карточки уже отменили, но продукты часто выдавали по спискам — то в магазинах, а то и в учреждениях, по месту работы. И так как надо было кормить и старуху мать, и молодую жену, и младшую сестренку, то выбирать особенно не приходилось; ученье в институте он отложил до лучших времен.
Сначала ему нравились и жарко натопленная, свежепобеленная комната, в которую он приходил утром, и канцелярский стол с зеленой клеенкой, и сама работа в главном на весь район доме. Правда, денег Дмитрию Павловичу платили не так уж много. В то время едва хватало дотянуть до очередной получки. И пришлось расширить огород, купить поросенка, а хозяйственная Клава развела кур и уток. Все это, заведенное сначала только для себя, стало год от года прибавляться, и часть того, что давало хозяйство, шло уже на продажу.
Дмитрий Павлович еще раз перечитал заметку об экипаже Малкова и подумал: а вот о нем-то самом уж вряд ли теперь помянут в газете добрым словом. Ведь работу его видно только двум-трем начальникам и никому больше, когда читают они составленные им сводки и бумаги.
Он прошелся по комнате, устланной чистыми половиками, взял с этажерки старую полевую сумку, вынул пачку бумаг, стянутую резинкой, стал их перебирать. Орденская книжка… Письма, сложенные треугольниками… И вот она — ломкая, выцветшая газета «В бой на врага».
Дмитрий Павлович осторожно развернул ее, увидел себя совсем молодого. Он стоял у орудия так, как поставил его фотокорреспондент, приехавший на позицию вскоре после боя. Корреспондент заставил его поднять правую руку, а левой зачем-то держаться за бинокль. Рядом с ним, у орудийного щита, маячил Тереха Малков со снарядом в руках. Лицо Малкова на снимке вышло не очень похожим, но тогда они остались довольны: в газете напечатали фамилии всего расчета и не поскупились описать, как они подбили два танка.
Дмитрий Павлович посмотрел в окно. Обнесенный плетнем, начинался сразу за домом его огород. В огороде каталась поземка, на смородиновых кустах трепыхались кое-где засохшие листья, а вдалеке над лесом угасала зимняя заря. Ветер гнал низкие, снеговые облака, медный просвет между тучами становился меньше, оставалась совсем щелочка, вот-вот исчезнет.
Он попытался вспомнить — куда девалось столько лет его жизни, что делал он в эти годы? И снова увидел себя за канцелярским столом или на этом вот огороде. Тут дел было по горло, едва начиналась весна. Огород, а потом заботы о доме — то заменить подгнившие венцы, то залатать крышу, то ехать в лес за дровами, то чистить стайку — занимали все его время.
Отворилась дверь, вошел Валерка.
— А, мое почтение!.. — обрадовался Дмитрий Павлович.
Валерка шмыгнул носом, поставил у порога школьный портфельчик, стал веником обметать снег с новых валенок.
И Дмитрий Павлович вдруг подумал — вот для кого убивался он в огороде: таскал навоз, копал землю, сажал, полол, поливал. Пусть он растет, Валерка, пусть учится до десятого класса, а там в институт пойдет! Непременно пойдет!.. Может, надумает в машиностроительный, как мечтал когда-то сам Дмитрий Павлович.
С нежностью он глядел на сына: как похож!..
Валерка разделся и деловито осматривал коньки, пробуя их остроту своим ногтем.
— Наточи, — попросил он.
Дмитрий Павлович, зажав коленками конек, стал шоркать металл напильником. И эта минутная, пустяковая, в общем-то, работа обрадовала его. С давних пор любил он возиться с железками и не мог не подобрать какую-нибудь завалящую, повертеть в руках, подумать — а на что бы можно ее приспособить? И если удавалось подновить ее, подраить напильником, пошлифовать шкуркой и приладить к двери — пусть будет ручкой или на стенку — вместо вешалки, хорошо становилось на душе, будто самого подновили. А когда, восьмиклассником, побывал с экскурсией на механическом заводе, увидел там хитро пригнанные друг к другу, тускловато блестящие шестеренки и плашки в организмах машин, сам захотел работать с такими же машинами, с металлом, со станками. Может быть, с того времени и стал думать — вырасту, кончу школу, поступлю в машиностроительный.
Валерка неожиданно спросил:
— Папа, у тебя какой род занятий?
— Что-о? — удивился Дмитрий Павлович.
Почти каждый день он читал эти казенные слова в анкетах, произносил их сам, но в устах Валерки они прозвучали сейчас странно и даже бессмысленно. Валерка увидел недоуменный взгляд отца, тут же пояснил:
— Ну, ты кем работаешь? В школе Варвара Петровна спрашивала. Кто, говорит, твой отец? А я че-то не знаю. У Кольки Верхозина — шофер, у Гришки Саломатова — плотник. А ты? Как ей сказать?
Дмитрий Павлович отложил конек и напильник, смущенно замялся. Как хорошо было бы ответить одним словом. И, вызывая недовольство собой, вспомнился портрет Малкова в газете. «Экскаваторщик, — произнес он про себя, чуть шевельнув губами. — Это он, Малков, экскаваторщик, — думал Дмитрий Павлович. — А у меня до сих пор специальности — никакой. Только должность».
Сын ждал, доверчиво глядя ему в лицо.
— Ну, скажи ей: отец, мол, административный работник. Служащий… Понял?
Он боялся, что Валерка потребует уточнений. Но сын покорно кивнул, сказал «угу». Дмитрий Павлович всегда отучал Валерку от этого «угу», внушая, что следует говорить «да». Но сейчас воздержался от замечания.
— Долго не бегай, — сказал он. — Мать скоро придет, обедать сядем.
Валерка, надев коньки, ушел.
«Служащий, — подумал Дмитрий Павлович. — По паспорту служащий, а если разобраться, так самый настоящей единоличник. Не иначе».
Вернулась с базарчика Клава. Была она в пуховом платке, в полушубочке, из-под широкой юбки виднелись лыжные зеленые шаровары, заправленные в валенки. В руках корзина, покрытая чистой тряпицей.
— Продрогла аж вся… Скорый опаздывал, говорят, на путях заносы. Ждала хоть не зря. Петушка продала, варенец тоже весь. А картошку сегодня чего-то плохо брали.
Она вдруг заметила молчаливую сосредоточенность Дмитрия Павловича.
— Что с тобой? Не заболел?
В ее узких черных глазах он увидел тревогу.
— Думы одолели, — сказал он.
— На работе что-нибудь?
— Как жить, думаю…
— Так и будем жить, — сказала Клава. — Как все.
Дмитрий Павлович подумал, что Клава вросла в эту жизнь с рождения, никогда не уезжала из дому больше чем на месяц: однажды на забайкальский курорт Дарасун да еще в областной центр на экскурсию. И чувствовала себя в родном городке уверенно, будто птица в гнезде, радовалась, что знает вокруг всех, а все знают ее.
«Не поймет», — решил Дмитрий Павлович и не стал ничего пояснять.
Раздевшись, Клава вынула из корзинки завязанные в чистый носовой платок деньги, стала считать, распрямляя ладонью мятые рубли, позванивая мелочью.
— Положи в комод, — она протянула выручку.
Дмитрий Павлович деньги взял вяло, без всякого интереса, и впервые почувствовал смутную к ним неприязнь.
«Бьешься, бьешься, — подумал он, — ради этих чертовых бумажек. Стоит ли?»
На покрытом клеенкой столе появились тарелки, селедочка под луковыми кольцами, капуста с мелкими крошками льда и брусничными глазками, коричневая эмалированная кастрюля со щами.
После обеда, когда Валерка в своем закутке, отгороженном крашеной фанерной стенкой, занялся уроками, Дмитрий Павлович рассказал жене обо всем, что его мучило. Против ожидания, услышал сочувственное:
— Так что же нам делать, Митя? Что делать, если так получилось: вросли, корни пустили…
— Может, уехать куда-нибудь? Бросить все к черту.
— Да куда же? Куда мы поедем-то?
— А кто его знает… Да хоть на стройку. Вон, на Ангаре строят…
Ночью она говорила, лежа рядом с ним, перебирая его волосы:
— Ну, поедем, если тебе так лучше. Мне что? С тобой хоть на Колыму поеду. Девчонкой жутко было мне, а собралась в Германию, если тебя с армии не отпустят. А сейчас, мужней-то женой… Кого мне бояться?..
Они лежали в тишине, слушали торопливое тиканье ходиков, отсчитывающих минуты уходящей человеческой жизни, дыхание спящего Валерки да тонкое посверливание жучков-точильщиков, тоже зачем-то живущих на этом свете и добывающих себе пропитание.
Заснули уже посреди ночи, когда в оледеневшем окне исчез лунный свет и стало совсем темно. Решили: сначала уедет он, устроится, подыщет жилье, а к лету, продав дом и хозяйство, тронется с Валеркой она. И когда все было обговорено, Дмитрий Павлович почувствовал себя легко, как в те времена, когда все его имущество помещалось в солдатском вещевом мешке.
2
В отделе кадров строительства Дмитрия Павловича спросили о специальности.
— Да я, собственно, был на учрежденческой работе, — ответил он, — так сказать, в аппарате…
И хотел тут же добавить, что пошел бы на курсы экскаваторщиков или по другой механизаторской профессии. Но пока собирался высказать все это, заведующий кадрами бегло взглянул в трудовую книжку и обрадованно воскликнул:
— Как раз то, что мы ищем! С делопроизводством знаком? — внезапно перешел он на «ты». — Добро. Посадим тебя на кадры в Управление основных сооружений. Сегодня же согласуем с начальством и заготовим приказ.
Дмитрий Павлович растерялся, но все же сказал о своем желании — приобрести специальность механизатора.
— А зачем тебе это? Пока будешь учиться, сколько денег другим выплатят? Посчитай! А у нас зарплата — будь здоров, не каждый инженер за такую расписывается. Плюс еще премиальные. И квартиру обещаю. Это мы к осени пробьем. Получишь к Октябрьским секцию в новом доме. А там, на участке, знаешь какая очередища? Ждать ох-хо-хо сколько придется. Да с год в учениках проходишь. Ну?..
Кадровик смотрел приветливо, не только искал свою выгоду, но и Шеменеву желал добра. Дмитрий Павлович, однако, почувствовал: что-то опять убегает, ускользает от него, ради чего рванулся он сюда, оставив и Клаву, и Валерку. И так как он постоянно думал и тосковал о них, особенно по вечерам, то спросил настойчиво:
— А с квартирой точно получится?
— Пробьем! — заверил кадровик. — Слово чести.
И Дмитрий Павлович согласился.
Он устроился в общежитии — комната на четверых — и уже на другой день снова сидел за канцелярским столом, в комнатушке с двумя книжными шкафами и сейфом в углу. Стол был новенький, пахнущий клеенкой и столярным цехом, правда, не такой удобный и широкий, как на прежнем месте. А вот чернильница оказалась в точности такой же, даже крышка была расколота. Нарочно ломают их, что ли, усмехнулся Шеменев и раскрыл картонную папку с надписью «Личное дело».
Там лежала анкета Федора Подзорова, арматурщика. Где только ни побывал, кем ни работал этот Подзоров! Липецк, Ташкент, Новосибирск, Нижний Тагил… Он тебе и арматурщик, он тебе и плотник, и электрик. И всюду нужный, видать, человек: в личном деле одни благодарности. Дмитрий Павлович слегка позавидовал Подзорову — вот это работник!..
Не успел Дмитрий Павлович разобраться с делом Подзорова — тот просился на курсы бригадиров, — как пришли две девчушки определяться в бетонщицы. Стройке были нужны маляры, штукатуры.
Но девчушки хотели только на бетон. Едва их пристроил: пришлось созваниваться с начальником участка, с комитетом комсомола; девчушки получили направление в общежитие, убежали.
И все пошло почти как на прежнем месте: посетители, телефонные звонки, деловые бумаги, служебные совещания. Кто-то приходил оформляться, надеясь найти на стройке свое дело и свое счастье, кому-то приспичило увольняться по семейным обстоятельствам и уезжать, например, в город Колдыбань, о котором Дмитрий Павлович никогда не слыхивал.
После работы он много ходил по стройке, смотрел и смотрел. На плотину в синем выхлопном дыму въезжали двадцатипятитонные самосвалы, ссыпали там глину, и рокочущие трактора трамбовали ее, слегка пружинящую под гусеницами. Вдалеке маячили стрелы экскаваторов, черпали с речного дна гальку, грузили ее в автомашины, и они шли к бетонному заводу.
Дмитрий Павлович смотрел на движение машин, на работу многих людей и успокаивал себя: он тоже причастен к этой работе, тоже помогает всем этим ребятам — шоферам, экскаваторщикам, бетонщикам. Но потом приходили другие мысли. А чем, если задуматься, помогает? Ну, был бы он, допустим, инженером или техником, а то что же? Так, по бумажной части…
И опять донимали-тревожили сомнения: за таким ли делом поехал?..
Времени, чтобы подумать, сравнить свою жизнь с другими, теперь у него хватало. Чего, например, Федор Подзоров по земле метался, а потом здесь вдруг осел? Только ли выгоду искал?..
…Когда Дмитрий Павлович поселился в общежитии и для знакомства позвал соседей поужинать, Подзоров уже в конце застолья высказался откровенно:
— Моя бы воля, разогнал бы ваши кадровые отделы к едреной бабушке!
— Брось, Федор, не задирай Палыча, он, я вижу, мужик правильный, — вступился Иван Аксаментов, электросварщик, по прозвищу Боцман. Был он из флотских старшин, любил во всем ясность и железный порядок.
— Ты, Палыч, воевал? — поинтересовался Гоша Томилин, самый молодой в их компании, недавно демобилизованный пограничник.
Дмитрий Павлович кивнул.
— Во! Это тоже понимать надо! И вообще, кадры решают все!
— Да что вы разорались? — спокойно спросил Федор. — Я не Палыча задираю. При чем тут Палыч? Каждый поршень в своем цилиндре ходит. А на рацпредложения имею я право? Имею или нет? Тогда слушайте. У меня кореш был, в Липецке вместе на домне вкалывали. Он раньше в торгфлоте служил, ходил в загранку. Рассказывал, у капиталистов, говорит, никаких таких отделов не существует. И ничего, работа-то идет. А почему так? А потому — он не дурак, эксплуататор-то! Зазря доллары платить не будет.
— Потому и безработица у них, — заметил Иван Аксаментов. — Это нам не подходит. Не подходит такая система, говорю. Там у одних все, у других — нищета. А мы не на хозяйчика ишачим. Мы сами хозяева. Понял? Нет, ты скажи, ты понял?
— Да что ты тут со своей политграмотой? Ему про ежа, а он про чижа. Я же про лишних нахлебников говорю. Ты сосчитай: сколько тех же кадровиков у нас на стройке? Сидят в каждом управлении. А в масштабах государства? Жуткие тысячи набегут. Хоть в рублях, хоть в людях.
— Ну и что? Ешь капусту да не мели попусту. Зато у нас порядок, железный. И каждый человек при деле.
Дмитрия Павловича укололи слова Федора. Получалось, что он вроде бы дармоедом тут оказался. Но в спор он не полез, слушал и чувствовал: в какой-то малости этот Федор прав. Многовато людей сидит в конторах. Многовато!..
Он думал об этом и сейчас, остановившись у края котлована. Там, внизу, копошились человеческие фигурки. В углу экскаватор выбирал скальный грунт; посередине тащилась лошаденка, впряженная в телегу — увозила мусор; сбоку шагал возчик, навстречу ему бежал-торопился инженер, неся рулончик чертежей; из дощатого сараюшки-буфета вышла с ведром толстуха в белой куртке и поварской шапочке.
— Да, — вздохнул Дмитрий Павлович, — тут вроде каждый делает свое дело. Каждый. Даже эта лошаденка…
Он смотрел на скалистые стенки котлована, по ним беспрерывно стекали струйки воды. Вода сочилась, кое-где била фонтанчиками, шумела, падая вниз. По трубам, по желобам воду направляли в резервуары и откачивали огромными насосами.
Дмитрий Павлович хотел было спуститься вниз, поискать Ивана Аксаментова, Гошу и Подзорова, посмотреть на их работу вблизи, а потом вместе с ними пойти домой, но стал накрапывать дождь, и он торопливо пошел в общежитие. По дороге забежал на почту, в окошечке «До востребования» ему выдали письмо от Клавы. Она писала — ждет не дождется вызова. «…Хорошие покупатели нашлись на дом — приехали с острова Сахалин, деньги дают приличные, Валерка сильно по тебе скучает, скоро ли будем все вместе?..»
«Скоро, скоро…» — мысленно произнес он, проходя мимо двух домов со свежеокрашенными дверьми и немытыми, в краске, окнами. Здесь ему была обещана секция — две комнаты с кухней. Дождь усилился, но Дмитрий Павлович все же постоял у дома, гадая, какую же секцию дадут — на первом или втором этаже? Если на первом, то под окном он разобьет клумбу, посадит георгины и флоксы. И березку тоже посадит… Принесет из леса…
Дождь припустил сильнее, и Дмитрий Павлович побежал в общежитие, подняв воротник демисезонного черного пальто. Навстречу, и обгоняя его, бежали от дождя люди, некоторые толпились под козырьками подъездов, поглядывали на небо. Но просвета не намечалось, все заволокло низкими серыми тучами.
В общей кухне Дмитрий Павлович повесил сушиться намокшее пальто, переоделся в лыжный костюм и резиновые тапочки, еще раз посмотрел в окно — там вовсю разошлась непогода — и лег на койку поверх казенного одеяла. С тумбочки взял Гошин журнал «Вокруг света». Открыл наугад.
На фоне моря был сфотографирован бородатый старик. Он стоял на плоту, в одних трусах, загорелый, суховатый, мускулистый. У ног его — собачка, на плече сидел попугай, на руках — кошка. Оказалось, что этот дед, один-одинешенек, не раз уже плавал со своими зверями по морям-океанам, а год назад на плоту обогнул всю землю. Мало того, он и еще раз решил объехать вокруг света. Не нагулялся, видать…
Дмитрий Павлович представил морскую бурю, рвущийся из рук парус, волны, которые захлестывают плот. Погибнуть захотел, что ли? Ну, ладно, сгонял вокруг земли. Доказал — могу! Всем доказал. А второй-то раз для какой цели? Стоп. А может, этот старик свой путь ищет? И плывет черт-те куда! А я вот ничего не могу. Инженером не стал. Техникум даже кончить не сумел. Плыву, куда несет…
Незаметно, в сумерках, Дмитрий Павлович задремал. Проснулся, когда пришли Иван Аксаментов и Гоша-пограничник. Он слышал, как ребята стаскивали свои мокрые спецовки и сапоги, как разговаривали о чем-то шепотом.
Дмитрий Павлович улыбнулся, подумал — какие уважительные парни. А за окном не переставая лил дождь и мокро шумел ветер.
— Льет, гадство, — сказал тихо Иван. — Наломает дровишек…
— Запросто. В котловане уже по колено… Запасные насосы подключать придется…
В окне коротко постояла ослепительная вспышка, потом слабо вздохнул гром. Дмитрий Павлович поднялся, разобрал постель, посмотрел в черное стекло. Там, в молниях и дожде, возникали дома, скользкая дорога с бульдозером в луже.
— Не к добру все это, — мрачно произнес Иван Аксаментов, помолчал и вдруг объявил: — В такую погоду хорошо или спать, или водку пить…
— Вот и спи, Боцман, — сказал Гоша. — Мне завтра в первую выходить.
…Проснулся Дмитрий Павлович от громкого крика:
— Котлован заливает! Все в котлован! — Это Федор Подзоров бегал по коридору, стучал в двери:
— Вставайте, ребята! Котлован заливает!..
Иван Аксаментов и Гоша проснулись, медленно встали.
— Я говорил не к добру, так и есть: не к добру, — проворчал Иван.
Дмитрий Павлович прошлепал босыми ногами к выключателю, щелкнул туда-сюда, света не было. Он открыл дверь в коридор, там тускло горела свечка. Из комнат появлялись темные фигуры, кашляли спросонья, топали сапогами. Иван чиркнул спичкой, она тут же погасла, но Гоша засветил карманный фонарик. Все оделись, Дмитрий Павлович тоже натянул свое непросохшее тяжелое пальто.
— А ты, Палыч, куда? — спросил Гоша. — Команда только нам, работягам. А ты спи, отдыхай, у тебя совсем другая служба.
— Дубина ты, дубина, — сказал Иван Аксаментов, — всех же наверх свистают!..
— Я так и подумал, — торопливо ответил Дмитрий Павлович. — Если всем, значит, всем… Я с вами, ребята.
— Сними только свой макинтош, — посоветовал Иван. — Надень мою телогрейку запасную.
— И верхонки мои возьми, — предложил Гоша. — Держи, новые! — И бросил брезентовые рукавицы.
Вместе со всеми он вышел под ливень и ветер. Забрались в крытый грузовик, уселись на доски, перекинутые с борта на борт. Дмитрий Павлович устроился между Иваном и Гошей, спиной к шоферской кабине. Дождь барабанил по фанерной крыше, пробирал холод, и трудно было согреться.
В кузов влезали все новые и новые люди, ругали погоду и какого-то прораба Враждобина, гадали — как там в котловане? Наконец набилось полно народу, машина тронулась.
Котлован, когда Дмитрий Павлович выбрался из грузовика, освещали прожектора, слепили. В их лучах мельтешила дождевая пыль, а вокруг котлована была темнота — ни огонька, ни просвета.
— Все отключили, всю энергию, — сказал Федор Подзоров, вынырнувший из темноты. — Опору, понимаешь, молнией спалило. На главной линии. На другой — обрыв за обрывом. Осталась одна шестивольтовая. Водоотлив вот-вот захлебнется, если опору не поставят. Айда вниз, ребята!
Уже внизу Дмитрий Павлович увидел, как два бульдозера воздвигали валки вокруг блестевшей на дне котлована воды. Тут же люди с лопатами пытались ввести в русло разлившийся поток. Но поток вырывался, размывал землю, которую кидали лопатами, земли не хватало, привезенная самосвалами горка уже растаяла.
— Подкрепление принимайте! — закричал Федор Подзоров. — Где тут начальство?
— Давайте людей к насосам! Вторую насосную заливает, — приказал кто-то массивный, в дождевике с капюшоном.
По щиколотку в воде, они побежали за Федором в самый дальний угол котлована. Здесь Дмитрий Павлович увидел переполненное водой озерцо, а посредине его, на бетонных фундаментах, насос и два мотора. Их уже заливало. По кромке бегал прораб, командовал людьми, столпившимися тут же.
— Снять их с фундаментов надо! — услышал Дмитрий Павлович. — И немедленно!..
— А то зальет моторы, — объяснил Федор Подзоров. — Тогда за неделю не откачаем…
«Как же снимать? Вокруг вода, без лодки не доберешься», — подумал Дмитрий Павлович.
— Плотники, живо сюда! Где плотники? — крикнул прораб.
Из досок и бревен сколотили плот, спихнули на воду. Федор Подзоров, Гоша, Иван сразу же прыгнули туда. Дмитрий Павлович воткнул в бревно топор, схватил шест и тоже — к ребятам. Они подплыли к насосу и уже замершим моторам. Фундаменты их вместе с болтами крепления скрылись под водой. Федор и Гоша на ощупь пытались гаечными ключами открутить болты.
— Эй вы, на плоту! — крикнул прораб. — Держите трос, обвязывайте оборудование!..
Дмитрий Павлович поймал брошенный с берега конец и вместе с Иваном стал продергивать трос под основание.
И огни прожекторов, и непогода, на которую никто не обращал внимания, и отрывистые команды — все это на миг перенесло Дмитрия Павловича в те времена, когда ненастной ночью полк форсировал реку, и он стоял, как и сейчас, на зыбком, шевелящемся плотике рядом с Терентием Малковым…
У Федора Подзорова и Гоши-пограничника дело подвигалось быстро, а проклятый трос никак не продергивался под насосом. Иван зло матерился, прораб с берега что-то им советовал, но у них ничего не получалось.
— Долго вы там чикаться будете? На первой насосной уже мотор подняли и систему к эвакуации подготовили, — подгонял их прораб.
А вода все прибывала.
«Тут по-другому надо», — решительно подумал Дмитрий Павлович. Рывком сбросил ремень, ватник, рубаху, майку… Все это он проделал мгновенно, а затем прыгнул в воду.
— Трос! Быстро!..
— Ну, Палыч! — воскликнул Иван Аксаментов. — Ну, ты даешь! — И протянул ему конец.
Дмитрий Павлович схватил его и нырнул как можно глубже. Нащупал под водой часть насоса, втолкнул трос в какое-то отверстие и вынырнул. Отдышался, снова нырнул. Закрепил трос петлей и вдруг почувствовал боль: ногу сводила судорога. Он попытался выпрыгнуть на плотик, но беспомощно сорвался, едва удержавшись за скользкие доски. Иван Аксаментов и Федор подхватили его, вытащили. Гоша набросил ему на плечи свою намокшую телогрейку и сразу причалил к берегу.
— Держи, одевайся, — сказал прораб, протягивая майку и свитер. — Да ты разотрись, разотрись!
— Тоже мне, медицина, — проворчал Федор Подзоров. — Разотрись! Ему бы изнутри согреться. Ночной-то буфет работает? Может, у Лизки-буфетчицы разживемся для Палыча? Кто скорый на ногу? Иван, ты? Слетал бы до буфета, держи гроши…
Дмитрий Павлович натягивал одежду на мокрое тело, но теплее не становилось, его пронзал холод и била дрожь.
— Ты бы побегал, попрыгал, — сочувственно сказал Федор. — Сейчас горячее Боцман доставит. Эх, ты, Палыч…
— Палыч-то ваш, ребята, в самый момент плюхнулся, — раздался позади чей-то густой голос. — Еще бы чуток, и конец насосу, а теперь вытянем…
— Палыч войну прошел, — сказал Гоша. — Понимать надо!
Дмитрия Павловича окружили электрики, арматурщики, плотники. Говорил же о нем бригадир арматурщиков Свилеватов. Из его личного дела Дмитрий Павлович знал, что он сапером провоевал от Курска до Белграда, а потом восстанавливал Днепрогэс, строил канал в Крыму, работал на Волго-Доне. Свилеватов протянул ему эмалированную кружку:
— Бери, браток, сейчас нальем твои, как говорится, боевые сто грамм. У нас в бригаде народ запасливый, все предусмотрели.
Дмитрий Павлович взял кружку, кто-то налил туда из фляги, обшитой сукном, с медным колечком и карабином. «Тоже фронтовая», — отметил Дмитрий Павлович и почему-то вспомнил свой исцарапанный телефонный аппарат.
— Получай, — сказал Гоша, сунув Дмитрию Павловичу толсто отрезанный кусок докторской колбасы и детскую шоколадку.
— И как тебе служится, Палыч, на кадрах?
Согреваясь от выпитого, веселея, Дмитрий Павлович неопределенно пожал плечами, вопросительно посмотрел на Свилезатова — мол, к чему такой вопрос?
А тот продолжал:
— Боевой, вижу, человек, а сидит, понимаешь, там, свой талант маскирует… Ловко ты водную преграду форсировал…
Все сдержанно засмеялись, Дмитрий Павлович тоже улыбнулся.
— Мы только еще мозгами шевелили — как быть, — сказал Федор, — а он, гляжу, бултых! И тама. И лапти сушит. Слыхали, как семеро вятских в проруби кисель заваривали, а после лапти стали сушить? Дело, значит, было так…
— Да слыхали, слыхали! — нетерпеливо перебил Свилеватов и неожиданно для Дмитрия Павловича предложил: — А если тебе к нам в бригаду? Нам люди во как нужны, сам знаешь…
— Не всякие люди, — ревниво заметил парень, наливший из фляги, — всяких мы не берем. У нас народ правильный подобран. С которым, бригадир говорит, куда хошь идти можно.
Дмитрию Павловичу стало хорошо то ли от выпитого, то ли от этих слов, то ли от того, что был он среди ребят, чем-то похожих на тех, из его орудийного расчета. И ему захотелось водить с ними дружбу, встречать праздники, советоваться, жить по соседству. И, как они, работать с металлом, сваривать тяжелые, неподатливые штыри, и чувствовать, как они меняют форму, превращаясь в разнообразные хитрые переплетения, без которых станцию не построить.
Но тут же он подумал о Валерке, о Клаве, о секции в новом доме, которую отдадут кому-то.
— Так я бы не против, — сказал осторожно. — Только дела у меня такие, ребята: семья! А в учениках у вас сколько ходить? Год, а то и больше…
— Да кто тебе сказал? За год мастером тебя сделаем. Я сам тебя учить буду, — заверил Свилеватов. — Через три месяца сдашь на разряд. Поставим тебя сварщиком…
Дмитрий Павлович слушал молча, скрывая волнение.
— Ты не сомневайся, — продолжал Свилеватов, — бригаду нашу все знают. И навстречу пойдут, в случае чего. Ну, согласен?
Вместо ответа Дмитрий Павлович отрешенно протянул Свилеватову руку. И в это время зажглись огни вокруг котлована, засветились окна домов, все радостно зашумели, а Гоша даже закричал «ура!».
— Ну, теперь порядок, — сказал прораб. — Восстановили главную! Теперь и насосы поднимать не придется. Побегу к электрикам. А тебе, Шеменев, спасибо от лица руководства. Начальнику строительства доложу.
А еще через два дня Дмитрий Павлович, одетый в брезентовую куртку и такие же брюки, зажав в руке держак сварочного аппарата и прикрывая лицо щитком, неумело тыкал электродом в скрещенные арматурные штыри. Из-под электрода фонтаном разлетались искры, металл потрескивал, податливо плавился, послушный действиям Дмитрия Павловича, и застывал намертво, свариваясь с другим металлом.
Дмитрий Павлович был захвачен новым, непривычным еще делом и радовался этому делу, хотя Свилеватов, стоявший рядом, одергивал:
— Постой, Митя, постой! Держи инструмент крепче, а сам-то, сам-то не напрягайся. Свободней держись. И электродом не тычь. Не тычь, говорю. Веди как пером по бумаге. Во, это совсем другое дело. Вот, вот! Получается помаленьку…
Вечером Дмитрий Павлович возвращался из котлована вместе со Свилеватовым, Федором Подзоровым, Иваном и другими ребятами из бригады, и Гоша все спрашивал:
— Что ты улыбаешься, Палыч? Как майская роза лыбится и лыбится. Клава, что ли выехала? Темнишь ты чегой-то!
— Темню, темню, — отвечал он и весело думал о том, что сегодня же напишет письмо Терентию Малкову. И еще он думал, что человеку надо хоть раз в жизни решиться и обрубить все постромки, которые держат тебя по привычке, а не по желанию, на давно уже освоенном пятачке, и вот так сразу шагнуть вперед, шагнуть в эту ли черную ледяную воду или еще куда-нибудь, чтобы найти верный путь к самому себе. К делу, для которого ты явился на эту землю.
Генчо Стоев
Его называли Гербицидом
Он и сам не мог сказать, когда открыл, что здешняя почва — самая лучшая в мире. Странно было смотреть, как он приседает, роется в ней, просеивает ее сквозь пальцы, как старый крестьянин просеивает зерно.
Еще его отец или дед отреклись от земли, или она отреклась от них — это до сих пор не совсем ясно.
Но так или иначе, у них был свой домик на этой земле, на берегу, в приморском городке. Отец возвращался из сухого дока, где работал, то днем, то ночью, как правило, чисто вымытый под душем, но иногда — и с масляным пятном на лбу, с потемневшей верхней губой, с почерневшими от копоти ноздрями, и тогда ему приходилось отмываться дома.
В глубине двора находился колодец, на дне которого блестела холодная вода. Но в самые жаркие месяцы колодец пересыхал. А так как без воды не обойтись, сын брал кувшин и ведро и шел в дальний квартал с большими белыми домами, где из колонок текла на тротуары хрустальная вода, пенясь, как лимонад.
Теперь за водой ходил отец. Потому что теперь пятна и сажу отмывал со своего лица сын. Соседским парням поливали матери, но в этом доме матери не было. Ее здесь уже и не помнили, все делали сами — топили печь, готовили на ней пищу, постигнув лишь одну кулинарную тайну, единственную, но очень важную: самое лучшее жаркое на свете — горячее жаркое. И какой бы ни была жизнь в этом доме, они всегда ели хорошее жаркое.
Старик говорил, что это относится и к морякам. Много разных работ в разных землях испробовали они, и каждая работа приносила доход, позволяющий прокормиться, но главной оставалась та еда, которая готовилась дома, самой лучшей была именно она. И просил сына не уходить в море:
— Пока можешь, держись за сушу. Держись, сынок, и только в крайнем случае уходи в море. Море помогает только тогда, когда суша выбрасывает человека. Иначе и оно губит и выбрасывает человека…
В глубине души старику хотелось, чтобы его сын вкусил плодов других меридианов. Так или иначе, но их род уже достиг края суши. Многие парни из дока уже ушли в плавание, из сухого дока не трудно перейти в мокрый, не имеющий конца-края, они и без того работали на корабельных палубах с пилами и щетками в руках, нужно было только оставить инструменты, а палубам — поплыть по волнам. Парни часто отправлялись в путь на этих палубах. Сын старика тоже собирался выбрать палубу получше, маршрут поинтереснее, но все колебался и медлил, пока в один прекрасный день не понял, что выбор уже сделан, что маршрут уже определен.
Ему предстояло плавание по суше, по книгам и еще по каким-то ориентирам, указанным другими.
Он никогда не думал о том, что мог бы вести других за собой, никогда не считал себя чем-то выше других. Он знал, что создан для работы и только для работы, но прежде чем взяться как следует за нее, он нередко смотрел дома в зеркало на свое лицо, словно хотел определить, не написано ли на нем чего-то значительного: волевых складок возле губ или каких-нибудь других признаков мудрости… Он даже обмерил свой лоб. Умные или талантливые люди обладают высоким лбом, а его лоб не был ни высоким, ни низким, таким же, как и у его отца. Теперь он гадал, почему в комитете решили, что он создан для того, чтобы учить и вести за собой таких же, как и он сам.
Сначала ему было жаль и сухого дока, и своей молодости. Были часы и дни, когда он вертелся, как на токарном станке; он словно слышал, как свистят стружки, видел, как они, снятые с него самого, кружатся перед глазами, как делается все тоньше и совершеннее его существо; он терпел, стиснув зубы, глядя на эти горячие спирали, на то, как они отливают стальной синевой. В такие моменты он допускал, что он сам приобретает такой цвет. И надеялся, что природа нашла для него уже свою более чистую, более точную форму.
Но в редкие дни, в редкие часы отдыха он шел на берег моря, к причалам, и ему еще милее становились дали, утраченные, несбывшиеся, не ставшие для него судьбой. Он видел паровые суда в клубах черного дыма, дизельные корабли и белые теплоходы, словно сделанные специально для молодых женщин и девушек в нарядных платьях, для безоблачной радости путешествий.
А потом он перестал думать обо всем этом. Да ему и некогда было думать. Теперь он работал в центре города, в пятиэтажном здании комитета, работал с комсомольцами. Ему казалось странным, что для этой работы выбрали именно его, а еще более странным то, что он с работой справлялся. Эта работа напоминала порой работу в доке, ему тоже приходилось очищать ржавчину, готовить суда для новых рейдов…
Порой к нему заходили ребята с судов. И тогда он снова видел перед собой морские дали. Ребятам предстоял новый рейс. И от него во многом зависело, каким он будет. И снова он удивлялся, что справляется со своей работой.
А дела дома шли по-старому. Колодец опять высыхал в жаркие месяцы. И так как в их квартале все еще не было водоразборных колонок, однажды он спустился в колодец по скользким камням, ступил на песчаное дно. И увидел, как с камней последнего ряда кладки медленно капают редкие драгоценные капли, эти водяные топазы, крупные жемчуга, необычайно красивые, но слишком скупые, не способные утолить жажду двух мужчин. Камни были зелеными, песок желтым, глина на самом дне колодца черной, с кругами, оставленными ведром. Этих круглых ран было много — ведро много раз стукалось о глину, чтобы пробить ее и добраться до более глубокой воды.
А над колодцем сияло небо, отсюда оно казалось тоже круглым, сухим, маленьким, блестящим, похожим на перевернутое цинковое ведро. В этом ведре плавало и белое облачко — голова старика-отца. Они прекрасно понимали друг друга с этим облачком — оно на несколько минут исчезло, а потом на веревке с неба в колодец спустилась кирка. Опускаясь, она со звоном ударялась о старые камни цилиндрической кладки, осыпая мужчину в колодце кусочками покрытого плесенью гранита. Потому что у облачка были слабые глаза, и оно не видело, что происходит внизу.
Наконец кирка вонзилась в глину, погрузилась в нее. Наверху осталась только половина стальной части, которая подрагивала, словно сама собиралась копать, пробираясь к более глубокой воде. А молодого мужчину она похлопала ручкой по плечу, словно хотела сообщить ему, что он родился удачливым. Удачливый, прежде чем начать копать, еще раз посмотрел на испещренное кругами дно. И заметил только сейчас, что эти круги наполнены золотым песком, словно кто-то годами промывал здесь золото, отливал золотые обручи. Молодой мужчина долго работал в колодезном трюме, а облачко над ним кричало, что глина не пропускает воду, а он возражал, что если и не пропускает, то по крайней мере глину можно выбрать.
Так дно отвечало небу, и колодец наполнялся сочным молодым голосом. А на следующий день глубокое углубление в глине наполнилось чистой прохладной водой. Старик расчувствовался, про себя благодаря судьбу за то, что дала ему такого толкового сына, за то, что нашлось кому выучить его и вывести в люди, ведь он сам по простоте и темноте своей не смог бы этого сделать.
А через день уже весь квартал знал, что во дворе у двух одиноких мужчин на дне колодца обнаружили глубинную водяную жилу. Все соседи стали ходить к ним за водой; и старухи, и молодые женщины, и юные девушки, и, конечно, мужчины. А однажды пришла сюда хорошенькая опрятная девушка, да и осталась здесь. Звали ее Марией.
Дело с найденной водяной жилой закончилось необычно — весь квартал остался без водоразборных колонок. Строительство водопровода отложили на годы, и порой молодой мужчина спрашивал себя, доброе ли дело сделал он, найдя воду, или злое. Хоть люди и пили его воду, многие уже утверждали, что сделанное им принесло только вред. Теперь во всех дворах стояли огромные глиняные кувшины со свежей водой, они вполне заменяли водопровод. Но за водой приходилось ходить, долго вертеть ворот вместо того, чтобы за секунду повернуть ручку крана. Квартал и в самом деле чувствовал себя обездоленным, в других кварталах жилось полегче.
Он от многих слышал укоры, но чаще всего — от Марии. И очень сложно все было, и очень просто: вроде и неприятностей немало, а все же жить приятно, да и вода сладкой казалась. Видимо, это было оттого, что текли лучшие годы его жизни. Вскоре забот еще прибавилось, ночи стали бессонными — из-за плача первенца.
Теперь он был партийным руководителем целого округа, он знал, что невозможно завоевать доверие всех без исключения. И что даже завоеванное доверие не является незыблемым. Он научился не спешить, но и медлить не любил.
В хлеборобном округе, по степям которого он колесил, в чьей земле рылся и копался, условно искал, куда бы пустить корни, его встретили так, как принимают новые семена — они вроде бы и лучше, но еще не испытаны. У них были свои сорта — их бросали в землю, ими кормили своих детей. Какими бы ни были старые сорта, хорошими или плохими, они легко находили для себя почву, да и земля ждала их. И агрономы тоже. Они бы создавали новые сорта, но без спешки и без худых слов о старых. Прежний секретарь назначал людей на более высокие должности, переводил людей на менее ответственную работу. Никто не мог утверждать, что с ним уже покончено. Сейчас новое семя знакомилось со вверенной ему землей, стремилось укорениться.
Годы сделали свое дело — он стал сухощавым мужчиной с узким волевым лицом. Он был сухощавым, но без той утонченности, которая делает людей стройными. Худоба делала более легким тело, придавала ему подвижность. Но более быстрыми, чем его ноги и руки, были его глаза. Они не останавливались ни на чем долго, но все видели. Они оглядывали тротуары, залы заседаний, улицы, они постоянно искали взгляды других людей, заглядывали в глаза, чтобы через минуту или час забыть о них и глядеть в другие глаза, но через день или месяц снова находили забытые глаза и пытливо смотрели в них. И хотя он был не очень крепкого сложения, его считали сильным и выносливым. Когда человеку глядят прямо в глаза, он не слишком много смотрит по сторонам, так с него скорее сходит ржавчина.
Есть самые разные глаза, которые постоянно ищут. Если они не возвращаются к раз увиденному, значит, они ничего особенно и не видели или не рассмотрели. Существуют глаза, которые похожи на забитые во что-то гвозди — раз проникнув во что-то, они уже не шелохнутся, потому что это «что-то» сильнее их. И первые, и вторые глаза ничего не делают. А его глаза словно ставили каждого на весы. Он внутренне взвешивал каждого по нескольку раз. Он взвешивал и докладчика в комитете, и продавца, торговавшего пирожками — предметом изучения для него были все.
Ему нелегко было на этой большой и трудной земле. Именно она прогнала его род на самый край земли — к берегу моря. И до сих пор все не проявляла к нему дружелюбия. Здесь не было холмов, не было эха во время гроз. Гром раздавался внезапно и так же внезапно стихал, внезапно начинались и кончались дожди. Эта земля была и широкой, и глубокой — два метра лесса над песком и черной глиной, вода бесшумно поглощалась им. Его ранили слова, подобные этим:
— Что знаешь ты, сынок, о нашей степи, о нашей почве? Я кровью своей полил этот лесс… Рука моя в нем осталась. Не надо слов, ты лучше дай этой степи каналы, ка-на-лы!
Говоривший все это поднимал левую руку, а пустой правый рукав, засунутый в карман, подрагивал, словно таил в себе угрозу. И было невозможно решительно и остро ответить ему, потому что говорившим был бай Продан, человек, которого все уважали. К тому же бай Продан являлся его предшественником.
В степи повсюду думали о воде. Десятилетия подряд. Делали планы будущих каналов, собирали подписи, посылали в разные инстанции делегации, и, возможно, каналы через время и появились бы… Но секретаря прислали сюда именно затем, чтобы показать, что ждать больше нельзя, потому что не один урожай затонул в лессе вместе с краткими дождями. И он отвечал старцу:
— Я не смог пролить свою кровь, бай Продан, слишком поздно родился, но и ждать благодатной воды каналов тоже не стану. Я переверну этот лесс, войду в глубь его, чтобы отнять влагу, которая проникает туда во влажные сезоны, а если мне это не удастся, сам зароюсь в него. Зароюсь в него у тебя на глазах, зароюсь в эту чужую для меня — так ты утверждаешь — землю. Что бы ты ни думал обо мне, уважать тебе меня хотя бы за это придется!
И за это именно его и начали уважать — на глазах у людей в январскую стужу мощные машины начали копать землю на полях возле областного центра. На двух метровую глубину они затолкали зимние осадки. И ничего не исчезло, не испарилось. А когда весной появились первые всходы, желтые самолеты посыпали эти поля гербицидами, и все сорняки исчезли.
Теперь секретарь заговорил во весь голос. А после его речи над степью, как марево, повисли тихие месяцы ожидания. После многолюдного шумного собрания в области иссякли все слова, их заменило одно ядовитое слово — Гербицид. Так его прозвали. За эти месяцы Гербицид буквально высох. Он уже не ходил каждый день в комитет, не объезжал ежедневно поля на газике, не рылся в земле, хотя только так мог обрести успокоение. Когда его нужно было срочно найти, его находили в городской авторемонтной мастерской, где он работал напильником, словно искал утерянную почву. На лбу у него темнели масляные пятна. Даже смыв машинное масло перед уходом домой, он мало менялся внешне — его кожа приобрела синеватый оттенок. В один из дней этого долгого утомительного ожидания он сказал Марии:
— Знаешь, нам и театр нужен. Если я докажу свою правоту, нам дадут мощные тракторы, подходящие для нашей земли. И артистов нам пришлют.
— И зачем тебе эта новая затея с театром? — неодобрительно произнесла Мария. — Уж не артистки ли тебя привлекают?
И он снова пропадал в авторемонтной мастерской. По области ездили агрономы, они привозили ему из поездок сухие сорняки и колоски — еще зеленые, неналившиеся. Ему пока нечем было себя утешить. И он высох, как и сорняки. От него остались одни глаза. Но странно — все, что он пророчил, сбылось. Перед ним стали снимать на улице шапки, встречные почтительно приветствовали его.
Лето все еще не кончилось, но все больше людей начинало относиться к нему с глубоким уважением, хотя прозвище за ним так и осталось.
Наконец пришла и осень с первыми холодами, с редкими облаками, тогда-то и посыпались цифры, красноречиво говорившие о количестве зерна. Туманное марево развеялось над жнивьем, вместо него поднялся дымок — от свежего хлеба, шашлыков. Пошли праздники.
Теперь все двери открылись перед Гербицидом, а шапки стали опускаться до самой земли.
Посыпались цифры, тяжелые грузовики далеко разносили их эхо. Далеко укатилось оно и вернулось издалека; и уже не затихало на этой земле ранее неведомое ей эхо. Не затихло оно ни через год, ни через два года…
А тем временем из других областей приезжали делегации посмотреть на совершенное чудо, тем временем появилось в областном центре неоновое освещение на улицах, появился в городе и театр. Все были довольны театром — кроме Марии, которая стала с непонятной ревностью относиться к артисткам. Особенно к одной, русоволосой.
В этот день они встречали гостей. А после обеда заседали. К вечеру они обследовали снесенные кварталы — весной здесь предстояло начать строительство гостиничного комплекса. Бай Продан не отходил от секретаря ни на час — радостный и оживленный. Потом они направились к театру, где их должна была ждать Мария. Они шли пешком, наслаждаясь прохладой вечера, машина двигалась в отдалении. Неожиданно рука старика остановила секретаря:
— Послушай, сынок, ты вроде бы поверил в то, что мы все хотим, чтобы ты навсегда остался у нас? А ты всего лишь гость.
— Что тебе ответить, бай Продан? — произнес Гербицид. — Думаю, что я не переоцениваю себя… Но и считать меня гостем нет причин. Я уже доказал это…
— Ты так считаешь? Тем лучше, сынок. С твоим авторитетом ты сможешь еще многое для нас сделать. И каналы можешь провести.
— О каналах мы уже говорили, бай Продан! И с глухими разобрались, и со слепыми…
— Но я-то не глухой и не слепой. Твоя система годится только для такой почвы, как наша.
— Мы же богатеем благодаря ей! В других местах богатеют от другого.
— Ладно, не кипятись. Виноват! Но я, виноватый, хочу, чтобы ты уцелел — ради области.
Гербицид остановился. На этот раз сам. И снова посмотрел прямо в глаза высокому старику. Он внутренне словно снова взвешивал его на своих весах.
— Не тяни меня за язык, — произнес бай Продан, — послушай опытного человека, береги свой дом и свою семью. Если они рухнут, рухнет и вся твоя стратегия… Ты ведь — партийный работник.
— Какая стратегия? От чего я должен оберегать свою семью? Мы с Марией живем дружно.
— Не знаю, сынок…
Секретарь хотел возразить, ему вдруг захотелось даже показать, что он носит в портфеле среди бумаг. А носил он массивный дверной замок из кованого железа. Он сам его сделал не так давно, в спокойные дни, в авторемонтной мастерской. Спокойные и веселые пальцы придали металлу красоту. У них с Марией было трое детей, а так как не было такого места, куда детям не разрешали входить, то этот замок должен был развеселить Марию. Конечно, Мария будет долго смеяться, но он так уставал последнее время на работе, что все время забывал вынуть из портфеля свой замок-шутку. Сейчас, остановившись среди площади, он уже засунул было руку в карман, но сейчас же вынул руку — это не для чужих глаз.
— Не знаю, сынок, как тебе поступить, — снова заговорил старик, — но считаю, что тебе стоит выгнать эту русоволосую артистку. Вчера она заходила ко мне…
— Кто? — воскликнул пораженный Гербицид. — Русоволосая?
— Да нет же! Твоя жена была! Мария…
— И что?
— Ничего, пожаловалась… А ты приструни эту, русоволосую…
— За что же, бай Продан? У меня на то никаких причин нет.
— Эх, сынок. Все можно, если захочешь… Каких людей приструнить смог, так о ней ли думать…
Они не поняли друг друга. И времени у них на это не было, они уже подходили к театру. Со ступенек им махала рукой Мария. Уже прозвенел второй или третий звонок, и зрители были внутри.
Гербицид тяжелым шагом пересек площадь, тяжело поднялся по ступеням. Взяв Марию под руку, он поднял отяжелевшие веки, посмотрел на жену и почувствовал, что она взвешивает его на своих черных весах.
— Не волнуйся, — тихо произнесла она, пока они приводили себя в порядок в гардеробе. — Я не злопамятна. Важно, чтобы человек осознал, правда?.. Ты весь взмок, если бы ты знал, как я рада этому поту… Нет, нет, наши места слева… Ты не можешь мириться с ложью… Я ведь вижу, что ты мучаешься… Нам вот сюда…
Гербицид послушно шел за женой, глядя в сторону. Послушно кивал, послушно потел и послушно повторял для чего-то:
— Абсурд, это невозможно! Нет, нет, нет! Что за абсурд? Разве я похож на легковесного человека? Я, который себя чуть не извел!.. Нет! Абсурд!
Они сели, когда в зале уже погас свет. И тогда Мария спросила, жарко дыша ему в ухо:
— Ты принял меры, правда? Вместо нее будет играть другая? Не смотри на меня так, прошу тебя… Все на нас смотрят…
Он ничего не ответил. И не смотрел на нее. Ему хотелось только сказать, что нужно уйти, что ему плохо. Но он ничего не сказал, не успел, потому что на сцене появилась «русоволосая», а Мария поднялась и тихо направилась к выходу. Он не успел встать сразу, и теперь сидел, сунув ладонь под рубашку и растирая грудь с левой стороны.
Эта боль не казалась страшной, ее даже болью назвать было нельзя, просто грудь давила ему на сердце, а воротничок рубашки стягивал шею. Но все прошло, боль отступила. Секретарь поднялся, чтобы незаметно уйти. Вместе с ним поднялся, легонько зашумев, весь ряд. Подниматься было совсем не нужно. Гербицид так исхудал, что мог спокойно пройти, никого не задев. Он в этом не сомневался, но другие явно не считали его таким хрупким. Другим он казался крупным. Он виновато прошел мимо людей, попросив их сесть.
Они послушались его, сели, шепот смолк. Стало так тихо, что он невольно обернулся, подойдя к двери. Даже на сцене стало тихо. Актеры молча смотрели на него. Он махнул им рукой: «Играйте, что же вы?» — и вышел в прохладу вечера.
Он достиг края залитой неоновым светом площади и свернул в узкую улочку. В этом квартале все улочки были такими узкими, что не нуждались в неоновом освещении, но он знал, что обитатели квартала и даже жители окрестных сел через пару лет потребуют этого освещения. Этого не понимают только недальновидные. Но он сейчас же сказал себе: «Я-то вроде дальновидный, столько сложных проблем решил, а самую простую не смог. И знаю, что не смогу. Я даже не хочу ее решать. Неужели мне надо день за днем, ночь за ночью доказывать Марии свою чистоту? И всей области? Каким-то неизвестным людям? Что же мне теперь, уподобиться тем боксерам, которые уже не могут наносить удары и только обороняются, закрыв лицо? На них смотрит зал, по телевидению их показывают всему миру, все ждут от них прежних смелости и размаха, а они оберегают только свое лицо. И наконец проигрывают, падают. Нет, только не это!»
Неожиданно он попал на освещенную улицу. Фонари на высоких столбах так ярко освещали улицу, что эта ночь казалась праздничной, и он шел в ней как победитель.
Он вдруг понял, что просто поднял голову и смотрит на фонарь. Ему опять стало плохо, ноги подкосились, он схватился за столб, глядя вверх… Это был последний столб на дороге, последняя неоновая капля в этой ночи, в этом городе, а может быть, и в его жизни. Это тоже было абсурдом, и дальновидность, которая не покидала его никогда, растворилась в мраке, не давая ему ответа.
Когда ему стало получше, он опять свернул в темные улицы, где царил мрак, но он опять говорил себе, что люди уже не смогут бродить в темноте, скоро здесь появятся голубые лампы, они дойдут до конца его земли.
Вдруг он увидел перед собой необычайно красивый дом в народном стиле — с нависающим вторым этажом, с колонками. Он удивился, что не видел этого дома раньше. В спину ему ударил яркий свет, раздался шум двигателя. Заскрипели тормоза, хлопнула дверца машины, и он услышал голос своего шофера:
— Я здесь, товарищ секретарь.
— Иди домой и ложись спать, — ответил он. Секретарь совершенно забыл, что шофер ждал его перед театром и поедет за ним следом. — Я могу и сам добраться до дома. Погода сегодня прекрасная. И скажи в комитете, скажи… кому надо, что этот дом станет музеем.
В этот момент ему было очень тяжело, потому что теперь ко всем болям прибавилась и эта — он слишком поздно увидел этот дом, а, наверно, здесь есть и другие такие же дома, ведь такие вещи не появляются сами собой.
Но открылась и задняя дверца машины, и появился бай Продан:
— Я, признаться, забеспокоился уже, сынок, но раз с тобой все в порядке, давай поговорим. Знаю, что не успокоюсь, пока мы не поговорим. Ты на машине или пешком?
— О чем мы должны поговорить, бай Продан?
— Да как тебе сказать…
— Как-нибудь скажешь, раз решил.
Старик долго не решался заговорить, они вдвоем шли по улице, а машина ползла следом за ними. Потом он заговорил о каналах. И соседние области они могли бы водой снабжать, лучшее зерно получали бы.
— Разве мы даем плохое зерно?
— Я не говорю, что плохое. Только в этом много химии. Да и юг наступает на нас, снега все меньше, лежит он недолго. Успокаивать меня не надо, сынок. Со святым Ильей об осадках не договоришься.
— Договорюсь и договор тебе покажу, если ты дашь мне гарантии, что уровень воды в каналах через десять лет не упадет. И что они останутся чистыми. И что не приползет сюда с большой реки лесс с нефтью. И что не окажутся в воде химикаты, куда более опасные, чем мои. Я, бай Продан, употребляю столько препаратов, сколько их употребляют повсюду в мире. Если мир откажется от них, откажемся и мы. Но если даже и откажутся от них, то лишь затем, чтобы заменить чем-то более совершенным. Возврата к прошлому не будет, бай Продан, не может быть.
Он говорил уже быстро, задыхаясь. Воздух уже не входил в его слабое измученное тело. Он вцепился пальцами в воротничок, пуговица оторвалась и упала на землю.
Голос его не зазвучал снова. Все поглотила эта ночь, а ему еще многое нужно было сказать. И здесь все притихли, и там, в театре. А люди ждали его слов. Надо было закончить ему свой разговор с бай Проданом там, на сцене:
— Мое право, бай Продан, базируется на риске. Я начал эксперимент, поэтому терпеливо жди его окончания. Если проиграю, то хуже всего будет мне самому.
— Ты заговорил прямо как наш народный герой Левский! — воскликнул бай Продан.
— Я не Левский, поэтому мне и тяжело. Нередко я спрашиваю себя, что делали бы сегодня такие, как он, из того же теста сделанные люди? Как бы жили, когда с рабством, против которого они боролись, уже покончено?
— Ты можешь с легкостью рассуждать о Левеком, ты ведь губишь область, в землю ее зарываешь…
А зал уже шумел, говорили все разом о том, чего Гербицид не сказал старику, а, может быть, этого и не стоило ему говорить — недра их земли благодатны, секретарь открыл их щедрость.
…Там, на черной глине, были следы, но не круглые, а длинные и прямые — бесконечные борозды, протянувшиеся от горизонта до горизонта, в которых искрился золотистый промытый песок.
Ему тесно было внизу, на темной глине с золотыми разводами, он тянулся все вверх и вверх по таким же бороздам, звенели тяжелые колосья, звенели и искрились, раскинувшись от горизонта до горизонта. Золото хлеба покрыло целый остров, этот остров плыл, плыла вся эта новая и суровая земля, с которой он нашел общий язык.
И уже ничего его не страшило, только грустно было, что не успел он показать Марии смешной замок, сделанный собственными руками, ему хотелось с кем-то передать его жене, но он понял, что этого ему уже не сделать. Да и Мария смеялась бы только, если бы замок вынул он, ее муж, и ее смеху никто не радовался бы так, как он.
Бай Продан пытался приподнять его единственной рукой, попросил шофера посмотреть, светятся ли еще живым блеском глаза Гербицида. Шофер пожал плечами:
— У него это уже было, бай Продан! И не раз.
— Что это, говори!
— Да инфаркты.
— Но ведь это не может продолжаться бесконечно, — тихо произнес расстроенный вконец бай Продан. — Ты что, думаешь такие вещи могут проходить бесследно? — И вдруг крикнул: — Скорее! Скорее в больницу! Если надо, в Софию! Могут и оттуда самолет прислать. Это же такой человек!..
В больнице доктор сказал, что надеется только на везение. Больного перенесли в другую машину, которая с воем помчалась на аэродром. В машину сели и бай Продан, и шофер, и доктор. Автомобиль несся с воем и словно стонал: «Берегитесь, берегитесь! С меня должно начаться везение!»
Фары уже, освещали взлетную полосу. На середине бетонной полосы уже вертелся пропеллер небольшого самолета — из тех, с которых распыляют гербициды.
Самолет заправляли бензином — предстоял «дальний полет, может быть, самый дальний полет этого самолета.
Нодар Думбадзе
Хазарула
Помню, в четырнадцать лет впервые заговорил я с деревом. Самому-то дереву давно уж перевалило за шестьдесят, точь-в-точь как моей бабушке. Это была яблоня, и звали ее Хазарула.
Бабушка каждую зиму привозила яблоки Хазарулы в Тбилиси. С первым утренним поездом приезжала она в город и мчалась с вокзала к нам — румяная, цветущая, благоухающая пряными запахами деревни. Обнимала меня, крепко прижимая к груди, потом бросала мне в постель холодное, величиною с кулак яблоко, приговаривая:
— Держи-ка, нена[2], гостинец от Хазарулы с нашего двора. Она хоть и сморщилась вся — сущая Датино, алмасхановская кривляка, — зато с утра натощак лучше ее яблочка нет ничего. Ешь, золотце, и пусть все твои беды уйдут со мною в могилу…
Яблоки были и впрямь очень вкусные.
Когда началась война, я переехал в деревню, к бабушке, и здесь уже лично познакомился с Хазарулой. Яблоня высилась прямо над марани[3] — душистая, кое-где изъеденная червями и тронутая сухоткой, но все еще гордая, красивая и сильная, широко разметавшая свои тенистые руки. На ней красовались черпаки, горшки и кувшины — побольше и поменьше; но, увы, я узнал, наша Хазарула не цвела, как когда-то, и не принесла плодов.
Однажды, ранней весной сорок второго года, бабушка разбудила меня чуть свет. В руке она держала блестящий, острый, как бритва, топор.
— Ты что это, бабушка, — нарочно запричитал я, — хочешь меня погубить?
И спрятался под одеяло.
— А ну, не валяй дурака! — в сердцах вскричала бабушка. — Вставай, покуда я за ухо не стащила тебя с тахты… Встань и займись делом…
— Какие-такие дела у тебя на рассвете?! — возмутился я. — Что задумала, женщина?
— Пусть-ка почувствует мужскую руку, а то уж меня и в грош не ставит, — нахмурясь, пробормотала она.
— Бабушка, ты это о ком — о Гитлере или о нашем бригадире?
— Ишь ты, мутруки[4] упрямый! Ты мне свои шуточки брось, слышишь?
— Встаю, бабуля, встаю. Объясни только, о ком речь? — отвечал я и стал одеваться.
— О ком, о ком — о Хазаруле! Уродина, ни стыда, ни совести. Слыхано ли — этакое предательство, да еще в голодуху?!
— Так ты… о дереве? — От изумления у меня еле ворочался язык.
— О дереве, о дереве!
— О яблоне?! — Я все еще не верил своим ушам.
— Разве яблоня без яблок это яблоня? — вопросом на вопрос отвечала бабушка и тотчас сама решила: — Нет, она больше не дерево, а дрова.
— Ладно, чего от меня-то надо? Срубить ее, что ли?
— Ну, зачем так уж сразу — срубить. Сперва припугнем ее, дуру, а не испугается — срубим. Чего с ней цацкаться?
Бабушка объяснила мне, как я должен запугать Хазарулу, прислонила топор к моему изголовью и направилась к двери.
— Думаешь, она меня послушает? — усмехнулся я.
— Если осталась у нее хоть капля ума, — сказала бабушка, — послушает.
— А ты сама куда? — спросил я.
— Нет, вы должны говорить наедине. Ты и Хазарула, — пояснила бабушка уже в дверях и удалилась.
Я встал. С топором на плече поднялся на марани и остановился лицом к лицу с Хазарулой. Набухшие влагой почки ее готовы были лопнуть. «Интересно, — подумал я, — дерево и в самом деле слышит человека?» И улыбнулся.
Потом схватил топор и с силой занес его над стволом. Раз! В последний миг я удержал топор на весу и лишь слегка коснулся им корня яблони.
— Рубить или не рубить? — спросил я вслух. — Срубить или не срубить? Срубить или не срубить?!.
И задумался.
Наконец, после долгих раздумий, я махнул рукой и заговорил, да так громогласно, что меня услыхала не только Хазарула, но и камень, накрывший зарытый в землю квеври — огромный кувшин с вином.
— Черт с тобой — сказал я, — обожду еще год. Но если и тогда не дашь плодов, пеняй на себя. Срублю под корень!
Короче, я выполнил в точности бабушкин наказ. А Хазарула? Она стояла невозмутимая, даже веткой не повела и только тянулась всем телом вверх, стараясь согреться в лучах восходящего солнца.
Я снова готов был смеяться — теперь уже не над бабушкой, а над собой. С маху всадив топор в чурбан, валявшийся под яблоней, я вернулся назад, в оду[5].
— Ну, как? — спросила бабушка.
— «Как»… Напугал ее до смерти. Разве не видишь, вся трясется, бедняга! — отвечал я с важностью и заставил бабушку взглянуть на Хазарулу.
Тут уж я засмеялся в голос — Хазарула и впрямь дрожала всем телом!
Подул восточный ветер.
В горы скорым шагом поднималась весна. Она выглянула из-за губазаузской рощи и вошла к нам во двор — босая, как распутная девка; подняла подол своего платья, прошлась по свежей зеленой траве и свела с ума всех и вся: скот, птицу, растения. Жизнь вокруг забила ключом.
Распустился миндаль; расцвели алыча, слива, яблони «нацара»; зацвел розовым цветом персик; расцвела дуля… А Хазарула, казалось, только встала спросонок — моргает, потягивается, и ни единой живой душе неизвестно, чего от нее ждать.
Но вот бабушка вновь разбудила меня на рассвете и показала на Хазарулу:
— Глянь-ка, нена!
Величавая стояла Хазарула в бледно-розовом одеянье, распахнутом на груди, как это делают старухи, умаявшиеся после долгих трудов, — стояла и улыбалась, ехидно поглядывая в нашу сторону.
— Ну, что я тебе говорила! — торжествовала бабушка.
Расцвела Хазарула — но как расцвела! Отовсюду слетались к ней пчелы — и какими роями! Завязались на ветках плоды — сколько их было, не счесть! Потом, созревая, они налились — да еще как налились! Хазарула на целый год завалила нас и наших соседей яблоками — свежими и сушеными, вареньем и повидлом. Скотина, небось, набила себе оскомину, вечно жуя плоды Хазарулы. Помню, я что ни день относил полную, с верхом, корзину яблок корове Теофана Душадзе.
— Хватит, бичо[6], оставь эту корову в покое! — разгневался как-то Теофан при виде моих чрезвычайных забот. — Скоро она будет доиться яблочным компотом!
— Что ты наделала, Хазарула? Как умудрилась свести с ума всю деревню? — спросил я дерево в канун наступления зимы, сбивая длиннющей палкой с самой верхушки последнее яблоко, исклеванное дроздами.
— Раз уж ты дерево плодовое, да еще яблоня — только так и надо поступать! — отвечала Хазарула, скрипя старческими своими суставами.
Следующий год запомнился нам надолго: Хазарула больше не стала плодоносить. Сколько я ни пугал ее, как ни грозился, ни молил — баста! Иссякла хазарульность Хазарулы.
Год спустя, когда мы черпали из квеври вино, бабушка вдруг взглянула на небо, потом на Хазарулу и, покачав головой, сказала мне, словно какому-то чужаку:
— Быть сегодня снегу, а мы остались без дров. — В голосе ее слышалось раздражение. — Совсем пропадем от холода. Надо срубить Хазарулу!
— Подождем еще годик, бабуля, тогда и срубим, — взмолился я. — А ну как я снова ее напугаю…
— Да пойми ты, нена, это конец. Ее, как и меня, стуруху, ничем не испугаешь.
— Нет, — заявил я, — не могу я срубить ее!
— Как так не можешь?! — вспылила бабушка. — Тебе, видно, что мои слова, что собачий лай — все едино!
Я уперся было:
— Да нет же, бабушка! Нет… Просто не могу срубить ее.
— Почему? — удивилась бабушка.
— О женщина, не ты ли уговорила меня: дерево, мол, все слышит?!
— Полно, нена, на старости лет чего не сболтнешь. А ты и уши развесил. Человек человека, бывает, не слышит, куда там дереву… Я тогда пошутила, внучек, и в мыслях не держала, что ты мне поверишь.
— Нет, — настаивал я, — не могу! По-моему, дерево не только слышит, но и видит. Погляди, как оно отворачивается от нас.
— Диду, диду[7]! Что слышат мои уши, лучше бы им оглохнуть! — запричитала бабушка и в сердцах шлепнула себя ладонью по щеке. — Э-э, да какой с тебя спрос. Я тебе, дурню, мозги запорошила, мне на тебя и управу искать. Эй, соседи! Люди добрые, сюда, сюда! Сажайте всем миром на цепь взбесившегося мальчишку! О горе, долго ему не жить! — она взывала теперь ко всей деревне.
— Эй, вдова Каландадзе! Чего ты хочешь от этого мальчика? За что собираешься господу богу подкинуть его душу? — откликнулся на ее вопли шагавший куда-то по проселку меж плетнями Анания Салуквадзе и завернул к нам во двор.
— Как это чего хочу, батоно[8] Анания?! Сам посуди, заставила я в позапрошлом году родного внука напугать эту бесплодную Хазарулу. А теперь вот прошу, сруби ее, умоляю по-всякому. Так он, видишь ли, не желает. И знаешь, почему? Дерево, мол, все видит и слышит… Черт знает что! — в сердцах объявила бабушка и протянула гостю стакан, наполненный чистым, прозрачным вином «адеса»[9].
— Доброе утро и бог тебе в помощь, калбатоно[10] Дареджан, — благословил бабушку Анания Салуквадзе и с таким видом выпил вино, что у меня слюнки потекли, словно я сам вовсе не стоял перед открытым чури[11], полным вина.
— Видит и слышит? — переспросил Анания и погладил свои отливающие рыжиною усы.
— Не только видит и слышит, дорогой Анания! До того обалдел сопляк — уверяет: дерево еще и говорит! — пожаловалась бабушка. — Но нет, не его здесь вина. Это я, я сама задурила ему мозги, мне теперь и в петлю лезть!
— А вина твоего он случаем не пробовал с утра? — спросил Анания Салуквадзе.
— Да вроде пробовал… — отвечала бабушка. Перед нею вдруг снова блеснула надежда.
— Тогда налей мне еще стакан, калбатоно Дареджан, — улыбнулся Анания, — и я точно скажу, кто его свел с ума — ты или вино.
Бабушка наполнила стакан, Анания одним махом опрокинул его в свою глотку.
— Сдается мне, калбатоно Дареджан, — начал он, выдержав долгую паузу, — вы оба свели его с ума — и ты и вино. Но, чтоб я вынес окончательный приговор, налей-ка еще стаканчик.
Бабушка налила ему вина, но при этом глянула на него такими глазами, что я на его месте поостерегся бы даже пригубить напиток. Однако Анания как ни в чем не бывало осушил и третий стакан. На сей раз он тотчас изрек свое суждение:
— Нет уж, сейчас мне ясно, отчего он рехнулся, — и указал пальцем на вино. — Так ты утверждаешь, — обратился он прямо ко мне, — что дерево все видит, не так ли?
— Да! — подтвердил я.
— А камень?
— И камень тоже.
— А река?
— И река…
Он призвал на мою голову благословение божие и повернулся к бабушке:
— А что, калбатоно Дареджан, выходит все хоть куда! Скажем, ты — дерево… ну, хоть эта яблоня, Хазарула… Если ты, как болтает твой парень, и видишь, и слышишь… неужто ты сразу не заметишь мутрука… мужика, вроде меня, с топором на плече. Подходит и хочет тебя срубить. Понимаешь — срубить?! Все видишь и знаешь, а бежать не можешь! Долго ли тут сойти с ума? — вопросил Анания и вновь протянул пустой стакан, но бабушка почему-то замешкалась. — Налей, женщина! — вскричал Анания Салуквадзе. — Главное, что я должен тебе поведать, еще впереди.
Бабушка наполнила его стакан.
— Ты, бичо, хоть и городской, — воззвал он ко мне, — пора уже, пора тебе освоить нашу крестьянскую премудрость. Трех вещей не станет держать у себя крестьянин: скотину, не дающую потомства, бесплодное дерево и бездетную… — тут Анания заколебался, уставясь на бабушку.
— Нечего на меня таращиться, Анания, — рассмеялась бабушка. — Говори, договаривай, не стесняйся. Не будь у меня сына, откуда бы взяться внуку.
— Твоя правда… И бездетную бабу… У твоей бабушки Дареджан было семеро душ детей. Вот так-то.
— Чего ты хочешь от меня, дядя Анания? — спросил я.
— Почему не рубишь дерево? — спросил он в ответ.
— Жалко мне его.
— Значит, бичо, дерево пожалел? Твои, почитай, сверстники на фронте под танки с гранатами ложатся, а ты…
— Он ведь при нужде ни курицу тебе, ни ягненка не зарежет, — сказала бабушка. — Вон дерева никак не срубит — ему, видишь ли, жалко. Больше тебе скажу: стал он было на позапрошлый год свинью резать — еле поймали ее в этом году в Интабуети, нож в горле так и торчит! Да разве дело это?! — сетовала бабушка.
— Правду она говорит, бичо? — спросил Анания.
— Правду, дядя Анания. Только ты мне зря наставления не читай, все равно не срублю Хазарулу, — заявил я.
— Жалко стало, бичо?
— А разве не жалко?
— Ну и черт с тобой, с жалостливым! Налей мне еще стакан, калбатоно Дареджан, и завтра твоя Хазарула ни свет ни заря будет валяться на земле. Сам со всем и управлюсь завтра — нынче мне недосуг.
Бабушка налила ему вина. Он выпил.
— Калбатоно Дареджан, у тебя случайно закусить на найдется? — как бы между прочим спросил он.
— А кол на закуску не хочешь, батоно Анания? — ехидно спросила бабушка.
Анания молча вышел со двора и медленно двинулся вверх по проселку.
— Эй, батоно Анания, куда тебя понесло?! — крикнула бабушка. — Ты вроде вниз собирался?
— Да, были внизу у меня кое-какие дела, калбатоно Дареджан, — признался Анания. — Но чтоб так зацвела лоза у нашего председателя, как я гожусь теперь в дело…
Он махнул рукой.
— Но тогда, батоно Анания, уважь меня, старуху, обопрись лучше на плетень Шакрона, — попросила бабушка. — Мой и так еле дышит.
Анания переметнулся через проселок и повис на изгороди Шакрона Микаберидзе. Он шагнул было дальше, но вдруг оглянулся.
— Эй, бичо! — позвал он меня. — Значит, говоришь, видит твоя Хазарула? Ах, чтоб тебе… До Хазарулы ли тут, — хихикнул Анания, — я и сам ни черта не вижу…
И, шатаясь, побрел вдоль изгороди.
А прав-то был я. Все видело и слышало безмолвно стоявшее нагое дерево. До полуночи думала Хазарула. А в полночь стиснула свое сердце и подобрала корни… Оплетенный корнями ее квеври содрогнулся. Почуяла это Хазарула, крепче прежнего сжала корни — прогнули вмятины глиняные бока, но кувшин остался цел. Снова сжала Хазарула корни, и первая трещина рассекла кувшин. Красная жидкость лениво засочилась из него, орошая долгие корни Хазарулы. Страшная дрожь пробежала по всему ее телу… Но со временем дрожь эта обернулась неведомым сладким трепетом. Обреченная и жаждущая, приникла она к кувшину, и красная жидкость потоком хлынула по ее корневищам. А она все впивала в себя это красное чудо, вот уж без малого семьдесят лет таившееся меж ее корнями; и все эти годы она, ничего не зная о том, любовно окутывала его сетью животворных подземных побегов.
О, как она укрывала и берегла его!
Красная жидкость нескончаемым потоком струилась из лопнувшего квеври, и Хазарула все сильнее сжимала кувшин, жадно упиваясь неиссякающей диковинной влагой. Тело ее, сотрясаемое дивной радостной дрожью, наполнялось теплом и радостью. А она все пила и пила, позабыв обо всем на свете… Наконец, захмелела, и мир стал светлей и счастливей!
Прежде, в юности, Хазарула дивилась: как могут жить люди, не пуская в землю глубоких корней? Как они движутся вокруг нее, Хазарулы? Да и вообще, почему они так движутся? Но потом привыкла ко всему этому, не задаваясь больше мыслью о непонятных, необъяснимых вещах — все одно ведь некому было отвечать на ее вопросы. А сегодня свершилось чудо! До дна опустел кувшин, последнюю каплю выпила Хазарула, и вдруг ей открылась, стала ясна тайна этой странной жидкости… Нет, она теперь не дивилась ни тому, что люди, бывало, обнимались, целовались, плакали; ни тому, что они гнались друг за другом и ссорились, смеялись, пели песни, держась за руки, и плясали вокруг нее, Хазарулы; ни тому, что с таким усердием мыли квеври и потом благоговейно наполняли этой удивительной влагой. Все, все поняла Хазарула, и тут ей самой захотелось до смерти петь, обниматься, целоваться и плакать, бегать, плясать… Но как было ей совершить все это — бедная Хазарула, ведь она оставалась деревом, не человеком… И она сделала, что могла — до утра качалась и гудела Хазарула. А утром… Утром вдруг почувствовала глухой удар, обрушившийся на ее бок. Но боли не испытала; нет, ей не было больно, и потому она оставила этот удар без внимания. Потом ощутила в другом боку такой же точно удар, но и на него не отозвалась. А удары все падали и падали на нее — час или более. Наконец почувствовала она, некий напор слева направо стал клонить ее долу. Напор становился все сильнее, послышался скрип, протяжный и резкий… Сперва она наклонилась лениво, потом вдруг бессильно улеглась наземь. Теперь лишь услышала она треск и хруст своих собственных рук и плеч, лопались суставы и кости… Но все равно ни малейшей боли она не испытывала, просто закрыла глаза и сладко — ах, как сладко и глубоко! — уснула.
— Вставай, вставай, нена! — разбудила меня бабушка. — Знаешь, Анания свалил спозаранку Хазарулу. Вот, бери топор, хоть ствол от ветвей очисть! — Сказала и вышла на кухню.
Ночью выпал снег, деревня стояла такая красивая, точь-в-точь невеста под фатой, готовая к венцу. Только наш двор, казалось, был в трауре: на марани покойницею лежала недавно срубленная Хазарула, огромная, изуродованная, с поломанными ветвями. Понурясь, поднялся я на марани и, прежде чем обрубить ветки, присел на сруб. Присел, пригляделся и окаменел: из рассеченных жил поверженной яблони сочилась кроваво-красная влага.
— Бабушка! — закричал я.
— Чего тебе? — выглянув из дома, спросила она.
— Поднимись сюда на минутку.
— В чем дело?
— Поднимись, сама увидишь.
— Что это? — спросила она в изумлении.
— Наверно, кровь дерева, — отвечал я дрогнувшим голосом.
— Быть не может. Сейчас январь, все растения спят; соки забродят лишь в феврале, — сказала бабушка.
Она обмакнула палец в красную жидкость, понюхала его и вдруг испуганно взглянула на меня.
— Открой чури! — велела она.
Я тотчас снял камень и крышку с зарытого в землю кувшина, и мы с бабушкой глянули в широкое его горло. Квеври был пуст!
— О чудо свыше благословенное!.. Мать-прародительница, зерцало истины… Святая Мария, смилуйся над нами, бедными, не своди нас с ума! — взмолилась бабушка, голос ее дрожал.
Воздев руки к небу, она медленно опустилась на колени.
Хазарула, содрогнувшись от холода, открыла глаза. Ей, в непривычном ее положении, мир показался опрокинутым вверх дном. Она удивилась. Сперва она обвинила во всем диковинную красную влагу. Но тут увидела сидевшего на срубе понурого парня, облокотившегося на топорище, а чуть поодаль, у раскрытого кувшина, на невообразимо белом снегу коленопреклоненную старуху в черном с воздетыми к небу руками. Увидела и поняла: она, Хазарула, мертва. И закрыла глаза.
Уже навеки.
Перевод с грузинского Н. Микавы и М. Ткачева
Миколас Слуцкис
На солнечной стороне
— Обождал бы минуточку, глядишь, и я с тобою…
— Я спешу, милая.
Это «милая» прозвучало холодно, даже неприязненно, хотя никуда Витаутас не спешил.
— Обожди чуточку, я сейчас, быстро-быстро…
Он промолчал. Лучше не возражать, а то Дана станет канючить, уговаривать, потом битый час будет причесываться, роняя заколки. На улице, едва спустившись с лестницы, вдруг хватится, что забыла шарфик или перчатки, пройдут пару шагов — новая беда: петля на чулке спустилась! Ох, ах — начнет оглядываться назад, то и дело выворачивая голову, словно ей кто ножом в спину ткнуть собирается. А виноват во всем будет, конечно, он, только он! Нет, ни словечка упрека она не кинет, лишь нахохлится и всем своим постным видом даст ему это понять. И придется жалеть ее, вместо того чтобы выложить досадную правду.
— Ладно, обожду, — неохотно буркнул Витаутас. Воскресная прогулка все равно испорчена.
Поразительно, но на этот раз Дана быстро сунула ноги в выходные туфли, в одно мгновение провела помадой по губам и напудрила нос. И шарфик не забыла. А самое главное чудо — коварные петли капрона не подвели! Витаутас даже подивился ее проворству, а она улыбнулась и зарделась от удовольствия. Подчеркнуто вежливо пропустил даму вперед. Острые каблучки беспечно зацокали по цементным ступенькам, словно обрадованные тем обстоятельством, что их хозяйка избавлена от обычных хлопот: закрыть дверь, проверить, хорошо ли она заперта. На улице их залило теплое, несущее удивительную бодрость осеннее солнышко, обступил багрянец кленов и волнующий запах разогретого асфальта.
— Какое солнце, Витукас, взгляни только, какая красота! Нравится?
Не слова — голос напоминал ему что-то давнее, забытое.
Сквозь слой пудры пробивался живой цвет ее лица, глаза и губы поблескивали, словно отполированные солнцем. И не обратилась, как обычно, «отец» или «Витаутас» — сказала ласково: «Витукас». Раздумывая о непривычном звучании ее голоса, он как-то не уловил сразу смысла слов жены.
И сам, слегка запнувшись, ответил не всегдашним «да, мать» или «действительно, Дана», а, тронув рукав ее плаща, кивнул:
— Правда, красиво, Дануте.
Она снова зарделась, словно услышала комплимент — не городу и погоде предназначенный, а ей самой. Ведь Витаутас мог бы и ей сказать нечто приятное — как славно твои каблучки постукивают, будто полечку танцуешь. Не сказал, добавил что-то другое, тоже доброе, и щеки Даны совсем распылались.
— Надо бы тебе почаще на свежем воздухе бывать, женушка!
— Что ты, я и так много гуляю. Бывает, несколько раз в день по магазинам бегаю…
Значит, как-то не так сказал, раз Дана не поняла, хотя он и сам еще не до конца понимал, что хотел сказать. А от ее ответа повеяло бытом, повседневностью, слова не вызывали отклика, только подрагивающий голос упорно что-то напоминал ему. Что же? Может, такой же солнечный день, а может, напротив — хмурый и ненастный… Или не день, просто некое не нашедшее выражения, попусту растраченное, растаявшее чувство?
Они подходили к центру, все больше машин, прохожих, шума, и все это тоже сливалось со словами, которых он не сказал ей. Теснились дома, толпа шумела, бурлила, поблескивали оконные стекла, но ничто не нарушало прелести этого дня.
Масляно стелился асфальт мостовой, пламенели листья деревьев, встречные женщины, как одна, казались красивыми и молодыми.
— Забегу за хлебом и мясом, а потом в парфюмерный. Подождешь?
Ну вот, так и знал! Сейчас начнет шнырять по магазинам, потом будет тащить разбухшую от продуктов сумку, перегнувшись на один бок. Окончательно испортит прогулку. И поплетешься домой вместо того, чтобы насладиться погожим днем.
Витаутас поморщился, но от раздраженного замечания воздержался — его еще не покидало странное чувство, возникшее от невысказанных слов. Дана же была целиком озабочена покупками: вспомнила, что холодильник пустой. Погрузившись в хозяйственные заботы, уже убегая, торопливо бросила:
— Погуляй тут, газеты купи. Встретимся на солнечной стороне… На солнечной! Запомнил?
— На какой солнечной стороне? — удивившись, переспросил он, но эти слова почему-то продолжали звучать в ушах. И не мог от них отделаться, словно был тут какой-то сокровенный смысл. Больше всего тревожила дрожь в ее голосе. Может, сам ее, эту дрожь, выдумал? Или действительно доносилась она из забытой, манящей дальней дали?
— Около книжного? — крикнул он ей вслед, желая избавиться от неясного, томительного предчувствия.
Дана не расслышала и только повторила:
— На солнечной!.. Жди меня на солнечной стороне! — Цокая каблучками, перебежала улицу — это цоканье как бы вторило ничего не значащим словам «на солнечной стороне». У дверей гастронома обернулась, встретилась с ним глазами, умоляя дождаться в условленном месте, если она и задержится немного.
Ну к чему ляпнул он, чтобы она почаще гуляла, ведь совсем не это было на уме? Только теперь сообразил, что хотел сказать еще в начале прогулки: хотел похвалить ее красивые глаза, какие, мол, они яркие, пусть почаще смотрит вокруг удивленными расширившимися зрачками, будто видит больше, чем можно увидеть…
Дана исчезла, не догонишь и ничего не скажешь. А ведь ее бы обрадовали его слова.
— На солнечной стороне, — повторял про себя Витаутас, стараясь запомнить место встречи, чтобы ненароком снова не обидеть жену. — На солнечной стороне…
Он осмотрелся вокруг: дома, люди, машины. Перед ним, на той стороне улицы, расстилалась густая, широкая тень, темная и прохладная, как река. Хорошо бы медленно плыть по этой реке-тротуару, где не встают перед тобой никакие вопросительные знаки, одни лишь вывески, витрины, привычно и понятно мелькающие разноцветные сумочки…
Почему не договорились они встретиться в тени? И где эта солнечная сторона? Господи! Да ведь он же на ней и стоит — тротуар залит солнцем! Рядом красные автоматы с газировкой, по липким от сиропа стаканам ползают осы. Это же очень просто — «солнечная сторона». Теперь не забудет. Неприятно только, что осы ползают по стаканам… Впрочем, почему неприятно? Ведь эти осы — последние. Как и теплое солнце, как запах разогретого асфальта…
Обожду возле книжного магазина, посмотрю новинки в витрине. Это тоже приятно, что за стеклом много книг. Яркие обложки, нарядные, как воскресная уличная толпа. Дануте знает, что он любит книги, могла бы назначить встречу у книжного. Но сказала иначе: «Встретимся на солнечной стороне…» Ладно. Все равно. Хотя нет, не все равно! Здесь какой-то каприз, какая-то причуда Даны, и это не дает успокоиться; сегодня ее голос все время напоминает какую-то забытую радость. Что-то кроется за ее капризом.
Неразгаданная тайна волновала Витаутаса. Он снова осмотрелся по сторонам, задержал взгляд на медлительных, разомлевших осах — да, он стоит на солнечной стороне, и у этой стороны, кажется, нет ни конца ни края.
«Ладно уж, раз Дануте так хочется, буду ждать не у книжного, а просто на солнечной стороне…»
Пусть нету ее теперь на солнечной стороне, но он подождет, и, пока терпеливо топчется он здесь, Дана рядом.
Ему было приятно думать, что он покорно исполняет ее маленькую прихоть, а еще больше нравилась собственная покладистость. Вот чего, думал он, не хватало мне и Дануте последние годы — этих невинных капризов, причуд, которые нарушали бы монотонное течение наших налаженных отношений. Ведь могла бы она потребовать от меня и чего-нибудь такого, что и совершить невозможно! Но пусть только не часто…
Витаутас внутренне собрался: ведь и сейчас могла она потребовать у него невозможного. И возникла неуверенность в том, в чем он всегда был твердо уверен. Он находился на солнечной стороне, напоенной красотой и юностью, причудливые, невыполнимые требования никого здесь не удивят — только его одного. Улыбнулся. Просто так — стоял и улыбался.
«А что если Дануте уже давно мечтала назначить мне свидание на солнечной стороне?»
Поскорей бы возвращалась; он прямо спросит у нее об этом. Угадал? Нет, сначала скажет те слова, которые собирался произнести еще в самом начале прогулки, еще возле дома. Что же он ей хотел сказать и не сказал? Да, чтобы чаще смотрела вокруг такими глазами… Впрочем, не это, совсем уже не это… Отвык, не умеет говорить подобных слов. А вот Дана, вероятно, не отвыкла, твердила их про себя, когда он отправлялся гулять в одиночку. Не потому ли дрожит ее голос, пробиваясь в такие закоулки души, куда не добраться словам? Как проникновенно сказала она: «Встретимся на солнечной стороне». И чтобы не испугать его небудничностью своих слов, удрала за кефиром. Семнадцать лет назад ей, пожалуй, не надо было бы бояться, крикнула бы просто: «Встретимся на солнечной стороне!» — и все.
Солнце слепило глаза. Значит, они вновь, как семнадцать лет назад, встретятся на солнечной стороне, хотя теперь они уже не те, что были тогда, семнадцать лет назад, совсем не те, во всяком случае — он… А Дана? И она?.. Правда, нынче Дана немного странная.
«Что скажу я ей столько лет спустя?»
Ждал он недолго. Его все сильнее волновало: как бы Дана не оказалась на солнечной стороне слишком быстро, не вынурнула до тех пор, пока он не успел еще разобраться в своих смятенных мыслях, не решил, что сказать ей. Кажется, так волновался он семнадцать лет назад, но лишь тогда, когда Дануте опаздывала на свидание. Как опаздывает теперь? Она и тогда была рассеянной, но его это не сердило, ее рассеянность даже нравилась…
«Ничего, подожду…»
Ему стало радостно, что он может терпеливо ждать, пусть только светит солнце и заливает светом половину улицы.
И вот она запыхавшись перебегает дорогу, спешит к нему. Она и тогда еле дух переводила — всегда опаздывала. Правда, тогда не перекашивала на один бок ее стройную фигурку набитая сумка. Но солнце озаряет волосы, глаза, губы — как тогда…
— А ты все такая же, — глухим от волнения голосом произносит он.
Она не поняла, показалось, упрекает, стала оправдываться:
— За сахаром стояла… Разве это сложно, взвесить килограмм сахару, а продавщица…
Витаутас не позволил ей жаловаться, отобрал сумку, чего прежде никогда не делал, и посмотрел на нее теми же глазами, что и семнадцать лет назад.
— А ты все такая же. Вечно опаздываешь!
Дану испугал взволнованный голос мужа. В чем еще ее обвинят?
— Я же не одна в очереди, пойми. И в парфюмерном люди стояли, а надо было взять мыло, пасту…
Он отмахнулся от ее оправданий:
— Пойми меня, я так долго ждал…
И тут голос мужа словно обнял ее за плечи и повернул к себе — она всмотрелась в его лицо: какое же оно молодое, красивое, освещенное солнцем!
— А сколько я ждала тебя?
— Семнадцать лет!
Быстрый и послушный ответ тронул ее. Захотелось даже, чтобы он чуточку поворчал, как-никак за эти долгие годы успела она полюбить и его ворчание.
Они шагали рядом по солнечной стороне, и им казалось, что так, тоскуя друг о друге, идут они давным-давно, все семнадцать лет.
Авторизованный перевод с литовского Б. Залесской и Г. Герасимова
Чингиз Айтматов
Верблюжий глаз
1
Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как над степью пронесся истошный крик:
— Э-эй! Академик, морду набью-у-у!
Я замер. Прислушался. Вообще-то меня зовут Кемелем, но здесь прозвали «академиком». Так и есть: трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещал набить мне морду, — это Абакир. Опять наорет на меня, изругает, а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я — один. И должен я доставлять для них на этой одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на всю округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, да куда там — он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет: «Морду набью за простой, да и только! Не затем я здесь ишачу, чтобы время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя!»
А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я в том числе, «славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что не столько я сам виноват в этом, сколько наш учитель истории Алдияров. Краевед! Понаслушался я нашего краеведа, а теперь вот расплачиваюсь…
Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой.
Трактор стоит в конце огромного черного поля. А наверху — на кабине — Абакир. Потрясая в воздухе кулаками, он все еще поносит меня, ругается на чем свет стоит.
Я подстегнул лошадь. Вода в бочке выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю.
Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие поехали в Казахстан, на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался. Здесь только первую весну работают, да и то всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин — он тут главный над всеми — испытывал на небольшом поле богарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов в Анархайской степи, может, удастся разрешить.
Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен Анархай летом: даже каменные колючки — таш-тикен — и то, случается, сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняют сюда с осени скот на зимовку, не решаются пока сеять, выжидают: поглядим, мол, что у других получится… Поэтому нас всего-то здесь по пальцам перечесть: два тракториста, два прицепщика, повариха, я — водовоз — и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас, да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседнее урочище к чабанам, ругается оттуда по рации с начальством да сводки сообщает для отчетности.
Да-а, а я-то думал — целина, масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал нам, школьникам, Анархай: «Веками нетронутая, роскошная полынная степь, простирающаяся от Курдайского нагорья вплоть до камышовых зарослей Балхаша! По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах Анархая, бесследно исчезали целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай — безмолвный свидетель минувших эпох, арена грандиозных битв, колыбель кочевых племен. А в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства…» Ну и так далее, в том же духе…
Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте, там он с ладонь. А теперь? С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом ем без всякого аппетита то, что дает мне наша Альдей, заваливаюсь в юрте спать и сплю мертвецким сном.
Но что Анархай роскошная полынная степь — это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой, да времени нет.
Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? Если бы я знал, что меня здесь ждет… Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я ехал сюда. Но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди…
Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах, и я даже не подозревал тогда, что именно из-за нее хлебну здесь столько горя.
Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более, что я никогда не имел дела с хомутами и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал, только вот на субботниках помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь… А все-таки надо было сразу вернуться. Постыдился. Сколько шуму было тогда на собрании! И мать не отпускала, она мечтала увидеть меня врачом. Но я настоял, уговорил, — помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы вернулся сразу? Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее.
Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза: вот он, древний, легендарный Анархай! Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом. Но в волглом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас мягким, размытым гребнем далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали.
И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась земля, гудела от топота тысяч копыт. Океанской волной, с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке… Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда…
Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становится все меньше и меньше, он превратился в темную черточку, а потом и вовсе исчез из глаз.
Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше…
В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетиями простояла здесь, словно в дозоре, глубоко осев в землю и вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина:
— Как вы думаете, товарищ агроном, кто мог поставить здесь эту фигуру?
Сорокин собирался куда-то ехать.
— Должно быть, калмыки, — сказал он, садясь в седло, и уехал.
Что бы мне тогда на этом успокоиться! Нет! Меня словно кто за язык тянул, и я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться:
— Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке. А это надгробный памятник двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в тянь-шаньские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые, светлоглазые люди.
Я залез бы еще дальше в глубь истории, но меня перебил человек в комбинезоне, стоявший у трактора. Это был Абакир.
— Эй ты, малый! — Он метнул на меня исподлобья раздраженный взгляд. — Больно ты ученый. Поди-ка принеси из юрты шприц с тавотом.
Оказывается, я принес ему шприц с солидолом.
— Эх ты, академик! — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими, в красных прожилках, глазами. — Лекции читаешь нам, неучам, а кобылу от верблюда не умеешь отличить.
Отсюда и пошло — «академик».
Вот и сейчас я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне.
— Ты что ползешь, словно вошь прибитая! Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу, щенок, все меньше одним сопливым академиком будет!
Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать в свое оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще, прицепщица Калипа вступается за меня:
— Ну успокойся, успокойся, Абакир! Криками тут не поможешь. Смотри, на нем и так лица нет. Совсем измучился, бедняга. — Она берет из моих рук дрожащих ведро и заливает водой радиатор. — Он и без того старается. Видишь, мокрый весь, хоть выжимай…
— А мне-то что? — огрызается Абакир. — Сидел бы дома да книжки свои читал.
— Ну перестань! — уговаривает его Калипа. — Сколько в тебе зла. Нехорошо так, Абакир.
— Все прощать да спускать этаким вот — задарма помрешь. План-то с меня спрашивают, а не с тебя. Разве есть кому дело, что меня гробит этот ученый олух!
Далась же ему моя ученость. Зачем я только учился и откуда взялся на мою голову историк Алдияров?
Я стараюсь побыстрей уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист — Садабек, человек пожилой, серьезный, он хоть и сердится, но не кричит.
Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакира тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злющим? Ведь не старый еще, едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах, и руки цепкие, клешневатые, но собой видный. А глаза плохие, недобрые. Чуть что, наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все нипочем.
Было у нас недавно одно дело. Дождь занялся с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме. И к утру не перестал. Мы томились в юрте от вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал — у него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя, день-деньской в седле.
Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсиркеп, младший брат Садабека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чабанам. Альдей и Калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садабек и я.
Мы хмуро молчали, занятые каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги и курил. Садабек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и дратвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал.
Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала квелым овечьим духом. Изредка сверху падали крупные, желтые, как чай, капли. А снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах.
Абакир скучающе зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурок, который упал на краешек кошмы. И сразу же задымила паленая шерсть. Садабек поднял окурок и бросил его в золу.
— Ты бы поосторожней, — проговорил он, протаскивая сквозь кожу дратву. — Трудно, что ли, с места подняться?
— А что стряслось? — вызывающе вскинул голову Абакир.
— Кошма загорелась.
— Подумаешь, богатство какое! — Абакир пренебрежительно усмехнулся. — Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай, тебе другого и не надо!
— Дело не в богатстве. Ты тут не один и не у себя дома.
— Знаю, что не у себя дома. У себя я бы и разговаривать с тобой не стал. Понял, рожа ты в кожаных штанах? Да, видно, бог наказал, сижу в этом каторжном Анархае, где место таким вот дуракам, как ты и твоя жена!
Садабек с силой дернул дратву. Шило выскочило у него из руки и отлетело за спину. Он долго смотрел на Абакира ненавидящим взглядом, потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог, а в другой натянутую, как струна, дратву.
— Хорошо, пусть я дурак и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут! — проговорил он, тяжело дыша. — А все другие анархайцы, по-твоему, каторжники? Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну, отвечай, сволочь! — вскрикнул Садабек и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой.
Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и вобрал голову в плечи, готовясь к удару.
Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга.
— Не надо, Абакир! — метнулся я к ним. — Не бей его! Не надо, Садабек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами.
Садабек отшвырнул меня в сторону, и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, вперив друг в друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы Садабека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатились по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и, наконец схватив его, выбежал из юрты.
— Альдей! Калипа! — закричал я женщинам, возвращавшимся с водой. — Живее, живее! Дерутся они, убьют…
Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садабек и Абакир все еще катались по земле. Мы растащили их, изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу. Но Абакир рванулся из объятий Калипы.
— Ну погоди, колченогая собака! Ты еще будешь молить о пощаде, дрань поганая, ты еще узнаешь, кто такой Абакир!
Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор:
— А ну тронь, попробуй! Глаза выдеру! Сам себя не узнаешь!
Садабек спокойно взял жену за руку.
— Не надо, Альдей. Он того не стоит…
Я тем временем вышел, разыскал заброшенный мной в суматохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и зарыл его в землю возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушающие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушавшая мое горе, зло косилась на меня черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая, туманная степь, тихая и утомленная. Ничто не единым звуком не нарушало ее извечного, глубокого покоя, и только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело…
Вот так я и живу в этой самой роскошной полынной степи… Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетело от Абакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь. Пока не упадешь.
— А ну, Серко, шевелись! Поживей! Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет…
2
Назавтра я поднялся с рассветом, раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя: в лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов надо доказать, что я ничем не хуже других.
Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатил со своей бочкой к роднику, чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было успеть позавтракать и снова, не теряя ни минуты, возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал.
Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выглянуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре! Будто разлилось огромное лазоревое море, да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной.
О Анархай, о великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь в себе от века и что ждет тебя впереди?
Не беда, что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать над землей этой и над машинами. Ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут, — это всего лишь начало начал. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады, побежит вода в прохладных арыках и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура.
И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда!
Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы. В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да будет благословенна страна Анархай!..
Солнце наконец выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее.
День начался неплохо. По крайней мере моторы не глохли — я поспевал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко…
В одну из своих ездок я обнаружил у родника небольшую отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверно, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас, там, за двуглавым холмом. В тех краях располагались чабаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видел однажды фотографию молоденькой китаянки с такой же вот, как у этой девушки, челочкой на лбу. Поэтому, наверно, мне и почудилось, будто я ее где-то видел.
Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление было для нее здесь такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я как ни в чем не бывало спрыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, пополняя свою бочку.
Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя возле меня, она спросила:
— А как называется этот родник?
Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно, должен же как-то называться наш единственный родник. Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине.
— Верблюжий глаз! — сказал я, повернувшись к девушке.
— Родник Верблюжий глаз? — Она тряхнула челочкой и улыбнулась. — Красиво! А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый…
Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, до чего же это здорово — услышать имя любимого учителя здесь, в степи, от незнакомой девушки, которая, подумалось мне, тоже не без его влияния попала сюда, на Анархай. Она еще в прошлом году окончила школу, не нашу, а другую, и теперь работала сакманщицей — помощницей чабана.
— У нас на кошаре колодезная вода соленая, — говорила девушка. — А я слышала, что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят напоить, пусть и они знают, какая она, настоящая вода. Вот выращу их, сдам в отару, а к осени поеду учиться в университет…
— Я тоже со временем думаю учиться, — сказал я. — Только я по механизации пойду. Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так… — показал я на бочку, — временно помогаю… Должны прислать другого водовоза…
Ну это уж я зря, конечно, ляпнул, просто сам не заметил, как сорвалось с языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел.
— Э-эй, академик, морду набью-у-у! — донесся издали ненавистный голос Абакира.
— Ох, и заболтался же я!
— Что это там? — не разобрав, спросила девушка.
— Да так, — пробормотал я, краснея. — Воду надо везти.
Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками.
— Да еду я, еду! Уймись ты! Нельзя же кричать при посторонних! — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь.
Вода в бочке бултыхалась, выплескивалась, то и дело окатывая меня с головы до ног. Ну и пусть! Пусть там не останется ни капли. Не могу я больше терпеть такие издевательства!
Абакир спрыгнул с кабины и, как в тот раз, снова кинулся ко мне. Я осадил лошадь.
— Если ты будешь так кричать, я брошу работу и уйду!
Он растерялся от неожиданности, а потом присвистнул и обложил меня матом.
— Без тебя, сопливого академика, был Анархай и теперь не провалится, чтоб ему сгореть! Валяй, катись отсюда восвояси! Тоже еще огрызаться вздумал, голоштанный студент!
Я спрыгнул с повозки, закинул кнут за трактор и зашагал прочь.
— Стой, Кемель! Нельзя так! Куда ты, остановись! — закричала мне вслед Калипа.
Но это только подстегнуло меня, и я зашагал еще быстрее.
— Не задерживай, пусть проваливает! — донесся до меня голос Абакира. — Обойдемся!
— Изверг ты, зверь, а не человек, что ты наделал! — стыдила его Калипа.
Я еще долго слышал, как они там кричали и ругались.
Не замедляя шага, уходил я все дальше и дальше. Мне было все равно куда идти. Никого, ни единой души не было вокруг, и пути передо мной были открыты во все стороны. Я миновал родник, полевой стан, прошел под пригорком, там, где стояла каменная баба. Зло ухмыляясь, старуха проводила меня пустым черным взглядом и осталась стоять, тяжело вросшая в землю, как стояла многие века.
Я шел, ни о чем не думая. У меня было только одно желание: уйти, уйти отсюда как можно быстрее, и пусть этот проклятый Анархай любуется моим затылком.
Пусто, бесстрастно стлалась передо мной степь. Все пригорки, увалы, лощины — все вокруг до тошноты походило одно на другое. Кто сотворил это мертвое, унылое однообразие? Почему я, оскорбленный и униженный, должен мерить эти бесконечные седые просторы горькой полыни? Куда ни глянь — всюду бездыханная пустыня. И что, спрашивается, надо здесь человеку? Разве мало ему места на земле? Мои утренние мечты показались мне до смешного нелепыми.
«Вот тебе и роскошная полынная степь, вот тебе и страна Анархай!», — высмеивал я сам себя, ощущая всем существом своим собственное бессилие, бесприютность и подавленность.
Надо мной было высокое-высокое небо, вокруг расстилалась огромная-огромная земля, и сам я показался себе маленьким-маленьким, одиноким, забредшим сюда невесть откуда человечком в стеганой фуфайке, кирзовых сапогах и поношенной выцветшей кепчонке.
Так я и шел. Ни тропы, ни дороги. Я просто шел. «Выйду где-нибудь к железнодорожной насыпи, — думал я, — пойду по шпалам, а там на каком-нибудь разъезде подцеплюсь к товарняку. Уеду к людям…»
Когда у меня за спиной раздался топот коня и фырканье лошади, я даже не оглянулся. Это Сорокин. Кроме него, некому. Сейчас начнет корить, будет упрашивать, но — к чертям! — не вернусь, даже и не подумаю.
— Остановись! — негромко окликнул меня Сорокин.
Я остановился. Сорокин подъехал на вспотевшей лошади. Молча посмотрел на меня синими пристальными глазами из-под выцветших бровей, полез в полевую сумку и достал красный листок — мою комсомольскую путевку, которую я с такой гордостью вручил ему в день приезда.
— На, это нельзя оставлять, — спокойно протянул он мне путевку.
Во взгляде его я не прочел ни упрека, ни презрения. Он не осуждал и не жалел меня. Это был серьезный взгляд человека, обремененного делами, давно привыкшего ко всяким неожиданностям. Сорокин отер ладонью утомленное, заросшее рыжеватой щетиной лицо.
— Если на разъезд — держи правее, вон по-над той ложбиной, — показал он мне и, повернув коня, медленно поехал назад.
Я ошеломленно смотрел ему вслед. Почему он не обругал меня, почему не стал уговаривать? Почему он так устало сидит на своей понурой лошади? Семья — жена и дети — где-то далеко, а он здесь один годами кружит по степи. Что он за человек, что держит его в пустынном Анархае?
Сам не понимаю почему, но я медленно побрел за ним.
Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всему виной был я. Разговор еще не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать.
— Ну, так как же быть? — промолвил наконец Сорокин, ни к кому не обращаясь.
— А что, на Анархай потоп надвигается, что ли? — ехидно отозвался Абакир.
При этих словах Садабек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат, прицепщик Эсиркеп, тоже поднялся было с места, но раздумал и остался.
Абакир и с ним был не в ладах. Как-то, уступив моей просьбе, Эсиркеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садабека, а сам пересел на водовозку. Ну, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но Эсиркеп в обиду себя не дал, он тоже драться умел. А ведь он старше меня всего года на три.
Абакиру никто не ответил.
— А что тут думать? — добавил он. — Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает.
— Не о том речь, кто виноват, кто не виноват! — ответил Сорокин, не глядя на него. — Здесь судьба молодого человека решается, как ему быть теперь.
— Ну, уж и судьба! — усмехнулся Абакир. — Судьба таких академиков давно решена, пропащий, ни на что не годный народ! — Он небрежно махнул рукой. — Ну сам посуди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали, они учились по десять лет, а то и больше. Мы кормили их, обували, одевали, а что получилось, чему их там выучили? Машины не знает, хомут на коня надеть не умеет, супонь и то толком не стянет… Почему же это я должен отдуваться за него? На кой хрен мне его ученость! Подумаешь, знаток каменных идолов. А с делом не справляется. Раз так — значит, айда, катись, не срывай работу другим! И ты на меня, Сорокин, не напирай, я вкалываю без сменщика и никому спуска не дам. А неугоден — завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда буду говорить: я бы всех этих академиков…
— Довольно! — резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него. — Это мы и без тебя знаем. Не о том речь. А ну, скажи, Кемель, что ты-то сам думаешь?
Я не сразу ответил. Слушая Абакира, я поймал себя на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как все это говорилось, как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий или такой уж тупица, что никогда не постигну того, что доступно Абакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решительно не понимал. Однако я постарался ответить Сорокину как можно спокойнее.
— Я приехал работать сюда прицепщиком. Это для меня важно. А с хомутами и супонями я уже справляюсь. Это знают все, и Абакир тоже знает. Можно было бы и дальше так работать. Но я водовозом не буду. Принципиально не буду.
— Другой работы у нас нет, — сказал Сорокин.
— Значит, мне надо уходить, — заключил я.
Калипа подняла на меня глаза и печально вздохнула.
— Я бы, Кемель, уступила тебе свое место, а сама села бы на водовозку, но ведь ты не пойдешь…
Это прозвучало неожиданно. По доброте ли своей или оттого, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за Абакира, вроде бы стыдилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-нибудь смягчить, сгладить его грубость, — потому ли или нет, но она это сказала, а я сгоряча, не подумав, брякнул:
— Пойду!
В юрте стало совсем тихо. Только ветер потрескивал с тонким посвистом. Все недоумевая смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь, откажусь? Получалось так, что я сам лез в лапы человеку, который меня ненавидел и не желал мне ничего доброго. Но я промолчал. Сказано — сделано. Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня.
— Это точно? — коротко спросил он.
— Да.
— А мне все равно! — Абакир плюнул в костер. — Но предупреждаю: чуть что — надаю по шее! — И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом.
— А что — чуть что? Что ты заранее угрожаешь? — не выдержал наконец все время молчавший Эсиркеп. — Справится, подумаешь, премудрость какая! Он на моем плуге работал.
— А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу…
— Прекрати! — снова недовольно оборвал Абакира Сорокин и сказал мне: — С утра принимайся за работу. — Он поднялся и шагнул к выходу. — А теперь отдыхать пора…
В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром? Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним, а с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицепщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задержать движения трактора. Но ведь, кроме этого, я должен во всем помогать трактористу — и по уходу за машиной, и по ремонту. Попробуй, подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку, или там еще что…
Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове.
— Ты бы подумал, Кемель. Не пара вы с ним. Добрый ты, безобидный. Заест он тебя, не угодишь ты ему…
— А я и не собираюсь ему угождать. А что заест, так мне уж не привыкать.
— Ну, гляди, тебе виднее, — тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.
3
Наш поединок с Абакиром начался с первого же дня.
— Заснешь, упадешь под ножи — отвечать не буду! — бросил он единственную фразу перед началом пахоты.
Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться.
Да, под моими растопыренными на раме ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядком, наискось, один за другим, вспарывая и отваливая дымящуюся дернистую толщу целинных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел, не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами.
Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь или пока он не убедится, что я выстою. И возможно, нарочно он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступиться. Кто-кто, а уж Абакир-то прекрасно знал, что не очень это сладко — сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, вцепившиеся в штурвал плуга, — вот что я собой представлял. За все время я не проронил ни слова, я молчал даже тогда, когда он с особенно злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абакир остановил трактор, я ощутил страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть. Но я не двинулся с места, я ждал приказа Абакира.
— Подними лемеха! — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахоты и, заглушив мотор, подошел к плугу. Наклонясь к лемехам, он ощупал острие ножей. — Менять надо, притупились. К утру чтобы было сделано! — сказал он.
— Ладно, — ответил я. — Оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга.
Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе вразвалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь и сам-то тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать подлец!
Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охапками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать.
Родная, добрая Альдей! С каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешбармак. А мне некогда было рассиживаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай.
— Зачем он тебе? — спросила она, подавая фонарь.
— Надо. Лемеха буду менять.
— Да что ж это такое, куда это годится! — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру. — Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой!
— А мне что, не позволяй, — огрызнулся Абакир, укладываясь спать.
— Не вмешивайся! — одернул Садабек жену. — У Кемеля своя голова на плечах.
— Ничего, мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Эсиркеп! — Калипа поднялась, собираясь идти со мной.
— Не надо, — сказал я. — Не тревожьтесь. Я сам управлюсь.
С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем.
Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику — напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой?
Добравшись до плуга, я не мешкая взялся за дело. Поднял лемеха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвертывал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное несподручно. Они сидели в очень неудобных, труднодоступных пазах. Костер то и дело угасал. Я, словно уж, выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал огонь. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока не сменил все ножи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне исцарапанные руки.
Рано утром меня разбудила Калипа. Она приехала с водовозкой.
— Радиатор я уже залила. Иди умойся, Кемель, — позвала она меня, — я полью тебе.
Она ни о чем не расспрашивала меня, и был я благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют тебя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. До чего же приятно было выпить кисленького квасу из жареного зерна! Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне.
Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-то было не к чему. Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил серьгой, и мы снова двинулись по полю.
Но в этот день я уже сидел за плугом уверенно. Я поверил в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца!
Передо мной, в окошке кабины, маячил все тот же упрямый, тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал.
В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор.
— Слезай, — сказал он. — Перерыв.
Мы молча сидели на земле, в тени трактора. Абакир покурил, раздраженно покусывая папиросу, потом снял комбинезон и рубаху и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лоснящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнышке. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь, но в это время Абакир поднял на меня хмурое, разомлевшее лицо.
— Почеши спину! — приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки.
Я промолчал.
— Слышишь? — он грозно передвинул плечами, не поднимая головы.
— Не буду!
— А я говорю, будешь! — Он рывком подтянулся ко мне на руках. — Ну, долго я буду ждать?
Я немного отодвинулся от него.
— Ты всегда тычешь себя в грудь: я рабочий! Я всех и вся кормлю… Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть.
— И был бы! А ты мне в душу не лезь! — Он неожиданно щелкнул меня по носу.
Я вскочил и бросился на него с кулаками. Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатился по земле. Я с трудом поднялся на колени и, не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сшибал меня с ног.
— Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет! Я тебе покажу мою душу! — приговаривал он, нанося мне чугунные удары.
Но я снова и снова вскакивал и молча, остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звериную рожу, а он точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь.
Вот я опять поднялся и двинулся к нему медленно. Он занес руку и, крякнув, как мясник, сплеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, припав к земле и прикусив губу, чтобы не издать ни единого стона.
— Лежишь, академик! Ну-ка понюхай, чем пахнет земля! — сказал он, тяжело дыша и сплевывая кровь с разбитых губ. — Это тебе не лекции читать про каменных идолов.
Он пошел к своей одежде, истоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша облачаться с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и с кулаками драться за правду. Я понял, что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой…
Пока Абакир одевался, залезая в свой комбинезон, я отдышался, пришел в себя. Когда он завел мотор, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге.
Трактор взревел и тронулся вдоль пашни. Все тот же упрямый, тугой затылок маячил в окошке кабины, и я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.
4
В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах пароконную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек — ездовой. Теперь и водовозу стало легче управляться. На сев переключили трактор Садабека и Эсиркепа, а мы с Абакиром продолжали пахать.
И еще одна очень важная новость.
Несколько дней назад, когда мы после обеда ехали на бричке к полю, я увидел у родника ту самую девушку-сакманщицу. Я спрыгнул с брички. Ездовой придержал было лошадей, но Абакир не дал ему остановиться.
— Айда, не задерживай, — недовольно приказал он.
Я побежал к девушке, и она пошла навстречу мне, оставив своих овец. Но я так и не добежал до нее, надо было догонять бричку, чтобы поспеть к началу работы. Я остановился.
— Здравствуйте! — крикнул я.
— Здравствуйте! — ответила она и тоже остановилась.
Я очень обрадовался, что увидел ее, но решительно не знал, что сказать.
— Почему вас не видно с водовозкой, где вы теперь?
— Я теперь на тракторе! — не без гордости прокричал я в ответ. — Мы во-он на том поле! Извините, я очень спешу!
— Бегите, бегите! — Она помахала мне.
Я пустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка не останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что я бегу по вольной весенней степи…
На другой день она появилась у нашего поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками с ягнятами. Мне хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы, разве он способен на такой поступок? Я не стал просить его об этом.
В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора, он что-то проверял в моторе.
— Чего это она зачастила? — спросил Абакир.
— Не знаю.
— А как ее звать?
— Тоже не знаю.
— Эх ты, академик! — Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону. — А девка сочная…
Я глянул на него со злостью.
— Иди, садись на место! — рявкнул он, и мы двинулись дальше.
Девушка тем временем перегнала овец с пригорка на открытое место, шагах в ста от нашего поля. Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку…
Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины.
— Закрепи рычаг! Иди сюда!
Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал.
— Садись. — Он уступил мне свое место. — Учись управлять.
Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал. Что произошло с Абакиром, неужели он подобрел ко мне? Однако, недолго думая, я приготовился делать все, что он прикажет.
— Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль. Держи рычаги фрикционов…
Трактор загрохотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием: овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом! И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, с лязгом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия.
Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепщика на развороте остались большие огрехи. Но это не такая уж беда: мало, что ли, земли на Анархае! Зато я научусь водить трактор!
Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, я чувствовал себя уверенней.
— Не дрейфь, академик! — крикнул, он мне в ухо. — Я отлучусь малость. А если что, заглушишь!..
Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке-сакманщице. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину.
Абакир стоял возле девушки и беспечно разговаривал с ней. А что ему!.. Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбежать.
Мне не понравилась проделка Абакира. Но в то же время я был счастлив — ведь я сам вел машину! Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир! Что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, построже быть с ним…
Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала овец назад. На лице Абакира я не увидел ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ничего, кроме обычного туповато-надменного самодовольства, не выражало его лицо.
— Айда, академик, на свое место! — Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся.
Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора.
Наша девушка пришла и на другой день. Абакир опять оставил меня в кабине, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог.
«Как бы предупредить ее? — думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону. — Не надо ей встречаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело…»
На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя овец, она убегала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая, — мысленно посылал я ей свои извинения. — Хорошо, что ты так быстро ушла. Но мы еще встретимся. В следующий раз я не останусь на тракторе, я побегу к тебе. А пока иди, не останавливайся, славная девушка с челочкой. Я ведь не знаю даже твоего имени…»
Но напрасно рассчитывал я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. Абакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но и я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку, я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного. Я дал себе слово: при первой же возможности отыскать ее и просто, по душам, поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся.
Как раз в эти дни застиг нас в поле дождь. Он наскочил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля вмиг покрылась вспученными, кипящими лужами. Но Абакир не остановил трактора. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом.
Набухшие водой вспаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Пожалуй, Абакир вообще не остановился бы, если бы на гусеницы не налипли вязкие невпроворот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалясь у себя в кабине, наверно, полагая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище.
Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло. И тотчас же распахнулось небо, сияющее бездонной, прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайские просторы раздвинулись еще шире, стали еще привольнее. Через весь небосклон пролегла над Анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветье радуги и блеклая полынная степь! Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли, ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь.
И я снова почувствовал в себе силу, я тоже воспрянул духом, снова ожили во мне мечты о стране Анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле, и никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить в прекрасное будущее Анархайской степи. Я не поэт, но случалось порой, что в школьной стенгазете помещали мои стишки. Вот и теперь я достал из-за голенища блокнот и сразу, вроде бы с разбегу, записал первые напросившиеся на бумагу слова:
Я не думал о том, что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчало другое: они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сделать, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся.
— Любовные писульки сочиняешь! — злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону. — Хочешь девку стихами пронять?..
— Отдай! — подскочил я к нему в негодовании. — Нехорошо читать чужое!
— А ты мне не указ: хорошо, нехорошо! У меня свое хорошо! Отцепись!
— Ах, так! — Я подбежал к трактору и схватил отвертку.
— Ну-ну! — пригрозил мне Абакир. — На, ерунда какая-то. — Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь. — Страна Анархай! Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик! Вот таких только, как ты, и надо пригонять сюда, чтоб вы узнали, что почем!.. Выдумал, страна Анархай! Ха-ха-ха! Она еще покажет тебе, какая она есть страна! Останься тут на зиму — по-другому запоешь…
— А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет! Ты лучше о себе, подумай!
— А что мне думать? — Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня. — Моя думка со мной. Я везде свое возьму. — Он отошел было от меня, но, вспомнив о чем-то, подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом: — А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней, не рассчитывай… Пришибу!
— Это мы еще посмотрим!
— А я тебе говорю, чтоб и думать не смел!
Мне стало вдруг даже жалко этого зарвавшегося человека, обалдевшего от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Я сказал спокойно:
— Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи. Но это, видно, случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить.
Не знаю, подействовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся, надо было снова приниматься за работу…
С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их, я снова обрел на них право. И они уже не покидали меня, они жили со мной.
Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда, хотелось побыть в одиночестве.
Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй, что и все висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом, круглом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде — хоть черпай их и выбрасывай огненными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода застыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе, и я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир.
Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя ночную, затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них, с кем бы поделиться? Трудно объяснить почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои волнения. Может, это было оттого, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его Верблюжьим глазом?
Где она сейчас, знает ли, что я думаю о ней? Скоро мы закончим пахоту, и тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет, — засмеет еще! — расскажу просто, обыкновенными словами, так, как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи.
Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались всему, что было доступно зрению. Но на пригорке, как всегда, стояла, смутно темнея, бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза.
Взошла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клина. Это были джейраны — степные косули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю поля и остановились как вкопанные, не осмеливаясь вступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю. Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец — с ветвистыми рожками и самка — пониже в холке, с крупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинув легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх: «Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила разворотила землю?»
Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах грустный отсвет лунного серебра.
Я посидел еще немного, чтобы джейраны могли спокойно удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал впотьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами.
И тут я услышал шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать что.
— Ну перестань, хватит, — сонно пробормотал Абакир. — Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два… Чего зря убиваться?
Калипа ответила с горечью:
— Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя, презираю… За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла, не пойму… Хоть что-нибудь хорошее ты сделал людям? Нет же, как собака привязалась…
— Жалеть не будешь. Кончим работу — увезу.
— Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь. И все-таки поеду. Не хочу одна оставаться…
— Да тише ты! Ложись поближе. Ну, давно бы так, а то… Намочила вон всю подушку.
Я укрылся с головой. Хотелось поскорее заснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.
5
Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаще стал наведываться Сорокин. Надо было спешить — сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять, столько же оставалось работы сеяльщикам.
Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и лощинам. Он не просто знал ее — она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки.
Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархае в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться.
Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечтами. Я ждал дня, когда пойду к чабанам в урочище за холмом и разыщу там девушку с челочкой.
В эти дни мы начали распахивать новый большой клин. Всегда приятно приступать к чему-то новому, когда ты занят желанным, приносящим удовлетворение делом. Еще в школе я любил писать на новой, чистой страничке. Я любил бегать утром по нетронутому снегу, первым оставляя следы. Я любил ходить весной в предгорья за первыми, еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манящее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и несорванным тюльпаном.
Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подо мной режут первую борозду. Настойчиво врезаясь в толщу земли, отполированные до нестерпимого блеска лемеха мягко и легко отваливали пласты.
Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнуло огнем и сразу юркнуло в борозду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было что-то такое красивое, я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул:
— Золото!
Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю.
— Что ты там нашел?
— Золото! Смотри, Абакир, золото!
Он направился ко мне сначала медленно, а потом заспешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь.
— А ну! — Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее о рукав. — Да откуда ему быть здесь, золоту? — проговорил он подавленным голосом, бледнея при этом, как от внезапно нахлынувшего страха. — Не может быть, — с усилием усмехнулся он, выколупывая ногтем землю из зазубринок, и, не глядя мне в глаза, с явным неудовольствием вернул обломок.
— А почему бы и нет! — запальчиво возразил я. — Смотри, какой тяжелый, в нем граммов восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло попасть и сюда! — Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка оказалась золотом. Увлеченный этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя, и ошеломленного, ошарашенного Абакира. — Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Тут, на Анархае, когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут были побоища! Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок и есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам — видишь, как удобно держать.
Абакир взял обломок, подержал его, взвесил в руке.
— Хоть и не золото, а надо показать знающим людям, просто для интересу! — Он положил обломок в карман. — Ты его можешь выронить, с плуга-то. Пусть у меня полежит.
— Ну ладно, — согласился я.
Абакир пошел к трактору, поглаживая отяжелевший карман.
Мы двинулись дальше. Я думал о том, как отвезу находку свою учителю Алдиярову на память. У него собрано много таких вещиц. И он, конечно, расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня донимало неравномерное движение трактора. Как-то странно вел сейчас Абакир машину: то нерешительно замедлял ход, то рвал с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным, чадным облаком на пашню, лез под плуг и лемеха.
Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. Абакир несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор.
— Иди сюда! — Он махнул мне рукой.
Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бегали. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора:
— Докричаться не было сил. Ты иди, установи рычаги, а потом возвращайся, садись, поводи сам немного. Нездоровится мне, плохо что-то. Я пройдусь по воздуху, может, полегчает…
— Иди, иди! — ответил я.
Пока я сбегал к плугу и вернулся, Абакир уже сошел на землю. Он весь сразу как-то потускнел, точно бы слинял. Молча побрел он в сторону, сильно ссутулившись.
«Да он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверно, неладно, вон как схватило», — подумал я и, включив сцепление, тронул трактор с места.
Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвластен моей воле. Как и каждый раз, я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. «Еще два круга, и надо включать фары», — подумал я, вглядываясь перед собой. Впереди, вдоль косогора, кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и привстал на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты.
— Абаки-ир! — закричал я. — Абаки-ир!
Он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор, чтобы было слышнее.
— Абаки-ир! Где ты? Отзовись! — кричал я в степь.
Но затененные предвечерние увалы молчали.
А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться. Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалил седловину, огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира, уходящего по равнине. Он был уже далеко.
— Абакир! Куда ты? — кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю.
Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе бледными пятнами меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины.
Я шел смятенный, растерянный. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся, грустная тишина. Словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастным золотом, он голову потерял… Нет. Такие голову не теряют! Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы стращал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел, со всеми поссорился, передрался. А Калипа? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему, беременная, с ее любовью! И все-таки за неделю до получки он бы не убежал. А так, что ему — вчера получил денежки, и не малые, он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе, значит, задарма немного проработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом…
Мои думы прервал голос Калипы:
— Абаки-ир! Кемель! Где вы?
Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы.
— Куда вы подевались? — тревожно встретила меня Калипа. — Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет!
Что было мне ответить ей? Сказал правду:
— Абакир ушел. Бросил работу.
— А… почему… зачем? — запинаясь, спросила она.
— Не знаю.
Про золото я умолчал, мне было стыдно за Абакира.
— Значит, ушел?.. — Помолчав, она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю. — Зачем же я вожу эту воду? — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь.
Я понес бидон к радиатору, а Калипа прислонилась лицом к кабине и горько заплакала.
Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее.
— Может, еще вернется, — неуверенно пробормотал я, обернувшись к Калипе.
— Да не о нем я, — всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо. — Верила, мечтала! А во что верила? О чем мечтала? — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи ей отозвалось стонущее эхо. — Думала, парень работящий, думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить… Лошадь тоже работает, а только человек — он и есть человек, душа в нем прежде всего… Тогда и работа в счастье, тогда и делу есть смысл… А он, он не понял ничего. Какой был, такой и ушел. Обидно мне, если бы кто знал, ох, как обидно!
Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калипу, больно за нее. Не понимал я, как она могла полюбить такого человека… Но если бы Абакир знал, если бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калипы, то не она, а он завыл бы, как волк в зимнюю стужу.
Калипа села в повозку и молча уехала.
Спокойно спала Анархайская степь. Откуда-то издали, колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся понизу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к товарняку?.. Ну и катись, сволочь, туда тебе и дорога! Не пропадет Анархай, и мы без тебя обойдемся…
Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая ночную тьму. Я сел в кабину и включил фары.
Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с челочкой и чтобы она поверила мне, что будет, будет в этой дикой полынной степи прекрасная страна Анархай.
Перевод автора и А. Дмитриевой
Иордан Радичков
Небесная радуга
Меня учили укладывать булыжник: дуга за дугой, дуга за дугой. Стоя на коленях в песке, я делал мостовую. Дорога росла, гладкая, сероватая, кое-где блестели мелкие кусочки кварца, вкрапленного в камень. Дуга за дугой ложатся дни и недели, все длиннее серая гранитная дорога. По ней с огромной скоростью проносятся автомобили, с треском двигаются повозки, из-под подков коней вылетают искры.
Дуга за дугой…
Начинается дождь, мы бежим под деревья, но вскоре наше убежище становится ненадежным, потому что сквозь кроны просачивается вода. От дождя нас спасают только наши соломенные шляпы с обмякшими полями. В леваде под нами так же неподвижно стоит коричневый бык. Издали он похож на бронзовую статую, по спине которой течет вода.
Когда туча уходит, начинает припекать солнце. Мы снова принимаемся за работу. Бык стряхивает с себя воду и наклоняется к омытой дождем траве. Вдали вспыхивает радуга, такая яркая и красивая, что похожа на сказочную. Мне приходит в голову, что если бы у нас был цветной гранит, то мы могли бы сделать нашу дорогу похожей на эту небесную радугу. Каждый ахнул бы при виде такой дороги. Но Иван Кравка сказал мне, что ничего хорошего не получилось бы, такая дорога пугала бы лошадей. Может быть, это и так, только я уверен, что когда-нибудь именно такие дороги и начнут прокладывать. Перед тобой — небесная радуга, смотришь на нее и укладываешь разноцветный гранит в той же цветовой гамме.
Этот проклятый ливень размыл кучу песка, снес его с большого отрезка будущей дороги. Теперь мы топчемся в ледяной воде. Я вижу, как лица моих товарищей синеют от холода, но они продолжают работать лопатами, преграждая путь ручейкам и пытаясь изменить их направление, ведь нам нужно укладывать булыжник. Песок мокрый, инструмент мокрый, камни мокрые, как и мы, но надо работать. Потому что, оборачиваясь, мы видим деревянные леса завода. Издали они напоминают деревянную детскую люльку, в которой что-то растет, оформляется, обретает плоть. А завод не может существовать без нашей дороги, по ней уже подвозят рабочим продукты.
Солнце обсушило нас и согрело. Ничего, что бородатые лица стали синими от холода. Где-нибудь кому-нибудь должно быть трудно. Трудно тем, кто строит завод и работает на скользких лесах с холодной арматурой, трудно шоферам, которые ведут тяжелые грузовики по колдобинам старой дороги. Нам предстоит выровнять эти ямы, залечить раны старой дороги, сделать новый настил, хотя природа совершенно не считается с нами и насылает на нас холодные дожди, размывающие песок и разбрасывающие ровные дуги уже уложенных камней.
Но солнце обсушило и согрело нас.
— При моем ревматизме только этого дождя не хватало, — произносит Павел Йоницов и закуривает сигарету, хотя сейчас не до курения.
Иван Кравка, стоя по колени в воде, смотрит на него, но ничего не говорит. Я тоже смотрю на его розовые щеки, выпирающие из-под рубашки мускулы и не верю, что он болеет. Но когда человек тебе говорит, что страдает от болезни, то, несмотря на сомнения, ты начинаешь думать о его беде.
— Что поделаешь, — произносит Иван Кравка, — если тебе нужно уехать, уезжай, как-нибудь справимся.
Другие рабочие выравнивают камни и молчат, молчат даже те, кто давно болеют ревматизмом.
— Справимся? — спрашивает Иван Кравка.
— Ладно, — говорит один из мужчин. — Раз ему так нездоровится, пусть уходит. Мы не дети.
— Если со мной что-нибудь случится, кто станет заботиться о моих детях?
Он начинает снимать резиновые тапки. Каждый из нас, вероятно, видит, как он возвращается в теплый барак, чтобы лечь и отдыхать до вечера. Мы слышим, как шелестят его влажные брючины. Но мы не видим, как он пошел по дороге, потому что работаем спиной к заводу, мы видим перед собой только полотно будущей дороги.
— Не надо было отпускать этого хлюпика, — говорит рабочий, выкладывающий бордюр.
— Не надо так, Рангел! — Иван Кравка с упреком смотрит на него. — У человека ревматизм. С каждым это может случиться, надо быть добрее.
— Только у него ревматизм? Может, его у меня нет? — качает головой Рангел. — Прошлым летом мы хотели выгнать его из бригады, тогда он стал о детях говорить, о своей жене, у которой слабое сердце. Разве только у нее слабое сердце? И у него одного ревматизм?
Конечно, не только у него одного ревматизм. Я это прекрасно знаю, хотя работаю на дороге всего несколько месяцев. Это нетрудно понять, достаточно посмотреть на то, как люди распрямляют спины, как поднимаются с песка.
Солнце пригревало все сильнее, и мрачное настроение начало улетучиваться. Солнце сушит одежду, солнце согревает людей.
Дуга за дугой… Дуга за дугой…
До нас долетает песня, и мы ищем глазами певцов, не прекращая работы. Через леваду идут дети. У них через плечо перекинуты ружья — ракитовые прутья, из лыка они сделали себе ремни. И их песня, и их шаг нестройны. Сзади всех шагает совсем маленький мальчуган, но и у него ружье, и он пытается маршировать. Он все больше и больше отстает. Бык стоит и тоже смотрит на ребят.
Мальчуган, который идет последним, снимает с плеча ружье-прут, садится на него верхом, теперь это конь, и спешит догнать остальных. Одно дело — идти пешком, совсем другое — ехать верхом!
Неожиданно бык бросается к мальчишкам. Они бросаются наутек, побросав свои ружья.
— Бегите! Бегите! — кричат рабочие, хотя дети и так бегут.
Мальчуган на деревянном коне совсем отстал. Ракитовый прут не помогает ему больше. Его лицо искажено ужасом. Мы онемели — ясно, что он не сможет убежать. Бык уже настигает его, он нагнул свою страшную голову, мокрые от дождя рога блестят, как сабли.
Мальчуган оборачивается, сжимая своего коня. Ему не надо этого делать, он теряет драгоценное время, нужно только бежать. Мальчуган спотыкается и падает в траву. Случилось страшное, непоправимое…
И тут случается непредвиденное. Мальчуган начинает визжать. Он плачет и визжит так громко, что, кажется, земля сотрясается. Никогда мне не приходилось слышать ничего подобного, я даже не предполагал, что человеческое горло способно исторгать такие звуки.
Это нечто потрясающее.
Бык внезапно останавливается. Его налитые кровью глаза смотрят угрожающе. Он тяжело дышит. Он стучит копытом о землю, поворачивает к нам голову, но тотчас же занимает прежнюю позу и смотрит на ребенка, который бьется на земле и кричит во все горло.
Может быть, быка испугал крик ребенка? Или умерил его ярость? Нет, его озадачил этот крик. Он не походил на крик пастуха, загоняющего быков в загон. Мы видели, как бык делает круг, нервно бьет о землю копытами, как опять сверлит взглядом мальчугана.
Дорожник, который закрыл лицо руками, уже бежит к нему с лопатой. Мы устремляемся следом за ним. Он берет ребенка на руки, а мы преграждаем своими телами путь быку. Животное стоит, как бронзовая статуя, перед нами — вряд ли его устрашат наши лопаты. Но он смотрит не на нас, а на рабочего с ребенком на руках. Мальчуган продолжает реветь, хотя и не так громко.
Когда мы достигаем шоссе, бык все еще смотрит не на нас — удивленно и задумчиво.
Ребенка душат спазмы, он едва дышит. Иван Кравка плещет ему водой в лицо.
— Повезло мальчугану! — говорит он, пытаясь улыбнуться, но нижняя губа у него дрожит и улыбки не получается.
— Хорошо, что он завизжал, — произносит дорожник, который первым подбежал с лопатой к ребенку.
Когда мы снова принимаемся за работу, стоя на коленях в пропитанном водой песке, Иван Кравка говорит:
— Мой сын, когда я его шлепну, сейчас же начинает реветь. При виде его слез я опускаю руки, не решаюсь его снова шлепнуть. У меня перехватывает дыхание от его рева.
— А мой начинает реветь еще до того, как я его ударю. И хотя я знаю, что он хитрит, не могу его стукнуть, — отзывается дорожник, укладывающий бордюр.
Я укладываю свою гранитную дугу и думаю о силе детского плача, единственного оружия детей против гнева взрослых. Я был целиком на стороне детей — доверчивых, хитрых и беззащитных. Я спрашиваю себя, осталось ли в нас что-нибудь от этого оружия?
— Конечно, — говорит рабочий, укладывающий бордюр, — и взрослые скулить умеют, плачут, чтобы их пожалели. Иному хлюпику и по морде не дашь, таким несчастным он кажется. Только взрослые — не дети.
Тук, тук, тук — стучат по граниту молотки… Мы знаем, что несчастные не виноваты, и потому мы снисходительны к ним. Мы знаем, что взрослые — не дети. Я вдруг вспоминаю про Павла Йоницова. Не больно приятно шлепать по ледяным лужам, мокнуть под холодным дождем, а потом, стоя на коленях в мокром песке, укладывать мокрые камни, мокрая рубашка прилипла к телу, дымится под лучами выглянувшего солнца… Приятного в этом мало. А кое-кто может позволить себе уйти в теплый сухой барак, лечь в постель, потому что и завтра день, и завтра надо укладывать камни… Но ведь и те, которые строят завод, тоже вымокли, леса, стали скользкими, арматура грязной, машины с трудом движутся по размытой дороге. Те, кто строят завод, не могут оставлять работу из-за холода и грязи, потому что младенец в большой деревянной люльке хочет расти. А грузовики должны доставлять материалы и продукты. Для этого нужна широкая ровная дорога, надежная и прочная, которой не страшна никакая непогода. И мы строим такую дорогу.
Не больно приятно работать среди такой мокрети, а Павел, черт бы его побрал, — сейчас я в этом уже не сомневаюсь — схитрил, хоть ему и удалось заставить меня на мгновение почувствовать себя виноватым. Наверно, когда он был ребенком, его много раз наказывали, и он научился хитрить, противопоставляя свои слезы силе взрослых.
Солнце все больше припекает, мы чувствуем спинами тепло. Дуга за дугой ложатся на песок камни, растет гранитная дорога. Несколько дней назад мы видели конец этой дороги, теперь этого конца не видно. Он сливается с серым фоном дождевых облаков, подмявших под себя горизонт, и мне кажется, что наша дорога продолжается, взмывая в небо, что над ней сияет пестрая радуга. Может быть, такая дорога будет пугать лошадей, но я уверен, что когда-нибудь наши дороги будут выкладывать цветным гранитом и они будут напоминать пеструю небесную радугу. Вспомним ли мы тогда, что были детьми, что страдали от ревматизма или что укрывались в тепле от непогоды, когда другие, стоя на коленях на мокром песке, мучаясь болью в распухших суставах, работали, чтобы сделать дорогу надежной?.. Дуга за дугой ложатся камни, и мы знаем, что прокладываем дорогу к заводу, который растет там, у подножия зеленых гор, увенчанных снегами.
Дуга за дугой… Так, наверно, ложатся слова песни. Я бы тоже запел, но не умею. Что же тогда?
Тогда я могу сказать своим товарищам: «Ты, который укладываешь бордюр! Ты, который укладываешь камни новой дороги! Ты, который с грохотом гонишь телегу по новой дороге! Ты, который работаешь на влажных лесах завода, к которому мы прокладываем дорогу!.. Вы все здесь потому, что то новое, что формируется и растет, чтобы подняться во весь свой гигантский рост над нашей землей, зовет вас. Если вы увидите беглецов или услышите нытье, закройте глаза. Это нытье отжившего мира, оно не может сравниться с искренним, трогательным криком рождающегося нового. Оно — лишь слабое оружие, направленное против нашей справедливости.
И ты, товарищ, который укладываешь ряд Павла Йоницова, посмотри на мокрый песок внимательней, видишь, как ненадежен мокрый песок и как тверд гранит. Никто не может сделать дорогу из песка. Пусть болят колени, пусть прилипают к спине рубахи, пусть одолевает холод, но ни сейчас, ни потом мы не прервем работу, и наша дорога будет сделана из вечного гранита».
Василий Шукшин
Микроскоп
На это надо было решиться. Он решился.
Как-то пришел домой — сам не свой — желтый; не глядя на жену, сказал:
— Это… я деньги потерял. — При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. — Сто двадцать рублей.
У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:
— Где?
Тут он невольно хмыкнул.
— Дак если б я знал, я б пошел и…
— Ну, не-ет!! — взревела она. — Ухмыляться ты теперь долго не будешь! — И побежала за сковородником. — Месяцев девять, гад!
Он схватил с кровати подушку — отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате…
— Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..
— Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..
— По рукам, слушай!..
— От-теньки-коротеньки!.. Кривеньки носики!
— По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже!..
— Садись!
— Тебе же хуже…
— Пускай!
— Ой!
— От так!
— Ну, будет?
— Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел… — Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась…
Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо посмотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что — правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:
— Ох, да за што же мне долюшка така-ая-а? Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные!.. И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..
— Где это они у тебя рваные-то ходют? — не вытерпел он.
— Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился… Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было…
— Спасибо на добром слове, — ядовито прошептал он.
— М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?
— Где на работе! Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе…
— Ну, может, заходил к кому, скважина?
— Ни к кому не заходил.
— Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол… Беги, они пока ишо отдадут.
— Да не заходил я в ларек!
— Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?
— Откуда я знаю?
— Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки… Я уж там подобрала — какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина…
— Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина…
— Кто же ты?
— Што теперь сделаешь?
— Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь… Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца…
— Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.
— Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.
Тут он удивился:
— В две смены работать и — пешком? Ловко…
— Пешком! Пешком — туда и назад, скважина! А где так ишо побежишь — штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз…
— В две не в две, а по полторы месячишко отломаю — ничего, — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. — Я уж с мастером договорился… — Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился: — Я как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.
— Ну-ка дай сберегательную книжку, — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: — Скважина.
С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.
Однако дни шли… Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что — можно. И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, — что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.
Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу, — никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание… На него обратили внимание.
— Что эт ты, как… голый зад при луне, светисся?
— Вот… дали за ударную работу… — Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку… И наконец открыл. И выставил на стол… микроскоп. — Микроскоп.
— Для чего он тебе?
Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.
— Луну будем разглядывать! — И захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!
— Чего вы? — обиделась мать.
Отец с сыном так и покатились.
Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.
— Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды… Так? — Андрей зачерпнул кружку воды. — Ты думаешь, ты воду пьешь?
— Пошел ты!!
— Нет, ты ответь.
— Воду пью.
Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.
— Воду она пьет!.. Ну не дура?
— Скважина! Счас сковородник возьму.
Андрей снова посерьезнел.
— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску!
Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.
— Гляди суда! — закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубке и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним — смерть как хотелось тоже глянуть.
— Пап!..
— Вот они, собаки!.. — прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: — Разгуливают…
— Ну, пап!
Отец дрыгнул ногой.
— Туда-суда, туда-суда… Ах, собаки!
— Папка!
— Дай ребенку посмотреть! — строго велела мать, тоже явно заинтересованная.
Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:
— Ну?
Сын молчал.
— Ну?!
— Вот они! — заорал парнишка. — Беленькие…
Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.
— Гляди! Воду она пьет…
Мать долго смотрела… Одним глазом, другим…
— Да никого я тут не вижу.
Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.
— Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие…
Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.
— Вон, однако… — Может, соврала, у нее выскакивало. Могла приврать.
Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.
— Твою мать, што делают! Што делают!..
— Мутненькие такие? — расспрашивала сзади мать сына. — Вроде как жиринки в супу?.. Они што ли?
— Ти-ха! — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. — Жиринки… Сама ты жиринка. Ветчина целая. — Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме.
Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.
— Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился…
Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал.
Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну.
— Сколько здесь?.. Приблизительно.
Сын наморщил лоб.
— С полмиллиончика есть.
Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.
— Не меньше. А мы их — ам! — Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. — И — нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!
— Небось сам выпросил? — Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. — Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить — и нечем.
Нет, бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то — не Мыслителя делал.
Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:
— От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!
— Не помешайся, — сказала жена, — тебе ведь немного и надо-то — тронешься.
— Скоро начну открывать, — сказал Андрей, залегая в тепло к жене. — Ты с ученым спала когда-нибудь?
— Еще чего!..
— Будешь. — И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. — Будешь, дорогуша, с ученым спать…
Неделю, наверно, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал… Косился на микроскоп.
— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он — шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организьм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.
Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра… Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы… И там этих беленьких кишмя кишело.
— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки. — Наступил человек в лужу, прошел домой, наследил… Тут же прошел и ребенок босыми ногами — и, пожалуйста, подцепил. А какой там организьм у ребенка!
— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. А ты не вытираешь.
— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров… докажи ему: как шлепал, дурак, так и всегда будет.
Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу…
— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.
— Давай спробуем кровь? — предложил сын.
Отец уколол себя палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце… Склонился к трубке и застонал.
— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно и горько посмотрел вокруг. — Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат!
— Кто? — не понял сын.
— Ученые. У них микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.
Андрей Ерин сел на табуретку и закурил.
— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.
Сын смотрел в микроскоп.
— Друг за дружкой гоняются! Это маленько другие… Кругленькие.
— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, что у меня в крове видели.
— Давай у меня посмотрим?
Отец внимательно поглядел на сына… И любопытство и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях.
— Не надо. Может, хоть у маленьких-то… Эх, вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей, клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то… меньше же гниды самой маленькой — и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень?!
— Вшу видно, а этих… Как ты их?
Отец долго думал.
— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче… я ж пью, вон видел, што делается в крове-то!
— Водка в кровь, что ли, поступает?
— А куда же? С чего же дуреет человек?
Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу… Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.
— Давай попробуем… Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.
Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел… Вспотел даже.
— Разбегаются, заразы… Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током… Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда будут…
И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею — просто так.
В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.
— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.
— Зачем? Мы вот тут… Нам што? Нам — в уголку!..
«Ну чего вот, сдуру казанской сиротой прикинулся?»
— Как хочешь.
— Дай микробов посмотреть!
Андрей встревожился.
— Каких микробов? Иди проспись, Серега… Никаких у меня микробов нету.
— Что ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело… Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов уничтожить хочет, Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я рядом с тобой работал!.. Андрюха!
Зое Ериной, хотя она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа — ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:
— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи не спит. Што бы пылесос какой-нибудь присудить… А то пропылесосить — и нечем, не соберемся никак купить.
— Кого присудить? — не понял Сергей.
Андрей Ерин похолодел.
— Да премию-то вон выдали… Микроскоп-то этот…
Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что… но куда там! Тот уставился на Зою, как баран.
— Какую премию?
— Ну премию ж вам давали!
— Кому?
Зоя посмотрела на мужа, на Сергея…
— Вам премию выдавали?
— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию…
— А Андрею вон микроскоп выдали… за ударную работу… — Голос супруги Ериной упал до жути — она все поняла.
— Они выдадут!.. — разорялся в углу Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал… так? Вон Андрей не даст соврать…
Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.
Андрей встал… Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:
— У тебя три рубля есть? До получки…
— Есть. Ты за што меня ударил?
— Пошли в лавку Кикимора ты болотная!.. Какого хрена болтаешься по дворам?.. Чурка ты с глазами.
В ту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея.
Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой… Жены не было.
— Где она? — спросил сынишку.
— В город поехала, в эту… как ее… в комиссионку. Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.
— Ругалась?
— Нет. Так, маленько. Сколько пропил?
— Двенадцать рублей. Ах, Петька… сынок… — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. — Разве ж в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей… не поймешь.
— Понимаю: она продаст его.
— Продаст. Да… Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего… Надо, конечно…
Димитр Вылев
Руска
Прошлым летом в один воскресный день в Варнице на меня навалилась слепая тоска. Только летом, в селе, когда людей сваливает в тени сон и сразу прерывается веселый полевой гул, может прийти такая тоска. Как справиться с ней? И мне пришло в голову отправиться в Аланово повидаться с Руской. Я познакомился с ним два года назад в Ямбольской окружной больнице. Он сломал ногу и лечился там. Руска рассказал мне, что пять лет назад сшил себе форму, как у повстанцев Ботева; во время стихийных бедствий он надевал ее и подбадривал крестьян.
Я набросил на плечи пиджак и отправился в путь. За час я одолел невысокий горный перевал и увидел перед собой на фоне голубого жаркого неба Дервентские холмы. У их подножья лежали села Татаркево, Кунино и Аланово. Напротив меня шумел Харманджийский лес, надетый, как колпак, на вершины холмов. Из леса выбегала речушка Полянка. Солнце заливало ее узкое, как гильза, русло. В долине реки тревожно бил барабан, слышался гул голосов. Я направился к селу.
На площади перед сельсоветом собралось много народа. Представитель народного совета Руска в ботевской форме сидел за столом. «Уж не потоп ли?» — спросил я сам у себя, глядя на пышное одеяние Руски. Он взглянул на меня — голубоглазый, нестареющий, заулыбался.
— Дончо, иди сюда, посмотри, как мы смеемся!
Я протиснулся сквозь толпу к нему. Вокруг валялись бочки. Я сел на одну из них. Бочки пахли солью и гнилыми водорослями. Барабан продолжал греметь.
— Что тут происходит? — поинтересовался я.
— Не спеши! Доберемся и до корня, увидишь, что к чему.
Он был одновременно и представителем народного совета, и заведующим магазином в Аланово. Село выращивало табак. И ничего другого. А табак нельзя есть. Поняв, что кормить село — задача первостепенная, Руска взял на себя и магазин.
Короткая тень здания сельсовета упиралась в стол — первый этаж двухэтажного здания был отведен под магазин, второй — под сельсовет. Тени на всех не хватало, многим пришлось жариться на солнце, как рыбам на сковороде. Но крестьяне не уходили, а протискивались по очереди к столу и давали Руске деньги. Он опускал их в пастушью торбу, которая висела на углу стола. Женщина в зеленой юбке, с растрескавшимися пятками, растолкала людей и произнесла плотным мужским голосом:
— Руска, пиши: от бабы Иваницы полтора лева. Пятки у меня зудят, спать не могу по ночам.
— Филипчо! — позвал Руска.
В открытом окне магазина показалось глазастое лицо.
— Позвони в Стасино, в участковую больницу. Договорись о месте для Иваницы. Жалоба на боль в пятках.
— Слушаюсь, — ответил Филипчо, исчезая в глубине канцелярии.
Плотный мужчина в хлопчатобумажной майке выложил на стол кучу мелочи. С его мясистого носа стекали капли пота. Все в нем говорило о том, что он любит поесть.
— Что-то ты еще больше раздобрел, — неодобрительно заметил Руска. — Не пора ли тебя сменить? Хватит тебе быть полевым сторожем!
— Именно, из-за полноты мне не подходит никакая другая работа, — с важностью ответил Вылчо, так звали сторожа.
Руска щелкнул его по животу. Вылчо рассмеялся, его буквально душил смех. Он заразил всю площадь. Смех потряс Харманджийский лес с его полянами среди дубовых деревьев, эти поляны были похожи на ямы, в которых варилась желтая смола августовского солнца.
Людскую толпу рассек голубой «Москвич» и замер возле стола. Из машины вышел хилый человек с острыми бегающими глазами. Он прошел всего шага два пешком, но этого было достаточно, чтобы уловить в его походке затаенную хитрость и ловкость.
— Как идет торговля, Найден? — спросил его Руска.
— Верчусь, как белка в колесе, — ответил приехавший.
— Ты держись за закон, как слепой за палку, — посоветовал Руска.
— Мы с законом, что родные братья, которых водой не разольешь. Нельзя ли купить частным образом грузовик? Эта машина мала.
Я заметил, что «Москвич» облеплен иностранными марками.
— Филипчо! — позвал Руска.
В окне снова появился писарь Филип, теперь глаза у него были самые обычные, а в руках у него поблескивали очки. — Пошли в Ямбол телеграмму, спроси, может ли Найден Стамболия купить себе грузовик.
Найден Стамболия пошел к своей машине, его обступили молодые алановцы. Он включил радио. Стоит послушать, что делается в мире, какая футбольная команда выиграла, например. Алановскую площадь огласил столичный джаз.
— У него не одна, а две головы, — похвалил его Руска. — Собирает лесные плоды и продает их иностранцам на черноморском побережье. У него полно денег. Его дед после войны ездил в Стамбул, потому их и прозвали Стамболиями. А Найден объездил всю Европу.
— Почему бы его не привлечь к торговле?
— Привлечем. Со временем.
— Приветствую вас, — произнес пожилой крестьянин с насмешливыми глазами и осведомился, не из ученых ли я. Руска объяснил, что я печатаюсь в газетах; на губах у крестьянина расцвела улыбка, он словно за секунду взвесил меня, купил и продал. Потом он заговорил о луне и звездах, ввертывая при этом, что небесные тела делают обороты, движутся, и если одно из небесных тел остановится, оно сразу же упадет нам на головы.
— Это верно, астроном, — согласился Руска. — Если что-то остановилось, то непременно упадет!
На площади показался барабанщик. На животе у него лежал огромный барабан, закрепленный перекинутым через плечо ремнем. Он тоже принес деньги.
— Возвращайся в долину, Рашко, — приказал ему Руска.
К столу подошел крестьянин в онучах. У него была крупная голова, глаза глядели мрачно.
— От тебя я денег не хочу, — сказал ему Руска. — На выборах ты за меня не голосовал, отправился в Татаркево выбирать моего коллегу Генко. Я не имею права ни просить тебя, ни заставлять.
— Тогда я не верил в тебя, — сказал мужчина. — Объясни, зачем ты двадцать лет назад сделал мне бочонок, который пах тухлой капустой? Мне пришлось вылить вино.
— Я сделал это нарочно, чтобы ты не пил. А кто до этого научил тебя парикмахерскому делу?
Парикмахер оставил на столе пять левов — лишние деньги были штрафом за то, что он не голосовал за Руску.
Село Аланово существовало почти пятьдесят лет, появилось оно сразу после Балканской войны. К подножию холма лепились длинные и узкие, как сараи, старые дома. В некотором отдалении от них возвышались новые дома из кирпича. Первые жители села, большинство которых еще благополучно здравствовало, пасли коз и рубили лес. Козы и топоры загнали лес на вершины холмов. Позднее табак и ремесла спасли природу и алановцев. Руска владел всеми ремеслами и был для Аланово тем же, чем Россия для мира, за что его и прозвали Руской.
Над пустынной дорогой взвилось облако пыли. Вскоре на площадь влетел запыленный джип. Люди расступились, пропуская к столу строгого мужчину в темных очках и сержанта милиции. Сержант шел, приподнимая плечи, словно ехал верхом на коне. Мужчина был подтянут и неприступен. Оба подошли к столу. Руска встретил их улыбкой. Сержант уставился на золотые галуны и осведомился, кто сидит за столом.
— Я сижу, — ответил Руска.
— Я служил в Добрудже, в кавалерии, — произнес сержант. — Видел на парадах старую румынскую форму. Уж не был ли ты начальником в дружественной нам румынской кавалерии?
Но тут сержант увидел на шапке Руски болгарского льва и отдал честь.
— Руска, — сухо сказал строгий мужчина. — Ты не имеешь права носить эту форму. Тебе известно, что за такую аллегорию можно угодить в тюрьму?
— Еще неизвестно, кто туда угодит, — ответил Руска.
— Хватит препираться, — сказал ему сержант. — У меня есть приказ о твоем аресте. Сегодня тебе надлежало прибыть на предварительный допрос в Елхово. Ты не явился. Самовольно распорядился выбросить целую тонну рыбы. Это верно?
— Ты же сам видишь, бочки пусты. Кошки передрались из-за этой рыбы.
— Значит, не отрицаешь?
— Еще успеешь меня арестовать. Дай-ка нам поговорить с Костовским.
— Наша торговая организация огорчена твоим поведением, — произнес строгий мужчина. — Мы сделали все для того, чтобы помочь тебе, но не смогли. Ты разрушаешь основы государства.
— Уж вы поможете, — на губах у Руски появилась улыбка. — Вы какую-то рыбу не смогли сохранить, так что о людях говорить?.. Не я, а ты, Костовский, разрушитель. Ты считаешь себя государством, а нас — ослиным хвостом.
— Я попрошу, — Костовский нервно дернул подрезанными усами.
— Зачем ты послал мне испорченную рыбу?
— Она еще у нас была с запашком. Не хватает холодильников.
— Ты сам — холодильник.
Руске так понравился собственный ответ, что он засмеялся, довольный. Костовский начал озираться, ища от сержанта поддержки, но его окружили крестьяне. Баба Иваница показала ему свои растрескавшиеся пятки, Костовский закрыл рот ладонью. Парикмахер покачал своей крупной головой с мрачными глазами и заявил, что на следующих выборах не станет голосовать за Костовского. Тот ответил ему, что не является выборным лицом и подчиняется только своему начальнику в городе.
— Ты скажи-ка, — вмешался астроном, — сколько оборотов делает в год луна?
— В этом селе все с ума посходили, — промолвил Костовский.
— Приятель, — подал голос Найден Стамболия, владелец «Москвича», — ты зачем пытаешься сбыть людям негодный товар?
— А ты бы помолчал, контрабандист! Сто заявлений уже подал, чтобы тебя взяли к нам на работу. Не видать тебе службы как своих ушей. Контрабандист!
Руска опять усмехнулся, заулыбались и крестьяне. В прошлом году таможенники в Драгомане решили обыскать багажник машины Найдена. Он не позволил, тогда его повели в милицейский участок. Стамболия так расшумелся, что собравшиеся на его крики драгоманцы потребовали, чтобы Найдена отпустили — не те времена, чтобы третировать человека. И таможенники отпустили Найдена.
— Ты знаешь, что привез Стамболия из-за границы? — спросил Руска у Костовского. — Крупную болгарскую морковь. Ты снабжаешь нас такой мелкой морковью, что наши начали сомневаться в плодородии болгарской земли.
— Руска, — заметил Костовский, — ты перегибаешь палку! В прошлом году тебя не наказали за твой взрыв, но сейчас тебе все припомнится. Мы дали тебе взрывчатку, чтобы вы проложили дорогу среди скал, а ты взорвал вон тот холм.
— Дорогу мы и так проложили, а холм мешал принимать телепередачи. Сейчас мы спокойно смотрим телевизор.
— Хватит! Арестуй его! — приказал Костовский сержанту.
— Не могу, — ответил тот. — Он в форме.
— Он ее снимет! — сказал Костовский.
Руска снял куртку и положил ее на стол. Он выпрямился, засунул руки в карманы. У него не было внушительной выправки и фигуры Ботева, но его худощавое некрупное тело было гибким и словно пронизано молодостью. Площадь притихла. Я испугался за Руску. Над площадью повисла тишина. Я подумал о том, как невыносима подобная тишина, когда снега и распутица отрезают от мира это село среди холмов. Я смотрел на знакомые лица, на них читалась мука, этот жаркий полдень уже не искрился смехом. Я поискал глазами в толпе толстяка Вылчо, полевого сторожа, надеясь, что он расшевелит Костовского, в голове которого царил застой и не было места для шутки; Костовский не ответил бы смехом на смех и был бы осмеян. Но и полевой сторож приуныл. Тогда мне стало ясно, что если умрет смех, то верх одержит зло.
Я уже понял, что Костовский послал Руске испорченную рыбу и что Руска ее выбросил. Но что это за деньги, которые собирали в торбу? Руска взял торбу и протянул ее Костовскому.
— Здесь все с точностью до стотинки. Я не позволил дискредитировать нашу народную торговлю, а народ вознаградил меня этими деньгами, которые ты, Костовский, вернешь ему через суд. А ты, сержант, имеешь богатый улов: куртка, завмагазином, народный депутат.
— Куртку и завмагазином вижу. Где депутат? — рявкнул сержант.
— Здесь! — крикнул Руска как на военной поверке.
Руска и сержант отдали друг другу честь. Крестьяне громко засмеялись.
Напрасно я беспокоился, что смех может иссякнуть.
Василий Попов
Начало жизни
Было тихо. Редкие деревца дремали под жгучими лучами солнца, а за ними поле изнывало без воды. Среди табачного поля мелькали белые женские платки, свидетельствующие о том, что жизнь не остановилась под голыми выжженными холмами.
Я стоял на перроне небольшой станции. Паровозный гудок прорезал тишину. Вскоре показался окутанный дымом и сажей состав…
Поезд уже готов был отправиться, когда к станции подлетел видавший виды пропыленный «газик». Крупный мужчина на ходу выскочил из машины и бросился прямо к паровозу:
— Подожди, приятель!
— Чего это я буду ждать? Это что, автобус? Гляди, какой выискался! — возмутился машинист.
— Подожди! Прошу тебя как человека! — гневно крикнул мужчина.
«Газик» подъехал почти к самому паровозу, перрона уже здесь не было. Несколько мужских лиц мелькнули в белом облаке пыли.
— А расписание? — не сдавался машинист.
Перебранка продолжалась, а тем временем другие пассажиры «газика» выбрались из автомобиля, дошли до нашего вагона и принялись подряд обнимать худого сутулого паренька. Их было шестеро, седьмой разговаривал с машинистом.
Как ни странно, машинист сдался, он даже вышел и присоединился к пропыленным мужчинам. Пожав руку пареньку своей черной рукой, он тактично отошел. Мужчины говорили все разом, размахивая руками.
Наконец паренек сел в наш вагон. Как только он устроился в купе, мужчины — крепкие, небритые, возбужденные, пропахшие дешевым крепким табаком, — ворвались туда, подняли шум, снова начались объятия, кто-то всхлипнул. Потом они дружно вышли на перрон и стали возле окна. С пареньком остался только один из них вместе с деревянным желтым чемоданом и серым, туго набитым, видимо одеждой, мешком.
Поезд тронулся. Казалось, ему хотелось поскорее убежать от холмов.
Мужчины кинулись вслед за вагоном. Они усиленно махали руками худенькому сутулому пареньку, что-то кричали. Постепенно они стали отставать и наконец задыхающиеся, утомленные, остановились. Вскоре все исчезло — и станция, и «газик», и провожающие. Осталось только выгоревшее поле, голые холмы за окном и худенький паренек, застывший возле окна.
Напротив меня сидел полный, хорошо одетый мужчина и делал вид, что читает газету. Его спокойные карие глаза смотрели с добрым любопытством. Ему было уже немало лет.
— Уф… жарко, — произнес он, наверно, для того, чтобы рассеять тягостную тишину. Он посмотрел на паренька и его спутника, но они не обратили внимания на эти слова.
— Бай Станко, — обратился к пареньку мужчина с желтым чемоданом, — сядь-ка вот сюда, здесь попрохладнее.
Паренек улыбнулся. Только теперь я рассмотрел его лицо. Продолговатое, с тонким носом, оно имело цвет пепла. На потный лоб, сморщенный и широкий, спадала прядь волос. Умные живые глаза казались еще глубже из-за окружавших их теней. Пепельное лицо обрамляла редкая рыжеватая борода. На пареньке была совсем новая спецовка синего цвета, явно только что взятая со склада.
Паренек опустился на сиденье и вытянул ноги, обутые в красные полуботинки на белой резиновой подошве. Положил на колени длинные бледные руки с узкими кистями и обломанными ногтями. Если бы ладони и ногти не были бы так обезображены, эти руки выглядели бы нежными и ласковыми.
Мы с хорошо одетым мужчиной не отводили глаз от этих рук.
— Не смотрите на него так, — с досадой произнес небритый мужчина с желтым чемоданом. Его квадратное лицо налилось кровью. Он вынул бутылку, протянул ее мне и произнес неожиданно изменившимся, помягчевшим голосом:
— Выпей-ка, товарищ!
Я поднял бутылку и отпил немного прямо из горлышка. Потом то же самое сделал и полный мужчина.
— Дайте-ка мне, — с улыбкой сказал паренек.
— Тебе нельзя, бай Станко, — в голосе сопровождающего слышалась мольба.
— Ничего со мной не случится!
Паренек взял бутылку и начал пить, запрокинув голову. Его большое адамово яблоко отмеряло глотки. И только сейчас я понял, что он не так уж молод.
Теперь уже никто не смотрел на поле и голые выжженные холмы за окном. Поезд петлял, и солнце заливало то одну, то другую сторону купе.
— Если я не ошибаюсь, вы шахтеры? — поинтересовался полный мужчина и прокашлялся, словно собирался говорить долго.
В ответ шахтеры кивнули головами и закурили.
— Бай Станко, — обратился к пареньку небритый с тревогой, — не пей больше.
— Ничего со мной не случится. Давай выпьем за Гюльчан холм, Гриша!
— У меня гастрит, — сказал полный мужчина, виновато улыбнувшись, — мне больше нельзя сухого вина.
Он тихонько вышел в коридор.
За окнами мелькали кроны деревьев. Поле кончилось, холмы бежали вслед за поездом, колеса громыхали на стыках. Солнце заливало купе. Я смотрел на изъеденные вывернутые ногти паренька.
— Вибрационная болезнь, — объяснил паренек без тени грусти в голосе. — Это от отбойного молотка. В костях исчезает какое-то вещество, они ломаются и уже не отрастают. Вы уже обратили внимание на мои ногти.
При этих словах полный мужчина вошел в купе и деловито взял руку паренька:
— Давай-ка посмотрим.
Он поправил очки и привычным движением начал ощупывать ее. По его розовому лицу прошла тень:
— Запустил ты болезнь.
Полный мужчина окинул внимательным взглядом впалую грудь паренька, его опущенные плечи, прислушался к его дыханию:
— И силикоз тоже?
— Тоже, — с улыбкой согласился паренек.
— Какой степени?
— Гриша! — обратился паренек к своему спутнику. — Какой степени? Ты меня слышишь?
Небритый смотрел в окно и не отвечал.
— Вы врач? — спросил я.
— Да.
— Гриша, давай за доктора, за его здоровье!
— Глупость какая-то! — в сердцах воскликнул доктор. — Сколько тебе лет?
— Двадцать шесть!
— Абсолютная глупость, — повторил доктор, голос у него прерывался от негодования. — И все из-за проклятых денег! Зачем вам эти деньги?
Ответа не последовало. Поезд подходил к станции.
— Зачем вам эти проклятые деньги, если вы из-за них чуть ли не с младенческого возраста инвалидами становитесь? — В голосе доктора слышалось отчаяние.
— Не разбираетесь вы в таких делах, доктор, — спокойно откликнулся небритый.
— Я? Я не разбираюсь? Я двадцать пять лет лечу людей, через мои руки прошли тысячи больных…
— Не разбираетесь, — произнес паренек.
— Совсем не разбираетесь, — неожиданно для себя подтвердил и я.
Паренек раскашлялся, этот звук напоминал стук топора по доскам.
— Видимо, я и в самом деле чего-то не понимаю, — сокрушенно промолвил доктор. — И все же всему виной — проклятые деньги…
— Нет!
В этих словах мне почудился стон или лозунг. Они шли из самого сердца. Паренек немного успокоился, его глаза расширились и потемнели.
— Мы, доктор, работали не только ради денег, — тихо сказал он. — Правда, нам много платят, но дело не в деньгах.
— В чем же? — почти крикнул доктор и поднял руку с обручальным кольцом. Рука дрожала.
— Вам, доктор, этого не понять, — грустно произнес небритый. — Бай Станко собрал нас, организовал бригаду. — Сначала мы не верили ему, считали зеленым. Чтобы он командовал нами вместо Величко! Вы знаете, кто такой Величко?
Доктор пожал плечами.
— Не знаете. Величко был одержимым.
— Был одержимым, — повторил паренек.
— Никто не верил, — продолжал небритый, не отрывая глаз от доктора. — Никто не верил, что мы пробьем проклятую скалу… Девять бригад распались, никто не хотел работать там. Деньги! Да плевать я на них хотел! Когда мы пробивали туннель в этой скале, мы совсем мало зарабатывали. А работа была почти самоубийством. А когда у нас ничего не получилось со второй шахтой, пришлось все переделывать — с обратным наклоном… Помнишь, бай Станко?.. А денег у нас до этого было столько, что мы могли целый город купить!
Паренек ничего не сказал.
— Ему памятник надо поставить! — с фанатичной любовью, глядя на паренька, продолжал небритый. — Когда мы отравились газами, он один нас всех по очереди вынес! А наверху женщины с детьми такой рев учинили, что небо дрожало. И мы снова спустились в шахту, хотя умирать никому не хотелось…
Он помолчал, потом заговорил снова:
— Липова скала? Вы спрашиваете, доктор, какой степени? — У него вдруг осел голос. — Посмотрите на него, он и не любил еще, и детей у него нет, а уже тремя серьезными болезнями болен — силикозом, вибрационной и сердечной. У него больное сердце, доктор!
Доктора оглушило это сообщение. Я молчал, бессмысленным взглядом уставившись на ногти паренька.
— Его отправили на пенсию, — добавил небритый. — Теперь я везу его в Поповско, его родное село.
— Отвезешь, Гриша, и вернешься, — в голосе паренька скользнула тревога.
— Не вернусь, — буркнул небритый, глядя на пол. — Я тебя не оставлю.
— Тебе нужно вернуться, у тебя четверо детей. Кто их станет кормить?
— Я привезу их в твое село, бай Станко. Я крепкий, стану работать в земледельческом хозяйстве. Пчел с тобой заведем, попросим небольшой виноградник, у меня эти вещи получаются…
— Виноградник, а, Гриша? Ульи? — на лице паренька появилась улыбка.
Небритый выразительно посмотрел на нас с доктором. Мы вышли в коридор, встали у окна. Солнце словно обстреливало поезд лучами-стрелами. Из купе доносились возбужденные голоса. В соседнем купе строители из Трына играли в карты.
Доктор смотрел в окно. У меня пол уходил из-под ног.
— Ничего не понимаю, — сокрушенно произнес доктор.
Солнце теперь висело совсем низко над холмами.
Дончо Цончев
Звездная пыль
Было просто невозможно представить, что Илию Богданова могут не впустить в варьете. Он надел костюм, повязал галстук, тщательно стер влажной тряпкой известь с ботинок. В карманах у него лежало минимум в пять раз больше денег, чем в карманах толпившихся у входа пижонов. Но швейцар пренебрежительно отмахнулся от него — мол, иди, тебе здесь не место! — и захлопнул дверь в зал у него перед носом. Илия остался в фойе.
Но через минуту этот деловой человек во внушительной униформе с блестящими пуговицами и фуражке вдруг засуетился, чтобы впустить двух солидных мужчин. С ними вошли и две девушки, которым швейцар улыбнулся и кивнул. Илия Богданов хотел поинтересоваться, почему для одних мест нет, а для других они сразу находятся, но это сделал вместо него кто-то другой из толпившихся у входа в зал. Швейцар раздраженно и громко ответил, что только что вошедшие заказали столик заранее. Илия Богданов обернулся, чтобы удостовериться, что и Мария слышала это объяснение, которое делало нанесенное оскорбление не таким обидным. Но она стояла в глубине огромного фойе, возле гардероба, и, похоже, не интересовалась подробностями.
Она смотрела то на стены, то на потолок, но больше всего ее интересовала блестящая красивая мозаика у нее под ногами.
Эту мозаику делал Илия Богданов. И высокий цоколь здания, и колонны. Каждый кусочек мрамора прошел через его руки. Никто в целом свете, даже инвеститор, никогда не станет рассматривать эти облицовки так пристально, как он, Илия. То, что работа его станет приковывать взгляды, он отлично знал еще тогда, когда, насвистывая и сдвинув набекрень сделанную из газеты шапку, с удовольствием укладывал мозаику. Он представлял, как по этой мозаике, любуясь ею, пойдут гости из Канады, Голландии, с Чукотки. И восхищение унесут в свои далекие города и селения. Он ничего больше не хотел — только работать творчески. Он был счастлив.
И так приятно, что Мария сейчас рассматривает мраморную картину у себя под ногами. И как много увидела бы она внутри, в варьете, если бы не этот тупица в униформе. Что делать? Чтоб ему пусто было! Есть и другие заведения на побережье, которые работают допоздна. Есть такси. И деньги у Илии Богданова найдутся, когда нужно.
Он без слов сказал все это Марии, подошел к ней. Она все поняла, как обычно. Будь иначе, он не женился бы на ней так, сразу. Скольких девушек повидал он за время своей кочевой жизни строителя… Самых разных. Но он считал, что все они, вместе взятые, не стоили мизинца его Марии.
Такси нашлось сразу. Они сели, и Илия Богданов сказал:
— Ресторан «Кошары», пожалуйста.
Шофер повел машину, как на состязаниях. Мария спросила:
— Кажется, «Кошары» совсем недалеко от бараков, о которых ты мне когда-то писал?
— Правильно, — подтвердил Илия Богданов, — «Кошары» находятся в ста шагах от бараков.
— Хорошо, что мы будем так близко от них, — произнесла жена и облегченно вздохнула.
Вскоре они подъехали к ресторану, Илия расплатился с шофером, дав ему лишний лев, и они без труда нашли под деревьями свободный столик.
— И что мы так расстроились там? — произнесла Мария и улыбнулась. — Посмотри, как здесь хорошо.
— Хорошо, но мне хотелось показать тебе свою работу.
— Разве я не знаю, как ты работаешь? Ты украшал не только то варьете.
Они на славу поужинали.
Мария рассказала ему о его стариках, потом — о своих, несколько раз рассмеялась, как могла смеяться только она, сжала ему под столом руку. Все встало на свои места, и Илия Богданов опять почувствовал себя счастливым.
Сколько раз, живя в этих бараках, он думал о том, как расскажет Марии о своем исключительном открытии, как она обрадуется. И вот наконец они оказались в нескольких шагах от заветного места. И опять же благодаря ей, ее неожиданному приезду. Он сказал ей об этом, но она покачала головой:
— Если бы я не приехала в твой день рождения, это было бы неожиданностью, а так мой приезд вполне естественный.
Они пошли танцевать. Что из того, что они были уже не так молоды? Это было чудесно. Илия Богданов заплатил пять левов сверх суммы, указанной в счете, и они встали.
— Наверно, они вон там? — спросила Мария, когда они пошли через скупо освещенный лесок.
— Ты о чем?
— О бараках.
— Они дальше.
— Куда же мы тогда идем?
— Увидишь.
Гостиница выросла перед ними совсем неожиданно, как в сказке.
— И это ваша работа?
— А ты как думаешь?
— Внушительная.
— Ты внутри ее посмотри!
Через две минуты они были внутри. Мария сидела в фойе в глубоком кресле и рассматривала помещение, испытывая чувство гордости и за Илию, и немного за себя.
Илия учтиво поздоровался с девушкой-администратором и спросил, нет ли свободного номера.
— Свободных комнат нет, товарищ, — любезно ответила она.
Илия Богданов улыбнулся. Он отделывал эти комнаты, коридоры, фойе, залы. Знал здесь каждый уголок. Он только что не кричал от восторга, когда ему удалось сделать фееричную лестницу и веранды.
— Неужели ни одного свободного номера нет? Для меня и моей жены. Всего на одну ночь.
— Нет, — сказала девушка. — Наверно, вам нужно обратиться в квартирное бюро. Я могу и сама позвонить туда. Наверно, найдется комната.
Девушка попалась и в самом деле очень любезная. Она уже вертела диск телефона. Но Илия Богданов кивнул Марии, и она поднялась из глубокого роскошного кресла.
Они спустились по фееричной лестнице и снова вошли в скудно освещенный лесок. Слышался шум моря. Призрачный свет озарял все вокруг, словно на этот берег просыпалась звездная пыль.
Открытие Илии Богданова гласило: мы можем достать звезды с неба вот этими руками. И в этом счастье. Человек может всю жизнь прожить в одной комнате, спать всю жизнь на одной кровати. А может собственными руками сделать сотни таких комнат и сотни кроватей. И в этом счастье.
Илия Богданов ничего не сказал сейчас, только обнял Марию за плечи.
Так они дошли до бараков. Он попросил жену подождать, вошел в барак и тронул за плечо спящего Ивана. Тот сейчас же встал и спросил:
— Это ты, Илийка?
— Я.
— Сейчас! — Иван спрыгнул с кровати и начал быстро одеваться.
— Ты можешь…
— Глупости, — прервал его Иван, — располагайтесь, я найду, где переночевать.
Он вышел.
Илия Богданов вышел за ним следом и кивнул Марии. Она вошла вслед за мужем в барак и почувствовала запах извести, спокойный и чистый. Ощутила у себя на талии его большие сильные руки.
Закрывая дверь барака, она посмотрела на звездную пыль и одним движением смахнула ее…
Георги Мишев
Сопромат
— Выгленов едет! — провозгласил счетовод, глядя на шоссе. Из его окна открывался вид на фабричный двор и шоссе аж до железнодорожной линии, и он первым заметил появление машины.
— Меня нет! — Михаил вскочил. — Я в городе…
Другие рассмеялись, а он взял сигареты со своего письменного стола и вышел из отдела. Ему нужно было пройти всего шагов десять до угла здания, чтобы затеряться в фабричных лабиринтах, но он не выдержал и обернулся — синяя машина, скрипя рессорами, двигалась по неровной дороге.
«Хоть бы он меня не заметил, — подумал он. — И хоть бы в отделе не проговорились. Им все кажется смешным…»
Он прошел мимо сушильного помещения и двинулся между двумя рядами кирпичей, конец которых упирался в ограду. В узком проходе пахло сырой землей — кирпичи были только что сделаны и еще не прошли через печь. Кирпичи были сложены так, чтобы между ними попадал воздух для проветривания, но когда Михаил дошел до конца, то попал в тихое место с застоявшимся воздухом, прогретым солнцем. Позади осталась фабрика с высокой трубой, на которой еще темнела старая надпись «Будущность», низкие сушильни, пропитанные пылью, небольшая площадка, где останавливались грузовики и где сейчас, наверно, сверкает лаком тот автомобиль.
— Здесь он меня не найдет, — вслух подумал Михаил, закуривая. — Лишь бы не заметил, когда я уходил…
Возле ограды, на припеке, выросла густая ароматная трава, покрытая ранними красными цветами, привлекшими внимание возбужденных пчел. Они налетели на цветы. Михаил вспомнил, как в детстве, в конце марта они ходили на дорогу собирать эти рубиновые цветы вероники, пробившиеся сквозь камни дороги. Яркие капли цветов издали напоминали светлячков. Когда это было? Да и были ли в его жизни эти беззаботные дни?.. Он благодарил память, сохранившую название этого цветка.
— Я знал, что найду тебя!
Михаил обернулся и увидел перед собой плотную фигуру секретаря, его продолговатое лицо с черными глазами.
— Я хорошо знаю этот двор, — произнес секретарь. — Через него я уходил в горы, в леса. Тогда я работал на кирпичном заводе.
Он вынул сигарету, примял ее пальцами и наклонился, чтобы закурить. Поднося ему огонь, Михаил пытался справиться с волнением.
— Вам в отделе сказали, где я? — спросил он.
— В отделе сказали, что ты в городе, — Выгленов засмеялся. — Но мне показалось, что я найду тебя именно здесь. Потом заметил над кирпичами дым твоей сигареты.
— В отделе что угодно сказать могут, — произнес Михаил. — Вчера они подсмеивались над Якимовым, завтра поднимут на смех меня…
— Якимов не подходил для этой должности. Наша ошибка, что терпели его столько времени, он немало дров наломал.
— И я не буду лучше, — сказал Михаил. — В таких условиях нельзя хорошо работать.
— Но ты инженер, а не портной, как Якимов.
Инженер усмехнулся, наморщил лоб:
— Мы же материалисты, товарищ Выгленов! Личность не имеет значения!
— Любопытно…
— Если директором этой разномастной фабрики назначить председателя Болгарской академии наук, и он с работой не справится…
Папиросный дым поднимался с теплым воздухом вверх и таял у них над головами. Со стороны сушилен все еще доносился глухой стук…
— Послушай, мой мальчик… Не сердись, что я так тебя называю. У меня нет детей, я никогда не был женат… В свое время у меня была девушка, эта фабрика принадлежала ее отцу… Если бы я тогда женился, у меня мог бы сейчас быть сын твоих лет…
Голос секретаря звучал проникновенно, что-то новое было в его тоне.
— Я хочу, чтобы ты меня правильно понял, мой мальчик. Мы всегда можем найти директора. Но я ищу человека, который не согласится сразу же, не запрыгает от радости, что станет получать директорскую зарплату…
Выгленов смотрел на молодого человека и читал в его глазах легкое смятение.
— Я уважаю тех, кто умеет сопротивляться. И хотя ты мне по возрасту в сыновья годишься, я тебя уважаю.
— Я не сопротивляюсь. Просто вижу, что в таких условиях ничего нельзя изменить… Люди бегут, платят им мало, машин нет, печи старые, растрескавшиеся.
— Сопротивляйся. Мне надоели люди, которые со всем соглашаются… Сейчас твое время… И я был таким, как ты. Оставил завод и женщину, которая могла дать мне счастье, потому что не мог иначе…
— Вот и я не могу, — сказал Михаил.
Секретарь сел на траву, стряхнул пепел с сигареты, долго молчал.
Инженер смотрел на низкие холмы за оградой, заросшие акацией. Среди голых еще ветвей темнели птичьи гнезда. Эти гнезда птицы вили в самой гуще крон, старательно маскировали ветками и листьями, но как все в конце концов выходит на белый свет, так и они стали видны издали.
— Ты, наверно, изучал сопротивление металлов, — сказал секретарь, которому пришла в голову какая-то мысль.
— Сопромат! — воскликнул инженер. — Больше всего двоек ставят как раз по сопромату.
— Трудно пришлось?.. А насколько сложнее с другим сопротивлением — живого человека… Оно у нас в крови, и мы часто в нем мало что смыслим.
— Да, это так, — с улыбкой согласился Михаил. — Нужно беречь это зернышко в душе, потому что без него мы мало стоим…
Они долго еще сидели на траве вдвоем, солнце согревало им спины, а вокруг искрились красные капли вероники, прогретый весенний воздух был пропитан запахом необожженного кирпича.
Евген Гуцало
У маяка
1
Когда спускались сумерки, Гаврило зажигал прибрежный маяк. Очищал ножом фитиль от копоти, выпрямлял его, после чего его огрубевшие пальцы еще долго пахли керосином, выдувал из отверстия всякую труху и чиркал спичкой. Танцующий огонек отражался в глазах старика с нависшими бровями и покачивался крохотной точкой, то бледно-золотистой, то багряной. Когда дед прищуривался, огонек в глазах пропадал, продолжал гореть на конце спички, а потом перескакивал на влажную полоску фитиля. Сразу же начинало противно пахнуть горелым, Гаврило прикрывал застекленные дверцы и по скрипучей лестнице, каждая перекладинка которой имела, казалось, свой голос, спускался вниз.
Маяк стоял на откосе, круто ниспадавшем к Десне. Вечером он светился нежным, не очень ясным огнем, отличаясь от звездочки лишь величиной. Ночью его свет как бы твердел. Одинокий, красный, он выделялся среди побледневших звезд, далеких и безразличных. Когда шел дождь, капли его разбивались о маяк, и вокруг шевелилась морось, в которой свет преломлялся, образуя клубок, несущий в себе тихое пламя. В тумане огонь болезненно тлел, язычок едва теплился, и от Лысой горы его едва можно было приметить. И в дождь, и в туман, лежа в деревянной сторожке на скрипучем топчане, дед чутко прислушивался к звукам, рождаемым ночью, и то и дело выбирался во двор проверить, не потух ли маяк. Этого почти никогда не случалось. Гаврило знал, что гаснет он редко, но все равно не спал — такая уж это была служба, к которой он был приставлен и которой кормился.
Где бы Гаврило ни был, он помнил о своем маяке. Шел в село домой обедать, и вдруг ему виделся на лугу или на пригорке маяк на высоком столбе. Окучивал картошку, неловко ковыляя с сапкой среди кустов, и неожиданно вспоминал о маяке. Его неотвратимо тянуло к реке, к маяку, к сырому речному ветру.
Иногда дед гостил у дочери, пел в компании родных старые, тягучие, голосистые песни и вдруг умолкал, поднимался из-за стола, говоря, что ему пора на службу. Его удерживали — до вечера еще далеко, а дед волновался, вдруг в его отсутствие с маяком что-нибудь случится, тогда вся вина на нем. Все смеялись, уверяли, что маяк как стоял, так и будет стоять, ничего с ним, мол, не случится. Дед, хоть и оставался среди гостей, мысли его были уже на высоком откосе. Он маялся, потом потихоньку выбирался из-за стола, за хатой пригибался у плетня и так, пригнувшись, бежал, пугливо озираясь, в надежде, что его уход останется незамеченным. Чуть не бегом пересекал луг и тут, чувствуя себя уже в безопасности, замедлял шаг и шел не торопясь, уверенной, ровной походкой.
И когда к вечеру Гаврило возвращался из села, всякий раз маяк казался ему немного не таким, каким он его оставил. Нет-нет, это был все тот же крепко вкопанный в землю столб с приставленной к нему лестницей, а над головой тускло светились стеклянные оконца; но к тому, как он вырисовывался на фоне неба, как вписывался в пейзаж, какой оттенок принимал при меняющемся освещении, прибавлялось нечто такое, что обновляло маяк, и от него исходило что-то неуловимо новое. Когда же у деда болела грудь, ломило в суставах, от непогоды ныли кости или он был просто чем-то утомлен, то ничего интересного в маяке не замечал. Стоял маяк таким, каким Гаврило привык наблюдать его много лет. Дед лениво зажигал фитиль, поворачивался и спускался вниз. Усаживался на откосе в том месте, где он плавно спускался к реке, и подолгу глядел на воду.
Издали она казалась очень темной, почти смоляной, и даже гребни легких речных волн не были прозрачными; у берега вода была намного светлее, даже можно было на дне увидеть песок, который постепенно уносило течением. Глаза деда долго и неотрывно следили за водой, за ее течением, наконец он встряхивал головой, как бы желая очнуться, и возвращался в свою сторожку.
Глядел на маяк, прорезающий сумерки мигающими лучиками, и успокаивался, и снова ощущал, к какой важной службе приставлен. Приходила ночь, и он никак не мог заснуть на своем топчане, ворочался с боку на бок, вздыхал и все порывался за дверь, хотя за единственным подслеповатым оконцем сторожки, уставившимся на Десну, уже давно было темным-темно.
2
Никифор Бычок был приставлен к перевозу. На лодке переправлял людей с одного берега на другой. Приземистый, коротконогий, с большими оттопыренными ушами, он греб, тяжело дыша, стараясь выгрести так, чтобы течение не очень сносило. Когда поджидал пассажиров на левом берегу, а звали с правого, он принимался негромко ругаться. На середине бранился уже в полный голос, и только приставши к берегу, умолкал, но в глазах его горели недобрые огоньки. Никифор любил рассказывать о своей жизни. После приезда сына с невесткой он целый месяц угощал пассажиров рассказом о том, как сын, несколько лет назад оставив отцовскую хату, долго не подавал о себе вестей, а теперь вот приехал, привез гостинцев — отцу резиновые сапоги и отрез на костюм, а матери кофту, и юбку, и платок… Никифорова корова сломала рог, подравшись в стаде, и опять-таки скоро об этой истории знали жители ближних придеснянских сел. Уже в который раз Никифор пересказывал мужикам и бабам, как в сумерки корова приплелась домой без рога и как переживала жена — вдруг от этого пропадет молоко — и советовала ему, Никифору, пойти жаловаться в сельсовет. Но он, Никифор, не послушался, у него своя голова на плечах, и он знает, как над ним посмеялись бы. Рассказывая, Никифор иногда запинался, и тут слушатели приходили ему на помощь, а перевозчик удивленно таращил глаза, но все-таки доводил рассказ до конца — с новыми подробностями, которых не было в предыдущем рассказе…
Последнее время он рассказывал о том, как чуть было не купил у заезжих шоферов три кубометра дров. Хорошие дрова — граб и береза, и Никифор собирался было ударить по рукам, да вовремя спохватился: что-то уж больно дешево, а ну как дрова краденые, отвечать придется. Жалея в душе, что такие дрова ускользают из рук, Никифор отказался от покупки…
К ночи он причаливал к берегу, крепко привязывал натрудившуюся за день лодку и некоторое время стоял без движения, прислушиваясь, как волны трутся о просмоленные борта, а потом широко расправлял плечи, так что даже кости трещали, и неторопливо направлялся к Лысой косе, где приветливо мигал огонь маяка. Гаврило сидел в кустах ольшаника, или на теплой еще траве, либо на скрипучем своем топчане. Встречал он Бычка молча; разговорчивый перевозчик тоже умолкал, закуривал ядовитую махру и долго чадил. Намолчавшись, Бычок заводил разговор:
— Сегодня из Чернигова какие-то приезжали, рыбу за косой ловили. Целый день просидели и что, думаете, наловили? Полторбы лещей… Не умеют… Да и мест не знают, а найти — не тот глаз, и нюх не тот.
— Сказали бы, чтобы они шли к откосу…
— И там никакая рыба не ловилась бы… Разве не видать рыбака?.. Рыбака сразу узнаешь, а с них не рыбаки, а черт-те что.
— У откоса дети чуть не руками ловят…
— Детишки… Наши небось сельские, не откуда-нибудь. Они тебе самого черта поймают, только разреши…
— А за шлюзом лов хороший…
— За шлюзом!.. Да разве они разбирают, где водится рыба, а где нет?.. Пока не наловишь да в город на базар не привезешь, то и не будет у них рыбы.
— Да сказал бы, где водится, — уже сердито проговорил Гаврило.
Перевозчик покуривал свой табак. Когда он затягивался, вспыхивал огонек и освещал круглое лицо с окаменевшими чертами.
— Им эта рыба, вроде как мне те дрова, — немного погодя откликнулся он. — И видишь и пощупать можешь, а в руки не дается!.. Вы с бабой еще торфу не копали?
— После жатвы попробуем…
— И я… Придется зимой торфом топить. Соломы в колхозе выпишут… А вот как хлеб печь… От березового полена один вкус у хлеба, торфом истопить совсем не то, что бы ни говорили, не то… И хлеб, как хлеб, и не сырой, а запах не тот… Как думаете, злодеи то были или честные люди?..
— Кто?
— Да те двое, что дрова мне продавали?
— Может, честные, но срочно наличные потребовались, вот они дешево отдавали… Всяко бывает…
— Вот-вот… жаль, по усам текло, а в рот не попало. В другой раз умнее буду… Наверное, продали все-таки они эти три куба, не может быть, чтоб не продали. — И Бычок принимался завидовать тому незнакомому «ловкачу», который оказался поумнее и порешительнее, чем он, Бычок. От злости даже плюнул…
А у Гаврилы были свои заботы. Ревматизм мучил его ноги, и дед болезненно прислушивался к ноющей боли, к внезапным уколам, то остро, то тупо впивавшимся в его тело.
— Случись в другой раз такая оказия, будьте уверены, своего не упущу, — пообещал Бычок. И умолк, решив на этот раз не прозевать, если ему вдруг подвернется подходящее дельце. Голова его кружилась от сладких мечтаний, от усталости и от выкуренного табака.
Пожелав деду спокойной ночи, Бычок возвращался в село. Вокруг на лугах приглушенно звенели комары, верещали сверчки, сытый дух земли забивал ноздри. А Бычок обдумывал тот случай с дровами и все больше убеждался, что шоферы были честные, просто им нужны были деньги на какую-то покупку, а он своим недоверием и подозрением только повредил себе… На околице села он оглядывался — из-за лугов, из ночной тьмы маяк посылал ему короткие несильные лучи.
3
Жена приносила Гавриле в узелке обед. Иногда кулеш, в другой раз борщ или уху, да еще краюху хлеба и молодого луку. Дед любил лук. Посыпал его зернистой солью и хрустел. Выступали слезы, но он не утирал их, а сидел так, почти ничего не видя. За жизнь жена много обедов ему сносила. И в поле, и в сад, и на баштан. Горшочек ставила в корзинку, а иногда в кошелку, а чаще обматывала платком. Была она невысокая, но крепкая. Родила десятерых, первые двое умерли еще маленькими, а остальные выросли и вышли в люди. Почти каждую неделю наведывались внуки, и она всегда берегла для них гостинцы. А если ничего не было, то или рубашонку заштопает, заплату поставит, а то просто малышу нос утрет и доброе слово шепнет. Трудно сказать, сколько этой невидной бабке лет. Частенько ей самой казалось, будто всегда она была такой старой.
Вместе с другими косцами дед докосил свой гон, потом взял пучок сухой травы, вытер лезвие косы и сел в тень под вербой. В горшке был борщ с грибами, а в макитре — вареники с вишнями, посыпанные сахаром. Дед почистил луковицу, макнул в соль и принялся жевать ее с хлебом. Он молчал, молчала и она. Так они долго сидели без слов. Солнце обжигало их лица, руки и легло на них густым загаром, солнце охапками сыпало лучи в их души, точно желая осветить изнутри, а они сидели, углубившись в тишину, которая настаивалась в них годами… Поев, дед сказал:
— Никифор на сенокос прибегал…
— Перевоз бросил?..
— Может, людей не было… Просил, чтобы с завтрашнего дня я его на лодке подменил.
— А за маяком кто смотреть будет?
— Маяк — ночью, а это днем.
— Сил твоих не хватит, что ты? За косьбу нам колхоз сена выделит, а с перевоза сена не получишь, чем корову зимой кормить станем?
— Свою усадьбу выкосим, вот и будет что на зуб положить.
— И надолго Бычок собрался?..
— Недели на две… Сын с невесткой в Донбасс позвали.
— То-то свет увидит!
— Конечно…
Бабка сложила посуду, взяла узелок и пошла в село. Косцы принялись за следующий гон. По густой и высокой траве коса шипела и энергично вздыхала. Зеленоватая кровь блестела на ней, и дед вытирал косу пучком травы перед тем, как править бруском. Солнце шевелилось на синеватом задымленном лезвии легкими живчиками. Дед размахивался шире, и трава бесшумно падала к его ногам. Стоял зной, воздух мерцал над землей. Вытянувшись журавлиным клином, косцы уходили все дальше, дальше.
Ночью, когда дед уже засветил свой маяк и сидел на пороге своей хатенки, вглядываясь в темноту, опять явился Никифор. Он был немного навеселе, размахивал руками и говорил так громко, что в сенях гудело.
— Думаю я, дед, что ехать стоит, — усаживаясь на перевернутое прогнутое ведро, начал он. — Если сын с невесткой приглашают, отказываться не годится.
— Вот и поезжай, — ответил дед.
— Вот вы говорите — поезжай. И я так говорю. Потому что как там дальше дело обернется, никто не знает, а у человека одна только жизнь, а? Село — оно село и есть. И речка… Ну, что мне в этом перевозе? Туда-сюда, туда-сюда. Прямо как петух: пригнешь его к земле, проведешь мелом линию, а он сидит и думает, что его привязали. Что же я, по-вашему, петух? Меня никто не привязывал… Сын пишет: у нас скоро коммунизм будет. Коммунизм!.. Да разве можно не поехать да не посмотреть, какой они там коммунизм наработали?
— Вот и поезжай, — снова тихо посоветовал дед.
— И молодицу свою захватил бы, да разве ее с места сдвинешь? Ладно… Я там разгляжу и принюхаюсь, если что — переберусь, и точка! Так или нет?
— Так, — проговорил дед.
— Э-эх! — сипло выкрикнул Никифор. — Э-эх!..
Он не мог высказать все, что бушевало в нем, только беспорядочно размахивал руками и с хрипом втягивал воздух. Пора было идти домой, но и с дедом поговорить хотелось. Перевозчик ерзал на ведре, которое под его весом еще больше оседало. Никифору рисовалась новая, не похожая на сегодняшнюю жизнь, и он радовался ей, точно не придумал ее себе, а вправду прожил.
— Э-эх! — бил он себя кулаком по коленям. — Не вернусь, и все тут! Был в селе Никифор Бычок — и не стало Никифора Бычка… Может, кто вспомнит… А не вспомнит — что мне?.. Э-эх! Правда, дед иль нет?
— Правда.
Никифор заторопился. Вскоре шаги его удалились. Но тут же опять приблизились — перевозчик возвращался. Нагнулся над дедом и проговорил:
— Присматривайте за лодкой-то. Хоть колхоз у меня ее купил, но она все равно что моя… На ту сторону десять копеек с человека и на эту десять. А билетов никаких нет, контроля тоже нет, вот вам кое-что и перепадет…
По Десне шла баржа — на носу и на корме светились огоньки. Коротко ухнул буксир, и далеко вокруг разлетелось эхо… «Наверное, уголь в Чернигов». Дед ощутил в груди давящее беспокойство. Зашел в сторожку, устроился поудобнее на топчане в надежде, что полегчает. Задремал было, но скоро проснулся: за дощатыми стенами слышался ровный шум дождя, и по кровле шелестели беззаботные струйки. Накинув плащ, он выбрался наружу. Маяк горел на краю откоса, укутавшись в капли и разбрызгивая в этих каплях искры света…
4
Теперь дед не возвращался ранним утром в село, а шел к переправе, усаживался в лодку и до первых пассажиров дремал. Туман понемногу рассеивался, и над рекой вставало крутобокое солнце, несильные еще лучи его нежно покусывали щеки старика; чуть слышно, цепляясь за корчаги и камни, журчала река; снизу, от воды и песка, тянуло свежестью, а над головой проносились перистые облака… Невдалеке послышался шорох — человек шел, цепляясь ногами за кусты и громко стуча подошвами по камням. Шаги приблизились, рядом с лодкой легла тень, и дед выпрямился.
— Доброе утро, — поздоровалась с ним дородная тетка, поставила в лодку корзинку, прикрытую рушником, и села сама. Лодка качнулась, и тетка покрепче вцепилась в борта.
— Качается, проклятущая, еще не дай бог в воду свалишься.
Дед не торопился отчаливать, ждал, не придет ли еще кто-нибудь, но тетка принялась упрашивать:
— Поедем, дед, поедем, спешу я очень. На толоку, к свекру своему. Гости небось давно собрались, а я все никак не доберусь…
А на том берегу уже стоял человек и, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, жестами подзывал перевозчика. Дед оттолкнулся и начал грести против течения. Тетка испуганно хваталась то за корзинку, то за борт, а когда пристали к берегу, она вынула из корзинки пару вареных яичек и протянула старику.
— Возьмите, возьмите, — упрашивала она.
— Да баба принесет мне завтрак.
Тетка вынула из-за пазухи узелок, развязала и долго, пришептывая, считала медяки. Вздохнула, отдала деду. Вид у нее был обиженный и злой.
…За день переправлялась тьма народу. Один торопился к новорожденному, а другому нужно было на похороны, тот переправлялся, чтобы купить у знакомого бондаря бочку — огурцы-то уже поспели, пора и солить, а этот просто хотел проведать свекра, потому что свекор на прошлой неделе заколол кабана и теперь у него есть свежатина; а тот хотел одолжить у тракториста из Колодницы старый велосипед, потому что тракторист купил себе новый и старый ему ни к чему; двое детей добирались в гости к бабушке, и оба боялись дороги, и старого перевозчика, и маяка на круче, и широких лугов, разостлавшихся, словно ровная скатерть, и на скатерти этой желтели копны сена, а за ними хаты, похожие на эти копны, только что в садах.
Вода булькала как-то утомленно, а течение становилось будто сильнее и сильнее, и лодка шла все медленнее и медленнее, пока наконец дед не причалил и не привязал ее на ночь. Он зажег свой маяк и пошел в сторожку.
Спал Гаврило чутко и часто просыпался. Выйдя во двор, долго прислушивался, не зовут ли с того берега. Но слышалось только кваканье жаб на болоте да стрекотание кузнечиков на лугу. А ночь повисла над ним темным решетом, сплошь продырявленным звездами… По реке шел пассажирский пароход на Киев; два освещенных квадратика быстро продвигались вдоль берега и исчезли за Лысой косой. И неожиданно сердце старика замерло от чего-то невыразимо дорогого, он в испуге приложил ладонь к сердцу. Яркие квадратики уже скрылись, а беспокойство не пропадало. И дед вспомнил про Бычка, который только что уехал.
5
С утра зарядил мелкий дождь, и работы на переправе было немного. Перевез молодку, державшую под мышкой петуха. На середине реки лодка качнулась, и она выпустила красноголового. Тот забил крыльями по дну и перемахнул через борт. Молодка испуганно вскрикнула. Дед выловил петуха, она прижала его к животу и, согнувшись, сидела, как окаменевшая. На другом берегу перевозчика ждал паренек с ружьем. Он держался независимо, внимательно все разглядывал и, видно, почему-то волновался — губы его вздрагивали.
— Не тонет корыто? — небрежно спросил он о лодке.
— Не тонет, — успокоил его дед.
— А зря! — брякнул парень.
Сойдя на берег, он не перебросил ружье через плечо, а нес под рукой, всем своим видом показывая, как он гордится этим ружьем, из которого можно стрелять. Правда, отец не дал патронов, просто поручил отвезти дробовик брату, а то бы мальчишка и в ворону выстрелил, и в пенек вербовый, и в небо.
Дед спрятался от непогоды в курень. Долго сидел он или нет, не помнит, вдруг совсем близко позвали:
— Э-ге-гей! Хозяин!
И другие, охрипшие от табака и натуги мужские голоса, принялись весело кричать:
— Э-ге-ге-гей!..
Когда дед на корточках выполз из куреня, то увидел перед собой пятерых высоких мужчин в зеленых плащах с капюшонами. Они хотели сесть в лодку все вместе, но дед сказал, что так можно перевернуться и утонуть. Сперва он перевезет двоих, а потом остальных.
Они опять рассмеялись и спросили:
— А почему сперва двоих, а не троих?
— Волна на реке. Если с тремя перевернусь, то двух не переправлю. А так хоть двоих попробую.
— Ну чем не Ной, — опять пошутил веснушчатый и носатый задира.
В лодке дед не то сказал, не то спросил:
— Вы, наверное, приезжие…
— Мы, дед, нефть ищем, — проговорил рябой. — Знаете, что такое нефть? Без нее ни трактор не пойдет, ни самолет не полетит.
— У нас ищете? — сперва не поверил дед и посмотрел на них повнимательнее. Ребята были молодые, крепкие, и лодка здорово осела. Поглядывали они на перевозчика с улыбкой, с едва уловимой дружелюбной иронией. Чувствовалось, что они всюду ведут себя одинаково по-хозяйски и в новую местность приходят, как в давно обжитую хату. Деду стало немного не по себе, это была его река, на которой он вырос и на которой трудился.
— У вас, — добродушно ответил носатый.
— Ну как, нашли что-нибудь? — поинтересовался дед на всякий случай.
— Нашли, — непонятно отчего рассмеялся рябой. — Когда товарищ Сапронов берется, значит будет дело.
Очевидно, товарищем Сапроновым был он сам, потому что его друг сказал:
— А ты не очень-то хвастай.
— В моем роде брехунов не водилось.
— Наверное, большой у вас род, — качнул головою Дед.
Друг Сапронова улыбнулся:
— Род-то большой, да последний в нем брехун.
— У меня уже сын есть, — весело защищался Сапронов.
— Где же вы нефть нащупали? — осторожно поинтересовался старик.
— За Колодицей. Уже готова одна буровая. — И спрыгивая на землю, сказал: — И для тракторов хватит, и для вашего мотоцикла, если имеете, и на многое другое… Скоро тут мост построят и обойдутся без вашей лодки.
Дед хотел было объяснить, что лодка не его, а Бычка, но вовремя удержался. А вдруг начнут расспрашивать, кто такой Бычок да куда он подался. Поэтому он сказал только:
— Нет, я служу на маяке.
Но они, видно, не услышали, потому что отошли в сторонку и стали под вербой.
Трое на берегу согнулись, прикуривая от зажигалки. Они хотели переправиться все вместе, но последнего из них дед остановил.
— Сперва этих двух, а потом уже вас… Волна высокая.
Когда перевозил и того, последнего, сказал:
— Так надежнее… Лодка-то старенькая…
— А что, переворачивается?
— Переворачивается не переворачивается, а так надежнее.
— Не бойтесь, выплыву…
— Так-то оно так, а все ж таки.
Следил, как они удаляются, как исчезают в дожде их фигуры. Сперва один пропал, а за ним другой… И будто не было их… В старике шевельнулось удивление, он даже привстал, чтобы убедиться, что они существуют реально… Но все пятеро уже исчезли в балке…
В тот день дед рассказал о новых пассажирах двум дояркам, направлявшимся в Вовчки на совещание передового опыта. Младшая прислушивалась преувеличенно внимательно, а старшая даже испугалась:
— Как бы молока не убавилось. Нефть же…
В сумерках Гаврило привязал лодку, вычерпал воду черпаком. Затем, как всегда, пошел к маяку.
Подчистил ножиком фитиль, и пальцы почернели от копоти. Огонек дрожал меж задубевших ладоней тихо и доверчиво, потом перебросился на фитиль и разлился по его ровной полоске. Дед прикрыл дверцы и спустился по лестнице.
Он чувствовал себя так, будто пережил сегодня большую радость. Лежа на топчане старался понять: что это с ним произошло? И не мог ответить себе. Непонятная веселая легкость наполняла его. Переворачивался с боку на бок, прислушивался к ветру, к каплям дождя, бьющим по стеклу хлестко, точно птицы клювом, и потом как-то сразу подумал о тех людях, что ищут нефть… Он вспомнил, как они один за другим исчезли в приречной балке, и поднялся. Радовался, что переправил их. Хорошо, что брал по два человека.
В груди потеплело…
На откосе горит ровный огонь маяка. Вблизи огонь кажется белым, а снизу, от Лысой косы, он кажется красным, уютным. Вокруг маяка заломилась маленькая ночная радуга.
Перевод с украинского Е. Факторовича
Димитр Коруджиев
Наверху, среди белых ламп
Андрей проснулся, не ощущая привычной бодрости.
Он долго и шумно умывался. Его жена ушла на работу совсем рано, когда еще не рассвело. Его всегда мучала мысль о том, что жена встает рано, едет на работу в первых молчаливых автобусах вместе с невыспавшимися усталыми людьми. Его жена любила свою работу, наверно, по-своему любила и эти утренние часы и иначе смотрела на ехавших вместе с ней людей. У Андрея была мечта, которой он ни с кем не делился — о доме с огромной, невиданно огромной голой террасой, на которую его жена выходит по утрам из застекленных дверей и по которой идет долго-долго, пока не дойдет да ее конца. Что она должна увидеть дальше, он представлял себе не совсем ясно, выдумка всегда казалась ему бледной и недостаточно красивой. Но все же он знал, что это будет небо без солнца, утомленное роскошное небо, излучающее сумрачный свет; он представлял себе огромную площадь под этим небом — когда он смотрел на горизонт, он казался ему слишком близким. Ему хотелось, чтобы горизонт был раза в два дальше, чтобы он находился не за лесом, не за полем, а неким странным образом окружал бы деревья, разбросанные среди трав и цветов причудливыми ломаными линиями. Ему хотелось, чтобы земля излучала прохладу.
В этой мечте он никогда не ставил себя рядом с женой, не задумывался над тем, где будет находиться сам в это время. Он думал о террасе и тогда, когда видел жену утомленной, с покрасневшими от стирки ладонями или с нервными беспокойными глазами после того, как она заставляла их капризную дочь повторять уроки.
Сейчас девочка еще спала, шум воды в ванной не беспокоил ее. У нее был крепкий здоровый сон, несмотря на упорный и своенравный характер. Она кончала третий класс, и Андрей нередко по ночам вполголоса говорил жене, что через несколько лет характер их дочери должен выровняться. Он не раз говорил на эту тему с научным работником, философом, который регулярно читал лекции на их заводе. Философ утверждал, что обычно такой нрав — признак твердого характера, что такие дети приносят немало хлопот своим родителям, но зато из них вырастают настоящие люди. Он не допускал, что ребенок может быть просто избалованным. Глядя на суровые мужественные лица мужчин в пропитанных маслом спецовках, он не верил, что эти рабочие люди могут баловать своих детей.
Андрей собрал свою брезентовую одежду, положил ее в сумку, проверил карманы — на месте ли автобусные билеты и талоны в столовую, прочел бумагу с длинными наставлениями, которую жена оставила для дочери, позавтракал на скорую руку и вышел.
Ожидая автобус, он несколько повеселел, но чувство, что ему предстоит утрясать какой-то неприятный вопрос, осталось. Может, его растревожила вчерашняя лекция? Философ говорил им о смысле жизни и всяких сложных вещах… Видимо, забыл, что перед ним рабочие. Он даже сказал: «Нужно жить так, чтобы, умирая, тебе казалось, что мир без тебя будет одинок!» Эта мысль смутила Андрея. Не то, чтобы она показалась ему слишком сложной, скорее, он не мог почувствовать справедливость этого утверждения. Он привык считать, что оценивать твои поступки должны другие, человек должен быть скромным. Но его в этом утверждении привлекала сила — вот каким может быть человек! Широта этой мысли была так огромна, что порождала напряжение. Наверно, нечто подобное он испытывал бы возле бесконечно высокого здания, пытаясь увидеть его крышу — шея бы, наверно, не выдержала, как бы он ее ни вытягивал, а крыши все равно не увидать. Философия! Наверно, ученые пытаются все время думать по-новому, давать новые объяснения. Сейчас ему было тяжело, а он не знал отчего.
Он оказался на заводе, проделав серию автоматических действий. Две ступеньки автобуса, толкучка, опять две ступеньки автобуса, проходная, когда ноги сами собой начинают идти бодро, двадцать ступеней до второго этажа, узкая кабина для переодевания (безошибочное узнавание своей, четырнадцатой слева, среди тридцати кабин-близнецов). Сняв одежду и надев свои синие доспехи, он оказался в широком пространстве перед цехом, среди которого люди казались маленькими. Последние минуты перед началом рабочего дня, когда утренний ветер вливает в тела бодрость, минуты между домом и рабочим местом.
Андрею были необходимы эти минуты. Он в это время словно отделял тревоги от паники, радости от довольства собой, давал оценку событиям, он как бы приводил в порядок самого себя.
— Каждому человеку необходимо время для созерцания, — говорил философ. — Он должен вглядываться и в себя, и в окружающих. Если этого не делать, то какой бы обычной ни казалась его жизнь, тысячи мелочей обступят его. Он не уловит момента, когда необходимы решительные действия. Течением его жизни будут руководить чужие толчки, а не его собственные устремления. Желание размышлять должно стоять перед нами, как таблички на вокзалах. «Осмотрись, прислушайся и перейди». Нужно спокойно осмотреться, а не слепо бросаться вперед, не зная, что тебя ждет — грохот, тишина или удар.
Андрея не покидало чувство тревоги, когда он слушал по утрам в автобусе оживленные разговоры о футболе или компаниях. Он мечтал ездить в автобусах, где царило бы мудрое и глубокое молчание. Скромность не позволяла ему считать, что он достиг того внутреннего настроя, о котором рассуждал философ. К тому же он считал, что ему не нужно делать решительных шагов, что его волнения обыденные, житейские. Наверно, философ имел в виду все же каких-то иных людей, не таких обыкновенных, как он. Андрей проработал пятнадцать лет на одном и том же месте, любил только одну женщину, не ездил за границу… О каких решительных шагах или действиях может идти речь? То, что несколько лет назад его сделали бригадиром, что он получает награды — не шаг, а скорее тот толчок извне, о котором говорил лектор. Пришло его время. И другие становились бригадирами, и другие получали награды. Андрей знал, что всегда будет работать хорошо и вряд ли у него возникнут неприятности с руководством. Что особого может случится в его жизни?
Солнце начало пригревать, но казалось, что этот свет и тепло несет заводу не солнце, а гул человеческих голосов. Андрей давно заметил связь между оживлением и светом. Доковая камера наполнилась за ночь водой, и большой некрашеный корабль из ржаво-красной стали, находившийся на ее дне, сейчас поднялся высоко над головами людей. Вода в камере, неподвижная и покорная, приобрела цвет корабля. Андрею захотелось показать дочери эту красную воду.
Ему всегда хотелось показать дочери все то, что ему самому казалось необычным. Считая себя самым обыкновенным, ничем не примечательным человеком, он боялся, что такой может стать и его дочь, что окружающие не будут замечать ее. Ему хотелось, чтобы она выросла умной, уверенной в себе, совершала смелые поступки, говорила умные вещи, вызывая всеобщее восхищение. Будь у его дочери такой отец, как лектор-философ, она такой и стала бы. Эта мысль порождала в голове Андрея чувство вины, он напряженно всматривался в людей, в предметы и неожиданно для себя научился открывать то, чего другие не замечали: смену настроения на лицах людей, особые интонации голоса, оттенки чувств. Он не рассказывал дочери об этом особом мире, но старался направить ее внимание так, чтобы она сама открыла его.
Его мысли прервал Стоян из их бригады — у него были близнецы, хотя он сам еще даже в армии не служил. Стоян обнял его за плечи и увел от красной воды.
— Пошли, шеф, — сказал он. — Пошли, ты можешь опоздать и подать нам плохой пример.
Андрей засмеялся и пошел с ним, чувствуя, что его утреннее тревожное настроение окончательно испарилось, как тяжелое, но необоснованное предчувствие. Трудно было оставаться в плохом настроении при виде дверей цеха и сложенных в углу стальных листов — этот угол Стоян отвоевал для их бригады. То, что Андрей говорил дочери, он никогда не говорил членам своей бригады. Да и как он мог поведать им о своих молчаливых разговорах с лектором или о любви к жене? Его считали очень добрым, но лишенным воображения человеком. Никто не догадывался, что для истинной доброты тоже нужно воображение, потому что она любит мир в увиденных и созданных ею красках, звуках и тонах. Впрочем, и сам Андрей разделял мнение других о себе. Он восхищался Стояном, который всегда находил меткое слово, не боялся показывать свои чувства, но выражал их таким способом, что никто не обвинил бы его в сентиментальности. Стоян говорил вслух, что очень любит свою жену, и когда холостяки, которые встречались порой с несколькими девушками сразу, посмеивались над ним, отвечал:
— Тебе этого не понять. Она просто параллельна моей душе.
На такое утверждение никто не находил достойного ответа.
Андрей склонился над одним из красных стальных листов. Он лежал перед ним безликий и пустой. Андрей раскрыл тетрадь, в которой вычислял размер деталей, положил ее перед собой, взял линейку и острым куском железа стал наносить на лист контуры судовых деталей, обводя их затем белой краской. Он расчерчивал лист за листом, а другие брали листы и вырезали детали.
Андрей расчерчивал листы сложными движениями, начинал чертить то с одного, то с другого конца. Казалось, в его работе нет системы. Но через некоторое время становилось видно, что пространства, обведенные белой краской, плотно прилегают друг к другу, различные по форме детали расположены на листе в стройной системе. Только крохотные уголки оставались кое-где незаполненными.
Как это у него получается, Андрей и сам не смог бы объяснить. «Отличный мастер, но не умеет делиться своим опытом», — говорили о нем инженеры. Он расчерчивал листы с наслаждением, самозабвенно, идя от края к центру и испытывая удовлетворение от того, что детали ложатся на лист плотно друг к другу. Когда он был молодым, у него на листах оставалось много неиспользованного места. Шло время, и он открывал для себя все новые и новые интересные стороны своей работы. Работая над листом, он не думал о собраниях, на которых директор и инженеры призывали к экономии металла, он не мог постичь языка цифр в докладах. Но неиспользованный металл нарушал в нем чувство гармонии и стройности, он изобретал все новые и новые комбинации, которые неведомым способом приносили успех… Порой его самого пугали испытываемые им радость и волнение. Все говорили о том, что работа — самое главное. А он шел в цех с чувством, что ему предстоит сложная и приятная игра. Наверно, если бы можно было точно объяснить суть работы, ее никто не боялся бы. Ему хотелось поговорить об этом с лектором, но каждый раз его охватывали сомнения, и теперь он думал, что вряд ли когда-нибудь заговорит с ним на эту тему. Ему казалось, что он не сумеет выразить точно свои мысли, и лектор не поймет его.
Его опять отвлек от мыслей голос Стояна:
— Перекур, шеф!
Андрей посмотрел на работу своих ребят. Неплохо, но никто из них не достиг его точности.
Все вышли во двор. Солнце давно светило вовсю. И только сейчас Андрей почувствовал тяжесть в пояснице — пятнадцать лет он работает, согнувшись.
— Пообедаем вместе, шеф? — спросил Стоян.
Андрей кивнул, но в это время его взял за плечо инженер, отвечавший за их участок.
— Мне надо поговорить с тобой, — сказал он. — Давай прокатимся на моторной лодке.
Андрей удивленно посмотрел на него, но пошел за инженером. Ребята из его бригады молча смотрели им вслед. Они сели в одну из моторных лодок, и инженер направил ее по каналу мимо кораблей к озеру. Они пересекли озеро, завод остался за спиной у Андрея. Он не оборачивался, но словно видел внутренним взором нагромождение труб, кранов, антенн. Показалось море, и они оба залюбовались им. Уходило жаркое лето. Небо словно сбросило с себя знойное марево. Казалось, оно задалось целью дарить всему живому покой и радость.
Далекий горизонт имел красноватый оттенок. Суда на горизонте напоминали ожившие миражи. Андрею казалось, что таким окружающее видит только он, что инженер видит тоже прекрасные, но иные картины.
— Здесь так хорошо, что не хочется говорить о делах, — произнес инженер.
Андрей посмотрел на него, и ему показалось, что вокруг сгущается туман. Снова припомнилось утреннее тревожное предчувствие.
— С некоторого времени в соседнем цехе иностранцы собирают большую машину. Тебе не говорили о ней твои ребята, потому что сами ничего толком не знают. Сегодня машину наконец собрали. Она с разными электронными устройствами, я в них не разбираюсь, это не по моей специальности. Это вычислительная машина. Она сама делает расчеты, расчерчивает и режет детали судов.
Инженер замолчал и повернул лодку обратно, к заводу. Андрей глядел на знакомые очертания, хотел что-то сказать, но не мог, ничего не приходило ему в голову, он двух слов не мог сказать сейчас о громадном заводе, каждый день которого был полон самых разных событий. Молчать было нельзя, инженер — его начальник, интеллигентный человек, но ничего не приходило на ум… Андрей даже не сообразил, что надо говорить о машине, он думал сейчас не о ней и даже не о заводе, а о переполненном автобусе, о том, что на работе у жены повысили нормы выработки… Он не осознавал, что, в сущности, хочет забыть о словах инженера, словно их никогда и не было.
Моторная лодка остановилась неподалеку от цеха.
— Давай поглядим, как работает машина, — мягко предложил инженер. — И еще одну вещь я должен тебе сказать, не очень приятную… Подумай, кого из своей бригады ты можешь отпустить. Мы предложим освоить им другую профессию. Пока отбери двух человек, хотя машина заменит труд куда большего количества людей…
Андрей поднял глаза. Он не знал, что смотрит на своего начальника так, словно тот совершил жестокость.
— Тебя и опытных рабочих перемены пока не коснутся. Будем расширять производство.
В голосе инженера сквозило смущение, и бригадир густо покраснел от мысли, что тот его не понимает. А если и поймет, то это мало что изменит.
— Они любят свою работу, — промолвил он, направляясь к соседнему цеху вместе с инженером.
— Кто? Ах, да!
Они вошли в цех, где шумела возбужденная толпа. «А вот и сам мастер!» — сказал кто-то. Андрея поставили рядом с директором, который с улыбкой пожал ему руку.
Оглушенный шумом, Андрей вдруг увидел машину. Она была огромной, к ее верхней части вела лесенка, за стеклянными дверьми краснели кнопки и мигали лампочки. Внизу двигалось большое металлическое устройство, которое медленно ползло, безжалостно и самоуверенно, как сильное ленивое животное. Огненный графит вырезал на помещенном под ним металлическом листе деталь за деталью. Лист казался маленьким, беспомощным и обреченным, совсем не таким, когда с ним работали в бригаде Андрея. Там над ним склонялся один человек, и между ними двоими шла достойная и сложная борьба. Впервые бригадир почувствовал жалость к металлу. Машина двигалась с угрожающей методичностью, и Андрей почувствовал, что ему сейчас станет плохо. Он растолкал людей и вышел.
После обеда он работал вяло, несколько раз бесцельно прошелся по цеху. Другие рабочие из его бригады работали молча, они тоже все поняли, но еще не знали, что двоим из них придется осваивать другую профессию.
И только выйдя из заводских ворот и отправившись домой пешком, чего он не делал уже давно, подумал, что, наверно, не все в его бригаде так горячо привязаны к своей работе. Это открытие ошеломило его своей простотой. Значит, ему стоило только поговорить с ребятами, и чувство вины стало бы не таким острым. Какой же он глупец, решил, что все только и мечтают о том, чтобы расчерчивать металл! Он впервые стал прикидывать, в каких цехах не хватает рабочих.
Ему захотелось вернуться на завод и поговорить с кем-нибудь, например, со Стояном. Но было уже поздно. И он почувствовал досаду на себя за собственную скрытность, не позволяющую ему говорить с людьми по душам…
Он даже представил себе разговор со Стояном, он мог бы поговорить с ним запросто, да и с другими тоже, ведь он хорошо знал людей.
— Знаешь, Стоян…
— Знаю, мастер, что труднее всех сейчас тебе, — ответил бы Стоян, глядя на него с хитрецой. — Ты о нас печешься, но ты не знаешь нас так, как мы сами себя знаем. Ты судишь о других по себе. Боишься, что в один прекрасный день привезут еще такие же машины, и тебе придется вместе с молодыми осваивать новую профессию. Ведь машины выпускают не в единственном экземпляре, кто знает, сколько еще таких машин там, в той стране…
Сейчас Андрей осознавал, что испытывает чувство страха. Боится, что придет день, когда ему не придется склоняться, забыв обо всем на свете и испытывая благоговейное чувство, над листом металла, что ему не надо будет составлять в голове привычные сложные комбинации…
Решительный шаг… Какой умный человек их лектор, который готовил их к разным неожиданностям. А он-то считал, что ничего с ним не может случиться.
Он подходил уже к католической церкви. Каждый день, выйдя из автобуса, он проходил мимо нее по дороге домой.
И все же было кое-что, что интересовало его в связи с этой церковью. Время от времени он видел, как карлик с большой головой закрывает церковные ворота. Карлик бросал на него молниеносный взгляд и окунался в какой-то свой мир — полутемный, загадочный и душевно нечистоплотный… Андрей не сомневался, что карлик очень любит эти ворота с их протяжным скрипом.
Сейчас, подумав о нем, он осознал, какой шаг предстоит ему в жизни. Если он всем сердцем не примет эту машину, он станет похожим на этого карлика, его любовь к работе с металлическими листами превратится в тайное нечистое озлобление. Да и почему бы ему не принять машину?
И постепенно в нем стало рождаться чувство восхищения этой уверенной, прекрасной, совершенной машиной, этой отлитой из металла мечтой всех тех, кто ежедневно склонялся над стальными листами, напрягал ум. Ее родил их труд, их желание, чтобы любимую работу делали точно и четко… И вот этот день настал. Какое значение имеет все остальное? Эта машина странным образом вплеталась в картину, на которой он мечтал увидеть свою жену, окруженную необычным миром, в этом мире предстояло жить и его дочери.
Девочка не поняла бы его, не захотела бы увидеть эту машину. Андрей представлял, как скажет дочери, что эта машина может создавать маленькие озера с нависшими над ними деревьями и неподвижной ярко-зеленой водой, с висячими мостами и беседками, под которыми в маленьких лодках в виде лебедей будут плавать счастливые дети. И это вовсе не будет ложью.
Ему хотелось привести дочь к этой машине, увидеть ее, улыбающуюся, среди мигающих белых ламп.