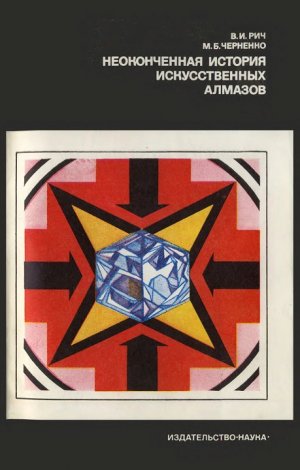
Глава I
С ЧЕГО ЭТО НАЧАЛОСЬ
Самое начало этой истории ведется обычно от года 1694-го.
Именно тогда, почти триста лет назад, в городе Флоренции, где была уже собственная академия наук — Дель Чименто, произошло событие, которое попало в историю, положив начало официальной летописи знакомства человека со странными свойствами алмаза. Флорентийские академики Аверани и Тарджиони на глазах своего герцога Козимо III Медичи, проявлявшего интерес к научным опытам, раскаляли драгоценные камни. С рубином у них ничего особенного не произошло, а алмаз… исчез. И это исчезновение было задокументировано. И были даже сохранены — и сохраняются до сих пор! — приборы, с которыми был поставлен этот несложный, с сегодняшней точки зрения, опыт: зажигательное стекло (то есть линза) величиной с тарелку и зажигательное стекло размером с блюдечко…
Событие — немного театральное, чуть таинственное: как-никак драгоценные камни. Однако действительное начало истории искусственных алмазов было не в эффектном опыте флорентийцев, а в скромной теории.
Первым человеком, который высказал правильное (хотя, разумеется, далеко не полное) суждение о химическом составе алмаза, был Исаак Ньютон, член одного из первых в мире научных обществ. Вначале оно не имело официального статуса, именовалось Незримой коллегией и находилось в Оксфорде. А в 1668 г. переехало в Лондон и стало всемирно известным Лондонским королевским обществом — английской академией наук.
Девиз общества «Nullius in verba» («Ничего со слов» — ничего на веру) означал отказ от догм, восходящих к библейским представлениям о природе. Труд одного из основателей коллегии, а впоследствии президента Лондонского королевского общества Роберта Бойля так и назывался — «Химик-скептик». В книге, уже самим названием отвергавшей прежние представления о природе веществ, Бойль ниспровергал господствующее учение, согласно которому все горючие и блестящие вещества содержат огонь, жидкие — воду, летучие — воздух, твердые — землю. «Если бы люди заботились об успехах науки более, чем о своей известности, — сурово пояснял Бойль, — легко было бы им понять, что высшая заслуга их состоит в производстве опытов, в собирании наблюдений, что не следует составлять теорий, не проверив предварительно, насколько они подтверждаются фактами…»
Нашему современнику покажутся несколько странными некоторые опыты, проделанные любознательными, скептическими и одновременно восторженными исследователями, ничего не принимавшими на веру, желавшими проверить своими руками любое утверждение из ученых трудов средневековья.
Например, известен такой эксперимент. Брали рог носорога, толкли его, из порошка делали кольцевую насыпь. В центр круга сажали паука. Согласно существовавшим тогда представлениям, толченый рог носорога обладал особыми свойствами, не позволяющими пауку преодолевать это препятствие.
Члены коллегии убедились, что паук преспокойно переползает через «волшебный» порошок. Проверки опытом не выдержала еще одна теория…
Однако опытная проверка тех или иных принятых ранее на веру утверждений не всегда приводила к правильным выводам. Выводы из наблюдаемых фактов были нередко весьма удивительными (с сегодняшней точки зрения).
Например, тот же Бойль считал первоматерией воду и был глубоко убежден, что ему удалось опытным путем доказать превращение ее в иные вещества.
В одном из опытов Бойль выращивал огурцы, тыкву и мяту без земли, простоев воде. При этом мята оказалась не менее душистой, чем выращенная на обычном огороде. Все это, по мнению Бойля, убедительно доказывало, что вода может превращаться во все прочие элементы.
В другом опыте Бойль нагревал свинцовые опилки. Если он нагревал их достаточно сильно, то свинец превращался в более тяжелое и ничуть не похожее на металл вещество желтого цвета. И это, по мнению экспериментатора, означало, что в свинец проникает «тонкая материя» — теплород.
«Ничего на веру» — это был лозунг эпохи, лозунг рождения эксперимента как средства познания мира. Доверие к опыту, отрицание авторитетов, чьи высказывания не подкреплялись наблюдениями и фактами, быстро двинуло вперед познание природы — ив целом, и в частностях. Одной такой частностью стал драгоценнейший камень алмаз…
Заметим, что Ньютон, автор универсальных законов механики, известных теперь каждому школьнику, занимался не только механикой, но и оптикой. Оптика — это не только очки или телескоп, это свет — одно из наиболее загадочных, сложных и, можно сказать, вездесущих явлений природы. Именно изучение света уже ц более близкие нам времена послужило основанием для создания теории относительности, объяснения устройства атома, вычисления размера галактик…
Ньютон проверил заново все, что было известно до него о природе света. И проделал огромное количество новых опытов.
Изучая прохождение света в различных телах, Исаак Ньютон не обошел и алмаз.
В любом труде, где так или иначе затрагивается углеродная природа алмаза, можно прочесть, что на горючесть алмаза указывал еще Ньютон. Как ни интересно подобное сообщение, исправно переходящее из книги в книгу и из статьи в статью, у него есть, по меньшей мере, один серьезный недостаток: оно вторично. Гораздо интереснее знакомство с самим первоисточником, ибо только он дает возможность проследить за ходом мысли великого челоьека. Вот что сказано в книге Ньютона «Оптика», изданной в 1704 г., а написанной, как установлено по ее рукописям, за двадцать лет до того, не позднее 1687 г. (значит: до флорентийских академиков):
«Если свет в телах распространяется быстрее, чем в пустоте, в отношении синусов, измеряющих преломление тел, то силы тел, заставляющие свет отражаться или преломляться, весьма точно пропорциональны плотности тел, за исключением маслянистых и серных, которые преломляют больше, чем другие тела той же плотности…
Хотя псевдотопаз, селенит, горный хрусталь, …обыкновенное стекло… и сурьмяное стекло — земляные каменистые щелочные твердые тела и воздух, который, вероятно, возникает из подобных же веществ при брожении, — субстанции, весьма отличающиеся одна от другой по плотности, однако по таблице их преломляющие силы находятся почти в одном и том же отношении к плотности… Также камфара, оливковое масло, льняное масло, терпентиновый спирт и амбра, которые суть жирные, серные и маслянистые тела, и алмаз, который, вероятно, есть также маслянистое сгустившееся вещество, обладают без значительных отклонений одинаковыми отношениями преломляющей силы к плотности».
Свое суждение Ньютон подтверждал добытыми в опытах цифрами:
«Воздух 5 208
Гипс (селенит) 5 386
Стекло 5 436
Горный хрусталь 5 410»
Но:
«Оливковое масло 12 607
Льняное масло 12 819
Терпентиновый спирт 13 222
Амбра (янтарь) 13 654
Алмаз 14556…»
Редактор и автор комментария к русскому изданию «Оптики», увидевшему свет в 30-х годах XX в., академик С. И. Вавилов сопроводил это место в работе Ньютона следующим замечанием: «По преломляющей способности алмаза Ньютон, таким образом, угадал углеродную природу алмаза».
«Угадал углеродную природу» это в наше время можно так пояснить открытие великого англичанина. Но сам Ньютон ничего еще не мог знать об углеродной природе алмаза — само понятие «углерод» еще не было сформулировано в те времена. Но, конечно же, вывод Ньютона был столь же смел, сколь и логичен: если десятки «каменистых» тел обладают преломляющей способностью около 5000, а «маслянистые» жидкости и твердый алмаз — 12 000—14 000, то единственное твердое тело, попавшее в компанию жидких, должно быть не чем иным, как «сгустившимся маслянистым веществом».
Теперь мы знаем, что алмаз — действительно, если пользоваться терминологией XVII в., «сгустившееся маслянистое вещество». Гениальное предвидение!
Да, но как быть с первой частью той же фразы, в которой Ньютон предполагает, что воздух есть, вероятно, разредившееся каменистое щелочное вещество — сродни стеклу или, скажем, горному хрусталю? Ведь это предположение базируется на том же самом основании — близости величины преломляющей силы, что и предположение о горючей природе алмаза. А на самом деле воздух состоит главным образом из других элементов. Общее в стекле и воздухе только некоторое, сравнительно небольшое количество кислорода, которое никак не определяет близости оптических свойств воздуха и стекла.
Получается, что из одинаковых фактов с помощью одного и того же логического рассуждения Ньютон вывел два следствия, одно из которых оказалось неверным. Не означает ли это, что неправомерны оба вывода и что подтверждение одного из них — чистая случайность, не имеющая ничего общего с логикой предсказаний?
Наверное, все же не означает! То, что Ньютон написал о воздухе неверно, но это никак не опровергает правильности того, что он сказал об алмазе. Просто подмеченная им закономерность — отнюдь не универсальная, не абсолютная истина. И распространение ее на свойства газов, подчиняющихся совершенно иным законам, чем жидкие и твердые Тела, было, гсак потом обнаружилось, неправомерным.
Все это нисколько не умаляет проницательности вывода об алмазе, точно так же, как не бросает тень на гениальность Ньютона то, что его законы механики не учитывают релятивистских эффектов — околосветовых скоростей и т. п.
И все это, вероятнее всего, не имеет прямого отношения к эффектнейшему эксперименту ученых флорентийцев, у которых алмаз, разогретый собранным в пучок солнечным лучом, исчез: скорее всего никто, кроме самого Исаака Ньютона, еще не знал о рукописи «Оптики».
Толкование результатов этого опыта должно казаться сегодня чересчур уж неопределенным (что значит «исчез»?). Но надо примириться с ним, ибо в те времена оно не могло быть ни иным, ни более точным, оно вполне соответствовало возможностям науки своего времени.
Но можно ли поверить, что опыты с алмазом не делал никто и никогда до флорентийских академиков?
Трудно представить себе, чтобы алхимики раннего средневековья — арабы, итальянцы, немцы, французы, испанцы, потратившие столько труда на бесконечные попытки изготовить золото, серебро и философский камень, исследовавшие с этой целью тысячи самых разных веществ, не обратили внимания и на алмаз, не попытались разложить алмаз на «составные части», воздействуя на него кислотами и щелочами, холодом и жаром.
И если сегодня об этом ничего не известно, то самым вероятным объяснением кажется не отсутствие фактов, а отсутствие сведений о них. По совершенно естественной причине — научно-техническая информация была поставлена в те времена, увы, довольно плохо. А сведения вроде того, что еще лет за сто до Ньютона Боэтиус де Бута, придворный медик австрийского императора Рудольфа II, предсказал горючие свойства алмаза на том основании, что алмаз прилипает к смоле, — к сожалению, недостоверны. Если и следует упоминать о них сегодня, то лишь по двум причинам: первая — научные истины прорезаются не сразу, им органически присуще что-то вроде инкубационного периода, что-то вроде времени вызревания; вторая — эти сведения по-прежнему привлекательны, как и всякий любопытный курьез. Принимать же всерьез историю с придворным медиком и ей подобные вряд ли имеет смысл. Много ли отыщется веществ, не прилипающих к смоле?
Как бы мы сейчас ни оценивали предположение Ньютона и чем бы мы его ни считали — обоснованным утверждением или необоснованной догадкой, факт остается фактом: естествоиспытателям в XVIII в. было известно, что великий Ньютон считал алмаз горючим веществом.
И в то же время вполне вероятно, что еще более, нежели обнаруженные Ньютоном особенности преломления света (или же обнаруженное, возможно Боэтиусом, прилипание к смоле), нежели эти косвенные улики, общее мнение ученых о горючести самого драгоценного камня основывалось на опыте флорентийских академиков, известие о котором распространилось, конечно, по разным странам. Несколько повторяясь, можно сказать, что вполне мыслимо и то, что опыт этот проделывали неоднократно, но что не попало в историю — то не попало, теперь уж ничего не поделаешь.
Правда, сами Аверани и Тардшиони считали, что алмаз не сгорел, а исчез. И это их утверждение надлежало проверить. Предстояло (ничего на веру!) повторить опыт.
Это произошло через восемьдесят пять лет после того, как Ньютон написал «Оптику»; на этот раз экспериментатором был Антуан Лоран Лавуазье — опыт становился средством познания мира не только у суровых британцев, от которых французы всегда отличались несколько более легкомысленным характером.
В отличие от Ньютона, родившегося в небогатой фермерской семье, будущий знаменитый химик никогда не знал бедности. Прадед Лавуазье был деревенским почтальоном, но уже дед подыскал должность поприбыльней — окружного прокурора. В то далекое время в таких делах господствовали простота и прямолинейность: должности официально продавались, а затем наследовались. Отец Антуана Лорана был уже прокурором при верховном суде и переселился в Париж.
Окончив аристократический коллеж Мазарини, Антуан Лоран Лавуазье стал учиться в университете. Но не химии и не физике, а юриспруденции, как и полагалось в семье. Что же касается химии, то ее он изучал самостоятельно, в свободное от занятий и других дел время: это было ему интересно.
Антуану было мало должности прокурора, которую он, безусловно, мог наследовать у отца. Мало и того, что к 30 годам он становится носителем звания «советник-секретарь двора, финансов и короны Франции». Мало положения пайщика генерального откупа.
Все время, остающееся у него от коммерческих и финансовых дел, он отдает науке. Изучает физику, математику, химию, геологию, минералогию, метеорологию. Ищет наилучший способ уличного освещения. Едет с экспедицией в Лотарингию собирать материалы для минералогической карты. Становится членом Парижской Академии наук. Опровергает теорию о превращении воды в землю. Опровергает теорию флогистона.
Чтобы понять, каков был, в принципе, ход его мыслей, обратимся к сочинению, написанному двадцатипятилетним Лавуазье двести лет назад (1768). Вот отрывок из него:
«Мы ежедневно соединяем кислоту со щелочью, но каким образом происходит соединение этих двух веществ? Располагаются ли молекулы, образующие кислоту, в порах молекул щелочей?.. Или же кислота и щелочь имеют различные грани, которые могут сливаться друг с другом путем простого контакта на манер магдебургских полушарий? Каким способом кислота и щелочь в отдельности сцеплены с водой? Это простое разделение на части или же это есть реальное соединение, допустим, части одного с частью другого или части одного с многими частями другого? Наконец, откуда происходит этот воздух (газ), который выделяется столь бурно в момент соединения?.. Существовал ли этот воздух первоначально в обеих смесях? Был ли он там каким-то образом связан… или же этот воздух, так сказать, искусственный и является продуктом соединения?..»
Можно ли быть уверенным, что это — не речь современного человека, стремящегося разбудить в своих слушателях мысль, подвести их к величайшему искусству анализа фактов и извлечения выводов, к поискам объяснений по существу?
«Если спросить химию обо всех этих различных предметах, то она ответит нам пустыми ссылками па имена, аналогиями, повторениями, которые не содержат никакой идеи, которых единственное действие сводится к тому, что они приучают ум удовлетворяться словами».
Научные интересы Лавуазье были столь же разнообразны, как его коммерческие предприятия. Нередко он одновременно вел несколько разных исследований. Этому способствовал, безусловно, неугомонный характер ученого. Но была тому и еще одна серьезная причина: чтобы поставить опыт, нужна аппаратура, и тем более сложная, чем сложней опыт. А чтоб эту аппаратуру изготовить, нужно время. Отсюда неизбежные паузы в любом большом исследовании и необходимость заполнения их другими работами. Одну из пауз он и заполнил знаменитыми теперь опытами с гигантским по тем временам зажигательным стеклом — опытами, которые вовсе не имели целью получить какое-нибудь новое вещество или изобличить в несоответствии истине какую-либо освященную высоким именем средневековую теорию. Опыты эти можно сравнить с действиями детей, когда они уже не удовлетворяются своим «почему?» и задаются следующим по порядку вопросом: «А что произойдет с этим предметом, если я буду его..?».
Лавуазье подставил слово «нагревать».
Что произойдет с различными веществами, если я буду нагревать их? Не сжигать, а именно нагревать? Под колпаком, все сильнее и сильнее…
Только в наше время можно в полной мере оценить проницательность Лавуазье, который еще ничего не знал даже о том, «каким образом происходит соединение» химических веществ, но, тем не менее, взялся утверждать, что «были бы получены поразительные результаты, которые открыли бы ученым новое направление их деятельности и привели бы к совершенно неизвестному порядку вещей». Так написал он в представленной академии в августе 1772 г. статье «Размышление о применении зажигательного зеркала».
Почему зеркала? Да потому, что никакого более мощного источника высоких температур, кроме солнечных лучей, собранных в пучок зажигательным зеркалом или стеклом, тогда не было.
Не ограничиваясь подачей «размышления» в письменной форме, он принялся размышлять над тем, как сделать такое зажигательное стекло или зеркало, которое могло бы собрать как можно больше солнечных лучей и как можно лучше сконцентрировать их в одной точке.
Как и всегда, прежде чем приступить к какому бы то ни было важному исследованию, Лавуазье первым делом досконально обдумывает предстоящие работы и прикидывает, что для них понадобится. Откупщик Лавуазье скрупулезен не только в своих финансовых делах, на которые ему каким-то непостижимым образом тоже хватает времени (во всяком случае, богатство свое он непрерывно приумножает), — дела научные он вершит с не менее завидным тщанием.
Первым делом составляется проект будущего прибора. Его делает под непосредственным руководством Лавуазье опытный инженер де Берньер. Прибору придаются внушительные размеры; достаточно сказать, что диаметр будущей линзы 120 см. Летом 1772 г. аппарат готов. Его устанавливают в парижском Саду инфанты.
Двояковыпуклая линза собрана из двух выпукло-вогнутых чечевиц. Радиус кривизны — 240 см. «Тело» линзы — пространство между чечевицами — заполнено спиртом. Все сооружение помещается на раме. Рама, в свою очередь, опирается на подставку, укрепленную на платформе. Для точной фокусировки на платформе установлена еще одна, меньшая линза.
Сохранились не только чертежи аппарата, но и рисунок, запечатлевший один из опытов. Велись также подробнейшие протоколы, позволяющие довольно точно представить себе все происходившее.
…Погожие августовские дни. Чистое небо, яркое солнце. Слабый ветер чуть шевелит кружева на атласных камзолах собравшихся любителей и покровителей науки, цветные ленты на шляпах их почтенных супруг. Таинственно поблескивают линзы в металлических оправах.
К помосту, на котором стоит предметный стол для испытываемых веществ, подходит, подтянутый и оживленный, член королевской Академии наук, генеральный откупщик господин де ла Вуазье. Он переговаривается со своими коллегами и дает указания служителю.
Проходит несколько минут. Причудливое сооружение разворачивают продольной осью к солнцу. Служитель нажимает на рычаги, регулирует винты, и в центре предметного стола обозначается ослепительный кружок — здесь фокус линзы.
В фокус линзы помещают кусок песчаника — попросту говоря, булыжник с парижской мостовой. Через шесть минут он белеет, но не плавится и не разрушается.
Под луч кладут черный ружейный кремень. Кремень разлетается на куски. Сразу же плавятся в фокусе линзы железные опилки…
В другой раз на подставку из песчаника помещают кусочек золота в 24 карата (больше 4 г). И сконцентрированный линзой солнечный луч сразу же превращает его в блестящую круглую каплю.
Только кварц выдерживает такой сильный жар да еще платина.
Потом служитель приносит кусочек фосфора. Потом кусок древесного угля…
Но вот на предметном столе появляется сверкающий под лучами солнца кристаллик.
Случайно или не случайно появился он здесь? Почему генеральный откупщик решил подвергнуть испытанию именно бриллиант — драгоценнейший из камней?
Не может быть сомнений в том, что Лавуазье имел для этого достаточно веские основания. Путь науки лежал через непроходимые дебри предрассудков, и сама возможность посрамить невежество как можно заметней, как можно эффектней не могла не привлекать — тем более, что экспериментатор был не очень стеснен в средствах. «Во все времена люди связывали идею совершенства со всем, что представляется редким и ценным, и они себя убедили, что все, что стоит дорого, что вне их возможностей, что трудно добываемо, должно якобы сочетать в себе редкие качества… Драгоценные камни тоже удостоились этого энтузиазма, и не прошло еще ста лет с тех пор, как им приписывались чудодейственные свойства. Одни медики рекомендовали принимать их внутрь при некоторых болезнях и вводили их в свои рецептурные формулы; другие уверяли самих себя, что достаточно носить их в кольцах, амулетах и т. д., и ожидали от них исключительного действия на живой организм. Многие физики, опередившие свой век, все же в большей или меньшей степени разделяли эти предубеждения. Даже сам Бойль, знаменитый Бойль, подобно своим современникам, приписывал драгоценным камням лечебные свойства…»
Это было написано Лавуазье незадолго до опытой, о которых идет здесь речь. И, конечно же, развенчать «идею совершенства» на примере столь заметном не могло не казаться ему весьма соблазнительным делом.
Так появился на предметном столе бриллиант.
Лавуазье поднялся на помост, еще раз проверил прибор и подал знак служителю. Служитель чуть сдвинул вправо — вслед ушедшему солнцу — большую линзу, потом малую линзу. Сконцентрированный линзами солнечный луч уперся в сосуд с алмазом, кристалл вспыхнул ярким сиянием.
Когда сияние погасло, бриллиант вроде бы исчез.
Исчез?
Лавуазье подошел к столу, вскрыл сосуд — и зрители услышали свист ворвавшегося в колбу воздуха: алмаз не исчез, но сгорел. Сгорел совершенно так же, как горят уголь или фосфор, поглотив часть находившегося под колпаком воздуха.
В то время Лавуазье не мог еще определить, что именно получается от горения алмаза, — он еще не умел отличать кислород от углекислого газа, или, говоря языком тех дней, дефлогистированный воздух от связанного воздуха.
И в те же примерно времена, когда шли опыты с зажигательным прибором в Саду инфанты, откупщик Лавуазье добился возведения стены вокруг всего Парижа. Уклониться от уплаты пошлин за ввозимый в город товар стало совершенно невозможно.
Если теперь, двести лет спустя, мы отдаем дань уважения этому человеку за сделанное им в науке, то тогда крестьяне, везшие на рынок в Париж снедь и не имевшие понятия ни о мудрых физических материях, ни об опытах прославленных академиков, вряд ли произносили имя Лавуазье с почтением. Если оно было им известно, то скорее всего они сопровождали его упоминание иными, довольно выразительными словами, имеющимися и во французском языке.
После победы Французской революции все двадцать восемь откупщиков были гильотинированы на площади в Париже. Это произошло 8 мая 1794 г.
Противоречива личность Лавуазье — великого ученого и заурядного в своих устремлениях буржуа. Но что касается того предмета, о котором речь в этой книжке, то Антуан Лоран Лавуазье сделал ощутимый шаг вперед по сравнению со своими предшественниками. Он доказал, что алмаз горит.
Итак, в 1772 г. драгоценнейший из драгоценных камней, можно сказать, царь драгоценностей, был низведен в куда более скромное общество, ибо Лавуазье, доказав, что алмаз горит, как зауряднейшие химические вещества: сера, или фосфор, или уголь, — тем самым уравнял их в правах.
Но это еще не означало, что стало известно, из чего алмаз сделан природой. «Обладает таким-то свойством» — еще не значит «состоит из того-то». И до этого «состоит из…» должно было пройти гораздо больше времени, чем это может представиться нашему современнику, который пожелал бы сегодня сделать самостоятельно следующий логический шаг после опытов Лавуазье.
Прошло еще сорок с лишним лет до следующего, такого самоочевидного опыта. А пока… еще маленький шаг вперед, даже не шаг — просто эпизод. Два года спустя после эффектнейших экспериментов с линзой тот же Лавуазье, на чьей столбовой дороге алмаз никогда не лежал, поставил другие опыты.
Во-первых, он нагревал ртутную известь (на сегодняшнем языке — окись ртути, HgO) с углем. И у него получались металлическая ртуть плюс «связанный воздух».
Во-вторых, он сильно нагревал ту же ртутную известь без добавления чего-либо. И у него получались снова металлическая ртуть плюс иной воздух, о котором Лавуазье написал так: «Этот воздух, будучи весьма отличен от связанного воздуха, находится в состоянии, более пригодном для дыхания, более горючем и, следовательно, более чистом, даже чем тот воздух, в котором мы живем».
Из этих двух серий опытов, проделанных в 1774 и 1775 гг., Лавуазье заключил: «Поскольку уголь исчезает полностью при оживлении ртутной извести и поскольку из этой операции получаются лишь ртуть и связанный воздух, приходится заключить, что начало, которое до сих пор именовали связанным воздухом, есть результат соединения с углем порции чрезвычайно удобовдыхаемого воздуха».
Вот и все. Но если наш современник на этом месте, может быть, снисходительно улыбнется, возьмет авторучку и напишет:
2HgО + C = 2Hg + CО2,
то пусть он вспомнит, что дело происходило двести с лишним лет назад, когда даже самого понятия «углерод» еще не существовало!
Заметим еще раз, что для самого Лавуазье и его коллег все это не имело ровно никакого отношения к интересующим нас алмазам, и пойдем дальше.
Дальше — о следующем шаге.
Его сделал Смитсон Теннант, химик из Кембриджа, который в возрасте двадцати четырех лет был уже признанным ученым и состоял в Лондонском королевском обществе.
В 1791 г. Теннант подтвердил мнение Лавуазье о составе «связанного воздуха», выделив из него чистый уголь. А спустя шесть лет он поставил опыт, который отдает той же театральностью, что и легендарное «действо» флорентийских академиков, — в золотом сосуде с селитрой Теннант сжег равные по весу порции угля, графита и алмаза.
И во всех трех случаях у него образовались одинаковые порции все того же «связанного воздуха».
После этого, казалось бы, вопрос, из чего «сделан» алмаз, наконец, совершенно прояснился. Кстати, во многих книгах так и написано: Теннант доказал, что алмаз состоит из углерода.
И тем не менее это не так. То, что в золотом горшке вместо сгоревшего алмаза очутился «связанный воздух», еще не значило ни для самого Теннанта, ни для его современников, что этот «связанный воздух» и есть весь бывший загадочный кристалл. Тогдашним ученым, например, не была известна причина поразительного блеска алмазов — и искать ее было естественно тоже в некоем веществе, еще не обнаруженном.
И если обратиться теперь не к эксперименту, а к рассуждению — непременной составляющей познания во все времена, никак не противоречащей принципу «ничего на веру», то для конца XVIII в. естественным было такое рассуждение: нет ли в алмазе, помимо угля, еще какой-то субстанции? Наверное, горючей, коль скоро она создает столь волшебное сверкание граней. И не есть ли эта субстанция «горючий воздух» — водород?
На эти вопросы Теннант не ответил — алмазом он больше не занимался. В наше время он известен главным образом тем, что в 1808 г. открыл в платине из бразильских россыпей два вещества, занявших впоследствии самостоятельные клетки менделеевской таблицы, — иридий и осмий. В алмазной же истории наступает — уже в который раз — перерыв. И достаточно долгий. Только через 17 лет с составом алмаза будет на самом деле покончено.
Любое открытие, даже самое, казалось бы, неожиданное, объективно обусловлено — утверждение достаточно неоригинальное. Что касается алмазов, то, прежде чем был открыт «дефлогистированный воздух» Пристли, он же «райский воздух» Шееле, он же «весьма удобовдыхае-мый воздух» Лавуазье, определить состав углекислого газа, который получался при сгорании алмазов, не мог никто, будь он хоть трижды гением.
Следующая, не менее тривиальная истина: кроме объективной возможности нужна еще субъективная, нужен еще тот человек, который придет… и совершит открытие. И пока этот человек не приступит к делу, руководствуясь какими-то своими, нередко довольно туманными для всех остальных соображениями, никакого открытии не происходит, пусть, казалось бы, все для него давно готово.
И вопрос, из чего же «сделан» алмаз, вполне мог оставаться невыясненным еще весьма и весьма долго — до тех времен, пока алмазы (уже в XIX и XX вв.) не стали нужны технике, а не только богатым красавицам и вельможам.
Но этого не произошло, ибо появился тот самый человек, личность. Безусловно, весьма яркая личность!
Хемфри Дэви родился в 1778 г. в маленьком английском городе Пензансе в семье резчика по дереву. Вот несколько параграфов его характеристики, составленной позже многочисленными биографами.
Во-первых, исключительная память. Все биографы сообщают об одном из любимых занятий малолетнего Хемфри: забравшись на базарной площади на телегу, наизусть рассказывать оттуда на радость собиравшейся вокруг детворе исторические романы, которыми он в те времена зачитывался. (Кстати, любовь к публичным выступлениям, определенная склонность к внешним эффектам сохранились у Дэви на всю жизнь. Может быть, в какой-то степени именно этому его свойству мы обязаны продолжением истории алмаза.).
Во-вторых, сильнейшее стремление к учебе. Семнадцатилетний Дэви составил себе план самообразования:
1. Теология, или религия, изучаемая через природу. Этика, или нравственные добродетели, изучаемые через откровение.
2. География.
3. Моя профессия: ботаника, фармакология, учение о болезнях, анатомия, хирургия, химия.
4. Логика.
5. Языки: английский, французский, латынь, греческий, итальянский, испанский, еврейский.
6. Физика.
7. Астрономия.
8. Механика.
9. Риторика и ораторское искусство.
10. История и хронология.
11. Математика…
И эту программу Дэви выполнял — по крайней мере, в области естественных наук.
В-третьих, пристрастие к экспериментам. Особенно к экспериментам с необычными средствами. Дэви будет одним из первых испытывать действие электрического тока на разные вещества — и так совершит не одно открытие.
В-четвертых, оригинальность (экстравагантность? несолидность?). Чего стоит, например, попытка Дэви, уже знаменитого ученого, сконструировать батарею из электрических скатов! К сожалению, батарея садилась раньше, чему сэру Хемфри удавалось ее к чему-нибудь подключить.
Но до батареи из рыб было еще далеко. А пока что маленький Хемфри, по единодушному свидетельству современников, решительно предпочитал школьным занятиям чтение исторических романов, бег взапуски, рыбную ловлю и, особенно, изготовление фейерверков. (Упоминание о нерадивом отношении Дэви к урокам никоим образом не направлено против устоев педагогики. Разумеется, не из каждого лоботряса и прогульщика может получиться великий ученый. Это случается редко — наверное, так же редко, как превращение в великого ученого примерного ученика со средним баллом 5 в школьном аттестате.)
Хемфри Дэви мало что вынес из школы, и тем не менее детские годы прошли отнюдь не без пользы для будущего ученого.
По соседству с семейством Дэви жил шорник, который в свободное от изготовления хомутов и выделки ремней время изучал сочинения Франклина и Вольта и повторял их опыты с электричеством. И Хемфри, сбегая с уроков, проводил у соседа целые дни. В мастерской крепко пахло кожами и можно было часами смотреть на искры, с треском срывающиеся со смоляного диска вольтова электрофора и наполняющие воздух загадочным электрическим флюидом.
И пусть эти немудреные опыты в мастерской соседа-шорника были не более чем увлекательной игрой — она оказалась для Дэви тем самым главным, что может и должен получить человек в детстве и что даже в наш просвещенный век далеко не всегда дает школа.
А отец, видя, что сын с грехом пополам одолевает школьные прописи и совсем отбился от рук, принял решение — отдать его в закрытую школу-пансионат. Но надеждам отца не суждено было сбыться и тут. В закрытой школе Хемфри не мог, правда, устраивать фейерверки и сбегать с уроков, но и овладевать школьной премудростью он совсем не стремился. Новое увлечение охватило его: он сочинял стихи. По отзывам современников, стихи юного Дэви были не так уж хороши; среди друзей, однако, они создавали ему вполне достаточную для мальчишки славу.
Детство кончилось сразу: умер отец — и семья лишилась достатка. Надо было зарабатывать на жизнь, и родственники устроили Хемфри в ученики к аптекарю.
Может быть, с высот XX в. место аптекарского ученика, занятое семнадцатилетним Дэви, кажется не слишком завидным. Но в XVIII в., как и в XX, производство лекарств было одной из важнейших отраслей химического производства. (Другой было изготовление пороха. Кстати, во Франции должность «управителя селитр и по-рохов» занимал не кто иной, как Антуан Лоран Лавуазье.) Но, в отличие от XX в., наука и производство еще не успели — по крайней мере, в этой части — заметно обособиться, подчиняясь закону разделения труда. И аптекарь был одним из наиболее образованных людей того времени. Он не только знал свойства многих сотен, а то и тысяч веществ минерального, животного и растительного происхождения. Он знал действия, которые они производят в разных количествах и соединениях на человеческий организм. И, кроме того, он умел собственными руками изготовлять лекарства.
Старательный и сообразительный ученик мог приобрести в аптеке не только солидные знания, но и прекрасные навыки экспериментатора. Кое-чего стоило и уменье читать и писать по-латыни, которое тоже можно было приобрести в аптеке. Латынь оставалась языком науки — пережиток времен безраздельного владычества католической церкви в средневековых университетах. Поэтому не будем считать случайностью, что десятки аптекарских учеников в XVIII, да и в XIX в. выросли в ученых.
По крайней мере, двое из них сыграли немалую роль в истории алмаза.
Первым из двух был Хемфри Дэви.
Он уже подумывал об университете, когда судьба привела его в аптеку, открыв перед ним шкафы и полки с бесценными сокровищами. Во все биографии Дэви попала фраза аптекаря, у которого Дэви служил: «Можно было подумать, что он питается соляной кислотой, нашатырем, содой — столько он их извел». Доподлинно известно, что Дэви не довольствовался опытами в аптеке: жертвами его экспериментаторского пыла нередко бывали платья сестры, внезапно покрывавшиеся дырами от кислоты.
Вечно занятый человек успевает больше, это — правило почти баз исключений. Именно здесь, в аптеке, Хем-фри Дэви составил и принялся выполнять свою грандиозную программу самообразования.
Прошло несколько лет упорнейшего труда, и ученик аптекаря стал образованным человеком и видным, как сказали бы сейчас, специалистом. И Дэви рекомендовали в Пневматический институт — недавно открывшееся в Клифтоне под Бристолем заведение, предназначенное для получения различных газов и испытания их действия на человека.
Двадцати лет, в 1798 г., Хемфри Дэви отправился туда и привез свое сочинение: «Опыт исследования о природе теплоты и света». Сочинение не особенно интересовало его новых шефов — им нужна была работа, и молодому Дэви поручили исследовать азот — не очень интересный газ.
С упорством и изобретательностью Дэви искал способы соединять безынициативный азот с агрессивным кислородом. Он получил и отделил один от другого многочисленные окислы азота. Все они ядовиты. Не раз двадцатилетний Дэви выходил из лаборатории, пошатываясь, и тут же падал без сознания.
Его упорство было вознаграждено. В один прекрасный день 1799 г. у него получилось какое-то странное соединение азота с кислородом: бесцветное, не обладавшее почти никаким запахом, оно вызывало у человека, подышавшего им, небольшое головокружение и судорожный смех. Никто до Дэви «веселящего» действия закиси азота не обнаруживал.
…Семь клеточек в периодической системе заполнены элементами, открытыми замечательным английским химиком, но ни одно открытие не приносило ему такой популярности, можно смело сказать — славы, как первое.
Дэви немедленно получил приглашение в только что основанный Королевский институт. Он стал любимцем публики, посещающей публичные лекции, — па ее глазах он творил чудеса. Он сделался едва ли не самым известным в Лондоне, если не считать короля, человеком — удовольствие вдохнуть веселящего газа и почувствовать легкое газовое опьянение непременно должна была испытать каждая светская дама.
Дэви не отказывался от приятной чести быть кумиром общества, но в то же время, пользуясь своим новым положением, углубился в серьезнейшие исследования электричества. Со времени первого знакомства с ним кое-что изменилось. Уже существовала первая электрическая батарея — источник длительного постоянного тока, вольтов столб.
В 1807 г. Дэви, разложив электрическим током от сильной батареи дотоле неразложимые «земли» — едкое кали и едкий натр, получил два новых химических элемента — калий и натрий. В следующем 1808 г. электричество помогло ему разложить четыре «щелочные земли» и открыть еще четыре новых элемента — кальций, магний, барий и стронций.
Слава химика Дэви начала греметь по всей Европе. А поскольку эти события происходили в то время, когда Англия вела беспрерывное промышленное и торговое соперничество с континентальной Францией, имя Дэви котировалось настолько высоко, что его чествовали как полководца. В 1812 г. король Британии пожаловал безродному фермерскому внуку рыцарство, как было оно некогда пожаловано другому безродному англичанину — фермерскому сыну Исааку Ньютону.
В то время, когда Дэви купался в лучах славы, тот, кому предстояло вписать вместе с ним следующую страницу в эту историю, был известен разве что своей матери, сестрам да нескольким знакомым.
Майкл Фарадей — рабочий-переплетчик, бедняк, интересующийся науками и посещающий публичные лекции (университет явно не для него). То, что кажется ему достойным внимания, он тщательно записывает.
29 февраля 1812 г. Фарадею достался билет на лекцию знаменитого Дэви о хлорном газе. Фарадей записал ее целиком и назавтра, под впечатлением слышанного, переплел свою запись со тщанием мастера, делающего работу для себя, и послал ее недосягаемому лектору с письмом, в котором робко высказал надежду добиться когда-нибудь чести — помогать ученому в его работе.
Прочитав письмо и подивившись как добросовестности изложения своей лекции, так и искусному переплету, Дэви пригласил переплетчика к себе.
В помощники он его не взял, но и не оставил знакомства без последствий — стал посылать Фарадею книги в переплет.
Многие биографы Фарадея пишут, что прошел целый год между днем знакомства и тем днем, когда он, наконец, стал работать у Дэви. И что все это время Фарадей исполнял лишь мелкие поручения Дэви, который, вероятно, хотел поближе присмотреться к будущему помощнику.
Существует и несколько иная версия: будто бы сэр Хемфри показал письмо и переплетенные лекции одному из своих друзей и спросил: «Что прикажете с ним делать?». И будто бы тот посоветовал: «Позовите парня и предложите ему мыть бутылки для опытов. Если согласится, берите — из него будет толк. Если нет — гоните».
Было так на самом деле или нет — сказать теперь трудно.
Так или иначе, Майкл Фарадей добился своего, хоть и не без помощи случая. При опытах с легко взрывающимся хлористым азотом Дэви поранил глаза и не мог писать. Он вызвал Фарадея к себе и диктовал ему результаты опытов, которые тот заносил в лабораторный журнал. И Дэви имел возможность еще раз убедиться в сообразительности и исполнительности молодого человека.
1 марта 1813 г. Майкл Фарадей получил официальное письмо — приглашение от сэра Хемфри и на следующий день стал лаборантом в Королевском институте. Диплома для занятия этой должности в те годы не требовалось, и претендентов на нее было, вероятно, не так уж много.
Пройдет двенадцать лет, и Дэви рекомендует Фарадея на пост директора лабораторий Королевского института. А пока что молчаливый лаборант помогал своему блестящему патрону готовить эксперименты и впитывал все новые и новые порции знания, представавшего перед ним теперь не в виде публичных опытов, бьющих на эффект, а в буднях труда и в маленьких открытиях, из которых слагается наука.
Осенью 1814 г. Дэви принял приглашение ученых и академий многих стран и решил совершить турне по континенту — в Англии так называют прочие европейские страны.
Его сопровождали: супруга — леди Дэви (по свидетельствам современников, не слишком умная, довольно вздорная и чопорная дама) и Майкл Фарадей — секретарь и слуга.
Известно, что Фарадей чуть не отказался от поездки, ибо считал, что бедняк должен быть щепетильнее, чем кто-либо другой. Уговорила его принять предложение мать, твердо знавшая, что никакая работа не зазорна, если это полезная работа. Необразованная миссис Фарадей, вероятно, догадывалась о зависимости между новыми впечатлениями и научным творчеством, не поддающейся строгим формулировкам. И кто знает: если бы не ока, когда пришлось бы Майклу повидать мир.
В багаже знаменитого ученого и его пока еще никому не известного секретаря-слуги был вместительный кофр, в котором помещались все необходимые для исследований приборы. Историки науки утверждают, что это была первая в мире передвижная лаборатория.
Поколесив по Франции, путешественники отправились в Италию. Там, в Генуе, вволю полюбовавшись старинными крепостями, они бродили у моря и наблюдали за рыбаками, разгружающими обильный улов. Просто так? Ни в коем случае! Именно здесь Дэви приходит в голову мысль разложить воду на водород и кислород с помощью электрических скатов. Опыт не удается, ничего не поделаешь…
Через несколько дней они прибыли во Флоренцию. Не следует забывать, что вместе с ними прибыла и леди Дэвн, которой Фарадей уже достаточно обязан неприятными минутами: эта дама желала видеть в нем слугу. Едва не вспыхнул конфликт, и Дэви с трудом удалось потушигь его. Стремясь хоть на несколько дней разрядить накалившуюся обстановку, он предложил отправиться в академию.
Залы флорентийской академии Дель Чименто многое повидали.
Здесь хранятся рукописи Галилео Галилея и телескоп, которым он открыл спутники Юпитера. Здесь ставил опыты, которые до сих пор повторяют во всех школах (торричеллиева пустота), Эванджелиста Торричелли, ученик Галилея.
Но потом здесь стало тихо, работа заглохла. Книги и приборы пылились на полках уже не один десяток лет.
В один из весенних дней 1814 г. тишина пустынных залов была нарушена. В академию Дель Чименто прибыл блистательный член Лондонского королевского общества сэр Хемфри Дэви.
И вот из пыльных шкафов извлекли отличные старые колбы итальянских мастеров-стеклодувов. Из закоулков академических шкафов появился зажигательный прибор, с помощью которого, как говорят, удивили некогда своего герцога ученые флорентийцы.
Дэви и его секретарь Фарадей установили зажигательный прибор на площадке перед дворцом — на том самом месте, где когда-то в лучах солнца, собранных увеличительным стеклом, исчез алмаз.
Наглухо запаянная колба наполнена чистым кислородом — Дэви добыл его, разлагая воду электричеством от вольтова столба. Внутри на платиновой подставке укреплен бриллиант. Фарадей навел на него зажигательное стекло, и вскоре над сверкающим камнем показался дымок. Колбу пришлось отставить в сторону. Потом Фарадей снова ставит ее прямо в фокус линзы…
И вскоре алмаз внутри колбы вспыхнул и пропал.
Пока сэр Хемфри с удовольствием принимал поздравления и обменивался любезностями с хозяевами, Фарадей разобрал аппарат, осторожно уложил массивные стекла в обитые бархатом и замшей ящики.
А на следующее утро, к великому неудовольствию леди Дэви, уже приказавшей упаковать свои туалеты и нанять экипаж для дальнейшего путешествия, ее супруг объявил, что он намерен задержаться во Флоренции.
Спектакль прошел успешно, но это теперь нисколько его не интересует. Алмаз в кислороде горит. Подумаешь, новость! Это давно знает любой студент.
А что будет, если накалить драгоценный камень в хлорине? Если в нем есть гидроген, как считают многие химики, то он образует с хлорином едкий газ…
В квадратном дворике академии Дель Чименто снова появляются два англичанина. Носильщики-итальянцы медленно несут за ними охваченный широкими ремнями кофр, битком набитый стеклом и химикалиями. Проходит несколько часов — ив одной из выходящих во двор комнат возникает настоящая лаборатория. Клубы желто-зеленого газа бушуют в пузатых колбах. Один за другим наполняет сэр Хемфри хлорином три сосуда. Три других сосуда он наполняет оксигеном — кислородом.
Первой в фокус линзы попадает колба, наполненная хлорным газом. На дне ее, поблескивает маленький прозрачный камень. Фарадей регулирует положение линзы, кристалл ослепительно сверкает; проходит минута, другая — кристалл сверкает по-прежнему. Прошел час, потом два, на небе появились облака. Опыт пришлось прекратить, записав, что в хлорном газе алмаз под действием собранных линзой солнечных лучей не загорается.
Ночью во Флоренции было облачно, но к утру небо прояснилось.
И едва солнце поднялось поближе к зениту, Дэви с Фарадеем уже снова колдовали у линзы. На этот раз тщательно взвешенный кристалл алмаза был помещен в большой Сосуд с кислородом, вес которого до и после наполнения газом тоже, разумеется, был определен самым тщательным образом.
Как и следовало ожидать, теперь алмаз не смог оказать большого сопротивления жгучему солнечному лучу, сфокусированному линзой на его сверкающей грани. Он задымился, начал темнеть, почернел, вспыхнул — и исчез. Сгорел.
Когда сосуд остыл, исследователи долго рассматривали его на свет, стараясь обнаружить хоть каплю влаги, хоть легкое помутнение стенок, — если бы в алмазе содержался водород, он должен был соединиться с кислородом, образовав воду. Но сосуд был идеально прозрачен.
К вечеру весы дали точный и определенный ответ: после сожжения алмаза в кислороде сосуд не содержал ничего, кроме углекислоты и некоторого количества кислорода.
Но Дэви не успокоился и послал Фарадея за новыми алмазами.
Следующие два дня стояла на редкость ясная погода. И Дэви воспользовался этим обстоятельством в полной мере. Еще несколько раз они превращали мелкие бриллианты в невидимый газ, растворяли его, взвешивали и тщательно записывали результаты каждого опыта.
Только на пятый день Дэви велел Фарадею запаковать приборы в кофр.
Исследование закончилось, прибавить к нему было нечего. Драгоценнейший из драгоценных камней оказался не просто химическим родственником самых обыкновенных горючих веществ, как фосфор или уголь. Он оказался просто тем же самым углем! Вернее, уголь и алмаз оказались двумя лицами одного и того же вещества.
А всего через девять лет после опытов Дэви и Фарадея уже была предпринята первая зарегистрированная в истории науки попытка превратить уголь в алмаз.
Глава II
«ОБРУДЕНЕЛЫЙ СВЕТ СОЛНЕЧНЫЙ…»
Пожалуй, такой темп развития интересующих нас событий надо признать довольно высоким. Ведь до так называемого информационного взрыва было еще далеко. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного в этих темпах нет, поскольку речь шла о предмете, к которому даже самые что ни на есть ученые мужи XIX в. испытывали совершенно особые чувства.
И так как именно этими чувствами, а не одними только знаниями, двигалась вперед алмазная эпопея, имеет смысл предложить вниманию читателя один из характернейших документов той эпохи, а именно:
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ О ЗНАМЕНИТОМ АЛМАЗЕ «САНСИ»
Сочинение Я. Зембницкаго Императорского Санкт-Петербургского Университета и Главного Педагогического Института профессора, Минералогического Общества в С.-Петербурге члена-учредителя и директора.
Издано оным Обществом С.-Петербург, в типографии Н. Греча 1835.
В числе алмазов необыкновенной величины, хранящихся между сокровищами владетельных особ разных стран, весьма замечателен алмаз «Санси». Нет сомнения, что он происходит из Восточной Индии, подобно всем известным доселе большим алмазам, кроме алмаза, принадлежащего португальскому королю, который найден в Бразилии. Около четырех веков «Санси» существует в Европе, где переходил он в разные времена из рук в руки людей разного состояния и звания, имел самую высокую и низкую цену, был собственностью знаменитых особ и многих царей, служил предметом коммерческих расчетов и средством к политическим выгодам.
Происхождение сего алмаза из Восточной Индии и существование его в Европе ознаменовалось весьма любопытными событиями, по сказаниям некоторых писателей; но по недостатку точных хронологических сведений нельзя написать полной истории алмаза «Санси». Итак, ограничимся только очерком известных эпох его существования в Европе. Первым из владетелей алмаза «Санси» был герцог бургундский Карл Смелый. Известно, что алмазы с незапамятных времен служили для украшений в естественной тусклой оболочке: Карл Великий имел в своей мантии четыре алмаза, покрытые грубою естественною корою. Но в 1475 году голландский дворянин Людвиг Беркен, родом из Брюгте, первым открыл способ гранить, шлифовать и полировать алмазы. В этом же году он в первый раз обработал для Карла Смелого алмаз лимонно-желтого цвета в виде розы, весом в 139V2 карат. В то время сей алмаз по величине своей считался первый в Европе; цена его 2 608 335 ливров. Сей алмаз находился потом во Флоренции, а ныне хранится в Вене между сокровищами австрийского императора. Кроме того, Карл Смелый отдал Беркену в 1476 году три больших алмаза для ошлифования. Беркен обработал их так искусно, что герцог, будучи сам весьма доволен, пожаловал ему в награду три тысячи червонных. Один из сих алмазов подарен Карлом папе Сиксту IV, другой — Людовику XI, а третий оставил он у себя и носил его в перстне до того самого времени, когда был убит в сражении при Нанси в 1477 году. Алмаз «Санси» принадлежал также Карлу Смелому и во время сего сражения украшал его шлем, который между убитыми найден швейцарским солдатом; сей обладатель драгоценного алмаза продал его за один флорин пастору, от коего он достался неизвестному лицу за полтора флорина.
В 1489 году «Санси» принадлежал португальскому королю Антону, который, имея нужду в деньгах, отдал оный в залог одному французскому дворянину за 40 тысяч турских ливров, а впоследствии продал ехму за 100 тысяч франков. У наследников сего дворянина он хранился около ста лет. Французский король Генрих III, находясь в затруднительном положении, обратился в 1588 году к одному из французских дворян, имевшему алмаз «Санси» по наследству, с изъявлением желания получить сей камень для отдачи в залог. Этот дворянин есть Николай Гарлей Санси, имевший последнее прозвание по имени одного из родовых владений своих, а от него перешло оно к алмазу «Санси», коего приобретение приписывают, между прочим, барону Санси, французскому посланнику в Константинополе, где он будто бы купил его за 600 000 ливров. Но по известиям более достоверным сей алмаз достался в наследство, как выше сказано, Николаю Гар-лею Санси, который при Генрихе III вступил в службу и два раза имел поручения от сего короля вербовать рекрут в Швейцарии для вспомогательного войска. Во второй раз для сей цели Николай Санси отправился в Швейцарию по воле Генриха III уполномоченным посланником в 1588 году и пребывание свое имел в Солотурне. Но как для набора сказанного войска Генрих III нуждался в деньгах, то он просил Николая Санси временно уступить алмаз его с тем, чтобы под залог его достать требуемую сумму денег. Николай Сапси, усердствуя королю своему, послал ему из Солотурна во Францию алмаз с одним из преданных ему слуг, который был родом швейцарец. Посланник, вручая верному швейцарцу драгоценный камень, напомнил, чтобы он остерегался разбойников; но швейцарец отвечал, что если он лишится жизни от рук разбойников, то алмаз им не достанется. И действительно, слуга, заметив в Юрских горах шайку разбойников и желая скрыть от них алмаз, проглотил его и пустился в путь. Однако ж разбойники напали на него, обыскали и в негодовании на обманутое ожидание получить богатую прибыль убили доброго и усердного швейцарца.
Николай Санси тщетно ожидал возвращения слуги своего и, не имея никакого уведомления о нем, употребил все возможные средства к его отысканию; наконец он узнал, что слуга убит в показанном месте и тело его погребено тамошними крестьянами. Санси, приехав туда, велел отрыть тело своего слуги, и по вскрытии его алмаз найден в желудке; но Санси сердечно сетовал о потере честного и преданного ему человека.
Этот Санси по кончине Генриха III, последовавшей в 1589 году, находился в службе при Генрихе IV, а потом при Марии Медичи; в продолжение службы своей он исполнял важные поручения по государственным делам и в одной из официальных бумаг своих, во время управления Марии Медичи, поставил на вид, что он всем имуществом своим пожертвовал для блага своего отечества, а между прочим упомянул, что он в смутных обстоятельствах царствования Генриха III отдал ему свой алмаз на подкрепление сил его войска. Сей Николай Гарлей Санси помер 7 октября 1619 года.
Английский король Яков II по прибытии своем во Францию в 1688 году имел у себя алмаз «Санси», а потом сей дорогой камень поступил в число сокровищ Людовика XIV. В 1775 году король Людовик XVI в день венчания своего на царство имел в короне алмаз «Санси», который составлял собственность сокровищ французского двора до 1789 года. Во время революции сей алмаз скрывался в неизвестности, но в 1830 году он был собственностью одной особы, по поручению которой в Париже ювелир Марион Бур-гиньон, известный по совершенству своего искусства подделывать алмазы, составил образцы его из стекла, известного под именем страза.
Наконец, алмаз «Санси» существованием своим в России обязан Его Превосходительству Павлу Николаевичу Демидову, который, усердствуя к существенным пользам своего отечества, обращает внимание.на изящные и редкие предметы природы и искусства. Это внимание побудило его дать приют в Россию изящному алмазу «Сапси» приобретением его за 500 000 франков. Ценою таковой суммы сделался сей алмаз в 1830 году собственностью Павла Николаевича по условиям его с французским негоциантом Жаном Фриделейном, но из документов, заключающих сии условия, оказывается, что алмаз «Санси» принадлежал в последнее время особе знаменитой французской фамилии, герцогине Б. А потому негоцианта Ж. Фриделейна надобно считать только агентом ея в продаже алмаза «Санси». Сей алмаз имеет вид груши, ограниченной двойною резьбою, прозрачность его массы представляется в таком совершенстве, которое означается выражением: чистейшая вода; вес его 53 1/2 карата, по точному исследованию, произведенному в Минералогическом обществе действительным членом А. А. Дювалем. Сей отличный знаток сущности и превосходства драгоценных камней утверждает, что суммою в 500 000 рублей не определяется достоинство алмаза «Санси», ибо он стоит несравненно большей цены.
В росписи драгоценных камней, принадлежащих к сокровищам французского двора, сей алмаз показан в 1 000 000 ливров…»
Далек и нелегок был путь, который должны были проделать научные известия из Западной Европы, чтобы достичь России, Харьковской губернии, Богодуховского уезда, а там села Кручик, где проживал в те времена под гласным надзором полиции помещик Василий Назарович Каразип.
Во всей русской истории конца XVIII — начала XIX в. нелегко найти другого человека, интересы которого были бы столь разносторонне а поступки, во всяком случае на первый взгляд, столь противоречивы.
Василий Назарович Каразин был. видным деятелем российского просвещения, по его инициативе и в значительной мере его трудами был создан первый на Украине и один из первых в Российской империи университет — Харьковский. Но в шеренге отечественных просветителей, в которой крайним левым стоял Александр Радищев, Каразин находился на самом правом фланге.
В 1801 г. он тайно пробрался в апартаменты только что пришедшего к власти Александра I и оставил там анонимное послание — перечень действий, которые должен предпринять «хороший государь» для блага отечества.
И он же полтора десятка лет спустя оказался способен направить министру внутренних дел донос, в котором, между прочим, писал: «Дух развратной вольности более и более заражает все состояния… Молодые люди первых фамилий восхищаются французской вольностью и не скрывают своего желания ввести ее в своем отечестве… Сей дух поддерживается масонскими ложами и вздорными нашими журнальчиками, которые не пропускают ни одного случая разливать так называемые либеральные начала, между тем как никто из журналистов и не думает говорить о порядке… В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей… Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них Пушкин по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство…»
Подобные поступки, совершенно полярные по современным понятиям, вряд ли казались столь уж противоположными людям той эпохи и того мировоззрения, к каким принадлежал Каразин.
Между 1773 г., когда в семье подполковника Карази-на родился сын Василий, и 1791 г., когда он приехал в Петербург, чтобы занять положенное ему место в Семеновском полку, произошла революция во Франции. Идеи французских просветителей, подхваченные передовыми мыслителями России, горячо обсуждались столичной дворянской молодежью. Военная карьера переставала казаться единственной достойной возможностью служения отечеству.
И восемнадцатилетний лейб-гвардии сержант Василий Каразин все свободное от экзерциций, караулов и парадов время проводит в Горном кадетском корпусе.
Горный кадетский корпус — лучшее техническое училище Петербурга — готовил специалистов для горнозаводского дела. Каразин слушал лекции по математике, физике, химии, геологии, металлургии, штудировал труды Ломоносова и ученых Западной Европы, занимался в лабораториях. В их числе, кстати, работала при училище так называемая яхонтовая литейка для плавки драгоценных камней. И сохранились сведения о том, что в этой яхонтовой литейке преподаватель училища Александр Матвеевич Карамышев демонстрировал «сжигание алмаза нарочитой величины».
Естественно, что эффектный опыт весьма живо обсуждался. И дискуссии эти были документально зафиксированы; правда, не в виде ученого мемуара, а в ином литературном жанре — басни. (Последнему обстоятельству удивляться не следует — русская поэзия XVIII в. не чуралась научной тематики: достаточно упомянуть знаменитую сатиру Антиоха Кантемира «На хулящих учение» или не менее знаменитое «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния» Михаила Васильевича Ломоносова.)
Басня, касающаяся алмазов, была написана служившим в Горном корпусе известным литератором Иваном Ивановичем Хемницером. Вот она:
Впрочем, после событий, отраженных в этих строках, в жизни Каразина происходит еще множество поворотов, имеющих к занятиям наукой отношение иногда довольно далекое. Гвардейцем он был недолго, через два года после прибытия в Петербург вышел в отставку, вернулся в деревню и женился на крепостной девушке. А вскоре двадцатипятилетний помещик решил уехать из России. С прошением о выдаче паспорта для «морских лечений» в Копенгагене и Данциге он обратился, куда следует, и, получив отказ, пытался вместе с женой перейти границу тайно. На Немане беглецов ловят, Каразина сажают в тюрьму. С оказией он отправляет царю Павлу письмо, в котором сообщает, что единственной причиной бегства было желание учиться.
Его прощают.
Следующее изменение в судьбе Каразина производят убийство Павла и воцарение Александра I — новый царь для начала прикинулся чуть не либералом и даже вернул из ссылки Радищева.
Именно тогда Каразин пробирается в царские покои и подбрасывает анонимные советы монарху. Аноним был раскрыт довольно быстро, однако принят монархом благосклонно. Автора приблизили ко двору, и Каразин занялся проектом создания первого в Европе министерства народного просвещения… Следующее дело Каразина — учреждение Харьковского университета, за что ему поставлен в Харькове памятник. Университет торжественно открыли 17 января 1805 г.
Но учредителя на торжественной церемонии уже не было: незадолго перед тем (царю уже не было нужды играть либерала) Каразина выпроводили из министерства народного просвещения, и он удалился в свое поместье под Богодуховом.
Однако пора сказать и об увлечениях Каразина наукой и техникой.
Первое его изобретение — паровой двигатель без рычагов и поршней.
На носу лодки Каразин поставил «самовар», провел от него трубку вниз к килю, внутри киля продолбил цилиндрическую полость, подобрав ее сечение в разных местах так, чтобы пар из канала вырывался под кормой толчками и сама лодка двигалась вперед.
Собственно говоря, это был реактивный движитель.
Второе изобретение Каразина — паровое отопление. Он устроил его у себя в селе Кручик и предложил обогревать таким способом дома в городах. «Целые кварталы городов, — писал Каразин, — могут быть… нагреваемы самоварами, отодвинутыми на средину площадей и в другие безопасные места». Проект этот был отвергнут, а лет через двадцать изобретение повторили в Германии и паровое отопление стало быстро распространяться во всех крупных городах мира.
Кстати, и первое изобретение Каразина было повторено — в Англии подобная лодка поплыла по Темзе.
Каразин занимается совершенствованием винокуренного производства и проектом «завладения» атмосферным электричеством. Составляет проект метеорологической службы всей России. Экспериментирует с углем…
В 1829 г. Каразин ездил в Москву, виделся там со знаменитым немецким естествоиспытателем Александром фон Гумбольдтом, совершавшим путешествие по России, и сделал ему подарок.
Вот что известно об этом.
«Я подарил знаменитому господину Гумбольдту в его проезд через Москву огромную жабу, приготовленную сим образом, которую с первого взгляда можно было почесть за живую…»
Каким же «сим образом»?
И об этом сделал запись Каразин: вещество, которым была пропитана лягушка, добыл при опытах по сухой перегонке дерева и назвал его пирогононом — огнерожденным.
«Это вещество по наружности подобно смоле, совершенно и во всех пропорциях растворяется в алкоголе и воде равно…
Пирогононом, растворив его в алкоголе, проникнутые животные тела бальзамируются и могут веки сохранены быть, ничего не потеряв из своего наружного виду…
В художественном отношений он обещает другие чудеса; и я усердно прошу гг. химиков и технологов заняться опытами его обрабатывания: особливо долговременного действия на него постепенно усиливаемого огня, который бы напоследок был доведен до белого каления…»
Что же это за чудеса, да еще в художественном отношении?
«Сим образом случилось мне добыть не только род антрацита, но и другое чрезвычайно твердое вещество в кристаллах, которое профессор химии Сухомлинов почел подходящим ближе к алмазу.
Я имею его о сем собственноручную записку, представленную им г-ну попечителю Е. В. К, которого я просил об испытании сего вещества в лаборатории Харьковского императорского университета. Это было в генваре или феврале 1823 года…»
Итак, в январе или феврале 1823 г. в селе Кручик Харьковской губернии во время опытов с углеродсодержащими веществами были получены чрезвычайно твердые кристаллы, исследование которых в университетской химической лаборатории показало, что они подобны алмазу.
Как именно производил Каразин свои опыты, какой аппаратурой пользовался, как и где возникали кристаллы — всего этого, к сожалению, не знает никто — никаких сведений о том не сохранилось.
В статье Каразина «О сжении угля с расчетом», из которой стало известно об этих опытах, есть еще два упоминания об алмазе. Первое — очевидно, исходное: «Малейшее изменение в соразмерности рождает уже иное химическое тело, отличное для наших чувств… чему разительным примером… могут служить чистый уголь (алмаз) и угль». Второе — поэтическое и, с сегодняшней точки зрения, довольно глубокое:
«Стихий, не разлагаемых для химии, насчитывают более пятидесяти, а вероятно, и еще откроется несколько… Может быть, свет на одной и платина на другой стороне суть крайние пределы составов… Вероятно, алмаз… стоит на средине между светом и платиной. Он есть, так сказать, кристаллизованный обруденелый свет солнечный».
Глава III
ТРУБКИ И МЕТЕОРИТЫ
А тем временем шла промышленная революция. В 1819 г. Атлантику пересек пароход, в 1827 г. была построена железная дорога, в 1867 г. заработала динамо-машина, возвестившая смену века пара веком электричества. Вовлекались в промышленный оборот огромные количества новых материалов, и жизнь требовала от химиков все новых и новых веществ и соединений, все новых и новых как можно более дешевых способов превращения их в как можно более дорогой товар.
Не мудрено, что в этом бурлящем котле новых проблем, вставших перед наукой, затерялась и стушевалась небезынтересная и небессмысленная в принципе задача, занимавшая немало умов в начале XIX в. «При заре, распространившейся на все естественные науки от открытия бессмертного Лавуазьера, — написал в одном из своих сочинений Василий Каразин, — все устремились к чистому умозрению и занимались ближайшим токмо к нему опытодействием, не имея еще времени на технические приложения новых истин».
Но вряд ли временная потеря интереса к алмазной проблеме объяснялась одной только этой причиной. Как ни бесспорна обусловленность науки производством, ее зависимость от производства, — наука, вызванная к жизни потребностями общества, развивается дальше уже по своим собственным законам. Окончательно установив в первой четверти XIX в., что уголь и алмаз построены из атомов одного и того же элемента, ученые того времени ни при каких условиях не могли бы узнать, как именно сложены эти атомы и какие условия нужны, чтобы из них получилось то или другое. Многих необходимых для этого вещей (например, рентгена) просто еще не было и не могло быть в то время. Науке предстояло еще копить, так сказать, косвенные улики.
Одну из них — возможно, важнейшую — обнаружил в 1860 г. профессор Берлинского университета доктор минералогии Густав Розе. Собственна говоря, его опыт не намного отличался от того, что делали до него Лавуазье, Дэви и Фарадей: Розе сильно нагрел алмаз.
Но в отличие от Лавуазье, он удалил из сосуда, где шел опыт, весь воздух, а в отличие от Дэви и Фарадея, не заполнил сосуд никакими другими субстанциями.
И алмазный кристаллик, разогретый профессором Розе примерно до 1000° С, не сгорел, ибо ему не в чем было гореть. Но зато Розе увидел, как алмаз начал обугливаться — превращаться в графит.
Вообще-то говоря, из этого можно было заключить, что при такой температуре графит тоже может превратиться в алмаз. Но, наверное, чего-то для этого не хватало. Намеком на то, чего именно, могло бы служить очевидное различие в удельном весе разных форм углерода: по плотности алмаз превосходит графит почти в полтора раза (3,5 и 2,3). Однако намек этот понят был далеко не сразу. Во всяком случае, профессор Розе, описат», как полагается, в научном трактате превращение алмаза в графит, дальше не пошел. Видимо, должны были произойти еще, по меньшей мере, два заметных события, прежде чем различие в удельных весах привлекло к себе внимание.
Первое из этих событий произошло через семь лет после опыта Розе, сопровождалось немалым шумом и не имело к науке ни малейшего отношения.
«Моряки бежали с кораблей, солдаты покидали армию. Полицейские бросали оружие и выпускали заключенных. Купцы убегали со своих процветающих торговых предприятий, а служащие — из своих контор. Фермеры оставляли свои стада на голодную смерть, и все наперегонки бежали к берегам рек Вааль и Оранжевой», — так начиналась эта история в южноафриканском городе Кимберли (описание его принадлежит уже нашему времени, но оно хорошо передает суть описываемых событий).
А вот с чего вся эта история началась. Девочка из семьи небогатого колониста нашла на берегу реки сверкающий камешек и отнесла его матери. Однажды к ним приехал другой колонист, по фамилии Ван-Никерк. (Имя девочки в этой истории почему-то нигде не упоминается.) То ли гость решил, что камень что-то собой представляет, то ли просто захотел взять красивую безделущку — так или иначе камень перекочевал к нему.
Дальше историки немного по-разному пишут о деталях, но более или менее сходятся в главном: камешек попал в Кейптаун. Одни считают, что некий бродячий торговец, увидев блестящую штучку у Ван-Никерка, заинтересовался, не топаз ли это. Другие называют даже имя этого человека — Джон О’Релли, его национальность — ирландец и его основное занятие — охотник за страусами.
Так или иначе, камень попал в город. Здесь его долго не могли опознать. То ли торговец, то ли сам Ван-Ни-керк пытался его сбыть, но камешек, с точки зрения понимающих людей, не стоил ломаного гроша. Кто-то упорно повторял, что это топаз… Было даже пари: один из его участников прозакладывал свою шляпу — и предмет спора послали на проверку какому-то химику. И камень был немедленно куплен за 500 фунтов стерлингов.
Вот тогда и начался тот самый тарарам, о котором в столь торжественных выражениях поведал кимберлийский летописец. Даже дом на той ферме, с которой все началось, поломали в пух и прах, не пощадив коровника, — алмазы выбирали прямо из глины, которой были обмазаны стены.
Итак, моряки бежали с кораблей, полицейские бросали оружие и выпускали заключенных, а купцы убегали из своих контор… Причем специалисты всех названных категорий, безусловно, находили применение своим профессиональным навыкам в районе Кимберли. Может быть, правда, кроме моряков.
Алмазоискатели рыли землю — и обнаруживали с самого верху голубую глину, в которой прятались алмазы. Рыли в другом месте — и бросали старое: в новом алмазов было больше. За неделю наживали состояние.
В одном месте они продолжали рыть голубую глину все глубже и глубже; здесь было основано самое известное в мире предприятие по добыче природных алмазов, известное до наших дней, — Виг Хол (Большая Дыра)…
Через несколько лет дело было уже в полном разгаре, на промышленной основе. Но того, кому предстояло прибрать все эти копи к рукам, там еще не было.
Он появился только в 70-х годах — семнадцатилетний парень по имени Сесил Джон Родс, англичанин из метрополии, сын бедного священника. Не зная, с какой стороны подъехать к богатствам, и ничего не смысля в горном деле, он открыл захудалую лавчонку.
В 1892 г. лавочка Родса стала называться Алмазным синдикатом. Синдикат существует и до сих пор, контролируя четыре пятых добычи алмазов в капиталистическом мире… Сесил Джон Родс был первым президентом синдиката и неофициальным диктатором Южной Африки. Достиг он этого тем же простым путем, каким шли все его предшественники и последователя в подобного рода историях: уничтожал — в том числе С помощью ножа и пистолета — конкурентов, а заодно и всех тех, кто ему в чем бы то ни было мешал.
Разумеется, в числе прочих алмазных рудников в лапы предприимчивого молодого человека попала и Биг Хол, к тому времени еще больше оправдывавшая свое название.
Дыра получалась все глубже, потому что залежь голубой глины выходила на поверхность небольшим пятном и шла отвесно вниз. Она была округлой, похожей на длинное жерло. Как будто бог подземного царства Плутон, набрав в рот голубой глины вперемешку с алмазами, что есть силы дунул вверх, продул насквозь земную кору и образовавшуюся трубку набил голубой алмазоносной глиной, словно вафлю кремом.
Здесь геологи впервые встретились не с алмазоносной галькой или песком — одним словом, не с россыпью, разрушенными водой, ветром и солнцем остатками первоначального месторождения, а с коренной залежью алмазов. Первый раз алмазы лежали в своем естественном окружении, а не там, куда их перенесли пески или вода. И это позволяло кое-что сказать о их происхождении.
Было похоже, что драгоценные блестящие и твердые камешки образовались не здесь, в трубке, а были некогда принесены сюда из недр земных. А в каменных недрах земли царит, как известно, высочайшее давление, созда-. ваемое под действием закона всемирного тяготения весом вышележащих слоев земли.
Так не это ли самое давление, сдавливая уголь или графит, уплотняло его, превращая в алмаз?
Но если так, то нечего было и пытаться изготовлять алмаз с помощью одного только жара, как это делал Каразин, а спустя несколько лет — Каньяр де ла Тур и Ганналь, и двадцать четыре года спустя — Депретц, каливший сахарный уголь вольтовой дугой.
По примеру природной преисподней вдобавок к плутоническому жару следовало употребить и плутоническое давление.
Какой величины? А кто его знает! Надо пробовать…
Первым, кто попробовал это сделать, был Баллантин Хэнней из Глазго. Предпринимая в 1880 г. свою — четвертую по общему счету — попытку изготовить искусственный алмаз, он уже употреблял устройство, позволяющее не только раскалять, но и сжимать вещество, которому следовало превратиться в драгоценный камень. Таким веществом в опытах Хэннея служило костяное масло.
О прочих подробностях этих экспериментов будет рассказано дальше. А сейчас следует перейти к другому событию — оно произошло вскоре после начала алмазной лихорадки на берегах Вааля и Оранжевой на берегу другой реки — мало кому известной реки Алатырь в России, в Пензенской губернии.
Метеорит может упасть прямо у вашего порога. В метеорите могут быть алмазы…
Оба эти утверждения — строго научные! — даже сегодня воспринимаются несколько более романтично, чем полагалось бы научным констатациям. Нетрудно понять, что когда второе из них — об алмазах в метеорите — было высказано впервые и с полным на то основанием, реакция публики была еще острее.
Это было в конце прошлого века, и красивая история об алмазах с неба с тех пор живет сама по себе, время от времени возвращаясь то тут, то там на печатные страницы самых разных изданий — от научных до бульварных. Иногда небесный алмаз находит неотразимый испанский дипломат и дарит его русской принцессе (вариант — русский дипломат дарит испанской принцессе), иногда пересказывается просто история с падением каменного метеорита в заштатном Краснослободском уезде. Цитируется в извлечениях и первоисточник — письмо, присланное с места происшествия в Петербург, директору Лесного института Василию Тарасовичу Собичевскому.
Публикуемые обычно извлечения из письма касаются собственно фактов. Но дело ведь не только в самих фактах — они принадлежат своему времени, и любая пропущенная строчка и даже слово чем-то обедняют пересказ, в чем-то умаляют его достоверность. Нсштому здесь первоисточник сведений о Ново-Урейском метеорите помещен полностью, без сокращений.
«Его Превосходительству
Господину Директору С.-Петербургского лесного института.
В ответ на Ваше письмо от 18 февраля 1887 года имею честь сообщить Вам следующее.
В том месте, где северная граница Краснослободского уезда Пензенской губернии переходит в восточную, на правом берегу реки Алатыря расположилась небольшая деревушка Новый Урейский выселок, Новый Урей тож. На противулоложном, нижегородском берегу находится село Николаевка (смотри топографическую карту Главного штаба или большую карту Пензенской губернии издания Ильина, а также карту России, приложенную к географии Э. Реклю «Европейской России»).
10 сентября 1886 года рано поутру несколько новоурейских крестьян верстах в трех от деревни пахали свое поле. День был пасмурный, хотя дождя не было, но вся северо-восточная сторона неба была покрыта тучами. Крестьяне с часу на час ожидали дождя. Вдруг совершенно неожиданно сильный свет озарил всю окрестность; затем через несколько секунд раздался страшный треск, подобный пушечному выстрелу или взрыву, за ним второй, более сильный. Вместе с шумом в нескольких саженях от крестьян упал на землю огненный шар; вслед за этим шаром невдалеке над лесом опустился другой, значительно больше первого. Все явление продолжалось не более минуты.
Обезумевшие от страха крестьяне не знали, что делать, они попадали на землю и долго не решались двинуться с места, им показалось, что разразилась сильнейшая гроза и с неба начали падать «громовые стрелы». Наконец один из них, несколько ободрившись, отправился к тому месту, где упала громовая стрела, и, к удивлению своему, нашел неглубокую яму; в середине ея, углубившись до половины в землю, лежал очень горячий камень черного цвета. Тяжесть камня поразила крестьян. Затем они отправились к лесу разыскать второй большой камень, но все усилия их были напрасны: лес в этом месте представляет много болот и топей, и найти аэролита им не удалось; по всей вероятности, он упал в воду.
На следующий день один из крестьян того же Урейского выселка отправился на свое поле посмотреть копны гречихи. Здесь совершенно случайно им был найден такой же точно камень, какой принесли накануне его соседи. Камень тоже образовал вокруг себя ямку; часть камня была в земле. Поле гречихи находилось довольно далеко от дороги и не особенно далеко от вчерашней пашни; все это вполне убедило крестьян, что камень одного происхождения с упавшим вчера.
Дальнейшие поиски крестьян в окрестностях Нового У рея не привели ни к чему. Следовательно, выпало всего три куска. Самый большой из них упал, без сомнения, в лесу в болото; второй по величине, упавший при крестьянах на пашне, приобретен мною и отослан Вам для минералогического кабинета института, и, наконец, третий, найденный крестьянином в гречихе, съеден суеверной мордвою...
Верстах в двух от места падения аэролита находится кордон большеуркатской дачи (ведомства министерства государственного имущества). Лесник этого кордона по поручению Санкт-Петербургской главной физической обсерватории производит метеорологические наблюдения над грозами и зарницами. Когда раздался страшный треск, леснику показалось, что началась гроза. Как ни странно леснику было услышать грозу почти в начале сентября, тем не менее он взял бланк и, взглянувши на часы, выставил в графе «Начало грозы» в 7 часов 18 минут утра. Выйдя вслед за тем из комнаты для определения силы и направления ветра и облаков, лесник не заметил положительно никаких признаков грозы; вследствие этого, он предположил, что, вероятно, произошел взрыв парового котла на одном из ближайших заводов (верстах в семи к югу и к северу от кордона находятся два завода); те же самые заключения сделали и жители Нового Урея и Николаевки; только к вечеру окрестные крестьяне узнали истинную причину «грома». По словам крестьян, бывших в деревне, удары «грома» повторялись более трех раз.
На русское население падение метеорита не произвело почти никакого впечатления; совсем не так отнеслась к этому мордва. Через несколько дней толпы мордовок направились в Новый Урей за «христовым камнем»; многие несли последние гроши, чтобы купить хоть крошку святыни. «Христов камень» получил почему-то в глазах мордвы значение чудотворного вещества, ниспосланного в виде особой милости свыше; крупинки аэролита считались положительно универсальным лекарством. Распространились нелепые слухи о «чудесном исцелении»; требования на «христов камень» усилились; счастливый владелец метеорита пользовался случаем и продавал камешек чуть не на вес золота, выказывая при этом слабости настоящего завзятого аптекаря. Прием «христова камня» производился таким образом: пациент, купивши ничтожный кусочек метеорита, толок и растирал его в порошок и затем, смешав с водой, благоговейно выпивал, творя молитву и крестное знамение.
Замечательно, что русские мужики и бабы, такие же невежественные, как и мордва, отнеслись к чудотворным свойствам метеорита более нежели скептически, выказывая при этом совершенное равнодушие к его медицинским и религиозным достоинствам.
В заключение считаю необходимым сказать, что точных сведений о направлении метеорита, величине и форме образованных при падении ямок, об именах свидетелей падения сообщить в настоящее время, к сожалению, не имею возможности.
П. Барышников 12 марта 1887 г.»
Письму предшествовали короткое извещение о падении метеорита и посылка с камнем. В Лесном институте, куда она пришла, метеорит попал к профессору кристаллографии и минералогии Ерофееву.
Михаил Васильевич Ерофеев родился в 1839 г. в Петербурге. Двадцати четырех лет окончил Петербургский университет по физико-математическому факультету и был оставлен консерватором (в данном случае это означало не политические убеждения, а скромную должность — что-то вроде нынешнего коллектора) при минералогическом кабинете.
Спустя два года его командировали за границу для продолжения учебы. Через пять лет Ерофеев возвратился в Петербург, защитил магистерскую диссертацию о кристаллизации турмалина и в 1871 г. стал доцентом Петербургского университета, потом профессором Варшавского университета и, наконец, перешел в Лесной институт, где работал с тех пор всю жизнь. Исследование неизвестных пород, тем более космического происхождения, вполне отвечало его планам и наклонностям: он стремился выяснить реальное строение кристаллов, его отличие от идеального. Намереваясь изучить вещественный состав метеорита, Ерофеев обратился за содействием к профессору химии Лачинову.
Павел Александрович Лачинов родился в 1837 г. в маленьком городке Шацке, учился в Павловском кадетском корпусе, двадцати одного года окончил Михайловскую артиллерийскую академию и, явно тяготея не к пальбе, а к изучению природы вещей, устроился репетитором по химии (в которой отличался все годы учебы) в своем же Павловском кадетском корпусе. Потом служил в той же должности в Новгородском кадетском корпусе.
Лачинов проявил усердие к наукам, и довольно скоро — через пять лет — его послали учиться на курсы при Петербургском корпусе горных инженеров (так назывался теперь тот самый Горный кадетский корпус, в лабораториях которого приобщался к науке молодой Каразин). Спустя год Павел Александрович, еще оставаясь формально на военной службе, стал вторым помощником профессора химии Энгельгардта, а еще через год окончательно уволился из армии (в чине поручика артиллерийской службы).
В должности второго помощника профессора Лачинов взялся за работу, которая должна была доказать русским земледельцам необходимость химических удобрений, должна была способствовать повышению урожайности в России. Своими руками он проделал сотни анализов, исследуя ценность городских отходов. Не чурался тяжелой и самой, мягко говоря, грязной работы, сравнивая отбросы чуть не всех районов Петербурга, чтобы выяснить, какие более пригодны для удобрения земли. Работа эта окончилась весьма своеобразно: оценив встречи преподавателей и студентов, ведущих работы по изысканию удобрений, как «противузаконные сходки и собрания, принявшие характер агитационных сборищ», третье отделение собственной его величества канцелярии арестовало Энгельгардта и Лачинова.
Никаких «особенно важных обстоятельств» установлено по делу не было. Профессора и помощника пришлось из тюрьмы выпустить. Тем не менее Энгельгардт уже не возвратился на кафедру, а Лачинов провел около года в опале, работая на механическом заводе и не имея ни малейшей возможности заниматься химией.
Потом, вернувшись на кафедру в Лесной институт, Лачинов занимался органической химией; в последние годы жизни он исследовал вещество, о котором много говорят и пишут уже в наше время, — холестерин.
Судя по всему, камень, принесенный Ерофеевым, отнюдь не принадлежал к предметам, близким научным интересам Лачинова. И предугадать, что они берутся за анализ, с которым имена их будут вписаны в историю науки, Ерофеев и Лачинов вряд ли могли.
Присланный в институт камень черного цвета весил 1762,3 г; позже Барышников прислал еще два осколка — 21,95 и 105,45 г.
«Среди черной поверхности, — записал Ерофеев, — виднеются лишенные коры или, вернее, сбитые зеленовато-желтые обломки оливина и блестки никелистого железа».
Метеорит остался почти нетронутым — он и сейчас лежит под стеклом в музее Ленинградского горного института. Исследователи извели на опыты только 24,3 г космического вещества.
Эти 24,3 г были истолчены в лабораторной ступке, после чего навески топили в «царской водке», травили плавиковой и серной кислотой, сплавляли с содой… Одним словом, делали все, что полагалось при детальном химическом анализе.
Ерофеев исследовал под микроскопом шлифы, определяя минералы. Аэролит обнаруживал совершенное сходство с земными породами и, «очевидно, должен был образоваться по тем же законам и под действием тех же сил, он состоял главным образом из силикатный минералов, носящих на Земле имена оливина и авгита».
Лачинов опознал в пробах окислы кальция, железа, марганца, магния, хрома; нашел никелистое железо, железный колчедан…
И после всех растворений толченого камня и обработки его кислотами и щелочами Ерофеев и Лачинов получили совсем немного — два с небольшим процента от каждой пробы — остатка, который не желал растворяться ни в чем. Часть остатка была черного цвета и мягкой, как обыкновенный графит, пишут Ерофеев и Лачинов. Но там же было и «другое вещество — более светлого цвета и очень твердое».
Еще не зная, что находится перед ними, исследователи подвергли неизвестное вещество нагреву. Небольшой нагрев на него не подействовал. Когда же температуру увеличили и оставили пробу калиться подольше, вес её стал быстро убывать.
Опыт прекратили. Вот как описывают сами Ерофеев и Лачинов последующее: «Не сгоревшая и не растворившаяся часть, составляющая около 40% первоначального веса остатка, резко отличалась от него по свойствам: она являлась в виде почти белых, слегка сероватых крупинок, до того твердых, что оне невыносимо царапали стеклянную и платиновую посуду. Судя по твердости, эти крупинки можно было принять за корунд; на этом основании оне еще раз были сплавлены с кислым сернистым кали. Но изменений ни в виде, ни в весе их почти не произошло. Оставалось предположить…»
Окончание этой фразы Михаил Васильевич Ерофеев и Павел Александрович Лачинов дописали, вероятно, не сразу. Опыты с навесками метеорита повторили еще и еще раз. В нерастворимом остатке каждый раз оказывались светлые кристаллики. Их сожгли в сильном пламени. Анализ обнаружил 95,4% углерода и 3,23% золы. Удельный вес крупинок был 3,3.
Последний опыт проделали с особой тщательностью. Из минералогического музея в лабораторию принесли эталонный образец корунда. Когда, выполнив все предосторожности, чтобы ничем не исказить результат опыта, шлифованную грань эталона потерли ничтожным количеством порошка из нерастворимого остатка, на ней остались резкие, видимые простым глазом царапины.
Что же оставалось предположить Ерофееву и Лачинову?
«Оставалось предположить только, что оне (кристаллические крупинки) представляют алмаз… Это и подтвердилось на деле».
Однако сами авторы не считали, что совершили что-то выдающееся. Ерофеев извлек труды Густава Розе, превращавшего алмаз в графит, и указал, что еще двадцать с лишним лет назад тот, исследуя углерод железных метеоритов, высказал следующее: можно полагать, что в определенных условиях этот углерод мог бы существовать в виде карбоната — алмаза.
«Их искали, — заканчивают Ерофеев и Лачинов описание своих алмазных кристаллов, — в метеорном железе, они нашлись в метеорных камнях…»
Открытие Ерофеева и Лачинова не осталось незамеченным и сразу же было высоко оценено ученым миром. Российская Академия наук присудила им Ломоносовскую премию. Чтобы перейти к тому, что последовало в результате открытия, сделанного в скромной лаборатории Лесного института в Петербурге, надо еще раз вернуться к отчету Михаила Васильевича Ерофеева и Павла Александровича Лачинова об их исследовании.
По опытам и расчетам получалось, что вес алмазных кристаллов составлял приблизительно сотую часть всей пробы. И Ерофеев с Лачиновым написали, что раз метеорит, от которого была взята проба,, весил 1762 г, то в нем должно было содержаться приблизительно 17,5 г алмазов… Около 90 каратов.
Эти выкладки исследователей и послужили причиной событий, которые могли бы вполне стать сюжетом детективного фильма.
Логика виделась во всем этом очень простая: если в маленьком метеорите упрятаны алмазы на сотню каратов, то в большом метеорите… Если в маленьком метеорите нашлись мелкие алмазные крупинки, то в большом метеорите… Как же тут было не кинуться искать не медля самый большой метеорит, чтобы выковырять из него драгоценные камни покрупнее и тащить их в банк? И как же было не вспомнить об Америке, об Аризоне, о местности с мрачным названием Каньон Дьявола?
Воронка-кратер, известная здесь с незапамятных времен, колоссальна: диаметр ее больше километра (1200 — 1300 м), глубина достигает 180 м. Обломки метеоритного железа находили здесь во множестве еще аборигены-индейцы и, подобно новоурейским крестьянам, считали их святыней. В 1891 г. доктором А. Э. Футом было установлено метеоритное происхождение этих обломков. Вслед за тем филадельфийский профессор Кениг обнаружил в одном из найденных Футом образцов первые алмазные кристаллики…
Можно представить себе энтузиазм искателей сокровищ! Самый деятельный из них, инженер Д. М. Барринджер, основал через десять лет даже акционерное общество для извлечения гигантского метеорита. Предполагалось к тому же, что в метеоритном железе полно платины, — и в кратере было начато разведочное бурение. На глубине около полукилометра под дном воронки бур сломался в железистой породе. Но, если это и был метеорит, платины в нем не оказалось.
…Местность у Каньона Дьявола и поныне принадлежит сыновьям основателя акционерного общества по разработке метеорных сокровищ, само же общество давно распалось по финансовым причинам. Попытки использовать сигнал из космоса для непосредственного извлечения долларов из нового знания успеха не имели. Алмазы, найденные тогда же и находимые до сих пор в обломках тамошнего метеорита, ни для королевских корон, ни для банковских подвалов совершенно не подходили. Это были те же мельчайшие крупинки, что и в Петербурге; рассуждения Ерофеева и Лачинова о суммарном содержании алмазов в массе метеорита оказались ошибочными.
И тем не менее сигнал из космоса безусловно содержал полезную, как принято говорить теперь, информацию об алмазных кристаллах. Непригодная для игры на бирже, эта информация сослужила службу в игре совершенно иного рода.
Глава IV
АЛМАЗЫ ЕСТЬ, АЛМАЗОВ НЕТ
В начале 80-х годов XIX в. в научных журналах стали все чаще появляться статьи и краткие сообщения, подписанные трудно транскрибируемой буквами латинского алфавита фамилией Chroustschoff.
Вот некоторые из них.
В немецких журналах: «Искусственное получение кристаллического кварца» (1882); «Об искусственном получении кварца и тридимита» (1886); «Об искусственной магнезиальной слюде» (1887).
Во французском журнале: «О синтезе некоторых минералов» (1889).
В русском бюллетене: «Об искусственной роговой обманке» (1890)…
В эпоху бурного промышленного развития и резко возросшей добычи полезных ископаемых закономерности образования различных минералов в природных условиях не могли не интересовать ученых. Не имея возможности подсмотреть рождение минералов в природе, надо было идти сложным путем всех естественных наук — путем эксперимента в лаборатории. Сказать, как обычно об опытах: «в колбе» — было бы немалой условностью; сказать: in vitro — было бы во многих случаях уже явной художественной вольностью. Стекло вряд ли выдержало бы…
Первый искусственный минерал — известный каждому геологу и широко распространенный в природе железный блеск (гематит) приготовил еще в 20-х годах XIX в. выдающийся французский химик и физик Жозеф Луи Гей-Люссак, воздействуя паром на хлорное железо. Железный блеск, изготовленный в пробирке — здесь, вероятно, почти в буквальном смысле слова, — получился совершенно таким же, как в природе. И после Гей-Люссака еще несколько искусственных минералов синтезировали с помощью газообразных веществ при обыкновенном давлении и повышенной температуре. Основной прибор был чрезвычайно прост: огнеупорная обогревательная камера с отверстиями, иначе говоря — глиняная труба с дырками. В трубу насыпали твердые химические вещества, затем помещали ее в огонь и сквозь раскаленную трубу с раскаленным подопытным веществом продували другое вещество, газообразное. Так воспроизводился один из природных минералообразующих процессов.
Второй способ — такой же древний, идущий, быть может, еще от алхимиков, — кристаллизация из расплавов. Основные аппараты — печи и тигли. Начало было положено еще в конце XVII в., когда ученые, стремясь понять природу Земли, плавили камни. В расплавы горных пород опускали другие породы — и таким способом, воспроизводя контактные процессы, получили еще несколько минералов.
И, наконец, третий способ, самый трудный и самый важный — с помощью аппаратов высокого давления.
Очень небольшое отступление — о возникшем буквально на наших глазах явлении, именуемом чаще всего довольно нелепым словом «хобби».
За какой-нибудь десяток лет хобби стало чуть ли не обязательным признаком всякого мало-мальски известного человека. Не пытаясь анализировать сие явление обстоятельно, предположим только, что внеслужебные увлечения возникли, по-видимому, как реакция на машинизацию человеческой личности в условиях современного производства, требующего узкой специализации. Не в состоянии реализовать с достаточной полнотой свою личность в производственной, профессиональной деятельности, люди проявляют себя в деятельности непроизводственной, непрофессиональной, так сказать неофициально.
Но самое любопытное, возможно, заключается в том, что на самом деле научное хобби существовало испокон веков — только не как массовое явление. В самом деле: Ньютон был управляющим королевским монетным двором, Лавуазье — коммерсантом, Мендель — священником, Эйнштейн в пору создания теории относительности — чиновником патентного ведомства.
Если это случайности — то не многовато ли их? Не кроется ли за всем этим некий фундаментальный закон существования и развития человечества? Закон, который хорошо было бы иметь в виду при распределении общественных средств между прикладной и фундаментальной наукой, а также при сочинении учебных планов?
Человек — не машина. Человек никогда не согласится на роль придатка к машине, пусть даже и самой сложной, и нужной, и «умной». Человек несет в себе весь мир, и ему нужен весь мир, без этого он не может ощущать себя человеком. Но вернемся к делу…
Самые первые эксперименты с высоким давлением были проведены еще в XVII в. неугомонными флорентийцами в уже упоминавшейся на страницах этой книги академии Дель Чименто. Академики хотели узнать, сжимается вода или нет. Чтобы получить ответ на этот вопрос, они наполняли водой свинцовый шар, помещали его между зажимами пресса и сдавливали — до тех пор, пока капли воды не просачивались сквозь металл.
И потом еще долго — двести лет без малого — люди с великими ухищрениями пытались сдавливать жидкие, твердые и газообразные вещества все сильнее и сильнее, с поистине детским любопытством ожидая, что выйдет. Они смешивали эти вещества одно с другим, подогревали их или, наоборот, замораживали — и снова сдавливали.
Одни исследователи сдавливали вещества в громадных тисках. Другие брали пушки, наполняли их жерла различными веществами и опускали глубоко в море, чтобы использовать давление воды. Третьи предпочитали взрывы. Много было методов.
Чего они хотели добиться?
Все более высокое давление понадобилось людям для изучения свойств различных веществ в условиях все более высокого давления…
И второй вопрос: почему внимание людей привлекло именно давление?
Науку всегда интересовало поведение веществ в необычных условиях. И этот интерес нельзя было бы назвать полностью бескорыстным, как, впрочем, и любой вопрос «почему»: ответы нужны науке для ориентации и выбора пути. Вспомним, какие надежды возлагал Лавуазье на сверхвысокие температуры. А Каразин, например, возлагал большие надежды на сильный электрический ток. В своем сочинении «О возможности приложить электрическую силу верхних слоев атмосферы к потребностям человека» (1818) он пророчески писал: «Мы подойдем к великим средствам, которые сама природа употребляет для сложения и разложения тел…». Вспомним еще, пожалуй, что очень низкие температуры дали технике сверхпроводники, а очень низкие давления суть непременные условия рентгена и телевидения (в его нынешнем виде).
Давление в один килограмм на площадь в один квадратный сантиметр, обычное на поверхности Земли, не свойственно ни океанским глубинам, ни недрам планеты, ни звездам. Сверхвысокие давления сообщают веществу особые, необычные свойства. И трудно было представить себе, чтобы некоторые из этих свойств человек не сумел использовать в своих целях.
Если не считать кузнечного производства, то создание искусственных минералов и было вероятно, тем первым делом, в котором высоким давлениям нашлось применение.
Аппараты, сооруженные для этой цели во второй половине XIX в., не вполне соответствовали тому, что понимается обычно под словом «аппарат» в наше время. Это были тогда запаянные на концах трубки или заглушенные фланцами цилиндры, похожие на запертые с обоих концов пушечные стволы (так, например, ставил свои опыты англичанин Хэнней). В принципе, так можно было пытаться изготовить любые минералы, возникающие в недрах Земли в условиях высоких давлений и температур. Вообще же после Гей-Люссака за пятьдесят лет было синтезировано столько минералов, что в 1872 г. в университетском городе Гейдельберге в Германии о них вышла даже специальная книга.
Из нескольких сотен искусственных минералов, известных в конце прошлого века, одиннадцать продолжили список работ, названных в начале этой главы вместе с латинской транскрипцией фамилии их автора — профессора Петербургской Военно-медицинской академии Хрущова.
Константин Дмитриевич Хрущов (родился 21 мая 1852 г. в семье помещика в Харькове), как и многие другие люди, сделавшие в жизни что-то заметное, не сразу нашел свое призвание. Он учился на медицинском факультете и окончил (по этой специальности) Вюрцбургский университет в Германии. (Хрущев — уже второй медик на страницах нашей истории. До него был Теннант, сжегший за сто лет до этого уголь, графит и алмаз, превратившиеся в равные количества «связанного воздуха», — врач по образованию, доктор медицины.)
Видимо, клиника или частная практика не очень привлекали молодого доктора. Он, покинув респектабельную Европу, отправился со своим дипломом в не столь изученную Америку и поступил врачом в геологическую партию.
Годы; проведенные в экспедициях по всему Американскому континенту, дали Хрущову не только множество впечатлений и немалый жизненный опыт. За это время явственно проявился его главный жизненный интерес, не! совпадающий, можно сказать, со специальностью согласно диплому. Врачу экспедиции, конечно, приходилось заниматься и своим прямым делом — ставить компрессы, назначать микстуру или порошки, а то и прибегать к хирургическим атрибутам. Но все же геологи — народ в основном здоровый, и доктор проводил больше времени вместе с ними, вооружившись не скальпелем, а геологическим молотком, или возился с пробирками и химикалиями в походной лаборатории.
Вернувшись в 1877 г. в Европу, Хрущов еще какое-то время пробыл в Лейпциге, занимаясь уже только минералогией и химией, а затем переехал в Харьков, где основанный Каразиным университет удостоил его степени доктора наук Honoris causa, «из чести».
Казалось бы, пора и осесть на месте, однако странствия Хрущова на этом еще не кончились — вскоре он переехал в Петербург, где получил должность профессора и кафедру в Военно-медицинской академии. В последующие годы Хрущов занимается изучением лабрадоритов Волыни, беломорских и алтайских гранитов, горных пород Таймыра.
И вместе с тем он производит множество лабораторных экспериментов. Судить об их характере и направлении вполне можно, например, по краткому списку приборов, приобретенных Хрущовым для кафедры немедленно по вступлении в должность. В перечне среди прочих видов оборудования значатся: трансформатор Тесла, батарея аккумуляторов из восьми штук, одна чугунная бомба с платиновой вставкой для достижения сильного сжатия при высокой температуре, полная коллекция круксовых трубок, электрическая печь, аппарат для искусственного воспроизведения минералов (посредством высшего давления при нагревании)…
Опыты Хрущова идут от проблем геологии — он стремится получить минералы, создав искусственно условия, заведомо возможные в природе.
Еще в 1880 г. в толстостенной груше собственной конструкции он в течение нескольких месяцев держал под действием непрекращающегося жара (250°) 10%-ный гидрозоль и первым извлек искусственные кристаллы кварца.
Магнезиальную слюду Хрущов пробовал изготовить в течение трех лет — терпеливо варил в разных комбинациях силикатные магматические породы, содержащие все необходимые составляющие этого минерала. Только через три года опыт удался. 5 частей базальта, сплавленного с кварцевой породой, 2 — 3 части затравки (самой слюды), 0,5 части аморфного кремнезема, 2 — 3 части смеси, состоящей из кремнефтористого калия, фтористого натрия и фтористого алюминия, были сплавлены в герметическом платиновом тигле. В получившейся смеси оказались пластинки искусственной магнезиальной слюды.
Опыт, в котором была получена роговая обманка, длился три месяца подряд. В запаянной толстостенной стеклянной груше попеременно грелась до 550° и снова охлаждалась «целая аптека» — гидроксиды алюминия, железа, магния, кальция, затравки металлического калия и натрия. Из получившейся буро-зеленой «каши» Хрущов вымыл кислотами несколько совершенно правильных кристалликов роговой обманки, ортоклаза и кварца.
В глубинах Земли давления весьма велики, и Хрущов, как и другие исследователи, занимающиеся синтезом минералов, пришел к необходимости воспроизводить в лаборатории и это природное условие. Он сконструировал оригинальный прибор — толстостенную стальную бомбу, в гнездо которой вставляется платиновый вкладыш-пробирка, а сверху все завинчивается массивной стальной пробкой.
В этой своей «модели» земных глубин Хрущов сумел синтезировать циркон — широко распространенный минерал циркония. А после циркона занялся алмазом — минералом, состоящим всего из одного элемента.
К началу 90-х годов, когда Хрущов приступил к своим опытам, об алмазе было известно уже довольно многое.
Первое. Алмаз, уголь и графит — химически одно и то же вещество, а именно — углерод. Следовательно, в принципе, можно изготовить алмаз из угля и графита.
Второе. Алмаз не поддается никаким изменениям при относительно низких температурах. Следовательно, для изготовления алмаза нужны высокие температуры.
Третье. Алмаз при сильном нагреве без доступа воздуха превращается в графит (опыт Густава Розе). Следовательно, изготовить алмаз можно из графита.
Четвертое. Удельный вес алмаза — 3,5, в то время как графита — 2,2, а угля — в среднем 1,3. Следовательно, в алмазе атомы углерода упакованы плотнее, чем в графите, не говоря уже об угле. Следовательно, при изготовлении алмаза графит необходимо подвергнуть высокому давлению.
Пятое. Алмаз в природе рождается в глубине Земли, где господствуют высокие температуры и высокое давление (наблюдение, сделанное на коренных месторождениях Кимберли).
Шестое. Алмаз встречается в каменных (Новый Урей) и железных (Каньон Дьявола) метеоритах. Одно из следствий этого факта особенно важно для опыта, который замышлял Хрущов: железо было подходящей средой для появления алмаза.
Почему?
Достоверно известно из практики, что при охлаждении жидкого железа, пересыщенного в печи углеродом, выделяется графит. Известно также, что, в отличие от большинства других металлов, железо при застывании не уменьшается в объеме, а увеличивается. Поэтому, если его быстро охладить снаружи, то образовавшаяся твердая оболочка, корка, будет сжимать остальную, стремящуюся расшириться массу. Значит, внутри нее давление резко возрастает.
Подобное явление наблюдал, несомненно, каждый — при застывании обыкновенной воды. Объем льда тоже больше объема воды, из которой он образовался. А рост давления внутри массы льда подтверждается тем простым фактом, что бутылка с водой (стекло в данном случае можно уподобить застывшей оболочке) — лопается.
Вероятно, одно из отличий изобретателя или открывателя нового от большинства других людей состоит в том, что он совершенно новым образом поворачивает вещи, вообще-то известные и другим. Только эти «другие» не обращают на них внимания или не видят в них проку. Так вот, Константин Дмитриевич Хрущов увидел, что железным метеоритом природа не только подтвердила, что при любой попытке искусственного получения алмаза необходимо высокой давление. Природа словно сама подсказывала принципиальный проект алмазоделательного устройства!
Поняв это, Хрущов решительно отставил свою стальную бомбу с платиновой вставкой и стал выяснять, какпе еще металлы, кроме железа, обладают свойством расширяться при затвердевании. Оказалось, что серебро, висмут и галлий.
Хрущов предпочел серебро.
Висмут легко плавится, но если расплавленный висмут насытить углеродом, а затем быстро охладить, то… То карбид висмута разложит необходимую для охлаждения воду — и произойдет взрыв. О галлии, редчайшем металле, естественно, и речи быть не могло, хоть он и плавится от тепла ладони. Что же до железа, то можно лишь высказать предположение: Хрущов предпочел ему серебро просто потому, что температура его плавления ниже.
Не исключено также, что он слышал о попытках англичанина Марсдена получить алмазы в расплаве серебра, предпринятых еще в 1881 г. Так или иначе, он взял серебро, объяснений этому обстоятельству не оставив.
4 марта 1893 г. на заседании Санкт-Петербургского минералогического общества профессор Хрущов, действительный член этого общества, сообщил: «мы проделали такой опыт…».
Вот строки из его доклада.
«…На основании находок в метеорите можно было прийти к мысли, что под сильным давлением углерод может выделяться из раствора в металле в виде алмаза. Мы проделали такой опыт. Насытив кипящее серебро углеродом, которого растворилось шесть процентов, я быстро охладил массу. Давление в ее середине не могло не повыситься под действием корки, сразу же затвердевшей снаружи. Последовавшее за тем растворение получившегося слитка показало, что часть выделившегося углерода имеет свойства алмаза.
Порошок его состоит из проарашжь бесцветных кристаллических осколков и пластинок, сильно преломляющих свет, совершенно изотропных, царапающих корунд и сгорающих в углекислоту с незначительным остатком золы».
Хрущов показал участникам заседания свои кристаллы и тут же сжег их в кислороде. И еще Хрущов пояснил, что присутствующему в зале профессору Николаю Николаевичу Бекетову он уже показывал эти самые кристаллы и что это было на другой день после того, как получили в Петербурге журнал со статьей французского химика Муассана, да компетентное мнение которого о возможности образования алмаза в расплаве железа (а не серебра) под сильным давлением он, Хрущов, ссылался…
Обратимся и мы к алмазам из расплавленного железа, как бы проводя тем самым линию между историей и современностью, когда алмаз был и в самом деле синтезирован в железном расплаве. Но это случилось не так уж давно, в 1953 г., а первое известие об алмазе, сотворенном в расплаве железа, появилось на 60 лет раньше.
Автор упомянутого Хрущовым известия об удавшемся, наконец, изготовлении алмаза французский химик Фердинанд Фредерик Анри Муассан никогда не учился на химическом факультете и вообще, что называется, университетов не кончал. В детстве Анри Муассан получил кое-какие сведения по естественным наукам от отца (тоже не физика и не химика, а железнодорожного служащего), а затем усиленно пополнял их самостоятельно, читая книжки. Писал стихи и даже пьесы в стихах. (То же, кстати, делал и Хемфри Дэви.) Пятнадцати лет был тоже устроен учеником в аптеку. Там с Муассаном произошла история, ставшая впоследствии «обязательным украшением» его биографии. В аптеку ворвался некий господин, проглотивший изрядную дозу мышьяка с намерением уйти из жизни. Но теперь он передумал!
Хозяин аптеки растерялся от воплей незадачливого самоубийцы, а юный ученик мгновенно вспомнил нужную реакцию, схватил банку с магнезией и заставил перепуганного кандидата в покойники проглотить чуть не горсть белого порошка. Ядовитая трехокись мышьяка перешла в нерастворимое состояние, а пострадавший легко отделался…
Следующее место работы Муассана — химическая лаборатория Музея естественной истории, руководитель — профессор Эдмон Фреми, который синтезировал рубин — второй по твердости, после алмаза, драгоценный камень. То ли случайность, то ли преемственность интересов.
В 1886 г. Муассан сделал первое свое важное открытие: выделил электролизом новый элемент — фтор, жадно соединяющийся с огромным большинством химических веществ.
Спустя три года Муассан стал профессором Высшей фармацевтической школы, а потом профессором Парижского университета. Он был, как и его учитель Фреми, членом-корреспондентом Петербургской академии.
Большая часть исследований и открытий Муассана сделана с помощью изобретенной им самим электрической дуговой печи. Дугу, открытую русским Петровым и названную именем итальянца Вольта, заставил работать француз Муассан — одно из многих подтверждений очевиднейшей (впрочем, иногда отрицаемой) истины: интернациональности, всеобщности науки.
В дуговой печи Муассан выплавил из соединений многие тугоплавкие металлы — и в их числе молибден, вольфрам, титан, ванадий, хром, ниобий. В такой же печи он получил уран и торий. В числе карбидов, впервые изготовленных Муассаном, был карборунд — соединение углерода с кремнием, самый распространенный в нынешней промышленности абразив, одно из твердейших после алмаза веществ. Любопытно, что карборунд, или, как его назвали, муассанит, сначала был синтезирован, а потом уже найден в естественном состоянии (между прочим, в алмазоносных породах). Вряд ли можно считать случайным близкое соседство этих двух твердейших веществ в недрах Земли.
Не случайность, конечно, и то, что Муассан предпринял попытку изготовить алмаз. У Муассана было самое совершенное по тем временам нагревательное устройство — дуговая печь. Что же касается давления, то Муассан придумал то же, что и Хрущов. Скорее всего, на эту мысль его натолкнули осколки железного метеорита из Аризоны: основатель фирмы по разработке Каньона Дьявола инженер Барринджер якобы послал Муассану в Париж письмо о найденных там алмазных крупинках.
…Профессор Муассан весьма ценил изящество эксперимента, профессор Муассан был пунктуален и всегда безупречно одет, профессор Муассан требовал, чтобы каждую субботу полы в его лаборатории обязательно натирались воском.
Вместе с тем профессор Муассан был глубоко убежден, что настоящий эксперимент в науке — только тот эксперимент, который делается в соответствии с законами природы независимо от того, познаны они уже или пока еще только угаданы. А раз так, то результаты эксперимента должны быть такими же неизменными, как законы природы. «Опыт должен получаться всегда», — любил повторять Муассан.
Из трех возможных металлов — железо, серебро, висмут — Муассан выбрал первый. Он имел все возможности поставить эксперимент возможно ближе к природе: в его печи железо не только плавилось, но и кипело.
Уверенность Муассана в том, что он повторяет в лаборатории естественный процесс, базировалась на распространенной в то время гипотезе о происхождении метеоритов. Считалось, что метеориты — это обломки, выброшенные в мировое пространство из вулканов различных планет. Поскольку температура планетных недр весьма высока, вулканические бомбы могли быть раскалены, а попав в близкий к абсолютному нулю холод космического пространства, немедленно застывали. И давление внутри сильно повышалось. Примерно так же можно было представить себе и результат столкновения двух холодных метеоритов в космосе. От удара они сначала раскалялись, а затем, разбившись на мелкие куски, охлаждались.
Железо привлекало Муассана еще и тем, что оно обладает способностью в расплавленном состоянии поглощать большие количества углерода. При охлаждении железа, в котором растворен углерод, он кристаллизуется в виде графита. Это при нормальном давлении, а при высоком? При очень высоком? Не появятся ли вместо мягких плоских кристалликов графита твердые октаэдры алмаза?
Такие вопросы должен был задавать себе Муассан. Ответить на них мог только опыт.
И вот зимним утром 1893 г. ученый берет…
Здесь, пожалуй, необходимо предостеречь читателей, склонных повторять опыты в домашних условиях. Да, повторить опыт Муассана при наличии кой-каких простых материалов, электрического тока и большого запаса предохранителей, в принципе, возможно. Но слишком мала вероятность, что вам повезет точно так же, как Муассану, — что вы всего-навсего разобьете очки, спалите одежду и пораните руки.
Пока в электрической печи плескался чугун, в котором растворен чистый углерод — «сахарный уголь», профессор готовил аппаратуру для быстрого охлаждения.
Посреди лаборатории появился табурет, на нем — обыкновенная деревянная лохань, в лохани — обыкновенная холодная вода.
Муассан надел фартук, закатал рукава (хорошо, что он еще догадался надеть очки!), ухватил клещами тигель с жидким чугуном и опрокинул его в лохань с водой.
Когда пар рассеялся, грохот и звон разбитых стекол поутихли, а экспериментатор потушил тлевшую на нем рубашку, он заглянул в лохань, в которой все еще оставалось немного воды. Там на дне лежал слиток — бесформенный кусок безусловно быстро охладившегося чугуна.
Растворение слитка в кислотах продолжалось несколько месяцев. И когда оно было окончено, на дне остался сероватый осадок, и в нем — несколько крупинок.
Эти крупинки тонули в жидкости, удельный вес которой 3. Царапали рубин и даже корунд. Почти нацело сгорали в кислороде.
У Муассана не было никаких сомнений в результате опыта. Ведь он повторил в лаборатории то, что природа сделала с железным метеоритом из Каньона Дьявола. Это был правильный опыт, а правильный опыт должен получаться всегда!
В тот же вечер Муассан показал академику Фреми и нескольким ближайшим друзьям свои алмазы. Это были мельчайшие крупинки черного цвета. Кроме одной, которую тут же нарекли «регентом» — по названию одного из самых знаменитых бриллиантов, хранящегося в Лувре. Размер муассанова «регента» был невелик — всего 0,7 мм, но, как и полагается драгоценным алмазам, кристаллик был совершенно бесцветен.
А вскоре об опыте Муассана узнал весь мир. Муассан купался в лучах славы. На его публичные лекции в Сорбонне стекалось не меньше народу, чем в свое время на лекции Дэви о веселящем газе. Как свидетельствуют очевидцы, «ровно в пять часов открывались обе большие двери лекционного зала двумя служительницами одновременно. В четверть шестого начиналась лекция, и в течение часа пятнадцати минут Муаосан поддерживал пылкое внимание своих слушателей. Очарование его личности и очевидная радость, с которой он показывал опыты, доставляли огромное удовольствие аудитории».
Все научные журналы мира напечатали сообщения о великом открытии. Во все учебники химии и физики, во все энциклопедии вошло имя Анри Муассана — первого человека, сотворившего алмаз.
Ни малейших сомнений в совершившемся ученый мир не испытывал: можно было браться за промышленное изготовление бриллиантов.
Итак, проблему сочли решенной. Уверенность в этом была столь велика, что Константин Дмитриевич Хрущов, например, который не очень пекся о приоритете и был человеком, в высшей степени равнодушным к славе, даже не стал публиковать результатов своего эксперимента, а только доложил о них коллегам — как бы в подтверждение открытий Муассана. А затем, разумеется, последовало именно то, что должно было последовать со всей неизбежностью. Как же было не попытаться наладить производство, сулящее такие барыши!
Одним из первых взялся за это дело сотрудник Муассана по фамилии Гофманн. Он неоднократно повторил опыты своего профессора (лохань с водой и клещи для опрокидывания тигля с кипящим железом в воду были, возможно, заменены более удобными или более безопасными конструкциями). Он получил, как и Муассан, мелкие очень твердые кристаллы и подверг их тщательному исследованию всеми доступными ему способами. Казалось бы, все повторилось. Но в тех немногих случаях, когда размеры кристалликов позволяли измерить их коэффициент преломления, он оказывался иным, чем у алмаза. Более того, он оказывался точно таким, как у карбида кремния — карборунда…
Пятьдесят раз повторил опыт Муассана инженер из Дюссельдорфа Леон Франк, кристаллизуя углерод из стали самых различных сортов. У него тоже получились кристаллы — твердые, с близким к алмазу коэффициентом преломления, сгорающие в; кислороде почти бе£ остатка. Но в остатке обнаруживалась двуокись кремния — кварц.
Но в 1894 г. Леон Франк вдруг публикует в солидном немецком журнале «Stahl und Eisen» сенсационную статью «Алмазы в стали». Ему пришла в голову вполне логичная мысль: поискать алмазы не только в стали собственного приготовления, но и в обычной, изготовленной на металлургических заводах (разумеется, до прокатки — в прокатанном металле хрупкие кристаллы должны быть разрушены). В самом деле, в доменных печах всегда имеется избыток углерода, а охлаждение выпущенного чугуна может происходить по-разному, в том числе, возможно, и так, как нужно для кристаллизации алмаза.
Кто ищет, тот всегда найдет. И Франк находит! Он растворяет в различных кислотах слиток самой обычной стали, отлитый в 1867 г. люксембургским заводом Дюделинген, после чего в руках у него остаются микроскопические, «а также довольно большие» (по словам Франка) алмазы, которые, правда, «более хрупки, чем природные».
Металлурги, прочитав в почтенном журнале это потрясающее известие, сотнями полезли в свои громадные печи в поисках драгоценностей.
И, разумеется, вскоре посыпались многочисленные сообщения из разных стран о находке кристаллов алмаза прямо в домнах.
В 1909 г. Иогансен учинил тщательную проверку всех этих сообщений. Он скупил большое количество «металлургических алмазов» и подверг их химическому анализу. Результат анализа был неумолим и однообразен: все кристалллы оказались корундом — кристаллической разновидностью глинозема.
Так умерла красивая легенда Франка, i Но это нисколько не умерило пыл алмазотворцев.
Англичанин Чарлз Алджернон Парсонс — изобретатель паровой реактивной турбины и к тому времени крупный заводчик — тоже берется за изготовление алмазов. Со свойственной ему склонностью к необычным решениям (его турбина — тоже резкий поворот в сторону от проторенного пути) Парсонс меняет методику — он пытается изготовить алмаз, разлагая ацетилен (два атома углерода, два атома водорода) в установке адиабатического сжатия.
Этому высоконаучному названию соответствует у него простой способ: в исходное вещество, находящееся в стволе ружья, выстреливают пулей со стороны дула.
Давление и температура резко повышаются. А результат остается прежним — алмазы не получаются.
Изобретательность жаждущих не знает границ, и некоторые алмазотворцы повторяют опыты француза Лионэ, который, говорят, изготовлял алмааы так: платиновый или золотой лист, обернутый оловянной спиралью, погружали в сосуд с сероуглеродом; через сероуглерод пропускали электрический ток; сера осаждалась на олове, а углерод кристаллизовался в алмаз на листе из драгоценного ме-, талла, что было особенно эффектно — алмазы получались, так сказать, на золотом подносе. Но то, что якобы получалось у Лионэ, почему-то никак не выходило у его подражателей.
Буаменю плавит карбид кальция в вольтовой дуге и подвергает расплав электролизу. На катоде выделяются кристаллы (разумеется, алмазы), автор получает патент…
Фридлендер, фон Хасслингер, Бауэр идут, другим путем. Они справедливо считают, что алмаз можно получить, воссоздав естественные условия его образования в недрах Земли, в кимберлитовых трубках. В дело идут природные силикаты, оливин, кимберлиты. К расплавам горных пород добавляют углеродсодержащие вещества, а также затравку: натрий, кальций, титан. Все это нагревают до 1500 — 2000°, потом медленно охлаждают… И объявляют о получении алмазов.
Руссо разлагает ацетилен в вольтовой дуге. Дельтер работает с четыреххлористым углеродом над раскаленным алюминием. Дюпар и Ковалев испаряют сероуглерод. Болтон разлагает ацетилен и светильный газ над амальгамами, а в раскаленный газ помещает для затравки — безусловно, основательная мысль! — маленький кристалл естественного алмаза. По его наблюдениям, кристалл увеличился.
Общему поветрию поддался и крупный английский ученый, член Лондонского королевского общества, а затем и его президент — Крукс, создатель газоразрядной трубки. Он пытается получить алмаз в стальной бомбе, начиненной взрывчаткой. Полагают, что температура при взрыве достигала 4000°, а давление — 8000 атм.
Сообщения об удавшемся синтезе алмаза сыпались как из рога изобилия — в отличие от алмазов, которые отнюдь не сыпались.
Это странное несоответствие взялся прояснить немецкий профессор Руфф. С редкой дотошностью он повторил все описанные в научных журналах опыты, особенно тщательно и со множеством ухищрений проверяя ту часть каждого из них, которая относилась уже не к получению желанных кристаллов, а к выделению прореагировавших веществ и опознанию. До Руффа никто не додумался, например, нагревать получаемые кристаллики в струе хлора до 1000°, чтобы удалить карбид кремния и корунд. Руфф повторяет во всех деталях эксперименты Хасслингера, Буаменю и многих других исследователей — и у него не получается никаких алмазов.
Он воспроизводит опыт Муассана и получает крохотные кристаллики — размером 0,05 мм. Они удовлетворяют пробам на удельный вес, на горение в кислороде, на желтое свечение в ультрафиолетовых лучах. Измерить коэффициент преломления света с такими кристалликами не удается — они слишком малы. Твердость их как будто больше, чем корунда.
И Руфф приходит к выводу: «Кроме Муассана, никому не удавалось получить искусственный алмаз. Возможно, что Муассан получил его, но это не доказано…».
Между тем поток сообщений об изготовлении алмазов продолжал расти, словно снежный ком. Патентные бюро не успевали анализировать новые предложения. Патенты на изготовление алмазов стали брать даже фирмы, считавшиеся вполне респектабельными. В начале 30-х годов (речь идет уже о XX в.) изобретение некоего Карабачека запатентовала германская «ИГ Фарбен». Как и положено, в патенте приводилась рецептура: взять 60 — 90% опилок, 5 — 25% доменного шлака, 5 — 15% аморфного углерода или графита, побольше, сколько влезет, твердой углекислоты и сжиженной окиси углерода, положить поименованные продукты в автоклав, сдавить до 5000 атм, нагреть до 900 — 1100°, еще раз повысить давление — до 15 000 атм, подождать полминуты; постепенно снизить давление и температуру до комнатной. Так и хочется добавить: «сахар и соль положить по вкусу»… Но это настоящий, зарегистрированный патент! В конце его деловитая принтера: «С целью образования больших алмазов эта операция повторяется несколько раз».
Непонятно €ыло только одно — почему «ИГ Фарбен» не завалила алмазами сперва Германию, а затем весь мир? Кстати говоря, примерно тот же вопрос можно было адресовать всем перечисленным выше счастливцам. Были «удачные опыты», были технологии, были патенты, не было только одного — искусственных алмазов. И то, что получалось у счастливых первоизобретателей, никогда не получалось у тех, кто пытался повторить их открытие. Как будто природа неуклонно следовала латинской поговорке: «Что можно Юпитеру, того нельзя быку».
Почему так?
Почему прошло полвека после Муассана — а дальше газетных и журнальных сенсаций дело не сдвинулось?
Разве неправильны были исходные позиции Муассана и Хрущова, видевших решение в высокой температуре и высоком давлении?
Нет, ни Муассан, ни Хрущов не обманывались — они правильно выбрали дорогу. Но они не знали, что по этой правильной дороге нужно прошагать гораздо дальше, чем позволяли средства, которыми они располагали. Они правильно определили качественную сторону явления, но не смогли определить количество этого качества — распространеннейший случай в истории науки и техники.
Вспомним хотя бы алхимиков: ведь они исходили из совершенно правильного — более того, гениально постигнутого ими единства всего материального мира. Все вещества построены из одних и тех же кирпичиков. Значит, можно железо и серу превратить в золото… А почему бы и нет? Но алхимики обманули надежды своих владык на быстрое и легкое обогащение, а науке надо было шагать вперед — к замене философского камня ускорителями — еще не одно столетие.
А Лавуазье — пример, куда более близкий нашему времени? С какой надеждой он взирал на полутораметровую линзу! «Если бы удалось добиться усовершенствования способов, применяемых до сих пор для приложения солнечных лучей к химическим опытам, были бы получены поразительные результаты, которые открыли бы ученым новое направление их деятельности и привели бы к совершенно неизвестному порядку вещей…» Разве не точно определено здесь капитальнейшее свойство всех веществ кардинально изменяться под воздействием высоких температур? Но что мог знать Лавуазье о совершенно неизвестном «порядке вещей», начинающемся при температурах в миллионы градусов?
Увидеть правильную дорогу, сделать по ней первые шаги, начать прокладывать путь, по которому потом (может быть, очень не скоро) пройдут к заветной цели потомки, — судьба многих выдающихся умов. В этом их счастье, но в этом же их трагедия. Ни Муассан, ни Хрущов, ни их последователи-ученые (о шарлатанах и авантюристах не стоит и говорить) не знали, до какого именно давления, до какой именно температуры нужно довести графит, чтобы он превратился в алмаз. Не знали они и некоторых чрезвычайно важных физических особенностей рождения алмаза. Не знали они, наконец, даже строения того, что хотели изготовить: любой из них был похож на человека, который взялся бы возводить кирпичный дом, впервые увидев его издали и услыхав, что, в принципе, его делают из обожженной глины.
Глава V
ДИАГРАММА ЛЕЙПУНСКОГО
Мы видим только то, что отражает свет. Предмет размером меньше длины световой волны увидеть нельзя, ибо он не может отразить ее. Длина световой волны — десятимиллионные доли сантиметра. Значит, увидеть обычную молекулу (размер которой немного меньше) — а тем более атом! — ни в какой оптический прибор в принципе невозможно.
Рентгеновы икс-лучи проникли сквозь промежутки между атомами твердых веществ, и физики, используя свойство интерференции — взаимного усиления и ослабления волн при наложении, заполучили первые «портреты» кристаллов с довольно ясными обозначениями атомов. Или, точнее, их мест в кристаллической решетке.
В 1913 г. англичане Уильям Генри Брэгг и его сын Уильям Лоуренс Брэгг предъявили ученому миру рентгенограмму с изображением внутреннего устройства алмаза.
Трудно было представить себе более простую конструкцию. Куб и тетраэдр — куб и трехгранная пирамида, каждая сторона которой есть равносторонний треугольник, — вот и все, что использовала природа, строя алмазный кристалл. Восемь атомов углерода в вершинах куба, шесть атомов по его сторонам — по одному в центре каждого квадрата. И еще четыре атома внутри куба — его как бы внутренний каркас. «Все продумано»: каждый атом соединен с четырьмя другими и находится на равном и очень близком расстоянии от каждого из них, что придает кристаллу колоссальную прочность. Отсюда твердость алмаза, его устойчивость к активнейшим химическим агентам. Отсюда же его огромная стойкость к нагреву.
Прошло еще несколько лет, и с помощью рентгеновских лучей были изготовлены портреты графита. Исследователи увидели фигуры, весьма далекие от классической красоты: конструкция оказалась похожей на слоеный пирог. В одном направлении атомы сидели совсем близко один к другому, в другом, перпендикулярном — далеко, в два с лишним раза дальше, чем в кристалле алмаза.
Отсюда — меньшая плотность (удельный вес графита много меньше) и несравнимо меньшая твердость. И гораздо большая податливость химическим воздействиям и нагреву.
Все это было дельно и полезно, все документально подтверждало принципиальную правоту Муассана, Хрущова, их единомышленников: без высокой температуры и высокого давления невозможно превратить графит в алмаз. Но без какой именно температуры? Без какого именно давления?
Сведения, которые должны были помочь ответить па эти вопросы, накапливались постепенно и довольно медленно.
В 1911 г. Вальтер Нернст измерил теплоемкость графита и алмаза. В 1912 г. была измерена теплота сгорания алмаза и графита; у алмаза она оказалась почти на 500 кал больше (по уточненным данным — та 200 кал/г-атом). В 1924 г. Лебо и Пикон выяснили, что при нагревании алмаза в вакууме до 1500° в течение часа никакого превращения в графит не происходит, что при 1800 — 1850° в графит превращаются четыре десятых подопытного алмаза, а при 2000° — уже девять десятых и притом не за час, а за полчаса.
Так, понемногу, приближалось время, когда уже могла появиться теория синтеза алмаза. И техника тоже приближалась к тому, чтобы согласиться считать эту проблем му не такой уж экзотической.
К началу XX в. статическое давление в несколько тысяч атмосфер стало более или менее обычным делом. А в свойствах веществ, подвергаемых таким давлениям, обнаружились такие интересные отклонения, нто опытами с высоким и сверхвысоким (больше 1000 атм) давлением занялись во всех промышленно развитых странах.
Под действием высоких давлений газы превращались в жидкости, жидкости — в твердые тела, а твердые тела становились еще более твердыми.
Обнаружилось также, что, приложив к реагирующим химическим веществам давление, можно во многих случаях резко ускорить реакцию. Более того, некоторые вещества, упорно не соединяющиеся в нормальных условиях, под давлением легко давали соединения.
Это явление представляло уже прямой практический интерес.
Одним из первых это понял профессор химии Фриц Габер из Высшего технического училища в городе Карлсруэ. Понял и сумел использовать: синтезировал аммиак из самых доступных, вездесущих веществ — воздуха и воды.
Со времен Лавуазье было известно, что воздух па четыре пятых состоит из азота, которому тот же Лавуазье дал его название, означающее «безжизненный». По инертности азот уступал только собственно инертным газам. Правда, в природе азот вступает в реакцию с кислородом воздуха во время грозы; природа подсказывала, что можно попытаться действовать так же — мощным электрическим разрядом.
Фрицу Габеру это представлялось не лучшим решением проблемы, и в 1904 г. он начал экспериментировать с водородом и азотом, подвергая их действию высоких давлений и температур в присутствии катализатора — железа. 500° и 200 атм оказались наиболее благоприятным сочетанием для образования аммиака (три атома водорода плюс один атом азота), и в 1913 г. в Германии начал работать первый в мире завод синтетического аммиака. Как нередко бывало и до, и после того, открытие использовали прежде всего в военных целях…
Однако аммиак все же нужен не только для изготовления взрывчатки, главным потребителем аммиака были и остаются заводы минеральных удобрений. Фиксация атмосферного азота, синтез аммиака — это было важнейшее практическое достижение физики и химии высоких давлений начала нашего века. Это была столь необходимая гарантия плодородия для всех цивилизованных стран, ибо доступные отныне азотные удобрения немедленно повышали урожайность пшеницы в три и в четыре раза. Любопытство флорентийских академиков XVII в. оборачивалось спустя три столетия хлебом насущным.
Здесь напрашивается, если относиться серьезно к самым крайним воззрениям в извечном споре о ценности наукй для человечества, «решающий» вопрос: зачем именно хотел Габер синтезировать свой аммиак, понимал ли он огромное значение этого и т. д. Читатель согласится, что суждения о таких вещах вообще довольно субъективны, через 70 лет — тем более. Доподлинно известно лишь то, что позже, в 1918 г., Фриц Габер сказал по этому поводу при вручении ему Нобелевской премии:
«Синтез аммиака, осуществленный в крупном масштабе, представляет собой реальный, быть может, наиболее реальный путь к удовлетворению важных народнохозяйственных нужд. Эта практическая польза не была предвзятой целью моих работ. Я не сомневался в том, что моя лабораторная работа даст не более чем научное выяснение основ и разработку опытных методов и что к этим результатам должно быть еще очень много приложено, чтобы обеспечить хозяйственные достижения в промышленном масштабе. Однако, с другой стороны, мне было бы трудно с такой глубиной изучать данный вопрос, если бы я не был убежден в хозяйственной необходимости химического успеха в этой области».
Следует признать вполне логичным, что практический успех принесли вначале давления в сотни, а не в тысячи атмосфер. Хотя бы потому, что поставить опыт при сотне атмосфер гораздо легче, чем при тысяче. Занималось этим больше людей, больше веществ вовлечено было в круг исследований, отсюда и больше была вероятность найти нечто практически полезное.
Однако наука вряд ли могла удовлетвориться одной только практической пользой. И нужен был человек, который ухватится за не очень понятную для большинства задачу — сделать удобные и надежные аппараты, способные поддерживать давление в тысячу и более атмосфер.
Эту задачу поставил перед собой в 30-х годах профессор физики Гарвардского университета Перси Уильям Бриджмен.
Тот же вопрос: думал ли он тогда об искусственных алмазах?
Позже, в 40-е годы, один английский физик обронил такую фразу: «В течение последних ста лет главным стимулом и основным побуждением к развитию техники высоких давлений было стремление синтезировать алмаз». Однако же никаких серьезных свидетельств тому, что профессор Бриджмен, рассчитывал сделать алмаз, яе существует. Достоверно одно — в 1908 г., получив докторскую степень, Бриджмен начал возиться с нехитрыми механизмами, довольно похожими на велосипедный насос.
Поршень, площадь которого примерно пятикопеечная монета, гонит в шину струйки воздуха не толще швейной иглы — примерно такой диаметр отверстия в ниппеле. Это — велосипедный насос, а у профессора Бриджмена давление, приложенное к широкой стороне ступенчатого поршня, повышалось на его другом, узком конце, входящем в узкий цилиндр. Если верхний поршень больше нижнего в 10 раз, то повысить давление можно тоже в 10 раз — за один прием. За, два — в сто раз, за три — в 1000 раз, за четыре… Просто!
Однако кажущаяся простота оборачивалась на деле непреодолимой сложностью конструкции. Как только число ступеней — цилиндров и поршней — превышало две, установка не желала работать.
И еще одна трудность — и тоже кардинальная — была с материалами, потому что подвергать вещества высокому давлению предстояло в каком-то замкнутом объеме, в какой-то камере, и ее надо было из чего-то сделать. А у самой прочной стали есть свой предел прочности, после которого сталь разорвется и камера высокого давления вместе с исследуемым, веществом разлетится по лаборатории, как разорвавшаяся бомба.
Прошло несколько лет, прежде чем Бриджмену удалось сконструировать аппарат, в котором на 1 см2 поверхности испытуемого вещества приходилось около 15 т.
Теперь началось самое интересное.
Доктор Бриджмен, которому в тот год исполнилось тридцать два, притащил в лабораторию дюжину сырых яиц. Это было самым началом его опытов со столь основательной «машиной» — десяток тысяч атмосфер! — поэтому, при желании, можно даже притянуть к характеристике названного предмета исследования (куриных яиц) латинское выражение ab ovo — от яйца, в смысле «с самого начала».
Полетела в ящик для мусора скорлупа, прозрачным яичным белком наполнили стальную облатку камеры высокого давления.
С лязгомг захлопнута тяжелая крышка пресса. Гудит мотор компрессора, нагнетающего масло в гидравлическую систему. Медленно ползет Стрелка манометра: 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000… Стоп!
Замолк компрессор. Через несколько минут Бриджмен откупорил первую камеру.
Вместо сырого белка перед ним был вареный. Твердый, белый, упругий белок — как из крутого яйца!
Одну за другой ставит лаборант под поршень камеры облатки с белком. Раз за разом белок свертывается — при комнатной температуре. Все куриные яйца реагируют на давление однозначно.
На следующий день в лаборатории Бриджмена «готовят мясо». Точнее, подвергают высокому давлению мясной белок коллаген.
Результат получается точно таким же: белок свертывается.
Бриджмен: решает испытать органическое вещество искусственного происхождения, идет в химическую лабораторию, советуется с коллегами и возвращается к себе со склянкой бесцветной жидкости — изопрена.
Опять лязгают дверцы пресса, опятз? гудит компрессор, и после окончания опыта Бриджмен задумчиво раскатывает в пальцах упругий комок чего-то прозрачного, больше всего похожего на каучук. Он мог бы воскликнуть: «Синтетический полимер!», но термин этот еще не был в употреблении в 20-х годах. А в статье об удивительном поведении органических веществ под давлением Бриджмен написал так: «Природа этих процессов да сих пор совершенно не разгадана, но результаты опытов во всяком случае наводят на мысль, что давление во многих органических соединениях может вызвать необратимые реакции».
Разгадывать природу «этих процессов» — полимеризацию органических веществ под давлением — предстояло другим. А Бриджмен решил испытать под прессом фосфор (есть ли другое вещество, легче перестраивающее свою структуру?).
Белый фосфор прозрачен и мягок, похож на воск и почему-то светится в темноте; достаточно слегка нагреть его в любой пробирке, и он тут же превращается в темнокрасный порошок — вещество, довольно заурядное.
Может быть, под давлением произойдет…
К удивлению Бриджмена, красный фосфор ни во что иное превращаться под давлением не стал.
Тогда он принялся за белый.
Много раз белый фосфор превращался у него в красный, словно и не было никаких атмосфер. Но однажды, доведя давление до 12 000, Бриджмен извлек из камеры нечто новое: темные, почти черные крупинки с металлическим блеском, гораздо тяжелее, чем красный (не говоря уж про белый) фосфор. И не только блеском походили они на металл: черный фосфор хорошо проводил тепло и электричество.
Неметалл превратился в металл. Изменились не только свойства. Изменилась внутренняя структура вещества.
Над многими еще веществами колдовал потом Бриджмен. Пожалуй, самые неожиданные свойства обнаружило под давлением самое обычное и, вместе с тем, самое загадочное вещество — обыкновенная вода.
Бриджмен пробовал замораживать воду, одновременно сжимая ее. И вот в одном из опытов, когда температура в камере понизилась до — 20°, а давление повысилось почти до 2000 атм, вода превратилась в необыкновенный лед, который не всплывал, а тонул в воде. (Если бы такой лед получался сам по себе, в обычных условиях, на нашей планете, по всей вероятности, некому было бы ставить с ним опыты.)
Удивительными изменениями свойств вещества под высоким давлением интересовался в те времена, конечно, не только Бриджмен.
В 1930 г. в аспирантуру харьковского Физико-технического института (УФТИ) был принят тридцатилетний физик Леонид Федорович Верещагин. Тема работы аспиранта Верещагина: как будет вести себя твердое тело, подвергнутое давлению в десятки тысяч атмосфер. (К этому времени Бриджмен был уже профессором Гарвардского университета. Как раз в 1930 г. вышла его книга «Физика высоких давлений». Никаких ссылок на исследования по физике высоких давлений в СССР в ней, естественно, не имеется. Принятого теперь выражения «сверхвысокое давление» в те годы тоже еще не употребляли.) Для исследований Верещагину понадобились аппараты высокого давления. Их тоже не было, или они были плохими. И Верещагин, как до него Бриджмен, занялся аппаратами.
Проблем хватало. Совершенно ненадежен был в те времена главный аппарат высокого давления — тот самый «насос» с двойным поршнем, именуемый мультипликатором и работающий хорошо только один раз — при повторных сжатиях поршень выходил из строя. Даже для лаборатории это было не так уж хорошо, для завода же не годилось совершенно.
Потом — течи. Уже флорентийские академики, пытавшиеся сжимать воду еще в XVII в., знали, что вода внезапно перестает держаться в сосуде, где ее сдавливают, находит, где ей просочиться. Можно сказать, что одновременно с техникой высоких давлений родилась задача уплотнения, «пробки» и все достижения техники высоких давлений всегда были связаны с изобретением новых, все более хитроумных затычек, не дающих сжимаемому веществу ускользнуть из сосуда. (Собственно говоря, мультипликаторы потому и выходили из строя, что при каждом ходе поршня истиралось их уплотнение.)
Первым большим успехом Верещагина и было новое уплотнение, вернее новая его конструкция.
Заметим, что все это пока не имело ни малейшего отношения к алмазам. И что об их существовании аспирант Верещагин (потом — научный сотрудник, потом — профессор) ни тогда, ни в последующие лет двадцать, возможно, и не вспоминал.
По-иному складывалось дело и, главное, интерес к его возможному «окончательному» результату в Ленинграде, где в 30-е годы физики тоже начали усиленно заниматься высоким давлением. Обстановку, в которой это происходило, можно хорошо представить себе по воспоминаниям сотрудника Ленинградского физико-технического института Наума Моисеевича Рейнова.
«…Главной в довоенные годы была для меня работа по генератору и высоковольтным устройствам. В летнее время — экспедиции, изучение космических частиц и спектров солнца. К тому же еще — изобретательство. Казалось бы, хватит. Но тут появляется искуситель — Н. Н. Семенов. С 1931 г. он — директор Института химической физики, который помещается через квартал от физтеха. И Семенов говорит, что у него есть очень интересная работа — изучение влияния высоких давлений на протекание органических реакций. Исследования при таких давлениях должны дать очень интересные результаты для физики, для химии и для химической физики. Эти результаты можно будет использовать в промышленности…
Семенов говорил мягко, почти как сам Иоффе. И я согласился.
Исследовательскую группу возглавлял Юлий Борисович Харитон. В нее входили сотрудники его лаборатории, среди них Овсей Ильич Лейпунский и я…
Начали, конечно, с разработки аппаратуры сверхвысоких давлений. Приборов, работающих при давлении 10 — 20 тыс. атмосфер, у нас тогда не производилось. (Их вообще еще нигде не производили.) Конструирование установок для сверхвысоких давлений в предшествующие годы упиралось в целый ряд теоретических трудностей. Главная трудность была в том, как достичь равномерного давления в камере. Однако как раз в это время американский физик Бриджмен опубликовал работу, где излагал очень интересную схему аппарата — принципиально новую. Мы за эту схему сразу ухватились и вскоре создали установку для исследования газов при давлениях до 12 000 атмосфер и температурах до 450° С.
Затем разработали и построили установку, состоящую из большого пресса на 40 тонн, мультипликатора для предварительного сжатия жидкости до 3000 атмосфер и из деталей, позволяющих проводить опыты с газом.
Эта установка обладала оригинальными особенностями. Мы могли заполнять капилляр исследуемым газом при 150 атмосферах. При объеме капилляра в 3 см3 это позволяло производить опыты при давлениях до 20 000 атмосфер. Мы могли в этой установке отделять газ от жидкости и подогревать газ в процессе опыта при сверхвысоких давлениях. По стеклянному капилляру, в котором находился исследуемый газ, давление распределялось равномерно во всех направлениях, и поэтому работа проводилась в условиях полной безопасности.
Такой микрометодикой были научены при высоких давлениях реакции газов с твердыми телами, затем каталитические реакции на тонких проволочках, газовая коррозия металлов, растворимость газов в твердых телах, сжимаемость газов, теплоотдача и т. д.
Были проведены опыты по разложению метилового спирта при 8000 ат и 350° С. Опыты показали, что с повышением давления растет скорость образования диметилового эфира, увеличивается скорость разложения и выход метана и СO2 (вследствие реакции водорода и СО с метиловым спиртом).
При помощи той же микрометодики проведены были исследования поведения коллоидных растворов под давлением. Оказалось, что с повышением давления значительно ускоряется застудневание коллоидов гидрата окиси железа, но образование некоторых других гидратов замедляется…
Все это было удивительно интересно, мы очутились в мире новых, никому не известных явлений, происходящих в веществе…»
Итак, исследовательская группа, в которую входил Лейпунский, занималась изучением действия высокого давления на различные вещества и имела в своем распоряжении оборудование, на котором можно было доводить давление до 20000 атм при 2000° — весьма солидные по тем временам величины. Разве не самым естественным было бы попытаться использовать, это обстоятельство для изготовления алмаза? Наверное, нет. Им казалось, что правильнее было бы начать дело с другой стороны — с расчетов.
И вот, взявшись за эту работу, Овсей Ильич Лейпунский «вычислил» алмяз…
Он начал с того, с чего начинает каждый берущийся за новое дело, — с анализа всего, что было к тому времени сделано десятками, если не сотнями его предшественников.
Среди многих твердо установленных фактов, относящихся к делу, один был более всего огорчителен для изготовителей алмазов: при сгорании 1 г графита выделяется меньше тепла, чем при сгорании 1 г алмаза. Это значит, что на создание 1 г графита израсходовано природой меньше энергии, чем на создание 1 г алмаза. А это, в свою очередь, значит, что беспорядочному сонму углеродных атомов, разгоняемых энергией тепла, гораздо проще сложиться в графит, чем построиться в алмаз.
В любой точке пирамиды, горы или лестницы любой предмет менее устойчив, чем внизу, у основания, потому чт6 только внизу ему уже некуда деться, из любого же другого места он готов скатиться. Или, на языке физики: чем выше поднято тело, тем большая потенциальная энергия запасена в нем. Оно может лежать на пятом этаже как угодно долго, но раз вы единожды его туда затащили, то как только вы уберете то, что это тело удерживает, — в данном случае балки перекрытия и настил пола — оно немедленно само по себе окажется на следующем энергетическом уровне — на четвертом этаже… И так далее. Если убрать все преграды сразу, то названное тело не медля возвратится в свое первоначальное положение — туда, откуда оно было поднято, может быть, лет пять — десять назад, если это был, к примеру, старинный бабушкин рояль. Причем возвратится самопроизвольно: запасенная потенциальная энергия не убывает с течением времени; это весьма важно!
Место атомов углерода в графите можно уподобить нижнему, место в алмазе — верхнему положению рояля.
Чтобы они — атомы углерода — оказались наверху (алмаз), нужно затратить энергию. В любом из возможных положений по дороге к верхнему они сами по себе стремятся занять нижнее положение (быть графитом).
Для того чтобы вычислить, как заставить углеродные атомы подняться на этот энергетический верх, нужны были численные значения физических свойств углерода при разных давлениях и температурах. В том числе при тех, которые еще не были достигнуты. Лейпунский отыскал удобный (изящный, как утверждают математики) способ перебросить мостик расчета от известных значений к неизвестным, но совершенно необходимым для решения задачи. Это было первым успехом.
Вторым успехом было нахождение той температуры, при которой атомы углерода должны перестроиться из графитного строя в алмазный. Ее удалось вычислить, можно сказать, вообще без математики. Лейпунский задался вопросом, который теперь (после него, как всегда!) покажется само собой разумеющимся: не будет ли графит превращаться в алмаз при той самой температуре, при которой алмаз полнее всего превращается в графит? Разве вода замерзает не при тех же условиях, при которых лед тает? Расчет подтвердил и это простейшее предположение; еще один пример простоты сложных вещей.
И вот на письменном столе Лейпунского появился график — диаграмма состояния углерода при различных давлениях и температурах. Кривые показывали: для превращения графита в алмаз нужно, кроме двухтысячеградусного жара, давление не меньше 60 — 70 тыс. атм. Лучше всего что-нибудь около 100 тыс… В сотни раз больше, чем могло быть у тех, кто пытался изготовить алмаз. И Лейпунскому пришлось заканчивать свои расчеты довольно грустными словами в их адрес:
«…Выяснилось прискорбное обстоятельство: все попытки изготовления алмаза были сделаны в условиях, при которых графит является более устойчивой твердой фазой, чем алмаз».
Более того: «Большинство описанных опытов было произведено в то время, когда еще даже не было ясно, что устойчивее в земных условиях — графит или алмаз».
Ни у Каразина, ни у Муассана, ни у Хрущова, ни у многочисленных их последователей и авторов патентованных технологий не могло быть ничего похожего на 100 тыс. атм. А у Крукса, который устраивал взрывы в стальной бомбе, высокое давление было слишком непродолжительным, а значит, слишком мала (хоть и не равна нулю — заметим это!) была вероятность попасть в цель, которая раскрывается только на доли секунды…
Ну, а что же все-таки было у всех тех, кто объявлял, что алмаз сделан?
Кое у кого была, наверное, заурядная фикция. Например, у господина Карабачека и его шефов из «ИГ Фарбен». А честные ученые в конце XIX и начале XX в. — у них просто не было еще средств для точного определения вещества в тех микроскопических дозах, в которых они добывали свои кристаллы.
Чаще всего это были, очевидно, комбинации окислов и карбидов — титана, алюминия, кремния. И титан, и алюминий, и кремний обязательно присутствовали в исходных материалах или в самой аппаратуре исследователей. Комбинация окислов и карбидов могла получаться такой, что у нее оказывались «подходящими к алмазу» и удельный вес, и твердость (примерно как у корунда). И при сжигании карбидов получался углерод. Почти чистый…
Вот как было сказано об этом в 1939 г. у Лейпунского:
«…Чтобы быть уверенным в получении алмаза, кристаллизацию необходимо производить:
1) при таких давлениях, когда алмаз является более устойчивой фазой, чем графит;
2) при достаточно малых скоростях, чтобы не проявились преимущества графита как кинетически более вероятной фазы;
3) при таких температурах, когда возможны перестройки в кристаллической решетке, чтобы в случае образования графита последний мог перейти в алмаз.
Перестройки в решетке алмаза начинаются с 1700 — 1800°, и при этой температуре нет оснований ожидать, что решетка графита будет устойчивее. Поэтому температура в 2000° К является минимальной для получения алмаза из графита в твердой фазе, причем опыт должен производиться при таком давлении, когда алмаз при этой температуре устойчивее графита, т. е. при давлении порядка 60 000 ат.
Техника высоких давлений в настоящее время позволяет поддерживать в течение длительного времени давление 50 000 ат… Дальнейшее увеличение этого предела до 60 000 — 70 000 ат, по-видимому, осуществимо, хотя оно потребует очень большого труда при подборе соответствующих твердых сплавов. Нагрев графитовой массы до 2000° при большом давлении представляет меньшие трудности и может быть осуществлен изнутри. Но все же опыт при 60 000 — 70 000 ат является опытом будущего, хотя, может быть, и весьма недалекого.
Давление, необходимое для кристаллизации алмаза в области его устойчивости, может быть уменьшено, если удастся понизить температуру, при которой возможна кристаллизация. Известно, что наличие среды, являющейся растворителем для твердой фазы или вступающей с ней в нестойкие химические соединения, может значительно облегчить рекристаллизацию…
С принципиальной точки зрения, в железе можно выкристаллизовать алмазы (или вызвать рост внесенной затравки) при температуре 1500 — 1700° К, для чего потребуется давление порядка 45 000-50 000 ат.
Такой опыт находится в пределах возможностей техники сегодняшнего дня…
Алмаз может оказаться устойчивее графита и при небольших давлениях, если поверхностная энергия алмаза меньше поверхностной энергии графита. При этом условии для кристаллов очень малых размеров суммарная (т. е. объемная + поверхностная) энергия алмаза будет меньше, чем энергия графита, т. е. очень мелкие кристаллы алмаза будут устойчивее очень мелких кристаллов графита.
Однако эксперимент, в котором можно было бы реализовать это соотношение, следует проводить в условиях, когда исключена возможность рекристаллизации, а тогда ход кристаллизации будет определяться кинетическими соотношениями, а не термодинамическими…
В области, где графит более устойчив, чем алмаз, получение алмаза не является невозможным, так как во всяком случае алмаз термодинамически более устойчив, чем жидкий или газообразный углерод (при р>рнасыщ.). Здесь решающую роль должна играть кинетика образования зародышей и роста кристаллов алмаза и графита.
Если образование зародыша алмаза менее вероятно, чем образование зародыша графита, то очень существенно наличие готовой алмазной затравки.
Попытки кристаллизации в присутствии алмазной затравки из газовой фазы и из раствора производились при низкой температуре и дали отрицательный результат. Так, Руфф пытался наращивать алмаз из сплава при 800°, но при этом растворимость углерода в сплаве была ему неизвестна. Подобный опыт — в особенности кристаллизации из раствора — не представляется все же безнадежным, если взять хороший растворитель, например железо.
Трудность такого опыта заключается в надлежащем подборе температуры кристаллизации. Для возможности роста кристалла необходимо некоторое пересыщение раствора. При этом небольшое пересыщение для алмаза будет более значительным для графита, так как равновесная концентрация растворенного или газообразного углерода над графитом меньше, чем над алмазом, поскольку алмаз менее устойчив. А так как вероятность образования зародыша растет с величиной пересыщения, то пока идет медленный рост кристалла алмаза, на нем может образоваться зародыш графита, который направит дальнейшую кристаллизацию по пути образования графита.
Следовательно, температура алмаза должна быть такова, чтобы, с одной стороны, пересыщение раствора над ним было достаточно велико для обеспечения кристаллизации с нужной скоростью, а с другой стороны, чтобы пересыщение относительно графита было достаточно мало, чтобы во нремя роста алмаза не образовался зародыш графита.
Условия для эксперимента очень трудные, но, может быть, не безнадежные…
В той случае, когда вероятность образования зародышей алмаза сравнима с вероятностью образования зародышей графита, путем закалки можно получить небольшие кристаллики алмаза. Если в опытах Муассана были получены алмазы, то их количество составляло 10-4 по весу от имевшегося в железе графита (на основании данных Руффа). Эту цифру можно в данном случае рассматривать как примерную величину отношения вероятностей образования зародышей алмаза и графита.
Исходя из этой величины, мы могли бы ожидать, что при опытах с жидким углеродом в 10 г графита должен содержаться 1 мг алмаза. Однако анализ застывшего расплавленного угля не обнаружил наличия алмаза.
Впрочем, может быть, этот путь не безнадежен при осуществлении достаточно быстрой закалки. Уголь плавится при 4000° К, и при этой температуре уже само излучение вызывает быстрое охлаждение. Так, например, для капель диаметром в 1 см начальная скорость охлаждения имеет величину порядка 2500° в 1 сек и для охлаждения капли до 2500° К, т. е. до температуры, при которой рекристаллизация алмаза в графит уже затруднена, требуется около 2 сек. Дальнейшее увеличение скорости закалки представляет большие трудности, но тем не менее попытки в этом направлении следует рассматривать как один из возможных путей.
Наконец, известный интерес могут представлять попытки получения больших кристаллов из малых путем спекания, подобно тому, как изготовляют вольфрамовые стержни, изделия из твердых материалов и т. д. Так, например, Дельтер наблюдал спекание кусочков алмаза при 2000°…».
Заканчивалась работа О. И. Лейпунского таким заключением.
«1. Ввиду того, что графит представляет собой кинетически более выгодный путь кристаллизации углерода, чем алмаз, единственным надежным путем изготовления алмаза является кристаллизация или рост уже имеющихся кристалликов в области термодинамической устойчивости (при высоких давлениях) при температуре, когда возможна рекристаллизация графита.
Для этого необходимо усовершенствование техники получения высоких давлений и подбор среды для кристаллизации.
2. В области, где алмаз менее устойчив, чем графит, возможными путями являются:
а) наращивание алмаза из раствора, содержащего углерод;
б) закалка расплавленного угля (также при высоком давлении);
в) спекание алмазной пудры».
Вряд ли теперь, спустя тридцать шесть лет после выхода научного журнала со статьей об этом сугубо теоретическом исследовании («Успехи химии», 1939, № 10), можно со всей достоверностью доказать, кто ее читал, а кто, может быть, и не читал. Так что вернемся к твердо установленным фактам, относящимся к нашему предмету.
Всего через несколько месяцев после выхода в свет статьи Овсея Ильича Лейпунского «Об искусственных алмазах» фирмы «Карборундум», «Нортон» и «Дженерал электрик» заключили пятилетнее соглашение с профессором Перси Уильямом Бриджменом. Фирмы предоставляли средства. Профессор Бриджмен брался за разработку аппаратуры для синтеза алмазов.
Уже под давлением в десять е небольшим тысяч атмосфер многие вещества вели себя необычно. Еще более необычных и многообразных превращений ждали исследователи от давлений, превышающих нормальные не в десятки, а в сотни тысяч раз. Но до начала 30-х годов этого просто не могло быть, независимо от желаний, устремлений, изобретательности или таланта. Техника не может перепрыгивать через свои возможности, и в нашем случае суть состояла в том, что до 30-х годов просто не существовало еще материала, необходимого для устройства аппаратов сверхвысокого давления.
Об этом материале, изобретенном, кстати, совсем для других целей, не раз еще пойдет речь дальше. Сделаем поэтому небольшую паузу и проследим мысленно как бы главную линию создания материалов для машинной индустрии — станового хребта нашей цивилизации.
Если не останавливаться на механизмах, изготовленных в основном из дерева (а таких было немало, и сослужили они человечеству довольно долгую и верную службу), то можно сказать, что сначала машины делали в основном из чугуна. До нашего времени дошло слово «чугунка» — так называли в России железную дорогу.
Затем в ход пошли конструкционные углеродистые стали.
Для обработки этих сталей понадобились, естественно, инструменты из материала более твердого, чем тот, что следовало обработать. Тогда появились легированные быстрорежущие стали — с добавлением к железу вольфрама и кобальта. Вольфрам и кобальт, образуя с железом двойные карбиды, упрочняли сталь, увеличивали ее стойкость к нагреву — не давали резцам «садиться» при работе.
Инструменты из быстрорежущей стали тоже надо было обрабатывать… Чем-то, естественно, более твердым, чем быстрорежущая сталь.
Тогда в ответ на эту настоятельную потребность техники появился принципиально новый материал — твердые сплавы. И новая отрасль техники — порошковая металлургия, спекающая из металлических порошков эти новые материалы. Несколько забегая вперед, можно утверждать, что только после повсеместного распространения твердых сплавов могла возникнуть истинная (техническая, производственная, экономическая) необходимость в еще более твердом материале. И что таковым мог быть — в пределах известного науке и технике — только алмаз.
Но здесь нам важнее другая, названная выше сторона дела: техническая возможность изобрести аппарат для синтеза алмаза появилась только после создания твердых сплавов. (Один из примеров диалектики науки и техники, как, впрочем, и более широкого круга вещей и явлений: предыдущее нуждается в последующем, как и последующее в предыдущем, — одно без другого либо невозможно, либо бессмысленно.)
Твердые сплавы, способные выдержать температуру в несколько тысяч градусов, появились почти одновременно в Европе и в Америке. Они были спечены из карбидов вольфрама и кобальта. В Америке сплав назвали карболоем, в Европе — видием, от немецкого wie Diamant («как алмаз»). Так что и названием своим новый материал сразу же оказался как бы привязан к алмазу.
Бриджмен и его сотрудники конструировали все новые камеры и устройства, передающие давление исследуемому веществу. Дело двигалось медленно: карболой непривычен, свойства его еще плохо изучены. Но так или иначе, а к концу 30-х годов в распоряжении Бриджмена был уже аппарат, в котором давление удавалось поднимать до 130 000 атм при 1000° тепла. Подопытное вещество сжималось в нем с четырех сторон тетраэдральными наковальнями из карболоя. В этом аппарате группе Бриджмена удалось синтезировать минерал гранат, в том числе ярко-красный гранат — пироп, естественный спутник природных алмазов в кимберлитовых трубках…
Глава VI
ШВЕДСКИЙ СИНТЕЗ
Много было в неспокойном мире конца 30-х и начала 40-х годов иных дел и забот. Уже маршировали по бетонным дорогам третьей империи полки фашистского вермахта, уже была «присоединена» Австрия, захвачена Чехословакия. И в наступающей грозной кутерьме была, наверное,, не на самом виду научная истина, отысканная Лейпунским. Многим, наверное, было не до того, что рецепт алмаза в общем-то выписан, что остается техника: давление, температура… Остается делать алмазы.
Но так, чтобы вообще забыли об алмазах «из печки», тоже не могло быть.
Вторая мировая война началась — и все, что не имело прямого отношения к военным нуждам, отошло на второй план. Прекратились работы с высоким давлением в Институте химической физики, и сам институт был эвакуирован из осажденного фашистами Ленинграда в тыловую Казань. Заглохли работы по алмазной проблеме и в Америке, в лаборатории Бриджмена.
И тем не менее нельзя сказать, чтобы мир совсем забыл об искусственных алмазах.
Над Германией 1943 г. все неотступнее вставал призрак неминуемого краха фашистского рейха. И сказать, что немецкая наука была в те времена военизирована — все равно, что ничего не сказать. Лаборантов гнали на фронт по тотальной мобилизации. Приват-доцентов тоже отправляли на фронт. Бывало, отправляли и профессоров. И уж прежде всего прикрывали подряд все исследования, не сулившие немедленного — не через пять лет, не через три года, а только немедленного, только завтра! — шанса продлить войну. Даже на урановый проект — и то не давали денег…
И вот в том самом 1943 г. в Берлине трое исследователей — Гунтер, Гезелле и Ребентиш — получили разрешение провести эксперименты, задача которых могла бы показаться, по меньшей мере, сомнительной: синтезировать алмаз. Много позже весьма компетентные физики назвали эту попытку серьезной. То, что она не удалась и алмазные богатства в кладовые рейха не лосыпались, — уже иное дело. Интересен сам факт: разрешение вести весьма дорогостоящую работу…
Тот же 1943 г. Другая воюющая сторона, другая страна и другая столица — Лондон. Еще не до конца ушедший страх перед возможным вторжением гитлеровцев. Продовольственные карточки, строжайшее затемнение, зенитки на крышах, ночные налеты фашистской авиации. Ученые занимаются в основном делами, имеющими более или менее прямое отношение к происходящему.
В Британском музее естественной истории в Лондоне хранятся 12 невзрачных кристалликов размером в десятые доли миллиметра (самый большой — 0,1X0,2X0,4 мм). Это — своеобразная реликвия. Это — памятник научной ошибке, не мистификации, но добросовестной ошибке, — алмазы Хэннея, упомянутого в третьей главе этой книги.
Еще в 1880 г. до Муассана ц Хрущева англичанин Хэнней, как немногие до него и многие после него, пьь тался изготовить искусственный алмаз; в заваренных наглухо стальных трубах он прокаливал костяное масло, или парафин, или, может бытщ еще что-то — словом, углеводороды. К ним добавлялась затравка — соли лития и натрия, а также, в некоторых опытах, мелкие алмазы (тоже для затравки). Стальные трубы были наглухо заварены с обеих сторон на кузнечной наковальне (других способов сварки в то время не было), и Хэнней калил их докрасна целый день.
Из 80 труб столь тяжкое испытание выдержали всего три. И в одной из них в черной спекшейся массе Хэнней обнаружил более десятка блестящих кристалликов — очень твердых, тяжелых и жаростойких. Их удельный вес был 3,5, они царапали корунд, имели слегка скругленные плоскости октаэдра, не растворялись в плавиковой кислоте и без остатка сгорали в пламени паяльной лампы.
Уже после Муассана, когда англичане вспомнили о Хэннее хотя бы потому, что им никак не улыбалось отдавать налиму первенства в таком деле французу, Чарлз Парсонс, тоже упоминавшийся уже на этих страницах, пытался повторить успех Хэннея. Стесняться в средствах ему не приходилось, и труб было изведено немало. Одну за другой заваривали, калили, взламывали остывающие трубы с начинкой. Все бесполезно: алмазы почему-то не получались.
И в более поздние времена опыты Хэннея никто из серьезных ученых всерьез не принимал, хотя сначала считалось, что алмазы у него получились. Потому кристаллики и попали в музей: 12 крупинок, извлеченных Хэннеем из одной такой трубы после суточного каления в кузнечном жару.
Но алмазами их считали с натяжкой, ибо ученым было хорошо известно (тем более теперь, после расчетов Лейпунского), что никаких алмазов у Хэннея получиться не могло. Что это либо корунды, либо шпинели, либо какие-нибудь карбиды.
Уверенность в этом была столь велика, что никому даже не приходило в голову заново исследовать кристаллики, хотя со времен Брэггов можно было со стопроцентной гарантией отличить кристалл алмаза от любого другого кристалла — каждое вещество дает рентгенограмму не менее индивидуальную, чем дактилоскопический отпечаток.
И вот в 1943 г., в разгар войны, в Британском музее естественной истории появляются два физика — Баннистер и Лондсдейл. Появляются, получают под расписку, по строгому счету, все 12 крупинок и отбывают в свою лабораторию, чтобы снять рентгенограммы, которых еще никто не снимал, найти однозначный и надежный ответ на вопрос, из чего сделаны алмазы Хэннея.
К немалому удивлению исследователей, рентгенограммы со всей определенностью показали, что 11 из 12 крупинок Хэннея — это, действительно, алмазы. В письме одному из своих коллег Мэри Лондсдейл сообщила свое мнение на сей счет: Хэнней был просто-напросто обманщиком и подложил в свои трубы кристаллики природных алмазов.
Запутанная история. Непонятно, прежде всего, при таком объяснении, почему Хэнней ни от кого и не скрывал, что в некоторые трубы он для затравки подкладывал натуральные алмазы. Однако искусственные алмазы получились у него, пояснял в свое время Хэнней, в других трубах, где затравки не было. Если прямой обман, фальсификация опыта, то зачем лишние сложности?
И еще одно! Можно ли на основании наших сегодняшних знаний, а тем более тех, какие были в начале 40-х годов, утверждать, что об алмазах нам все доподлинно известно?
И здесь нам придется снова обратиться к исследованию совершенно иного толка — сугубо теоретическому.
Дело было так. В один из зимних дней конца 1942 г. сотрудник эвакуированного в Казань ленинградского Института химической физики Давид Альбертович Франк-Каменецкий, распиливая дрова на циркулярной пиле, поранил правую руку и был отправлен домой. Неожиданно образовавшиеся две недели свободного времени он решил употребить на давно интересовавшую его работу, для которой можно было обойтись и без правой руки. (В здоровом же состоянии Франк-Каменецкий не считал в то время эту работу возможной, поскольку практической отдачи она не сулила.)
Интересовало Франк-Каменецкого вот какое обстоятельство: «В тех случаях, когда твердое кристаллическое тело может существовать в нескольких модификациях, далеко не всегда образуется первично та из них, которая в данных условиях является термодинамически устойчивой», — это первая фраза его казанской рукописи «Теория выращивания неустойчивых фаз и проблема алмаза». Действительно, алхимик Бранд сначала выделил неустойчивый желтый фосфор, а вовсе не устойчивый красный. Это правило (сначала выделяется неустойчивая, а затем устойчивая фаза) Вильгельм Оствальд назвал некогда правилом ступеней.
Далее у Франк-Каменецкого шли, как и у Лейпунского, расчеты, расчеты… Они показывали, что для роста алмаза нужно, чтобы число соударяющихся с его поверхностью и между собой атомов углерода было не слишком велико. Иначе углеродные атомы не надстраивают алмазные грани, а валятся грудой, путая четкую схему, образуя «ошибочные» графитные ячейки…
Из чисто теоретического расчета, из математики, можно сказать, у Франк-Каменецкого получалось, что для синтеза алмаза нужно управлять не только температурой и давлением, но и регулировать — весьма тонко! — количество самого углерода. «Все эти три фактора, — заключал Франк-Каменецкий, — должны находиться в строгом соответствии между собой, так что вполне естественно, что попытки выращивания алмаза в случайно подобранных, без предварительного расчета, условиях никогда не приводили к успеху…»
И еще получалось, что если атомов углерода не должно быть много, то и рост не может быть быстрым. Например, алмаз весом в 1 г будет расти не менее года.
И все же Франк-Каменецкий пришел к парадоксальному выводу, что легче синтезировать алмаз при относительно низких давлениях, в жидкой или газовой фазе и в присутствии алмазных зародышей. Иными словами, надо не синтезировать кристалл, а наращивать синтетический алмазный слой на кристаллик природного алмаза. Это чем-то походило на искусственное выращивание жемчуга, когда в раковину жемчужницы подкладывают крупицу перламутра.
Шел 1942 г. Франк-Каменецкий, едва зажила рука, занялся взрывчатками, с которыми в то время работал. И рукопись его о неустойчивых фазах осталась даже неопубликованной. И это — лишнее подтверждение тому, что ни история вообще, ни история большинства озарений человеческого ума не движется, как правило, прямыми путями, по кратчайшим, как утверждает геометрия, расстояниям между заданными точками.
А примерно в то же кремя, когда Франк-Каменецкий в Казани сидел с перевязанной рукой над своими расчетами, когда Мэри Лондсдейл в Лондоне пришла к выводу, что хэннеевы алмазы — подлог, когда Гунтер в Берлине обольщал кого-то из фюреров призраком алмазных сокровищ, — примерно в то же время, но в другом месте, на нейтральной территории, происходили немаловажные для нашей истории события. Кроме участников — трехчетырех человек, никто про них в то время не знал.
…О приват-доценте Балтазаре фон Платене его соотечественник швед сказал (это было уже в 1971 г.) так: довольно известный изобретатель. Подразумевалось — у себя дома, в Швеции.
Как свойственно и многим другим людям, которых общественность и в наше время зовет этим словом, приват-доцент фон Платен брался за самые разные дела и задачи, чего-то придумывал, усовершенствовал, отрывал от дела занятых людей.
В конце. 30-х годов фон Платен изобрел холодильник — обыкновенный аммиачный холодильник. Он получил за него кучу денег и мог жить припеваючи и спокойно заниматься, чем хочет. Но тут фон Платеном овладела новая идея — сверхвысокие давления, прессы и пр. Несколько лет он орудовал с ними самостоятельно, но потом — вещи это громоздкие и не такие уж дешевые — все же решил поискать поддержки у промышленных фирм.
Кто-то ему отказал, кто-то ничего определенного не обещал; фон Платен пошел дальше и пришел в отдел исследований и развития компании ASEA.
ASEA означает Allmana Svenska Elektriska Aktiebolaget — Всеобщая шведская электрическая акционерная компания. Предложение фон Платена, обращенное к начальнику отдела исследований, звучало примерно так: я изобрел аппарат, в котором получатся такие давления и температуры, что можно будет синтезировать из углерода алмаз; эксперименты уже начаты, теперь нужны средства, чтобы изготовить все это основательно. И вот тогда…
Отдел исследований — примерно 700 человек в самых разных лабораториях занимался не только генераторами, моторами, трансформаторами, но и довольно далекими от электротехники вещами, если они казались многообещающими. И начальник отдела д-р Халвард Лиандер, выслушав приват-доцента фон Платена, нашел, что прессами стоило бы заняться. Главный инженер Лилльеблад его поддержал, правление компании согласилось. И несколько человек стали понемногу работать. Но довольно скоро поняли, что от 7000 атм, которые получились тогда у фон Платена, до синтеза алмаза далеко.
Несколько человек возились с машиной фон Платена всю войну — Швеция оставалась нейтральной и даже избежала оккупации. Затруднений было предостаточно. Прежде всего с блоком высокого давления, который надо стягивать, как бочку, чтобы его не разорвало изнутри. Предел прочности даже у кованой стали не так уж велик — теоретически килограммов 50 на квадратный миллиметр, а у реального обруча — 10, ну 15… Тысяч, а тем более десятков тысяч атмосфер никакой стальной обруч выдержать, увы, не может.
И фон Платен нашел несравненно более прочную вещь, чем обруч из кованой стали, — обыкновенные рояльные струны. И в первых конструкциях его аппаратов блок высокого давления был обмотан струнами. Наматывали по 300 км (!) струн, а потом, после сжатия камеры, разматывали их опять, чтобы вскрыть камеру. Но никаких алмазов в этих камерах пока не получалось.
В 1949 г., когда появляется еще одно действующее лицо нашей истории, струны уже не наматывали: была сконструирована система сжатия, обручей и струн не требующая (позже ее принципом стали пользоваться для сверхвысоких давлений и в других странах).
Новое действующее лицо — Эрик Гуннар Лундблад, 1925 г. рождения, из семьи научного работника (ботаника), — в 1949 г. заканчивал Стокгольмский университет по специальности физическая химия и ни о каких алмазах, естественно, не помышлял. Просто на последнем курсе ему пора было подыскать себе место, и тут он узнал, что солидная компания ищет молодого человека с университетским дипломом. И что заниматься там надо будет высокими давлениями.
Так Эрик Лундблад устроился на работу — в ту самую группу отдела исследований и развития компании ASEA, которая занималась прессами фон Платена. Их было всего несколько человек, и Лундблада по причине высшего образования назначили старшим. И они продолжали свои опыты, опыт за опытом, шаг за шагом — медленно, но верно, как сказали бы у нас. Изобретали, придумывали, улучшали, возились.
Задача сводилась в конечном счете к технике: изобрести способ удержать расплав, или, проще говоря, расплавленную сталь, под давлением около 100 000 атм, скажем, 1 — 2 мин.
Было бы уместно именно здесь сообщить, что именно придумал, улучшил, изобрел Эрик Лундблад. К сожалению, это неосуществимо. Может быть, со временем и эта глава алмазной истории обрастет подробностями, но пока их нет. Может быть, из-за скромности самого Лундблада, который в ответ на настойчивые попытки добиться от него подробностей высказался в том смысле, что никакого открытия вообще не было: «Ни озарения, ни Открытия, ни решающего драматического момента — ничего этого не было; мне, во всяком случае, так кажется. Наверное, дело решила наша обстоятельность, такая, знаете ли, дотошность. Столько лет возились с этими прессами, должно же было в конце концов что-то получиться!».
И, действительно, получилось.
15 февраля 1953 г. они, как всегда, работали в лаборатории втроем: ассистент Эриксон, механик Валлин, который своими руками, можно сказать, «слепил все хозяйство», и Лундблад. Начали в 8 утра, сняли давление в 10. Извлекли спекшийся материал из камеры уже после обеда, часа в три. Тогда, в 50-х годах, это длилось долго — надо было все расковыривать, медь, тальк, спекшееся железо.
Они считали, что в камере держалось около 80 000 атм и примерно 2500° минуты две; так было не в первый раз.
Все шло, как обычно, до той самой минуты, когда овей, вскрыв пробу, сразу заметили: нет, что-то не так. В серой затвердевшей массе, какую они видели десятки, а то и сотни раз, были зерна, множество мелких кристалликов — зеленоватых, желтоватых, черных.,..
Часа через два у них была готова рентгенограмма, сделанная тут же в лаборатории. Она не оставляла сомнений — это были кристаллики алмаза!
Лундблад и его помощники бросились делать все возможные анализы. И к 8 часам вечера, когда анализы были окончены, они с той же несомненностью подтвердили, что получился искусственный алмаз.
Еще с час Лундблад не решался что-либо предпринять, а потом, наконец, позвонил в Вестерос, где находится управление компании ASEA (это километрах в ста от Стокгольма). Оттуда на автомобиле примчались доктор Лиандер и инженер Лилльеблад. Была уже ночь, когда они впятером выпили шампанского за первый алмаз…
На следующий день рентгенограммы сделали в Стокгольмском университете. Все подтвердилось. А затем… Затем обо всем происшедшем никто больше не узнал. И так продолжалось до тех пор, пока в марте 1955 г. в Лондоне не вышел 4471-й выпуск всемирно известного журнала «Nature», в котором была напечатана статья, не имеющая ни малейшего отношения к шведскому синтезу…
О ней — в следующей главе.
Глава VII
ПЕРВЫЕ ОКАЗАЛИСЬ ВТОРЫМИ
На 51-й странице 4471-го выпуска «Nature» сообщалось, что алмазы наконец-то синтезированы. И сделано это американской фирмой «Дженерал электрик». (Только две или, может быть, три недели спустя шведское фирменное издание «ASЕA-Journal» известило читателей об алмазах группы Лундблада — через два года с лишком.)
Довольно естествен в этой ситуации вопрос: почему же все-таки получилось, что первые оказались вторыми?
Вот одно из объяснений — в какой-то степени субъективное: «…Мы сомневались: а много ли мы знаем, что там происходит, в нашем графитном растворе? Надо продолжать опыты, объяснить механизм. Что мы можем положить на стол, чтобы фирма брала патент и платила за него немалые деньги? Что поделать: мы, кажется, не были опытными дельцами». Это слова Э. Лундблада.
Но если попытаться представить себе, помимо этих субъективных причин, причины более общие и объективные, то получится в общем то же самое: никакого резона торопиться — извещать поскорее мир о своем успехе — у шведов не было.
Лабораторный процесс — это еще не заводская технология. Следовательно, сообщив о своих алмазах всему миру, фирма ASEA поставила бы на одну доску с собой любого другого претендента, располагающего познаниями, опытом и оборудованием для работы со сверхвысоким давлением, но — не знающего последнего и самого важного: алмаз получается. (Замечание Норберта Винера о том, что главный секрет — это сам факт существования секрета, справедливо и для этой главы алмазной истории.)
Так или иначе, шведы молчали. А тем временем работа шла — тоже молчком — ив других местах.
Из сообщений в научных журналах первых последоенгг ных лет было известно, что Бриджмен сконструировал установку, в которой можно поддерживать давление :более 100000 атм, и что при таком режиме карбид вольфрама уже не выдерживает нагрузок и приходится пользоваться неким особым материалом — составом на алмазном порошке.
А затем публикации прекратились, потому что из ведения университетских лабораторий дело перешло в ведение бизнеса.
«Дженерал электрик», одна из крупнейших компаний в Америке, занимающаяся тоже не только электричеством, заинтересовалась этим делом, как уже известно читателю, еще до второй мировой войны, заключив договор с Бриджменом. И когда исследования Бриджмена продвинулись достаточно далеко вперед, «Дженерал электрик» решила, что настало время прибрать проблему синтеза алмазов к рукам полностью. В 1950 г. в секции механических исследований химического отдела начали конструировать аппаратуру для синтеза алмазов. Этой работой занимались Ф. ГГ. Банди и X. М. Стронг. В 1951 г. к исследованиям был подключен химик Г. Т. Холл, в 1952 г. еще один химик, P. X. Уинторф. Каждому из четырех были предоставлены свобода действий и неограниченные денежные средства.
Работа шла по двум основным направлениям: Банди ж\Стронг конструировали аппаратуру, Уинторф и Холл пытались подобраться к технологии: определить исходные вещества и катализаторы (точнее, растворители углерода). Последнее казалось особенно важным и привлекательным: если превращение графита в алмаз окажется возможным, то хорошо бы найти вещества, в присутствии которых оно пойдет в менее жестких условиях — при меньших температурах и давлениях. Холл сначала целый год пытался сделать алмазы вообще без высокого давления. Но постепенно стало ясно, что так успеха не добиться. И все основные участники работы занялись конструированием мощной установки. В июле 1953 г. она была готова. Ее назвали «Belt» («пояс»), потому что блок давления стянули, словно поясами, стальными кольцами. Автором конструкции был, как ни странно, химик Холл. Гидравлический пресс сдвигал стальные конические пуансоны, между которыми находилась стальная камера высокого давления. В камере помещался никелевый контейнер с графитом, а все остальное пространство заполняли специальным уплотнителем — минералом пирофиллитом. При сдвигании пуансонов он затекал в щели между ними и прочно запирал камеру, а также выполнял роль изолятора — и электрического, и теплового.
Давление на этой установке получилось около 55 000 атм — все еще недостаточное. Но затем пуансоны и камеру сделали не из стали, а из карболоя — уже упоминавшегося ранее сплава карбида вольфрама с шестью процентами кобальта. Сразу же давление удалось поднять до 100 000 атм при температуре в камере выше 2000°!
Но загруженный туда графит все равно отказывался превращаться в алмаз. Ничего не произошло и тогда, когда после все новых и новых усовершенствований исследователям удалось, как они считали, поднять температуру до 5000°, а давление до 200 000 атм.
Наверное, Франк-Каменецкий был прац, всячески подчеркивая, что превращение графита в алмаз — процедура тонкая и весьма прихотливая. А расчета, точного расчета состояний и переходов у Холла и его коллег не было. И отсутствие точных теоретических расчетов они, естественно, пытались восполнить все новыми и новыми опытами. Так прошел еще год — в безуспешных попытках синтезировать алмаз из разных углеродсодержащих веществ в присутствии самых разных металлов-растворителей: железа, никеля, хрома, тантала, иридия… Опыты, опыты, опыты — так же ощупью, как у Лундблада. И так же неожиданно пришел и к ним долгожданный день.
Предоставим слово Холлу.
«16 декабря 1954 г., после завершения опыта, я вскрыл камеру и заметил там маленькие треугольные пластинки. Они пропускали свет, падавший из окна.
Я исследовал достаточно много естественных алмазов и потому сразу увидел, что эти треугольники явно подобны алмазам. Я так заволновался, что у меня начало учащенно биться сердце и я почувствовал такую слабость, что пришлось сесть в кресло, чтобы прийти в себя.
Посидев немного, я взялся за микроскоп. Материал из камеры оказался поликристаллической массой, состоящей из множества маленьких октаэдров с характерными треугольными гранями кристалликов.
Я чувствовал, что это алмазы. Но это нужно было доказать, У меня уже были случаи, когда я синтезировал шпинели и принимал их за алмазы. И я совсем не хотел снова попасть пальцем в небо…»
Прервем свидетельство Холла, чтобы пояснить, что значило «доказать». Компания «Дженерал электрик» оговорила условия идентификации — то, что получится в аппарате, будет признано алмазом, если это подтвердит:
1) рентгенограмма,
2) оптическая характеристика,
3) твердость,
4) химический анализ,
5) внешняя форма,
6) и самое главное — воспроизведение синтеза другими лицами.
Продолжим рассказ Холла.
«…Это было в четверг. Часть материала я передал в рентгеновскую лабораторию, чтобы там сделали рентгенограмму. А сам принялся за прочие исследования: проверил твердость полученного вещества, оптическую рефракцию, плотность и, наконец, сжег несколько крупиц. Все подтверждало: это алмаз.
В понедельник пришли рентгенограммы — алмаз!
Следующие пятнадцать дней ушли на повторные опыты, я проделал их 27 раз — в точности аналогичных тому опыту, что был сделан 16 декабря. И двадцать раз я получал алмазы.
Теперь у меня уже не оставалось сомнений: проблема алмазного синтеза успешно решена. Но по правилам фирмы надо было, чтобы опыт воспроизвели другие лица.
Первая проверка была сделана 31 декабря — д-р Хью Вудбери из «Дженерал электрик», руководствуясь моими указаниями, изготовил алмазы.
17 и 18 января тот же д-р Хью Вудбери и д-р Ричард Ориани, каждый трижды, повторили эксперимент, который я сделал 16 декабря, и во всех шести случаях получили алмазы.
Насколько я знаю, наша лаборатория была первой, где синтезированные алмазы были проверены всеми существующими способами.
И дополнительно еще двумя: алмазов было изготовлено столько, что их можно было подержать на ладони и еще можно было слышать, как они царапают разные твердые тела! И то, и другое ощущение доставило нам особенное удовольствие…»
Собственно синтез длился от одной до трех минут. Максимальный размер образовавшихся кристаллов был 0,8 мм. Алмазы были получены при температуре 1560° и давлении 85 000 атм. Вспомним, что у шведов давление было примерно таким же, и перейдем к небольшому теоретическому отступлению.
Мы живем в нестабильных условиях, точнее говоря: в термодинамически нестабильных. По законам термодинамики, право на существование в данных условиях имеют лишь те вещества, которые обладают наименьшим из всех возможных при данном давлении и данной температуре запасом энергии. (Например, молекула ржавчины в нормальных условиях обладает меньшим запасом энергии, чем три атома железа и четыре атома кислорода порознь. И если не прилагать специальных усилий, то вся выплавленная в мартенах и конвертерах сталь самопроизвольно превратится в ржавчину.)
Если сжечь 1 г алмаза, то при этом выделится на несколько сот калорий больше, чем при сжигании 1 г графита. Графит упакован энергетически экономней, и все алмазы должны были бы самопроизвольно перестроиться в чешуйки графита. Можно порадоваться тому, что этого не происходит и что природа иногда почему-то придерживает термодинамически выгодные процессы (более научно: они идут в этих случаях с незначительной скоростью), либо не дает им хода вовсе. По этой причине мы имеем возможность любоваться алмазом: он не перестраивается в графит, потому что у него исключительно прочная кристаллическая решетка. Однажды образовавшись, она в весьма большом диапазоне температур и давлений остается неизменной. Пока нагрев не превышает 1500°, кристалл не «расшатывается», алмаз ведет себя так, будто бы он стабилен.
В области давлений и температур, при которой термодинамически нестабильное вещество самопроизвольно не переходит в энергетически более выгодное состояние — в метастабильной области, вещество может сохраняться практически сколь угодно долго.
Как только первые результаты Холла были подтверждены, «Дженерал электрик», не мешкая, приступила к изготовлению аппаратуры и к подготовке промышленного синтеза алмазного порошка. В марте 1955 г. они сочли возможным опубликовать сообщение о том, что открытие состоялось. Потом появилась опоздавшая шведская публикация, потом были еще сообщения о синтезе — американской фирмы «Нортон компани», голландских «Ашере даймондс» и «Бронсверк», английской, южноафриканской… А в октябре 1957 г. компания «Дженерал электрик» объявила, что ею изготовлено 100 000 карат алмазного порошка и что в 1958 г. будет изготовлено в 10 раз больше.
Как и положено коммерческому предприятию, фирма извещала и о цене порошка: 3 доллара 48 центов за карат. Искусственные алмазы «Дженерал электрик» были на 24% дороже натуральных…
А технология синтеза, разумеется, оставалась тайной за семью печатями. Вот как говорил об этом двумя годами позже в одном из своих научных докладов Холл: «Точное давление и температуру, а также вещества, необходимые для синтеза, я не привожу. Во-первых, эта информация — собственность «Дженерал электрик». Во-вторых, существует приказ о секретности патентов «Дженерал электрик». В-третьих, засекречен и патент на установку «Белт»…»
Глава VIII
УРАЛ-ЯКУТИЯ-МОСКВА
После публикаций 1955 г. о синтезе алмазов в США и в Швеции стало ясно, что научная часть задачи решена. Спустя два года сообщение о ста тысячах каратов подтвердило, что создана и заводская технология.
Следовало заняться алмазным синтезом и в СССР. И притом как можно быстрее: советская индустрия нуждалась в алмазных инструментах, хотя история русских природных алмазов насчитывала к этому времени почти полтора столетия.
Она началась в 1829 г. на прииске, затерянном в лесной глуши Северного Урала. Вот как описывал происшедшее владелец прииска граф Полье.
«5 июля я приехал на россыпь вместе с господином Шмидтом, молодым фрейбергским минералогом, которому я намеревался доверить управление рудниками, и в тот же самый день между множеством кристаллов железного колчедана и галек кварца представленного мне золотоносного песка открыл я первый алмаз…»
Впрочем, после этого вступления с «я» граф делается скромнее и по-честному пишет: «Алмаз был найден накануне означенного дня 14-летним мальчиком из деревни, Павлом Поповым, который, имея в виду награждение за открытие любопытных камней, пожелал принести свою находку смотрителю». (Как и в Кимберли, дело не обошлось без детей.)
В том же 1829 г. путешествовал по России всемирно известный географ и естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Его сопровождали уже известный нам минералог Густав Розе (тридцатью годами позже превративший алмаз в графит) и натуралист Христиан Эренберг.
Гумбольдта с почестями приняли в Петербурге, его удостоили царской аудиенции. А затем он и его спутники отправились на восток.
«Урал — истинное Дорадо, — часто цитируемое место из письма Гумбольдта с дороги министру финансов России графу Канкрину, — и я твердо уверен в том (основываясь на аналогии с Бразилией, я уже два года как составил себе это убеждение), что еще в Ваше министерство будут открыты алмазы в золотых и платиновых россыпях».
Но предвидение Гумбольдта на самом деле уже не было предвидением: первый уральский алмаз, найденный мальчиком в Бисертском заводе, лежал под замком в железной шкатулке управляющего Шмидта. Более того, рядом лежали еще два кристалла — алмазы начали усиленно искать, сразу же после того, как Шмидт определил, что за камешек принес ему смотритель.
С Урала экспедиция Гумбольдта отправилась в путь по маршруту, на который и сейчас — самолетами и скорыми поездами — решится не каждый. С Урала на Алтай. Оттуда в обратную дорогу на Южный Урал, в Оренбург. Потом на Волгу — в Самару, вниз к Каспийскому морю — в Астрахань. Оттуда в Воронеж и в Москву. Все это на лошадях, а Гумбольдту было в то время под шестьдесят.
В шкатулке Гумбольдта лежал завернутый в вату и бережно заключенный в бархатный футлярчик кристалл одного из трех первых уральских алмазов: Шмидт разыскал своего знаменитого соотечественника (к тому же окончившего некогда ту же, что и он, Фрейбергскую горную академию), чтобы тот мог выполнить обещание — доставить алмаз в Петербург, супруге царя.
По дороге в столицу, в Москве, у Гумбольдта была еще одна встреча, которая обязательно должна быть здесь снова упомянута: из своей деревни приехал специально, чтобы побеседовать со знаменитым натуралистом, харьковский помещик Каразин.
Гумбольдт получил от Каразина подарок… Поэтому на следующий день, когда он отправился на лошадях по тракту из Москвы в Петербург, в его шкатулке оказались рядом первый найденный в России природный алмаз и мумия лягушки, пропитанная веществом, из которого — в России тоже впервые — пытались изготовить алмаз искусственный.
Открытые в 1829 г. на Урале алмазные россыпи не стали алмазной кладовой страны ни тогда, ни через семьдесят лет, когда на весь мир гремели алмазные трубки Кимберли, ни в наше время. В уральских россыпях алмазов чрезвычайно мало. А кимберлитовых трубок там не нашли ни одной.
А сто двадцать лет спустя, осенью 1949 г., в газете небольшого заполярного города появилась заметка, в которой корреспондент сообщал читателям: «…Передовой рабочий Василий Ковтун, недавно вернувшийся в составе энской геологической партии с полевых работ, рассказывал, что сезон был успешным — лето поработали хорошо, добыли две тонны алмазов».
Легко себе представить переполох, едва не инициированный этим изящным выступлением прессы. Две тонны — около половины мировой добычи! (Напомним, что якутские алмазы еще не были найдены, и поиски их, продолжавшиеся без успеха уже не первый год, в то время отнюдь не афишировались.) Дело, конечно, не в корреспонденте, клюнувшем на лихую шутку полярника, названного здесь Ковтуном и работавшего долгие годы в геологических партиях на северных окраинах страны. Дело даже и не в сенсационном, хоть и не очень квалифицированном, сообщении. Дело в том, что корреспондент, редактор и, главное, читатели заполярной газеты были вполне подготовлены к тому, чтобы воспринять подобное сообщение (хорошо бы еще не с такими оглушающими цифрами) в конце 40-х — начале 50-х годов.
Кстати, в то самое время, когда в якутской тайге полным ходом шел направленный поиск алмазов, некоторые профессора еще сообщали на вводных лекциях студентам — горнякам и геологам, что, мол, единственное полезное ископаемое, которого нет в Советском Союзе, — это алмазы. Если не считать мелких месторождений Урала, которые не могут служить источником добычи ценнейшего минерала в необходимых количествах.
Территория Сибири и ее населенность таковы, что можно не сомневаться: еще не одна находка геологов удивит мир богатством этой земли. Но алмазы! Кому и с какой стати пришло в голову искать их в непроходимой болотистой якутской тайге?
Впрочем, отдельные крохотные кристаллы алмаза в Сибири находили. Впервые это произошло как будто еще в 1898 г. В 1937 г. — и это уже совершенно точно — в районе Енисейского кряжа алмазный кристалл нашел геолог Александр Петрович Буров.
Но главной причиной всего последующего были не эти отдельные находки. Главным были геологические карты. Подробные — Южной Африки и гораздо менее подробные — Восточной Сибири. Именно карты навели на мысль о том, что эти географически столь различные области земного шара в некотором смысле схожи.
Это очень трудно представить себе, потому что Африка ассоциируется у нас с джунглями, Южная Африка — с теплым океаном и саваннами, а Восточная Сибирь покрыта в основном непролазной тайгой, и морозы там, бывает, переваливают за 60°. И нелегко переключиться, проникнуться сознанием, что для истории земной коры не имеет значения, что здесь сейчас — саванна со львами и страусами или бурелом с медведями и белками.
И тем не менее люди, умеющие лучше других отвлечься от лежащего на поверхности в пользу скрытого, но поддающегося логическому обоснованию, сумели понять, что Якутия и Южная Африка образовались одинаково. Геологи Владимир Степанович Соболев (ныне академик) и Георгий Георгиевич Моор (скончавшийся несколько лет назад в экспедиции) в 1940 г. заявили в научной печати и на публичных совещаниях: «Наибольшее сходство с Южной Африкой имеет Сибирская платформа между Енисеем и Леной… Вопросам поисков кимберлитов и алмазов должна уделять серьезное внимание каждая экспедиция, работающая на севере Сибирской платформы…»
Геолог Буров, нашедший алмазный кристаллик в Сибири за несколько лет до этого, работал уже в Москве. И добился того, что поиски алмазов в Якутии, пусть вначале очень «узкие» (по средствам), были включены в официальные планы.
Делу помешало нападение на нашу Родину гитлеровцев.
Но сразу же после Великой Отечественной войны поиски развернулись вовсю. С юга в тайгу отправлялись отряды Амакинской экспедиции Иркутского геологического управления, с севера — отряды треста «Арктикразведка» и Научно-исследовательского института геологии Арктики.
Есть еще люди, которые уверены: геолог шагает со своим молотком через горы и долы и вдруг (обязательно вдруг!) отбивает (этим самым молотком) что-то такое, сногсшибательное. К сожалению, дело обстоит сложнее. Именно сложнее! Поиск нужного ископаемого планируют и потом это ископаемое по плану ищут — и находят. Так что и здесь не обходится без того, что уже не раз помянуто в этой книжке, — без теории, рожденной ищущей мыслью.
Самая первая гипотеза происхождения алмазов, выдвинутая Льюисом еще в 1896 г., гласила: они образовались от взаимодействия прорывающей земную кору магмы с углем. Основанием этой гипотезы послужил тот факт, что первая найденная в Кимберли трубка прорывает угленосную формацию, именуемую геологами Карру.
Но потом нашлось множество трубок с алмазами, и эти трубки не прорывали никаких угленосных свит. И наоборот: нашлось множество трубок, прорывающих угленосные свиты, и в этих трубках не оказалось никаких алмазов. Теория не годилась, ибо ей противоречили очевидные факты.
Может быть, алмазы уже были в магме, вырвавшейся по трубкам из недр? Или они образовались в самих трубках? (Кстати, зная ответ на этот вопрос, представляя себе хоть приблизительно разницу между тем, что происходит глубоко под земной корой и при застывании магмы, уже прорвавшейся к поверхности, можно было думать над тем, как повторить эти условия, «заданные» самой природой.)
В более поздние времена ученые, в том числе В. С. Соболев, пришли к убеждению, что алмазы образуются на большой глубине — там, где давление и температура достаточны для их рождения. Считается общепризнанным, что происходят они только из кимберлитов. Но почему в одних кимберлитовых трубках алмазы есть, а в других — ни одного? (Причем кимберлит там и там совершенно одинаков.) В Южной Африке кимберлитовые трубки отстоят иногда на какой-нибудь километр одна от другой. В одной — множество крупных алмазов, в другой — алмазы редки, в третьей или пятой — ни кристаллика. Как это могло получиться, если алмазы были в той магме, которая застыла, образовав кимберлит? И еще одно, алмазов никогда не находили в кимберлитовых жилах, образовавшихся, в отличие от трубок, постепенно, без прорывов.
Вот одна (только одна из многих!) теория.
Глубинная магма, поднимаясь вверх, образовала вторичные очаги, камеры. На окраинах древних монолитных платформ такая камера, заполненная пришедшей снизу магмой, могла оказаться под опускающимся участком земной коры, который начинал с колоссальной силой давить на нее сверху. Когда давление становилось большим, чем могли выдержать окружающие породы, происходил взрыв, магма прорывалась на поверхность.
Если «вторичный очаг» взорвется, образуя трубку, при умеренном давлении, трубка будет «пустой». При 25 — 30 тыс. атм. в ней появятся пиропы. При еще большем давлении — алмазы. Кстати, такая теория позволяет объяснить, почему в разных, даже соседних, трубках бывают алмазы разных сортов, разной расцветки…
Пожалуй, нет смысла вдаваться дальше в детали, пока специалисты сомневаются и спорят (тем более, что это отвлечет нас от главного направления рассказа). Бесспорно одно: теория, которой пользовались Соболев и Моор, утверждая, что Сибирская платформа сродни Южно-Африканскому щиту, — эта теория была заведомо верной (она подтверждена существованием треста «Якут алмаз»).
Вначале теории не хватало только точности: где именно надо искать. Точное предсказание сделал геолог Юрий Михайлович Шейнман.
В 1951 г. он предсказал с точностью до 200 км, где именно следует искать кимберлитовые трубки в Якутии. Не посередине платформы. И не у самого края, где она уже разбита на блоки, между которыми магма спокойно поднималась по трещинам. Искать надо поодаль — гам, где платформа уже покрепче.
Наступление на Сибирской платформе ширилось.
Летом 1953 г. на Вилюе, на косе Соколиной группа геолога Григория Файнштейна обнаружила первую алмазоносную россыпь.
Летом того же года ленинградские геологи Наталья Сарсадских и Лариса Попугаева нашли пиропы — яркокрасные спутники алмаза.
21 августа 1954 г. Лариса Попугаева и ее помощник, рабочий Федор Беликов, пробираясь по пиропам к их «истоку», открыли первую в Якутии кимберлитовую трубку. Попугаева назвала ее «Зарницей» — то ли потому, что над тайгой стала собираться гроза, то ли как предвестницу…
13 июня 1955 г. геолог Юрий Хабардин по голубоватому цвету кучи земли, выброшенной лисой из норы, нашел алмазную трубку «Мир».
Казалось бы, что еще надо? Вот они — алмазы! И никакой алмазной проблемы больше нет…
Но на самом деле она оставалась: чтобы начать промышленную добычу полезного ископаемого на новом месторождении даже в хорошо освоенном районе, с хорошей сетью дорог, нужен бывает не один десяток лет. Пример тому КМА — Курская магнитная аномалия, находящаяся в самом центре европейской части страны. А здесь была полярная пустыня — непроходимая тайга и болота.
Итак, в конце 50-х годов алмазная проблема в нашей стране продолжала существовать. Решить ее должны были — сомнений после недавних сенсаций уже не оставалось — специалисты по физике и химии высоких давлений.
Ни Лейпунский, ни Франк-Каменецкий после войны алмазами больше не занимались. Их интерес к алмазам был в известной мере эпизодическим, оба они были больше теоретиками, чем экспериментаторами, а проблема алмазного синтеза была все же в основном экспериментальной.
В Академии наук ее поручили специалистам, которые занимались синтезом монокристаллов разного химического состава: искусственного горного хрусталя, искусственных рубинов и других искусственных минералов. Они были нужны прежде всего для техники — например, для часов и других точных механизмов; в то же время развивались исследования физики твердого тела, и монокристаллы уже интересовали физиков прежде всего как возможные преобразователи энергии.
Проблема синтеза алмаза была включена в планы работы Института кристаллографии Академии наук, которым руководил академик Алексей Васильевич Шубников.
Однако дела с решением этой проблемы шли в институте гораздо хуже, чем, например, с синтезом кварца или рубина. Прежде всего потому, что, добившись успеха с кварцем и рубином, специалисты-кристаллохимики решили и к синтезу алмаза идти тем же путем, без применения высоких давлений. Только сотрудник этого института Владимир Петрович Бугузов отстаивал необходимость искать решение с помощью высоких давлений — пытался синтезировать алмаз в условиях его стабильности, а не метастабильности. Но он оказался в меньшинстве.
К тому времени, когда фирма «Дженерал электрик» сообщила об успехе группы Холла, исследования по синтезу алмаза в Институте кристаллографии продолжались уже 11 лет — и без существенных достижений. (Кстати, сообщение о синтезе алмазов и само по себе принесло фирме немалую прибыль: в тот же день, когда оно появилось, курс акций «Дженерал электрик» на бирже поднялся в цене.)
Все, кто занимался или хотел заняться синтезом алмазов, узнали, что первые алмазы были синтезированы в установке высокого давления; ее фото появилось в научных журналах, а потом и в газетах. И это подтверждало сомнительность пути, которым шли в Институте кристаллографии, и надежность другого пути, за который ратовал Бутузов.
И руководители Института кристаллографии обратились в Президиум Академии наук с предложением: надо изготовить оборудование, способное поддерживать углерод в зоне стабильности алмаза, тогда институт решит поставленную перед ним задачу. А оборудованием пусть займется Лаборатория физики высоких давлений.
Когда это предложение обсуждалось в Академии наук, прозвучала, вспоминают участники этого обсуждения, и такая реплика: «Кто достанет лошадь, может и сам ездить на ней…».
Леонид Федорович Верещагин, уже упоминавшийся в предыдущей главе, незадолго до войны был приглашен академиком Николаем Дмитриевичем Зелинским из Харькова в Москву, в Институт органической химии Академии наук. Во время войны Верещагин продолжал (хоть и не так, как до того) заниматься исследованием поведения веществ в условиях сверхвысоких давлений.
Академия наук создала в Москве группы ученых для оборонных исследований, не терпящих отлагательства.
Иногда это были эксперименты. Верещагину поручали исследовать немецкие взрывные устройства. Работа была достаточно рискованной; чем закончится следующий эксперимент с «расшифровкой» взрывателя, предсказать никто не мог. И, уходя на работу, исследователи оставляли дома записки на случай, если не вернутся.
А бывало, что приходилось заниматься теорией, расчетами. Например, такими. В осажденном Ленинграде продолжали делать снаряды, а выдерживать технологию в условиях блокады удавалось, конечно, не всегда. Однажды у большой партии зенитных снарядов оказались чуть утолщенные стенки. В одном из секторов обороны Ленинграда от этих снарядов у орудий раздуло стволы. Командование запросило, можно ли из этих пушек стрелять дальше или стволы разорвутся. Положение было крайне тяжелым: перебросить в осажденный город новые орудия было невозможно. Несколько человек в Москве, в их числе Верещагин, считали ночь напролет, и у них получилось, что стволы выдержат. Как представить себе меру ответственности, которую они взяли на себя, докладывая командованию свое заключение — стрелять можно?
Пушки выдержали.
В первое время после войны Лаборатория высоких давлений, которой ведал Верещагин, продолжала работать в Институте органической химии; основной ее задачей было создание аппаратуры для производства полимерных материалов. Но было и множество других исследований, уже не имеющих никакого отношения к органической химии. В конце концов, оставив химикам полный комплект оборудования, Верещагин со своей лабораторией отделился, и она стала самостоятельным научным учреждением.
И вот что примечательно: в монографии Бриджмена «Физика высоких давлений», вышедшей после войны, не было почти ни одного раздела, где не упоминались бы работы исследователей из верещагинской лаборатории.
И все же нужно было обладать немалой решительностью и выдающейся научной интуицией, чтобы отобрать работу по алмазному синтезу у тех, кто вел ее уже добрый десяток лет, и передать ее тем, кто ни алмазами, ни какими-либо иными монокристаллами не занимался никогда. Такой решительностью и такой интуицией в весьма высокой степени обладал тогдашний академию-секретарь Отделения технической физики Академии наук СССР Лев Андреевич Арцимович.
Верещагин был к тому времени, безусловно, самым опытным в СССР специалистом по физике высоких давлений, которой занимался уже более двадцати лет. К концу 50-х годов в его лаборатории уже был сконструирован 500-тонный пресс (то есть пресс с усилием на поршне 500 т), на котором можно было испытывать металлы под давлением 100 000 атм. В сентябрьском номере «Огонька» за 1955 г. был напечатан очерк известного писателя и пропагандиста науки Бориса Ляпунова об исследованиях высоких давлений и фотография этого пресса. Рядом с Верещагиным на том фото — доктор физикоматематических наук Юрий Николаевич Рябинин.
О каком бы достижении советских физиков ни зашла речь, стоит лишь поинтересоваться его генезисом, как обнаруживается, что «сначала был Иоффе» — основатель и глава блестящей школы теоретической и экспериментальной физики, воспитатель плеяды исследователей, составивших позже славу нашей науки. Академик Абрам Федорович Иоффе как бы предварил время, когда наука должна была стать непосредственной производительной силой. Школа Иоффе уже в начале 20-х годов занялась подготовкой не просто физиков, а физиков-инженеров.
В числе первых учеников и сотрудников Иоффе был, как известно, Лев Андреевич Арцимович. В Украинском физико-техническом институте сформировался как ученый Леонид Федорович Верещагин. Юрий Николаевич Рябинин тоже был учеником Абрама Федоровича Иоффе.
Рябинин исследовал низкие температуры и, главное, поведение вещества при низких температурах.
С его участием было освоено сжижение водорода (минус 252,8°), потом гелия (минус 268,9°). Со своим научным руководителем Львом Васильевичем Шубниковым в конце 1933 г. Рябинин обнаружил явление вытеснения магнитного поля из сверхпроводника.
После войны, уже в Москве, в Институте химической физики, Юрий Николаевич Рябинин продолжал работы по адиабатическому сжатию газов, начатые еще в 30-е годы в Ленинградском физтехе.
На созданной в институте установке удавалось подучать разы с плотностью единица, при этом газ превращался в твердое тело: давал сплошной, а не линейчатый спектр, электропроводность у него становилась того же типа, как у твердых тел.
И еще Рябинин занимался изученном взрывов.
Какая связь была между всеми этими опытами и исследованиями низкой температуры? И в том, и в другом случае речь шла о сжатии вещества, о сближении его атомов друг с другом — только достигалось это сжатие разными средствами.
В 1953 г. Рябинин перешел к Верещагину в Лабораторию физики высоких давлений. Сжимаемость твердых тел, полиморфизм, фазовые переходы, пластичность, прочность — всем этим занимались они с Верещагиным на установке, фотографию которой напечатал тогда «Огонек».
В 1954 г. Ю. Н. Рябинин попробовал изготовить искусственные алмазы. Никто ему этой работы не поручал, ни в каких планах и заданиях она не значилась. Делал он ее даже не в помещении Лаборатории физики высоких давлений, а в Институте химической физики, где его по старой памяти принимали.
На установке адиабатического сжатия вывести углерод в область стабильности алмаза было невозможно. Не хватало давления: оно не превышало 10 000 атм.
Вот если бы подвергнуть графит сжатию до сотни — другой тысяч атмосфер! Но как? Может быть, с помощью взрывчатки?
Рябинин решил попробовать. Он сконструировал довольно простое устройство, главной частью которого был толстостенный стальной цилиндр. Внутрь цилиндра закладывался цилиндрик графита, а между графитом и стальными стенками размещалась взрывчатка. Взрыв сжимал графит со всех сторон одновременно, и он не успевал разлететься.
Устройство работало безотказно. Температура внутри стального цилиндра доходила до 2500°, давление — до 300 000 атм. Предусмотренные диаграммой Лейпунского параметры для зоны стабильности алмаза были достигнуты безусловно.
Каждый образец материала после взрыва Рябинин посылал на рентген. И каждый раз рентгенограммы упрямо свидетельствовали: графит, графит, графит…
Почему же не алмаз?
Десятки, сотни безрезультатных опытов заставили Рябинина прекратить эту работу. Он решил, что во всем виновата кратковременность взрыва — очевидно, графитовые ячейки не успевают перестроиться в алмазные.
Наверное, Рябинин тогда заблуждался.
Судя по работам последующих лет, алмазные кристаллики должны были у него цолучаться. Но чтобы обнаружить их в массе графита, надо было растворять графит в царской водке, иначе он давал на рентгене такой фон, что немногочисленные и мельчайшие крупицы алмаза заметить было невозможно.
Впоследствии, через несколько лет после того, как алмазы были получены из графита, подвергнутого статическому давлению, их удалось синтезировать и с помощью динамического сжатия взрывом. Тогда растворение материала, полученного в камерах высокого давления, было уже обычным процессом, без которого никто и не мыслил себе получение искусственных алмазов. А главное, сама возможность синтеза алмаза в обозначенной Лейпунским зоне стабильности, достигнутой и Рябининым, стала уже несомненной. Результаты же его опытов по динамическому сжатию графита были общеизвестными — Рябинин опубликовал их в Докладах Академии наук в 1956 г.
Но когда Лаборатория физики высоких давлений взялась за синтез алмаза, Рябинин и его товарищи по лаборатории все еще были уверены, что динамический путь закрыт из-за недостаточного срока воздействия взрыва на графит. И что единственный имеющийся путь — статическое давление.
В 1958 г. научное учреждение Верещагина, преобразованное в Институт физики высоких давлений, уже вело исследования по синтезу алмазов в трех лабораториях. Одну возглавлял Леонид Федорович Верещагин, другую — Юрий Николаевич Рябинин, третью — Василий Андреевич Галактионов. С ними работали физики Архипов (теоретик), Слесарев, Лифшиц, инженеры Семирчан, Демяшкевич, Попов, Иванов.
Три лаборатории вели работу параллельно, а чтобы ни у кого не заводилось «маленьких секретов», с самого начала существовала договоренность: кто бы ни синтезировал первый алмаз, авторами открытия будут считаться все участники работы.
Забегая вперед, скажем, что на сей раз «решающая минута» или хотя бы «решающий час» не зафиксированы. И кто на самом деле синтезировал первый алмаз — остается неизвестным.
Итак, три лаборатории вели работу параллельно — то есть каждая создавала собственную установку и на ней пыталась синтезировать алмаз. Каждую неделю собирались все вместе и обменивались опытом.
У Галактионова усилие в камере с графитом передавалось, как и у Холла в США, тетраэдрическим, а потом кубическим устройством. Иными словами, камеру сжимали с трех и с четырех сторон.
Рябинин и Верещагин использовали более простое устройство, его макет и сейчас можно видеть на институтской выставке. Такой же, как на фотографии в «Огоньке», 500-тонный пресс, чуть меньше человеческого роста. Выдвигающийся снизу толстый цилиндрический поршень упирается в свинченные вместе два низких цилиндра большего диаметра, в зазор между которыми подведен электропровод. Эти два низких цилиндра и есть самое главное место установки, самая главная ее часть — камера высокого давления.
У нее простая функция: она должна передать графиту от поршня нужное давление (100000 атм), от трансформатора — нужный ток (для нагрева до 2000°) и удержать расплавленное и сжатое огромной силой вещество.
Два, на первый взгляд, взаимоисключающих условия: передать давление и температуру — и удержать расплав.
Под действием чрезвычайно высоких температур и давлений вещества ведут себя очень и очень по-разному. Например, с увеличением нагрузки металлы изменяют свою кристаллическую структуру, а вместе с тем и электропроводность. Значит, изменение электропроводности может служить сигналом о величине давления в камере, и на этой основе была разработана «реперная» система измерения давлений в камерах.
А есть минералы, которые при увеличении нагрузки сначала начинают течь, как жидкость, но при дальнейшем росте давления течь перестают и наглухо запирают все отверстия. Один из таких минералов — пирофиллит — использовал для уплотнений еще Бриджмен. Но Верещагину и его коллегам нужны были сотни килограммов таких минералов. Кто-то сообразил: годится так называемый литографский камень, его пришлось позаимствовать в московских типографиях — на первый случай хватило. Потом, спасибо, подсказали геологи: месторождение нужного минерала, «алагезского камня», есть в Грузии.
Таких проблем, подпроблем — и так далее, и так далее — оказалось великое множество. И без решения каждой из них синтезировать алмаз было нельзя.
А главной проблемой была конструкция самой камеры сжатия и мультипликатора — устройства, передающего давление. Эту проблему сумел красиво и «просто» решить Леонид Федорович Верещагин. Он подметил некое изменение формы подвергаемого давлению металла, словно сама природа подсказывала наиболее выгодную форму камеры. Эта подсказка была им понята. И сконструированное Верещагиным устройство надежно передавало веществу высокое давление и высокую температуру и надежно удерживало содержимое от разлета.
Приступая к работе, Верещагин, Рябинин и их коллеги считали, что именно эту задачу они и должны решить: научиться выводить углеродистое вещество в зону стабильности алмаза и там держать его несколько секунд или минут. О том, что именно нужно калить и сдавливать, они сперва не слишком задумывались.
Между тем попытки превратить в алмаз один графит, без добавления других веществ, в которых графит растворяется, до поры до времени к успеху не приводили. (Вспомним: Лейпунский предусматривал необходимость применения металлов-растворителей для смягчения режима и ускорения процесса перехода графита в алмаз.) Впоследствии было обнаружено, что далеко не всякий металл, хорошо растворяющий углерод, годится для этой цели. Свинец, например, не годится. Следовательно, металл действует не только как растворитель, но и как катализатор. Однако это теоретическое уточнение было внесено уже после того, как алмазы были синтезированы с помощью того самого металла, которым пользовался еще Муассан, — железа.
Графит и железо (или кобальт) помещали в «алагезский камень», камень — в камеру, камеру — в пресс. Включали гидравлический насос пресса. Подавали ток на камеру. Проходили секунды или минуты. Пресс выключали. Камеру остужали. Затем вскрывали. Шлаковидное вещество иногда рассматривали в лупу, иногда сразу же отправляли в рентгеновскую лабораторию — делать дебаеграмму.
По внешнему виду дебаевской рентгенограммы нельзя утверждать, что получен алмаз; можно только сказать, что это не графит, а какая-то кубическая решетка. Но какая? Может быть, на рентгенограмме карбиды металла-растворителя или вольфрама (камера сделана из карбида вольфрама). Чтобы прояснить этот вопрос, нужны расчеты.
Когда аппаратура уже вышла примерно на те параметры, которые должны обеспечивать синтез алмаза, дежурные вдруг стали замечать, что установка «барахлит»: через некоторое время после ее пуска в электрической сети вдруг падало напряжение. Поиски неисправностей ни к чему не приводили. Прошло довольно много времени, пока догадались: напряжение в сети падало тогда, когда резко увеличивалось сопротивление в камере, а увеличивалось оно потому, что графит превращался в алмаз!
Ложных тревог и ложных надежд было немало, пока, наконец, дебаеграммы стали устойчиво показывать нечто алмазоподобное, а извлеченные из камер темные крупицы стали устойчиво царапать стекло.
Более осторожный Юрий Николаевич Рябинин все еще склонялся к тому, что это карбиды. Но Леонид Федорович Верещагин уверенно сказал: алмазы! Из царапающей стекло массы сделали гравировальные карандаши. Один такой карандаш преподнесли приехавшему в институт Льву Андреевичу Арцимовичу, другой — Петру Леонидовичу Капице.
А сами продолжали нащупывать более точно области давлений и температур, при которых образовывалось бы не что-то алмазоподобное, а настоящие — пусть маленькие — кристаллики.
В конце 1960 г. дебаеграммы стали все более определенно указывать на то, что рентгеновский луч рассеивается на алмазной кристаллической решетке. И вот, наконец, под увеличительными стеклами засверкали извлеченные из пресса алмазные россыпи… алмазные горы и хребты.
За синтез алмазов Леонид Федорович Верещагин, Юрий Николаевич Рябинин, Василий Андреевич Галактионов были удостоены высшей научной награды СССР — Ленинской премии.
О напряженной работе людей, взявших на себя задачу промышленного выпуска алмазов, будет рассказано в следующей главе. Здесь же стоит, несколько нарушив хронологию, вернуться к промежуточному эксперименту, результатом которого был некий невзрачный материал, царапающий стекло.
Пять лет спустя, когда уже полным ходом шло промышленное производство синтетического алмазного порошка, когда вместе с тем стало ясно, что синтезировать крупные монокристаллы алмаза не удается, — Верещагин вспомнил о том давнем странном опыте. Очень может быть, что причиной тому были обстоятельства совсем не теоретического толка, а, например, соображения о том, что крупные алмазы, не боящиеся ударов, добывают только в Бразилии, да и там их месторождения уже порядком обеднели…
Тем не менее пытаться всерьез искать какую-либо связь между этим огорчительным фактом и случаем — тем самым случаем, что летом 1960 г. подбросил в камеру высокого давления ту самую темно-серую шлакоподобную массу, из которой сделали сувениры для Арцимовича и Капицы, — было бы все же занятием довольно сомнительным. Если бы не мнение самого Леонида Федоровича Верещагина, вспомнившего по этому поводу слова Пастера: «Случай говорит только подготовленному уму…».
Зарождающийся монокристалл не может расти быстро — его поверхность, к которой может прилепиться каждый следующий атом, ничтожна. Иное дело — поликристалл, ибо он растет одновременно во всех своих центрах, а их множество.
Несколько вольное сравнение: снежинка и лед. Вырастить снежинку величиной с таз не удавалось еще никому, но ничего не стоит выставить таз с водой на мороз и получить основательный ледяной кругляш.
Самые твердые и крепкие бразильские алмазы называются карбонадо, от carbo (уголь), ибо они больше походят на куски каменного угля, чем на драгоценные камни. Непрозрачность, чернота и замечательная прочность карбонадо происходят из особенностей его строения. В отличие от других алмазов, карбонадо — это не единый кристалл, а как бы клубок кристаллов, проросших друг в друга. Это, если угодно, алмазная сталь: стальной слиток тоже состоит из множества проросших друг в друга кристаллов железа, углерода и соединений железа с углеродом — карбидов. И если при отборе ювелирных камней карбонадо идет в отбросы, то для бурения он совершенно незаменим.
Синтезировать карбонадо — значило бы решить одну из важных частей проблемы искусственных крупных алмазов.
Так вот, сотрудники Верещагина откопали в архиве старый лабораторный журнал, выписали оттуда все параметры того давнего эксперимента и повторили его. И у них снова получились темно-серые, непрозрачные, весьма твердые, но весьма хрупкие зерна. Их тщательно исследовали. Это были поликристаллы алмаза — с очень неравномерной структурой, сильно засоренные примесями графита и металла, но все же настоящие алмазные поликристаллы. Оставалось найти условия, при которых эти поликристаллы получились бы достаточно прочными.
В 1966 г. это удалось. Синтез длится всего несколько секунд, и сантиметровый карбонадо получается сразу такой формы, какая нужна, чтобы вставить его в токарный резец, фрезу или буровое долото.
Глава IX
АЛМАЗНАЯ ФИРМА В КИЕВЕ
Вернемся к 1960 г., когда до карбонадо было еще очень далеко, но самое главное совершилось: Верещагин и его коллеги тоже могли подержать на ладони синтезированные ими алмазы. Очень маленькие, но алмазы!
А дальше происходило примерно то же, что и в шведской главе: ни оповещений об успехе, ни победных реляций, вообще ничего для внешнего мира. За этой обманчивой тишиной стояла напряженная работа людей, взявшихся за ту же задачу, которую за три года до них решали в «Дженерал электрик»: промышленный синтез. (Заметим, что в Соединенных Штатах Америки на ее решение ушло почти три года.)
Прежде всего, а в чем, собственно говоря, разница — лабораторный или промышленный? Сто или, может быть, тысяча аппаратов вместо двух или трех? Заводской цех вместо комнаты в институтском подвале? Непросто, даже если бы разница этим ограничивалась. Но она была гораздо глубже. Корень ее составляли экономические показатели производства.
Синтетические алмазы нужны были промышленности позарез, но промышленность не могла бы принять их, если бы они стоили очень дорого и их производство было нерентабельным. И поэтому от лабораторной методики, при которой можно пойти, если очень нужно, на любые затраты, предстояло перейти к промышленной технологии, при которой расходы, увы, строго ограничены.
Валентин Николаевич Бакуль окончил в 1930 г. Харьковский машиностроительный институт и работал на экспериментальном заводе треста «Союзтвердосплав». Там делали новый для тех лет материал, замечательное изобретение 30-х годов: металлокерамические твердые сплавы.
После Великой Отечественной войны предприятие перевели в Киев. Образовали Конструкторско-техническое бюро но твердым сплавам и инструментам, дали ему опытный завод. Работа пошла хорошо, создавались новые инструменты самого разного назначения, заметно росло производство твердых сплавов. Энергичные люди, свято верящие в свои твердые сплавы, как в одно из начал современной машинной индустрии, киевские твердосплавщики тем не менее хорошо понимали, что дело у них обстоит все же не лучшим образом и что многие их инструменты сильно уступают заграничным. Потому что у них не было тех самых алмазов, которыми только и можно обработать поверхность твердого сплава — ничто другое ее не берет. (Поиски в Якутии еще только разворачивались, а Запад не продавал Советскому Союзу алмазы: они числились по списку сугубо стратегических материалов.)
Никто из них, в том числе директор Бакуль, ни о каком синтезе, вероятнее всего, и не помышлял. Но тем не менее алмазы были им позарез нужны. И поэтому легко понять и представить себе, что инженер Бакуль не раз и не два интересовался алмазами в самых разных учреждениях и у самых разных людей. Среди них был его давнишний друг Александр Антонович Мамуровский, работавший в то время в Научно-исследовательском горно-разведочном институте в Москве. В 1960 г., в сентябре, Бакуль был в Москве но делу, и у них с Мамуровским — не в первый раз — зашла речь об алмазах: где же их все-таки взять?..
И тут Мамуровский поделился с Бакулем новыми сведениями: не только в Америке можно синтезировать алмаз. И не только в Швеции. В общем, он весьма настоятельно посоветовал Бакулю обратиться по этому вопросу в Институт физики высоких давлений, к члену-корреспонденту АН СССР Леониду Федоровичу Верещагину.
И еще Мамуровский, хорошо знавший производство, изложил свои соображения о переходе от лабораторного синтеза алмазов к их промышленному выпуску. Сложность обсуждаемого дела такова, трудности его столь велики, а необходимость решения так безусловна и экстренна, что развязать этот переплет можно только одним способом: дело надо поручить тем, кому синтетические алмазы нужнее всего. Ведь и в Соединенных Штатах именно твердосплавные фирмы еще до всщны начали финансировать Бриджмена, искавшего подходы к синтезу. И еще Мамуровский добавил, хотя Бакуль это и сам хорошо знал, что самое специфическое оборудование для синтеза — камеру высокого давления и пуансоны, передающие от пресса камере это давление, — дрлают из твердых сплавов. Кому же тут карты в руки, если не самим твердосплавщикам?
После этого разговора Бакуль позвонил Верещагину, и в тот же день они встретились у Верещагина в институте. Возможно, что до этого они друг о друге и не слыхали, однако, судя по тому, что на следующий день Верещагин уже ехал в Киев, первый их разговор был весьма деловым.
Верещагин приехал в Киев, на Вербовую улицу, чтобы познакомиться с учреждением, которое хочет заняться его детищем. И, побывав на заводике, в лабораториях и конструкторском бюро, посовещавшись с Бакулем и его коллегами, он хорошо понял главные качества здешнего коллектива. И на следующий день, когда они с Бакулем пошли в ЦК партии и в Совет Министров Украины, Верещагин сказал там, что он нашел ту организацию, которую искал.
Первые две установки для синтеза алмазов, «машины», как их тут стали называть, привезли из Москвы на грузовиках через две недели. В Киев приехал из Института физики высоких давлений Василий Андреевич Галактионов: его задача была — передать все тонкости сотрудникам Бакуля из рук в руки. Проще говоря, научить их делать алмазы.
И еще один человек приехал в Киев: Александр Антонович Мамуровский, которого Бакуль пригласил к себе в заместители. Немолодой в то время человек, не очень здоровый, Мамуровский оставил в Москве семью, хорошо налаженную жизнь, хорошую работу — и уехал, чтобы начать совершенно новое, чрезвычайной важности для советской промышленности дело.
В один из последних дней октября 1961 г., через 11 месяцев после того, как в цехе на Вербовой улице стали монтировать первую «машину», делающую алмазы, в Москве на Киевском вокзале сошел с утреннего скорого поезда пассажир средних лет с портфелем в руках. За пассажиром неотступно следовали два молодых человека.
Очень может быть, что в этот момент их вполне могли бы принять за сотрудников секретной службы; в действительности же это были инженер и младший научный сотрудник. Детективный оттенок эпизоду на вокзале придавало содержимое портфеля, который нес их шеф, — довольно невзрачного портфеля сомнительной черной кожи. Если и нельзя сказать, как в романах, что портфель был битком набит алмазами, то все же в нем были именно алмазы — первая партия 2000 карат, или 400 граммов технических алмазов, выпущенных в Киеве. Бакуль привез их на XXII съезд партии, который работал в те дни в Москве.
Повторим (а может быть, даже сравним с тем, что было у «Дженерал электрик»): с того дня, как начался монтаж первой машины, делающей алмазы, не прошло и года. Втрое меньше, чем в Америке.
И еще одно: инженера Мамуровского в эти дни уже не было в живых; он скончался вскоре после того, как получились первые киевские алмазы.
Вот уже несколько глав речь идет о наших современниках. Никто не может знать заранее, оставит ли придирчивая история в своих, как говорится, анналах именно эти имена, отыщет ли и поставит вместо них или рядом с ними другие.
Однако любая история, история науки в том числе, собирается, если так можно сказать, из частей, из деталей. Независимо от того, важной или незначительной представляется та или другая из них сегодня, они необходимы, ибо передают действительные свойства эпохи, которой принадлежат.
На харьковской окраине Ивановке в конце войны и первые послевоенные годы существовало замечательное «месторождение» всевозможных механических богатств — свалка вышедшей из строя военной техники (вплоть до подбитых танков и даже самолетов). Кое-кто из тамошних мальчишек залежь эту усиленно эксплуатировал, отыскивая в ней множество полезных вещей.
Один из них вскоре попал в Киев; его отца перевели туда с работой. Здесь мальчишка разыскал такую же свалку и находил там много полезного. На окраине, где они поселились неподалеку от твердосплавного завода, хорошо был известен в те времена собранный им с приятелями из старья мотоцикл не совсем обычной окраски — в желтую и черную полоску. Зеброидная машина привлекала внимание еще одной замечательной особенностью: вместо выхлопных труб у нее были граммофонные.
В 1956 г. Леонид Евгеньевич Мельник (это о его юношеских похождениях идет речь), отслужив в армии, поступил на твердосплавный опытный завод. Работал слесарем, поступил учиться в вуз. Его назначили мастером, однако Леонид Евгеньевич по-прежнему посещал иной раз свою свалку и добывал там разные полезные вещи. И с их помощью кое-что в цехе переделывал, за что нередко получал премии по статье «рационализация».
Все это, по-видимому, не имело ни малейшего отношения к проблемам алмазного синтеза, о которых будущий инженер ничего не знал. Закономерное и случайное переплетаются, однако, довольно причудливым образом. Может быть, поэтому среди подробностей нашей истории были уже и электрические скаты Дэви, и лохань с водой для охлаждения кипящего чугуна у Муассана…
Чтобы делать алмазы, надо было конструировать и строить оборудование, и в первую очередь — аппараты для синтеза (аппараты, работающие на сверхвысоких давлениях при температуре расплавленной стали). Но когда Бакуль обратился в некое специальное конструкторское бюро более или менее подходящего профиля (подходящего вполне быть, естественно, не могло), то ему ответили: можно попробовать выполнить ваш заказ. На это потребуется два года на проектирование, потом год на опытный образец и еще один год на передачу опытного образца в серию. Доводка, устранение недостатков и все, что полагается…
И тогда руководители твердосплавного КБ приняли единственно возможное в тех условиях решение: начинать проектировать и строить «машины» самим. Только самое необходимое заказывать на стороне, добиваясь исполнения вне всякой очереди (а срочность дела не вызывала сомнений ни в правительстве, ни в других инстанциях, так что можно было смело рассчитывать на всяческую поддержку).
«Это был героический период», — вспоминают они сегодня о том времени. Нередко оставались на вторую смену, иногда вообще не уходили домой. Директор Бакуль до шести работал в лаборатории, а потом приходил в цех и спрашивал, что сегодня надо делать. Становился к доске и чертил деталировки или заворачивал ключом гайки, когда начали собирать «машины».
Когда они стали монтировать самую первую свою установку для синтеза алмазов, сразу обнаружились кое-какие просчеты, обычные во всякой механике. Какой-то фланец, что должен быть да виду, конструктор упрятал бог знает куда, так что до него не добраться. А вот опасный клапан, которому хорошо быть «поглубже», оказался снаружи. И еще гайка, которую отвинчивать каждый раз будет не с руки. И так далее, и тому подобное.
По правилам, конечно, надо было переделывать чертежи, увязывать одно с другим, утверждать и согласовывать. Они решили иначе. Тут же, прямо в цехе, взялись переделывать саму установку — «макетировать в натуре», как выразился позже один из участников этого партизанского «макетирования». Части сложнейшей аппаратуры прихватывали сваркой, примеряли и переставляли, снова прихватывали, на ходу отдавая в переделку фланцы, трубы, электропроводку и прочее.
И в это же время все более явственным становилось еще одно обстоятельство, грозившее застопорить дело: для тех режимов, при которых должен был идти синтез, не было ни гидравлической арматуры высокого давления, ни электрической части нужной надежности. И они, инженеры, хорошо понимали, что, к сожалению, ни энтузиазм, ни изобретательность не могут заменить особенных свойств тонкой аппаратуры, придаваемых специальными материалами и высоким классом изготовления, невозможным без специализации и традиций.
Валентин Николаевич Бакуль вспоминает об этой истории: «…По правде говоря, мы стали в туник. Невозможно сделать такие вещи за считанные дни, а какую искать им замену — никто не знает. Но тут один наш сотрудник — очень молодой человек, он еще учился, и его в это время исключали из института за несданные зачеты или экзамены — сказал, что мы зря мудрим и ломаем головы из-за этих заковыристых деталей, потому что де в любом самолете-бомбардировщике всего этого сколько угодно…
По правде говоря, я опешил. И другие, думаю, тоже. При чем тут самолеты и где это, интересно, мы возьмем бомбардировщик? »
И Леонид Евгеньевич Мельник (предложение, разумеется, было его) стал со знанием дела разъяснять: у такого-то самолета столько-то сот или тысяч таких-то гидроцилиндров, насосов, клапанов. На них отбирается мощность столько-то и столько киловатт. Реле, регуляторы, КИП и прочее электрическое хозяйство там такие-то. А любая механика, и гидравлика, и электрическая часть изготовляется в авиации классом выше, чем где бы то ни было…
После этого популярного вступления Мельник стал называть, какая часть и от какого именно механизма к чему подходит и где ее можно поискать. Продолжая недоумевать, полномочные представители алмазной фирмы отправились вместе с Мельником на облюбованную им много лет назад свалку. И там обнаружилось кое-что из вещей, в которые упиралась сборка первых киевских машин для изготовления алмазов.
Ну, а чего на свалке уже не было, о том они теперь, по крайней мере, знали, где спрашивать, к кому обращаться. И довольно быстро в цехе появились некоторые совершенно необходимые вещи, заимствованные у военных — со списанной военной техники.
Электропроводка первых установок синтеза была самолетной — из жгута надежнейших проводов, идущего вдоль фюзеляжа. А блок высокого давления поворачивался в машине поворотным механизмом башни обыкновенного танка.
Однако ни машины, перепроектированные прямо на сборке в цехе, ни самолетная гидравлика, ни другие, во множестве решенные в те месяцы задачи организации и техники дела, — все это еще не решало главной задачи, не укладывалось и не могло уложиться в экономику, с которой началась эта глава.
Берясь научиться делать алмазы для себя и сотен других заводов, Бакуль и его коллеги понимали, что пытаться сделать это без серьезных изменений в уже сделанном Верещагиным и его коллегами — бессмысленно. Первые киевские алмазы получились по 135 рублей за карат, почти в 30 раз дороже их тогдашней цены, и, значит, были не нужны промышленности.
Первая и, вероятно, главная причина этого не составляла для киевских твердосплавщиков никакого секрета: камера высокого давления ломалась после первого же синтеза, редко — после второго. На 1 карат синтезированных алмазов ценой 5 руб. уходило 4 кг твердого сплава по 15 руб. за 1 кг, камера обходилась почти в сотню рублей и разрушалась, выдав меньше карата алмазов…
Надо было найти путь к изменению этой неутешительной пропорции.
Вакуль рассказывает:
«Чтобы устранить явление, надо было понять его причину; для нас это значило уяснить всю механику разрушения камеры. Этим мы и занимались без конца с Алексеем Иосифовичем Прихной. Наломали столько твердого сплава, что в лаборатории в углу выросла куча, наверное, в несколько тонн. Мы видели, что ломаются наши камеры чуть не каждый раз по-разному, и не могли понять, почему это происходит».
Потом у них появилась классификация поломок — картинки. Бакуль вспомнил какую-то старую книжку о поломках рельсов на железной дороге: путейцы снабжают обходчиков таблицей-картинкой, чтобы обходчик мог по своему разумению отнести поломку к тому или другому типу сразу, на месте происшествия. У них было, кажется, 12 картинок.
Лаборанты, ломающие модели камер, делали теперь примерно то же, и это заметно ускорило работу. Опыт за опытом продолжались поиски очевидного в принципе решения — сделать так, чтобы все напряжения в дольках, из которых сложена камера, были только сжимающими, потому что твердые сплавы не выдерживают растягивающих усилий. Затруднение, считающееся практически непреодолимым, ибо в любом предмете, подвергаемом сжатию, есть места, где именно от сжатия происходит растяжение.
Раньше, конечно, камера сжатия получалась довольно массивной, чтобы проще было передать ей давление. Прихна и Бакуль пришли к тому, что правильнее — наоборот. Пытались делать камеры как можно меньшие…
Вернемся к рассказу Бакуля:
«…Не стал бы я сейчас представлять это так, будто удачную конструкцию мы в конце концов рассчитали. Правильнее будет сказать, что мы ее подобрали. Интуицией, чутьем, после тысяч, наверное, опытов. Можно сказать, что мы ее вылепили…».
(Может быть, тут следует вспомнить Лундблада, которому тоже казалось, что ни озарения, ни открытия, ни решающего драматического момента — не было. «Столько лет возились с этими прессами — должно же было в конце концов что-то получиться!»).
Первая партия технических алмазов была выдана в октябре 1961 г. Бывшие твердосплавщики могли бы считать главную часть своей миссии на этом законченной, а обязательство выполненным и перевыполненным. Тем более, что в Госплане полагали (тоже, наверное, справедливо, как и в случае с конструкторским бюро, просившим четыре года на создание «машин»), что массовое производство алмазного порошка удастся пустить лет через пять.
Для этого нужен был, прежде всего, завод. Его надо было спроектировать, построить и оборудовать. Нужно было готовить персонал для работы на таком заводе. Такие вещи не делаются по волшебству.
Однако бывшее бюро, преобразованное в 1961 г. в Украинский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт синтетических сверхтвердых материалов и инструмента, предложило иное решение, беспрецедентное для научного учреждения: создать массовое производство синтетических алмазов прямо у себя. Сделать это на ходу — расширяя и реконструируя существующий опытный заводик.
«Героический период» продолжался. Совершенно невозможно хотя бы просто перечислить всех участников эпопеи. Названные здесь имена не означают, что эти люди сделали больше других — не названных. Вот еще три имени: М. М. Бабич, Е. И. Бобровский, В. Н. Галицкий. В течение следующего года были сконструированы, изготовлены и пущены в ход полуавтоматы для массового синтеза алмазов. Построены цехи. Обучены инженеры, мастера и рабочие. И, начиная с 1962 г., киевские синтетические алмазы начали бесперебойно поступать на предприятия всех отраслей промышленности — дешевые, в среднем во рублю за карат. В производстве тракторов и автомобилей, керамики и волокна, кремния и германия, резцов и штампов, мерительного инструмента и самоцветов, кинескопов, часов, ботинок и великого множества других вещей искусственные алмазы служат для резки, заточки, шлифования и прочих технологических операций, прежде всего окончательных, финишных, придающих изделиям самое высокое качество, недостижимое без алмазной обработки.
Институт и его опытный завод не только изготовляют алмазы и алмазные инструменты и не только их исследуют. Они пускают и налаживают у себя технологические процессы, для которых нужны алмазы. Они учат специалистов. Они помогли создать алмазное производство в Полтаве и в Ереване, а также в Польше и Венгрии.
Кто был первым, кто вторым, а кто пятым — такие счеты присущи не только спорту и случаются не только по чьей-то склонности к соперничеству. Чаще всего они обусловлены законами все той же вездесущей экономики и в них есть важное отличие от счетов спортивных: места второе, третье и так далее остаются вопросом чистого престижа. Второй и третий не получают ни серебряной, ни бронзовой медали. Все забирает первый — ему достается патент.
Когда алмазов стало много, Советский Союз начал продавать их за границу. Известная западногерманская фирма закупила у нашего «Станкоимнорта» немалое количество алмазной пасты — универсального средства для тонкой доводки металлических поверхностей, и эту алмазную пасту покупали со все большей охотой многочисленные машиностроительные и прочие предприятия.
И тут произошла неожиданность. Компания «Дженерал электрик» предъявила западногерманской фирме иск в нарушении патентного права: фирма-де торгует алмазами, синтезированными по способу, патент на который принадлежит ей, «Дженерал электрик».
Трудно сказать, собирались они выиграть тяжбу или это было одним из ходов в сложной коммерческой игре. Так или иначе, а после взаимных визитов и споров дело кончилось ничем. Одна сторона отозвала свой иск, другая сторона продолжает торговать алмазами. (Кстати, швед Лундблад тоже сообщил суду о своем недоумении по поводу такого иска: позвольте, но все основные параметра названные в вашем патенте, — те же, что в статье русского физика Лейпунского, опубликованной в 1939 г.! Там рассчитан весь ваш процесс, так что ваш патент не имеет законной силы, он выдан ошибочно…)
К тому времени во многих странах продавались искусственные алмазы вовсе не только американского производства. Например, ими начала торговать крупнейшая алмазная компания «Де Бирс», играющая первую скрипку в алмазном синдикате. Правда, в 1955 г., когда появились первые сообщения об успешном синтезе, «Де Бирс» заявила, что никакого коммерческого значения синтез иметь никогда не будет. Но потом довольно быстро сориентировалась (возможно, даже с помощью бывших сотрудников «Дженерал электрик»). И спустя некоторое время респектабельнейшая «Де Бирс» предпочла объединиться в этом деле со шведами, которые все-таки на самом деле были первыми. Теперь технические алмазы производит в Швеции фирма «Скандиамант», ею управляет инженер Эрик Лундблад. Фирма основана на паях шведской ASEA и англо-южноафриканской «Де Бирс» (50 на 50). В 1970 г., по свидетельству Лундблада, они делали 5 млн. каратов в год — тонну алмазов.
Еще несколько чисел: в 1970 г. в Соединенных Штатах промышленность употребила около 3,5 т искусственных алмазов. Возможно и косвенное сравнение: мировая добыча природных алмазов в 60-е годы равнялась примерно 5 т в год и вряд ли с тех пор заметно выросла.
В СССР технических алмазов выпускают столько, сколько нужно для народного хозяйства, и любое предприятие может приобрести их без разнарядки и фондов (в отличие, например, от железа, которое распределяется по плану). Горьковский автомобильный завод или, скажем, Сестрорецкий инструментальный расходуют за год по 200 — 400 тыс. каратов — до 80 кг алмазов!
И любой гражданин может купить стеклорез или пилочку для ногтей, усыпанную алмазами — синтетическими, конечно, которые продаются в Киеве, на Крещатике.
Глава X
ЭТА ИСТОРИЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ
И одно-единственное ограничение осталось теперь в этом производстве — величина. Величина получающихся алмазов… «Бизнес фирмы основан на производстве алмазов весом в одну тысячную карата», — пояснял в мае 1970 г. вице-нрезидент компании «Дженерал электрик» Артур Бьюч. А попытки выращивать крупные кристаллы алмаза в тех же аппаратах, в которых синтезируют алмазный порошок, по-видимому, терпели неудачу.
Не то, чтобы там вообще нельзя было изготовить крупный кристалл. Алмазы с хорошую горошину получались у Верещагина, а Бакуль не так давно, докладывая в Академии наук о работах своего института, показывал целую коллекцию таких горошин. Однако особого впечатления эти алмазы ни на кого не производят. Во-первых, все они непрозрачные, черные. А во-вторых, и прочие их свойства таковы, что называть-то эти кристаллы алмазами можно, однако толку от этого мало. В них столько включений графита и металла, столько нарушений кристаллической решетки, что при небольшом усилии они рассыпаются в порошок. Кому нужны такие алмазы?
Теоретики утверждают, что так и должно быть. Расчеты, подобные тому, что проделал в 1942 г. Франк-Каменецкий, были повторены позже во многих лабораториях, интересующихся синтезом алмазов. И было доказано, стало общепризнанным, что только при очень небольшом пересыщении металлического расплава углеродом (а значит — при очень медленном росте алмаза) можно рассчитывать на получение крупного монокристалла без дефектов.
Не только расчеты доказывали это, но и неудачные попытки синтезировать крупные алмазы. О том же свидетельствовал и основательный опыт синтеза других драгоценных камней, особенно рубина и сапфира. Крупные монокристаллы, применяемые в лазерных устройствах, приходилось выращивать не минуты, и даже не часы и не сутки, а месяцы и годы.
Упоминая здесь о предмете, носящем научное название «монокристалл», мы оставили в стороне то обстоятельство, что монокристалл алмаза, тем более крупный монокристалл, — это, проще говоря, бриллиант. И что обладание такими монокристаллами, тем более крупными, есть синоним величайшего богатства. Ну, а если бриллианты можно делать прямо в печке… Ведь с этого, собственно говоря, все и началось. Не о шлифовальных же пастах думали Хэнней и Каразин, Муассан и Хрущов, да и все остальные, перечисленные или не перечисленные в предыдущих главах лица.
Несмотря на то, что монархов осталось на свете мало, несмотря на то, что к середине нашего века уже только пятая часть всех добываемых в алмазных копях камней шла на украшения, а четыре пятых — на нужды техники, блеск «Куинура», «Куллинана», «Орлова» и прочих знаменитых бриллиантов и по сей день намного затмевает в нашем сознании куда менее заметную на первый взгляд и куда более весомую роль алмазов, скромно именуемых техническими. Сказывается, возможно, та же инерция сознания, из-за которой для многих и поныне история — это жизнь и деяния цезарей…
Когда в 50-х годах XX в. были синтезированы еще только первые крупицы алмаза величиной всего лишь в доли миллиметра, искусственные куллинаны стали казаться близкими и достижимыми.
Но годы шли, а бриллианты не появлялись.
…Весной 1971 г. о получении алмазов ювелирного качества величиной в 1 карат сообщила все та же компания «Дженерал электрик». Как и следовало ожидать, монокристаллы синтезировались в более мягких условиях, чем «обычные» алмазы, — при давлении 57 000 атм и температуре около 1500°. В таких условиях пересыщение расплава углеродом было меньшим, чем при обычном синтезе, а значит, процесс продолжался дольше. Стронг и Уинторф, авторы процесса, сообщили, что выращивание длилось около десяти суток. Технические подробности, естественно, не приводились.
Разумеется, создать «машину», которая сможет работать полторы недели при температуре закипающей ста-г ли, более чем непросто. Чрезвычайно трудно сохранить и постоянство условий синтеза, в том числе состав среды, без чего вырастить правильный кристалл невозможно. Не исключено, что в этом процессе графит вообще не использовали, а исходным материалом служил алмазный порошок — в таком случае легче избежать графитовой грязи. Очень может быть, что и размеры камеры были побольше, чем при синтезе порошка.
С точки зрения науки, с точки зрения развития техники сверхвысоких давлений все это очень интересно. Однако практический смысл такого синтеза, по-видимому, невелик. Кристалл получается гораздо дороже, чем природный алмаз того же размера и качества. Может быть, в сто, а может, в тысячу раз дороже найденного в Якутии или в Южной Африке. Во всяком случае, сама компания «Дженерал электрик» утверждает, что изготовлять синтетические алмазы весом в карат методом Стронга — Уинторфа не имеет смысла. Может быть, потому, что «процесс, в результате которого природа создает крупные алмазы, нами еще не понят как следует, мы можем лишь строить о нем различные предположения», — таково пояснение Герберта Стронга.
Означает ли это, что синтез крупных монокристаллов, алмазов для электроники, синтез сантиметровых (почему бы и нет?) бриллиантов для нашего века надо считать неосуществимым?
Нет, не значит. Начинать все равно как-то надо. Первые крупинки, если не пылинки, были у Холла и у Верещагина тоже дороже природных. А во что обошлись те, что синтезировал Лундблад, — кто сосчитает?
История искусственных монокристаллов алмаза еще коротка и вряд ли кому известна во всех подробностях. Бесстрастные протоколы опытов, где все, надо полагать, расписано по дням и минутам, пока еще упрятаны в сейфах, и уже поэтому сразу расставить участников по «призовым местам» невозможно. Тем не менее (нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным), кое-что становится понемногу достоянием гласности.
Примерно в то время, когда Эрику Лундбладу и его сотрудникам удался в Стокгольме первый синтез, алмазами заинтересовался (вполне самостоятельно) студент Борис Спицин, учившийся на третьем курсе Томского университета. Побудительной причиной послужила лекция по кристаллографии, в которой говорилось об эпитаксиальном синтезе — так называется простое, в сущности очень естественное явление — если в какой-то среде зародилась какая-то кристаллическая структура, то на ее поверхности легче расти такой же структуре, чем какой-либо другой. Подобно тому, как по выкладываемой каменщиком кирпичной стенке проще продолжать класть такие же кирпичи, чем строительные блоки другой формы.
Лектор говорил о квасцах, а Спицину пришел в голову вот какой вопрос: если закон есть закон, то и на грани алмаза в каком-нибудь науглероженном растворе (допустим, в расплавленном чугуне) должен наращиваться алмаз?
На той лекции, однако, Спицин промолчал, оставшись при своем размышлении. А потом и вовсе позабыл о нем. И вспомнил только через два года, когда уже на пятом курсе прочел (это было в 1955 г.), что синтез алмазов удался.
Спицин отправился в библиотеку, прочитал все, что там нашлось по интересующему его предмету, и… И не нашел в научной литературе ни подтверждения своим сомнениям, ни их опровержения.
Что с того, что у настойчивых экспериментаторов в XIX в. не было и не могло быть давления в 100 000 атм? Это еще ничего не доказывает — вполне достаточно, если была алмазная затравка, крупица алмазного кристалла, структура, на которой может продолжаться эпитаксиальный рост. И чтобы вокруг этого первоначального кристаллика был углерод…
По мнению Спицина, такие эксперименты ставились, и неоднократно. Вот, скажем, в «Химических и оптических записях» Ломоносова есть такое место: «При кристаллизации ставить на зарод почечные алмазы». (Слово «почечные» означает, по-видимому, малые размеры кристаллов, которые Ломоносов хотел использовать как затравку — русские купцы взвешивали драгоценные камни, пользуясь почками растений как разновесами.)
Правда, удалось ли Ломоносову «поставить на зарод» алмаз — неизвестно. Но зато известны опыты более позднего времени, когда исследователи пытались, сотворить алмаз, пользуясь затравкой — крупинкой природного алмаза. Так действовали в 1880 г. Хэнней и в 1911 г. Болтон. Интересно, что ни тот, ни другой не пользовался графитом: Хэнней хотел нарастить алмаз углеродом костяного масла, Болтон — углеродом метана.
Почему?
А что получилось у Муассана, если — теперь это хорошо известно — максимальное давление внутри остывающего железного слитка не может превысить 1000 атм?
Следует ли не принимать во внимание опыты профессора Руффа (1917 г.; опыт «по Муассану», обработка осадка последовательно серной, соляной, плавиковой, азотной кислотами при температуре до 1000°): 0,5 мг остатка от 10-килограммового слитка — пылинки размером 0,5 мм, которые не реагировали с хлором, тонули в жидкости с удельным весом 3,0 и светились желтым светом в ультрафиолетовых лучах…
В 1938 г. опыт Муассана повторил американец Гершей, и журнал «Сайентифик Америкен» в конце того же года сообщил, что у него получился алмаз весом 7зо карата и длиной 1,5 мм…
Не доверять даже самым солидным данным? Но вот и Лейпунский, уж на что критически относился ко всем попыткам синтеза, а ведь и он допускал, что у Муассана получились настоящие алмазы.
Как это могло быть?
Настолько серьезно этот вопрос беспокоил студента-пятикурсника, что после окончания университета он отправился из Томска в Москву — искать ответа в Институте физической химии Академии наук. Член-корреспондент АН СССР Борис Владимирович Дерягин, специалист по физико-химическим процессам, происходящим на поверхности веществ, заинтересовался соображениями Спицина. И Борис Владимирович Спицин остался в институте — аспирантом у Дерягина.
Кое-какие из вопросительных знаков, наставленных Спициным, его новый руководитель зачеркнул сразу. Например, сомнение относительно метана в опытах Болтона.
Кристалл алмаза — это как бы разросшаяся во все стороны молекула из атомов углерода. И в этой «молекуле» энергия связи соседних атомов друг с другом и расстояния между ними примерно такие же, как энергия связи и расстояния между атомами в молекулах насыщенных углеводородов. Один из них — метан; его молекула представляет собой как бы удобный по размеру каркас, контейнер, содержимым которого в принципе может надстраиваться кристаллическая решетка алмаза.
Однако вопросов, на которые Дерягин знал ответ, было, естественно, не так уж много. И Спицин под руководством Дерягина начал свое исследование.
Спустя примерно полгода Дерягин и Спицин представляли себе что-то вроде «общего плана», в котором были три главные задачи.
Задача первая. Чтобы наращивать алмазный кристалл без высокого давления, нужны свободные атомы углерода либо, еще лучше, свободные радикалы или иные молекулярные «блоки», близкие по конструкции к структуре алмазной решетки. Задача не так проста, как может показаться: многие соединения углерода при повышении температуры немедленно полимеризуются, образуя все более крупные молекулы.
Задача вторая. Свободные атомы углерода (или группы атомов) должны двигаться с весьма большой скоростью, чтобы преодолеть отталкивание одноименно заряженных атомов поверхности алмаза. Иными словами, нужна очень высокая температура.
Задача третья. С поверхностью алмаза должно сталкиваться не больше атомов углерода, чем имеется свободных связей на этой поверхности. Иначе произойдет нечто подобное тому, как если бы каменщику стали подавать не по одному кирпичу, а сразу три или пять. Вместо ровной стенки получилась бы куча кирпичей. Вместо прозрачного алмаза нарастет черный слой графита.
Условия были очень трудными, но, как справедливо заметил еще Лейпунский, не безнадежными…
Объективные условия для серьезных поисков способа вырастить алмазный кристалл без высокого давления, наверное, к тому времени вполне созрели. В то самое время, когда в Институте физической химии начали заниматься алмазом, который должен был расти «из газа», служащий одной из американских авиационных компаний, Джон Бринкман, размышлял о таком же выращивании алмазов, — только не в газе, а в расплавленном металле.
Брицкман знал, что Руфф, повторив в 1917 г. опыт Муассана, пытался затем усовершенствовать этот способ. В науглероженный металлический расплав он помещал затравочный кристаллик алмаза, рассчитывая, что тот подрастет. Алмаз расти не пожелал.
За четыре десятка лет, прошедших с того времени, появилось множество новых сведений о кристаллизации алмаза. Из них, в частности, следовало, что Руфф неправильно определил температуру, потребную для эпитаксиального роста. Бринкман взял графитовый тигель (графит мог выдержать очень высокую температуру и одновременно служил источником углерода) и стал в нем плавить разные металлы и опускать в расплав крупинки алмаза.
Он проделал множество опытов и никаких изменений с затравочными кристалликами не обнаружил. Но вот однажды, когда находившееся в тигле расплавленное серебро было нагрето до 3000°, кристаллики алмаза заметно потяжелели.
В 1962 г. стало известно об опытах В. Г. Эверсола из фирмы «Юнион карбайд» в США. Вместо четырехиодистого углерода, применявшегося Дерягиным и Спициным, Эверсол пользовался метаном (как в 1911 г. Болтон), пропаном, этаном, хлористым метилом. Схема его опыта казалась простой: Эверсол брал обычный алмазный порошок, продувал над ним нагретый до 900 — 1100° газ, и часть углерода оседала на алмазных кристалликах новым алмазным слоем. Чем мельче были пылинки, тем лучше они росли (естественно: у мелкого порошка больше общая поверхность). В одном из опытов, когда размер пылинок не превышал десятой доли микрона (т. е. поверхность 1 г этой пыли была 20 м2), на этом грамме наросло еще 600 мг алмаза.
Правда, одновременно осаждялся и графит. Так что время от времени аппарат приходилось останавливать, извлекать алмазный порошок и кипятить его в кислотах, чтобы вся копоть растворилась, или пропускать над порошком горячий водород, чтобы графит прореагировал с ним. За то время, что длился этот опыт, наращивание прекращали 80 раз — и каждый раз на 16 часов.
Для реального промышленного процесса все это еще не подходило, но главное было в другом — опыты Эверсола и аналогичные эксперименты в Институте физической химии АН СССР доказали: алмазы можно выращивать без высокого давления. Может быть, «этим способом» росли и природные алмазы? Ведь вот в Якутии на трубках «Удачная» и «Зарница» ударили метановые фонтаны, а «Каменная», «Оливиновая» и другие безалмазные трубки (хоть и кимберлитовые) оказались без малейших признаков газа… Кто знает!
Опыты доказали, что алмазы можно выращивать без высокого давления, но ничего подобного тому, что было после Лундблада, Холла и Верещагина, пока не происходит; сообщений о фабриках, изготовляющих искусственные бриллианты, нет… Время роста кристалла (месяцы? годы?) и постоянство режима в течение этого времени оказались препятствиями посложнее, чем сверхпрочные сплавы и сверхвысокие давления. Ювелирный процесс нуждается в ювелирной аппаратуре; любая чужая молекула может стать зародышем постороннего тела и свести на нет многомесячную работу…
В 1967 г. Б. В. Дерягин и Д. В. Федосеев предложили новый метод наращивания кристаллов алмаза из газовой фазы, названный импульсным. Суть его заключалась в создании периодического импульсного пересыщения газовой фазы над затравкой. Импульсы следовали один за другим через каждую десятую часть секунды. При этом слой алмаза рос, а графит не успевал образовываться.
Для этого метода был создан аппарат эпитаксиального синтеза, в принципе по той же схеме, что выбрал еще Лавуазье, когда за двести лет до них сжигал алмаз. Шеститысячеваттная ксеноновая лампа, два параболических зеркала, концентрирующих ее лучи, и рениевая петелька в фокусе зеркал — на ней держится алмазный кристаллик, который должен подрасти, или навеска алмазного порошка.
Все вместе втиснуто в прозрачный сосуд из тугоплавкого кварца, через него можно прокачивать газ — тот же метан из городской газовой сети. Температура регулируется поворотом ручки реостата, давление газа — вентилем.
Легко себе представить, как светит лампа в шесть тысяч «свечей»; аппарат пришлось закрыть непрозрачным кожухом. И прежде чем открыть окошко, чтобы взглянуть, как там растет алмаз, приходилось брать щиток с черным стеклом, каким пользуются сварщики.
Исследователи то и дело брались за этот щиток и заглядывали в окошко, чтобы убедиться, все ли там в порядке, или в надежде увидеть что-нибудь необычное. А может быть, просто потому, что каждому человеку хочется, чтобы его дело двигалось быстрее. Как тут не глянуть лишний раз!
Но быстрее дело, к сожалению, не двигалось. Грани кристаллика росли медленно, как и предупреждал почти тридцать лет назад Франк-Каменецкий, Увидеть, что они и в самом деле растут, было совершенно невозможно: за час прибавлялось всего несколько микрон. Тем не менее это было уже в тысячу раз быстрее, чем у Эверсола, и, главное, не нужно было прерывать синтез для очистки кристалла от графита.
Но вот 13 апреля 1967 г. в лаборатории возникло необычайное волнение — из рук в руки передавался щиток, и очередной счастливец, приникнув к ослепительному окошку, видел через черное стекло совершенно неожиданную картину: на грани кристалла росла прозрачная нить. Весь вечер и всю ночь шли исследования. К утру рентгенограммы подтвердили: это алмаз.
Потом удалось вырастить «усы» самых разных форм и размеров. И даже круглые, и даже слегка ограненные алмазные наросты. А самое замечательное было то, что усы росли с поразительной для алмаза скоростью: в среднем по 10 микрон в час. Если по способу Эверсола слой толщиной в миллиметр мог образоваться на грани кристалла за 10 млн. часов чистого роста, то здесь алмазный ус иногда подрастал на 1 мм всего за 4 часа. В 2,5 млн. раз быстрее!
Монокристаллические нити, вискерсы, были известны и ранее, например, кремния, но их получали только в области стабильности этих веществ. Открытие Дерягиным, Федосеевым и их сотрудниками алмазных усов, растущих из газовой фазы при низких давлениях, было зарегистрировано в Государственном реестре открытий СССР.
И еще одно удивительное наблюдение было сделано в Институте физической химии: растущий алмаз старается выбрать из метана как можно больше тяжелого изотопа углерода (С13), тогда как графит делает как раз наоборот — предпочитает легкий изотоп (С12). Кстати, природные алмазы «изотопно тяжелее» окружающих карбонатных пород.
Одним из очень интересных для практики оказалось предложение Института физической химии АН СССР и Института сверхтвердых материалов АН УССР спекать алмазные порошки, «подросшие» в метане. В этом случае удается получать поликристаллы исключительной прочности.
Между тем престиж искусственных алмазов становился все более высоким.
В первых числах ноября 1967 г. в Бельгии, в Антверпене, владельцу одной из тамошних гранильных мастерских Иосу Бонруа позвонил по телефону его друг и попросил огранить искусственный алмаз.
«Уволь бога ради!» — взмолился Бонруа и стал отнекиваться изо всех сил, потому что все это было уже не в первый раз. Потому что эти алмазы, американские и шведские, ему уже не раз приносили и просили огранить. И он не раз пытался это сделать и каждый раз убеждался, что искусственные алмазы — вещь, может быть, замечательная, но к тому делу, которым занимаются он, Иос Бонруа, и множество других специалистов по драгоценным камням, никакого отношения не имеющая. Пусть они хоть какие угодно, но только это — не ювелирные камни!
«Неудобно! — ответил Бонруа его друг. — Их же привезли русские. Международная вежливость и все такое..; Ты бы уж попробовал, а?»
Пришлось согласиться. И в тот же день к антверпенскому фабриканту Бонруа пришел гость — Валентин Николаевич Бакуль.
Он достал из кармана (или, может быть, из портфеля, это несущественно) аптечный флакончик, какие у нас с давних пор называют пенициллиновыми. На дне флакончика были мелкие крупинки.
Бонруа не выказал удивления, достал одну крупинку и стал рассматривать ее в лупу. Он вертел ее пинцетом и так, и этак, осмотром остался недоволен — и, вполне возможно, даже помянул про себя друга, сосватавшего ему русских гостей, не самым лестным образом. Если этот друг сказал Бонруа про искусственные алмазы, то получалось, что он ему морочил голову.
Так или иначе, а киевскому гостю Бонруа, как человек весьма вежливый, ответил, что камни эти, хоть они и мелкие, здесь, в Антверпене, огранить можно. Ничего особенного в них для знаменитых антверпенских мастеров нет. И еще Бонруа спросил гостя: Сьерра-Леоне? (Специалисты называют алмазики такого сорта по имени африканской страны, где их добывают.)
Гость кивнул вроде бы утвердительно.
Тогда хозяин позвал мастера и попросил его распилить один кристаллик.
Мастер ушел, хозяин и гость продолжали приятную беседу. Не прошло и часа, как мастер вернулся и сказал, что ничего не получается — не может найти оптическую ось…
Бонруа взял подпиленный кристаллик, возможно, даже выразил некоторое недоумение, и вооружился снова увеличительным стеклом в старинной оправе. Долго он рассматривал алмазную крупинку со всех сторон, гораздо дольше, чем в первый раз. И вдруг, наконец, он заметил какие-то едва уловимые признаки, сказать о которых что-либо затруднительно, ибо они принадлежат к тонкостям его профессии, — Бонруа увидел что-то такое, что отличало этот алмазик от всех виденных им раньше. И ось у кристаллика все-таки была…
И Бонруа, опытнейший в этом деле человек, не поверил своим глазам. И спросил у Бакуля, хотя это было уже ни к чему, потому что он и так все понял: неужели синтетические?
Бакуль, рассмеявшись, сказал, что да. И тогда Бонруа попросил дать ему время до завтра.
Когда гости ушли, резчик допилил алмазик и первым увидел, как он засверкал. Имя этого мастера ван Дун, он работал на фабрике Бонруа сорок лет и, надо полагать, неплохо знал свое дело. Тогда Бонруа позвал второго мастера — гранильщика, и все опять повторилось сначала: тот никак не мог подобраться к камню. Так что наутро, когда Бакуль, согласно уговору, пришел снова, хозяину пришлось еще раз извиниться.
На резку кристалликов тоже ушел целый день.
Наконец, гранильщик — фамилия его Нойенс, и он работал в алмазном деле тоже почти сорок лет — нашел ось. И камешки стали граниться в простейшую классическую форму для мелких бриллиантов, ее называют 3/8. Они были маленькие, 50 штук на карат (это значит — по четыре еотых грамма), по миллиметру с небольшим в диаметре, но это были прозрачные ювелирные камни. Большинство желтого цвета, а 42 — белые, чистой воды.
На другой день Бонруа положил их в партию ютовых бриллиантов и понес к коллегам — лучшим антверпенским ювелирам.
И спросил одного из них, что это такое.
«Да ничего особенного, — сказал коллега. — Что тут спрашивать? Ну, обыкновенные мелкие Сьерра-Леоне. Что с того?»
Он пошел ко второму коллеге, и там повторилось то же самое. И третий ювелир не увидел в бриллиантах ничего особенного — даже самый опытный глаз не смог отличить их от «обыкновенных». И тогда же, в первых числах ноября 1967 г., в Антверпене, в мастерской одного из тех ювелиров, которым Бонруа показывал камешки после огранки, были изготовлены два кольца и украшены синтетическими бриллиантами из Киева. Имена дам, получивших право носить их, участники этой истории, как настоящие рыцари, огласке не предают. (Впрочем, в мае 1973 г., на заседании Президиума Академии наук СССР, на котором был доклад о синтезе алмазов, одно из этих колец присутствующим было показано.)
В десятках, а может быть, и в сотнях лабораторий многих стран сотни, а может быть, и тысячи исследователей продолжают поиск, начавшийся двести с лишним лет назад.
Одни возлагают надежды на металлические расплавы. Семь лет работал Джон Бринкман над тем, чтоб ускорить рост алмазных кристаллов. Заменял серебро сурьмой и свинцом. Заменял графитовый тигель замкнутой системой из танталовых, молибденовых, вольфрамовых трубок и через них прокачивал науглерожепный расплав. Варьировал концентрацию углерода и температуру. В 1964 г. фирма «Юнион карбайд» запатентовала все эти новшества. В патенте сказано, что можно вырастить алмазный монокристалл любого размера… Дело не ограничилось патентом, и в 1970 г. на одной из американских промышленных выставок желающим предлагалось купить лицензию: производство алмазов размером… до 30 мм.
Однако до сих пор ни одного искусственного алмаза подобной величины никто не видел. И трудно сказать, в чем тут дело — в технических трудностях или, может быть, в несообразной стоимости.
Другие специалисты отдают предпочтение газу — метану. Валентин Николаевич Бакуль, например, уверяет, что в ближайшие годы можно будет создать производство, оснащенное аппаратами, подобными в принципе тому, что работал у Дерягина. И что эти аппараты будут давать урожай готовых бриллиантов, правда, не очень часто, потому что бриллианты будут расти довольно долго. Можно рассчитывать, скажем, на один раз в год — как урожай пшеницы.
Продолжают работать и те, кто надеется на сверхвысокие давления.
Кто будет первым?
Стоит ли задаваться таким вопросом? Ответить на него пока вряд ли кто-нибудь сможет. А потом: так ли уж это существенно?
Важнее было бы предугадать, какой путь окажется наиболее экономичным. Или наиболее соответствующим «технологии» рождения природных алмазов.
Но и это, пожалуй, не самое любопытное. Интереснее всего, конечно же, было бы попытаться представить себе, какими еще удивительными гранями повернется к человеку этот самый удивительный на земле кристалл. И какое место в нашей цивилизации займет он тогда, когда станет таким же обыкновенным веществом, как сегодня, скажем, поваренная соль.
Кстати, углерода на нашей планете в десятки раз больше, чем хлора. Да и в космосе он весьма и весьма обыкновенен…