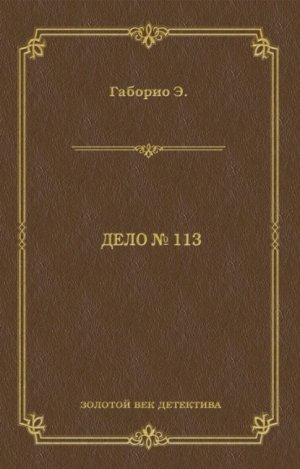
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
Глава I
Во всех вечерних газетах в среду 28 февраля 186… года, в отделе хроники, было напечатано следующее:
«Сегодня утром вся улица Прованс была взволнована дерзкою кражей, совершенной у почтенного парижского банкира господина Андре Фовеля. С необыкновенной дерзостью злоумышленники проникли в контору и, взломав кассу, которая считалась положительно несокрушимой, похитили из нее банковые билеты на сумму 350 тысяч франков.
Тотчас же прибыла полиция, ревностно принявшаяся за поиски, которые и увенчались успехом; передают, что в краже заподозрен один из приказчиков банкирского дома П. Б., который уже и арестован. Можно надеяться, что и его сообщники скоро попадут в руки правосудия».
Целых четыре дня Париж не мог успокоиться и только и говорил, что об этой краже.
350 тысяч были действительно похищены у господина Андре Фовеля, но несколько иначе, чем описывалось в газетах. Приказчик был действительно арестован, но только в виде предупреждения и пресечения, так как против него не нашлось ни одной положительной улики. Такое громадное воровство так и осталось загадочным и необъяснимым.
Касса открывалась посредством замка с алфавитом. Прежде чем воткнуть ключ в скважину, нужно было расставить буквы в том самом порядке, в каком они находились в тот момент, когда касса запиралась. Как и везде в таких случаях, господин Фовель запирал кассу на какое-нибудь слово, которое он время от времени менял. Это слово было известно только одному банкиру и его кассиру. Каждый из них имел свой особый ключ. Слово это было: «Сезам, откройся!». Касса открывалась при наборе этого слова. И было бы очень опасно позабыть его.
Глава II
28 февраля приказчики банкирского дома сошлись на службу по обыкновению к девяти часам утра. В половине десятого каждый из них уже сидел за своим столом, когда в контору вошел какой-то господин.
Он спросил, может ли он видеть главного кассира. Ему ответили, что кассира еще нет и что касса открывается только в десять часов утра.
— Я полагал, — сказал господин, — что распоряжение уже сделано, так как я говорил вчера с господином Фовелем. Я — граф Луи Кламеран, владелец Олоронских каменноугольных копей; я пришел взять от вас тридцать пять тысяч франков, порученных вашему дому моим покойным братом, которому я наследую по закону. Странно, что до сих пор еще не сделано распоряжений…
— Кассира еще нет… — отвечали ему приказчики. — Без него мы ничего не можем.
— Тогда отведите меня к господину Фовелю!
Приказчики не знали, что ему ответить, пока, наконец, один из них, Кавальон, не сказал ему:
— Хозяин только что вышел… Его нет.
— Тогда я зайду в другой раз! — проворчал Кламеран.
И он вышел, даже не сняв на прощание шляпы.
— Этакий ведь невежа! — огрызнулся ему вслед Кавальон. — А вот как раз и Проспер!
Вошел кассир Проспер Бертоми, главный кассир банкирского дома Андре Фовеля, — красивый, высокий блондин тридцати лет, одетый по последней моде.
— Ах, вот и вы! — воскликнул Кавальон. — Уж вас здесь спрашивали.
— Кто это? Уж не владелец ли каменноугольных копей?
— Он самый.
— Ну что ж! Зайдет в другой раз! Мне сегодня не удалось прийти пораньше, поэтому я еще вчера принял меры…
Весело болтая, Проспер открыл свой кабинет и вошел в него, затворив за собою дверь. Затем дверь эта вдруг отворилась, и в ней показался кассир, еле держась на ногах.
— Украли! — пробормотал он. — Меня ограбили!..
Физиономия Проспера, его хриплый голос и дрожь показывали в нем такое волнение, что все приказчики повскакивали со своих мест и окружили его.
— Украли? — посыпались вопросы. — Где, как, кто?
Мало-помалу Проспер пришел в себя.
— Утащили все, что было в кассе, — сказал он наконец.
— Неужели все?
— Да, три пакета по сто билетов, в тысячу франков каждый, и один — в пятьдесят билетов. Все четыре пакета были вместе завернуты в лист бумаги и перевязаны веревкой.
Весть о воровстве с быстротою молнии облетела весь банкирский дом. Любопытные сбежались со всех сторон и наполнили кабинет.
— Осмотрите кассу! — сказал Кавальон. — Цела ли она?
— Совершенно цела.
— И тем не менее…
— И тем не менее случилось то, что я вчера сам лично вложил в кассу триста пятьдесят тысяч франков, а сегодня их уже нет.
Все молчали. Только один старый приказчик нарушил это молчание.
— Не теряйте голову, господин Бертоми, — сказал он. — Весьма возможно, что деньгами распорядился сам хозяин.
Несчастный кассир воспрянул духом. Он ухватился за эту идею.
— Да, — воскликнул он. — Вы правы! Это хозяин.
А затем в глубоком отчаянии он продолжал:
— Нет, это невозможно! За все пять лет моей службы господин Фовель никогда не открывал кассу без меня. Два или три раза ему как-то понадобились деньги, и он в эти разы или дожидался меня, или же посылал за мною. Но без меня он кассу не открывал ни разу.
— А все-таки вы обратитесь к нему, — возразил другой приказчик, Кавальон. — Нечего отчаиваться!
Андре Фовель тем временем уже сидел у себя в кабинете. Один из писцов поднялся к нему и рассказал ему обо всем. В то самое время как Кавальон советовал обратиться к нему, он уже появился в дверях. Новость, сообщенная ему писцом, поразила его, потому что, обыкновенно розовый, он был бледен как полотно.
— Что такое? — спросил он у приказчиков, которые почтительно расступились перед ним. — Что случилось?
— Милостивый государь, — обратился к нему кассир, — в виду платежа, который, как вам известно, мы должны были совершить сегодня, я взял вчера вечером из банка триста пятьдесят тысяч франков.
— Почему вчера? — воскликнул банкир. — Кажется, тысячу раз я просил вас брать из банка деньги только в день платежа, а не накануне.
— Я знаю это, господин Фовель, мне очень грустно, но случилось именно так. Вчера вечером я положил туда эти деньги, а сегодня их уже нет. Тем не менее касса цела.
— Вы с ума сошли! — закричал Фовель. — Вы бредите!
Эти слова уничтожили всякую надежду, но ужас положения придал Просперу ту безучастную подавленность, которая является следствием неожиданных катастроф.
— Я еще в своем уме, — отвечал он почти спокойно, — я не брежу и говорю только то, что есть.
Его спокойный тон вывел из себя Фовеля. Он схватил его за руку и грубо потряс ее.
— Говорите же! — закричал он. — Говорите! Кто же, по-вашему, отпер кассу?
— Не знаю.
— Кроме вас и меня, больше никто на свете не знал слова. Ключи от кассы только у вас и у меня.
Это было уже формальным обвинением, по крайней мере, так поняли все.
— Во всяком случае, не я взял эти деньги, — отвечал Проспер.
— Несчастный…
Проспер отступил на шаг и, уставившись на Андре Фовеля, прибавил:
— Это вы!
Банкир угрожающе поднял руку, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы вдруг не послышался резкий разговор в передней. Кто-то хотел войти и, несмотря на протесты прислуги, все-таки вошел. Это был Кламеран. Он ничего не хотел знать и, не снимая шляпы, направился к кассе и тем же грубым тоном сказал:
— Уже десять часов пробило, господа!
Никто не отвечал ему. Тогда он направился прямо к банкиру и закричал на него:
— Наконец-то, милостивый государь, мне посчастливилось увидеть вас! Сегодня утром я уже был у вас, но касса оказалась еще запертой; кассир еще не приходил, и вас самого не было тоже.
— Вы ошибаетесь, я сидел у себя в кабинете.
— Меня уверяли в противоположном, и вот господин, который мне сказал, что вас вовсе не было в конторе!
И он указал на Кавальона.
— Но этого мало, — продолжал он. — Я прихожу сюда вновь, и на этот раз меня даже не хотят впускать сюда. Скажите прямо: могу я получить мои деньги или нет?
Фовель задрожал от гнева и покраснел от стыда.
— Я попросил бы у вас одолжения, — отвечал он наконец упавшим голосом, — дать мне маленькую отсрочку.
— Но ведь вы сами сказали мне, что…
— Да, вчера. Но сегодня утром я узнал, что меня обокрали на триста пятьдесят тысяч франков.
— И долго мне еще придется ждать? — спросил с иронией Кламеран.
— Пока не съездят в банк.
И тотчас же, повернувшись спиною к Кламерану, Фовель обратился к кассиру:
— Заготовьте немедленно ордер, — сказал он. — Пошлите его как можно скорее. Прикажите взять карету, чтобы не растерять по дороге и эти деньги!
Проспер не шевелился.
— Вы слышите? — повторил ему банкир, едва сдерживая себя.
Кассир задрожал.
— Бесполезно посылать в банк, — холодно отвечал он. — Ваш текущий счет в банке составлял около пятисот тысяч франков, и теперь там осталось чуть больше ста тысяч.
— Отличная комедия! — пробормотал Кламеран. — Но это только комедия и больше ничего. Я ведь тоже не дурак!
— Будьте покойны, милостивый государь, — обратился к нему банкир, — у меня есть и другие источники для платежа. Подождите немного, я сейчас выйду.
И он пошел к себе в кабинет и через пять минут снова возвратился из него, держа в руках письмо и связку документов.
— Кутюрье, — обратился он одному из приказчиков. — Возьмите мою карету и поезжайте вместе с господином Кламераном к Ротшильду. Передайте ему это письмо и документы. Вам выдадут там триста тысяч франков. Вручите их этому господину. Живо!
А затем, приказав приказчикам заняться делом, банкир после долгого молчания обратился к Просперу:
— Нам нужно объясниться, — сказал он, — пойдите к себе в кабинет.
Кассир молча повиновался. За ним последовал банкир, затворив за собою дверь. Здесь он подставил стул и приказал кассиру сесть.
— А теперь, когда мы одни, Проспер, — начал он, — что вы мне можете рассказать?
Кассир вздохнул.
— Ровно ничего, — отвечал он.
— Как? Ничего? Вы все еще настаиваете на этой нелепой, смешной басне, которой никто не поверит? Как это глупо! Признайтесь мне во всем, в этом ваше спасение. Я ваш хозяин, но я также и ваш друг, ваш лучший друг! Я не должен забывать того, что вот уже пятнадцать лет, как вы поручены мне вашим отцом, и что с тех пор вы служили мне верой и правдой. Да, вы уже пятнадцать лет у меня. На ваших глазах я нажил свое состояние, трудясь упорно и постепенно. И по мере того как я богател, я улучшал и ваше положение: еще такой молодой, вы уже у меня служите старшим приказчиком. С каждым успехом своим я увеличивал и ваше содержание.
Никогда еще патрон не разговаривал с Проспером таким ласковым, отеческим тоном. Глубокое удивление овладело кассиром.
— Ну, скажите, — продолжал господин Фовель. — Разве я не был для вас вторым отцом? С самого первого дня мой дом был вашим домом. Я хотел, чтобы моя семья была вашей. Вы были моим сыном наравне с обоими моими сыновьями и племянницей Мадленой. Но вы предпочли этой счастливой жизни другую… Вот уже скоро год, как вы начали нас избегать, и наконец…
Воспоминания о прошедшем, разбуженные банкиром, пронеслись в душе несчастного кассира; мало-помалу он растрогался и, закрыв лицо руками, заплакал.
— Своему отцу все можно сказать, — продолжал Андре Фовель, которого тронули эти слезы. — Не бойтесь! Отец не прощает, а забывает. Разве я не знаю тех ужасных искушений, которые овладевают каждым молодым человеком в таком городе, как Париж. Его чары сломили не одну сильную волю. Бывают минуты страсти и увлечения, когда человек теряет контроль над собой, когда он поступает как сумасшедший, точно под гипнозом, не сознавая своих поступков. Говорите же, Проспер, говорите.
— Что же мне вам сказать?
— Правду. Человек честный может споткнуться, но он не уронит себя далее и всегда сознает свою ошибку. Скажите мне: «Да, я увлекся, я был ослеплен видом этой массы золота, которое было мне поручено, оно смутило мой рассудок, я молод, и у меня есть свои грешки…»
— У меня! — пробормотал Проспер, — у меня!
— Бедный малый, — продолжал печально банкир. — Неужели вы думаете, что я терял вас из виду весь этот год, когда вы перестали бывать у меня? У вас есть завистники, которые не могут простить вам того, что вы получаете жалованья двенадцать тысяч в год. О каждой вашей шалости я уже получаю анонимное письмо. Я могу пересчитать по пальцам каждую из ваших ночей, когда вы играли и сколько вы проиграли. У зависти есть свои глаза и уши, мой милый…
Он остановился, отчаявшись в признании.
— Смелее, Проспер, — начал он опять. — Будьте добрым! Сейчас я выйду, а вы вновь осмотрите кассу. Бьюсь об заклад, что в состоянии волнения вы плохо ее оглядели. Вечером я приду к вам, и я уверен, что вы отыщете в ней если и не все триста пятьдесят тысяч франков, то большую часть этих денег. И ни я, ни вы — даже и виду не подадим о том, что случилось.
Господин Фовель уже направился к двери, но Проспер удержал его за руку.
— Ваше великодушие бесполезно, — с горечью сказал он. — Я ничего не брал и нечего мне и возвращать. Я все обыскал в кассе, и денег в ней не оказалось. Их кто-то украл.
— Но кто, несчастный, кто?
— Клянусь всем святым, что не я!
Краска разлилась по лицу банкира.
— Так значит я? — воскликнул он.
Проспер опустил голову и не отвечал.
— Я сделал все, чтобы вас спасти, — сказал банкир. — А теперь теперь я должен позвать полицию.
— Зовите!
Банкир отворил дверь и, бросив последний взгляд на кассира, отдал приказание:
— Ансельм, пригласите сюда полицейского комиссара!
Глава III
Полицейский комиссар не замедлил явиться.
— Без сомнения, до вас уже дошли сведения, — обратился к нему банкир, — о тех обстоятельствах, которые понуждают меня обратиться к вашим услугам?
— Кажется, у вас совершена кража? — отвечал комиссар.
— Да, гнусная, загадочная кража, в этой самой комнате, из этой самой кассы, в которой лежали все наши деньги и отпереть которую мог один только мой кассир.
И он указал на Проспера.
— Виноват, господин комиссар, — сказал Проспер хриплым голосом. — Кассу мог отпирать также и мой хозяин, так как у него также имеются ключи от нее и ему также известно слово, на которое запирается касса.
Комиссар насторожился. Очевидно было, что эти два господина сваливали вину один на другого.
По их собственному признанию, один из них непременно должен был оказаться преступником. И один из них был главою значительного банкирского дома, а другой — только простым кассиром. Один был хозяином, а другой приказчиком. Но комиссар отлично умел разбираться в своих впечатлениях и ни одним жестом не дал понять о том, что он думал. Он только пытливо поглядывал то на того, то на другого, точно своим вниманием стараясь выяснить из их слов наиболее полезное для дела. Проспер по-прежнему был бледен и угнетен, а банкир, напротив, был красен как рак и страшно возбужден.
— Похищено на громадную сумму, — продолжал Фовель. — У меня украли триста пятьдесят тысяч франков! Эта кража может повлечь за собою гибельные для меня последствия. В настоящее время лишение такой суммы денег может скомпрометировать кредит любой значительной фирмы.
— Думаете ли вы, что вор проник со двора? — спросил комиссар.
Банкир с минуту подумал.
— Нет, — сказал он, — я этого не думаю.
— Я тоже полагаю, что нет, — отвечал и Проспер.
Комиссар предвидел эти ответы, он ожидал их. И, обратившись к сопровождавшему его человеку, он сказал:
— Господин Фанферло, быть может, что-нибудь ускользнуло из внимания этих господ — осмотрите хорошенько!
Фанферло, прозванный за расторопность Белкой, обыскал все кругом, осмотрел двери, ощупал перегородки, исследовал форточку, поковырял пепел в камине.
— Трудно предположить, — сказал он наконец, — чтобы сюда мог проникнуть кто-нибудь извне.
И он прошелся по кабинету.
— Эта дверь по вечерам запирается? — спросил он.
— Постоянно на ключ.
— А у кого остается ключ?
— Я оставляю его каждый вечер у служителя, который убирает кабинет, — отвечал Проспер.
— У служителя, — добавил и Фовель, — который каждый вечер подвязывает у порога гамак, спит на нем и каждое утро его убирает.
— Он здесь? — спросил комиссар.
— Да, — отвечал банкир и, отворив дверь, закричал: — Ансельм!
Ансельм служил у Фовеля уже десять лет и пользовался доверием. Он не мог быть заподозрен и знал это. Но так как самая мысль о преступлении ужасна, то дрожал и он.
— Вы спали эту ночь у порога? — спросил его комиссар.
— Да, по обыкновению, сударь…
— В котором часу вы легли?
— Около половины одиннадцатого. Вечер я просидел в соседнем кафе с лакеем господина Фовеля.
— И вы не слышали никакого шума сегодня ночью?
— Какой же мог быть сегодня шум? Я очень чутко сплю, и всякий раз, когда хозяин спускается вниз осмотреть кассу, я моментально вскакиваю, едва только заслышу его шаги.
— И часто по ночам приходит к кассе господин Фовель?
— Нет, напротив, очень редко.
— А в эту ночь?
— Я могу положительно утверждать, что господин Фовель не приходил, так как от выпитого с лакеем кофе я страдал бессонницей.
— Отлично, любезный, можете идти.
Ансельм вышел. Фанферло возобновил свои исследования. Он отворил дверь, ведущую на маленькую лестницу к банкиру.
— Куда ведет эта лестница? — спросил он.
— В мой кабинет, — отвечал Фовель.
— Надо ее осмотреть, — сказал Фанферло.
— Это очень легко, — отвечал с готовностью Фовель. — Пожалуйте, господа! Идите и вы, Проспер.
Кабинет Фовеля состоял из двух половин: в одной была роскошно убранная приемная, а другая составляла собственно кабинет. В этих двух комнатах было три двери: одна вела на указанную потайную лестницу, другая в спальную банкира, а третья выходила на парадную лестницу. Через эту последнюю к банкиру входили клиенты и визитеры.
Фанферло одним взглядом окинул комнату, и его огорчило, что и здесь ясности не добавилось.
— Посмотрим с другого конца, — сказал он и вышел в приемную. За ним пошли комиссар и банкир.
Проспер остался один в рабочем кабинете. Он опустился в кресло, стоявшее перед камином, и предался своим мрачным мыслям. Кто-то теперь окажется действительно виновным?
В это время отворилась дверь из спальной банкира, и в ней показалась девушка замечательной красоты. Это была племянница Андре Фовеля, Мадлена, о которой он так недавно упоминал.
Увидав Проспера Бертоми в том кабинете, где она ожидала встретить только одного дядю, она не могла сдержаться и вскрикнула от удивления:
— Ах!
Проспер вскочил, точно пораженный громом.
— Мадлена! — воскликнул он. — Мадлена!
Молодая девушка покраснела, сна хотела уже удалиться и сделала шаг назад, но Проспер, будучи не в силах побороть себя, бросился к ней, она протянула руку, и он почтительно ее пожал. Некоторое время они стояли неподвижно и молчали. В волнении они опустили голову, боясь посмотреть друг другу в глаза; имея столько сказать, они не знали, с чего им начать, и молчание продолжалось.
— Это вы, Проспер, вы? — начала наконец Мадлена.
— Да, это я, Проспер, — отвечал он, — друг вашего детства, заподозренный, обвиненный сегодня в постыдном, грязном воровстве. Это Проспер, которого ваш дядя предает суду и который еще до вечера будет арестован и посажен в тюрьму.
Мадлена испугалась, и глаза ее засветились состраданием.
— Боже мой! — воскликнула она. — Что вы говорите?
— А разве вы еще об этом ничего не знаете? Вам ничего не говорили ни тетя, ни двоюродные братья?
— Ради бога, что случилось? Я ничего еще не знаю!
Кассир медлил. Быть может, ему хотелось открыть перед Мадленой свое сердце, свои сокровенные мысли, напомнить ей о прошедшем, которое разбило ему жизнь, лишило его веры. Он встряхнул головой и сказал:
— Благодарю вас и за это участие. Это последнее ваше участие ко мне, но позвольте мне избавить вас от неприятности выслушивать горе, а меня от возможности краснеть перед вами.
Мадлена сделала повелительный жест.
— Я все желаю знать, — сказала она.
— Увы, — отвечал кассир, — скоро вы и без меня узнаете о моем несчастье и позоре. И тогда вы поймете, что вы сделали.
Она настаивала, затем она стала его умолять, но Проспер оставался непоколебимым.
— В той комнате ваш дядя, — отвечал он. — Вместе с ним полицейский комиссар и сыщик; они могут сюда войти… Умоляю вас, уходите, иначе вас увидят…
С этими словами, несмотря на ее сопротивление, он вывел ее за дверь и затворил ее за нею.
В это время возвратились полицейский комиссар и Фовель. Они осматривали приемную и парадную лестницу и потому не могли слышать того, что происходило в кабинете. Но за них все услышал Фанферло. Эта превосходная ищейка ни на минуту не упускала из виду кассира. Предоставив розыски комиссару и Фовелю, он принялся за наблюдения. Он видел, как отворилась дверь и вошла Мадлена, и не проронил ни взгляда, ни одного жеста в той быстрой сцене, которая произошла между Проспером и Мадленой.
«Так, так… — думал он. — Молодой человек любит эту девушку, которая чертовски хороша. Он сам тоже красив и пользуется взаимностью. Этому роману банкир не сочувствует, что очень понятно, и, не зная, как отделаться от этого влюбленного кассира по чести, он и придумал эту комедию, и довольно-таки удачно».
Таким образом, по мысли Фанферло, банкир сам себя обокрал, а невиновный кассир оказался только козлом отпущения. Но это убеждение полицейского агента в данный момент было мало полезно для Проспера!
«Пусть все идет, как идет, — продолжал сыщик, — а я останусь в стороне со своим особым мнением. Стоит только пошпионить еще немножко, и я сорву маску с этого негодяя».
Успех казался трудным, сомнительным, но Фанферло верил в свой гений.
Покончив с осмотром верхнего этажа, перешли опять в кабинет Проспера. Комиссар, спокойный в начале, стал выказывать признаки тревоги. Приближался момент принять то или другое решение, он не решался его принять и нарочно медлил.
— Как видите, господа, — начал он, — наши исследования привели нас к первым предположениям. Какого вы мнения, господин Фанферло?
Сыщик не отвечал. Занятый осмотром в увеличительное стекло замка в кассе, он стал делать жесты, полные удивления. Без сомнения, он напал на след. Комиссар, Фовель и Проспер подскочили к нему.
— Что такое? — спросил банкир.
— Так, пустяки… — отвечал сыщик. — Я пришел к заключению, что эта касса была отперта или заперта сегодня ночью, я не знаю как, но только силою и очень второпях.
— Как так? — спросил комиссар.
— Видите эту царапину на дверце, которая бежит от замка?
— Вижу, но что же из этого?
— Ровно ничего. Это именно то, на что я и хотел указать.
Но мысли Фанферло были совсем иного сорта. Эта царапина, свежая, чего нельзя было отрицать, имела для него свое особое значение, которое было непонятно для других. Она убедила его, что кассир, укради он из кассы хоть миллион, не мог бы сделать ее уже в силу привычки отпирать замок. Наоборот, банкир, приходя ночью, тайком, боясь разбудить служителя у порога, имел основания дрожать, торопиться и, попадая ключом мимо скважины, мог сделать указанную царапину!
— Я прихожу к заключению, — обратился сыщик к комиссару, — что никто чужой сюда проникнуть не мог. Для посторонних эта касса совершенно недоступна. На буквах замка не осталось ровно ничего подозрительного. Я утверждаю, что для открытия кассы не было употреблено никакого инструмента, кроме ключа, никакой отмычки. Тот, кто отпер кассу, знал слово и имел в своем распоряжении ключ.
Это формальное утверждение покончило с медлительностью комиссара.
— Мне остается только сказать несколько слов господину Фовелю… — обратился он к присутствующим.
— Я к вашим услугам! — отвечал банкир.
Проспер понял, выразительно положил на стол шляпу, чтобы дать понять, что он вовсе не имеет намерения скрыться, и вышел в соседнюю канцелярию.
Фанферло последовал за ним, но комиссар сделал ему едва уловимый жест, на который тот ответил утвердительно. Жест этот означал: «Вы ответите мне за этого человека».
Сыщик не придал этому особого внимания, так как его подозрения были гораздо шире, и его желание добиться истины было слишком сильно для того, чтобы согласиться потерять из виду Проспера. Вот почему, выйдя в канцелярию, он забрался в самый темный угол и, несколько раз потянувшись и, сладко зевнув так, что чуть не сломал себе челюсть, закрыл глаза. А Проспер уселся за письменный стол, и все приказчики, горя нетерпением узнать подробности, окружили его со всех сторон, но не решались его расспрашивать.
Наконец рискнул Кавальон.
— Ну как? — спросил он.
— Неизвестно… — пожал плечами Проспер.
А затем он достал листок бумаги и поспешно написал на нем несколько строк.
«Эге! — подумал Фанферло. — Маленькие излияния перед бумагой! Кажется, мы кое-что узнаем!»
Написав записку, Проспер тщательно ее запечатал, вложил ее в книжку и, бросив украдкой взгляд на сыщика, все еще делавшего вид, что дремлет в своем уголку, передал эту книжку Кавальону.
— Жипси! — сказал он ему одно только слово.
Все это было исполнено так хладнокровно и с таким привычным видом, что Фанферло, которого нельзя было провести на мякине, и тот был этим поражен.
«Черт возьми, — подумал он. — Для невинного в этом молодом человеке слишком много желудка и нервов — гораздо больше, чем у меня опыта. Надо наблюдать!»
А тем временем комиссар говорил Фовелю:
— Теперь уже нет сомнения, милостивый государь, в том, что вас обворовал именно этот молодой человек. Долг повелевает мне принять против него меры. От судебного следствия уже будет зависеть продолжать или отменить его лишение свободы.
— Бедный Проспер! — проговорил банкир.
Позвали кассира. Он явился в сопровождении Фанферло. Ему объявили, что его арестуют.
— Клянусь, что я невиновен! — отвечал кассир просто, без малейшего ломания.
Банкир, взволнованный больше, чем его кассир, ухватился за последнюю надежду.
— Еще есть надежда, сын мой… — сказал он. — Во имя Неба, говорите все!
Проспер не слушал. Он вытащил из кармана небольшой ключ от кассы и положил его на камин.
— Вот ваш ключ от кассы… — сказал он. — Я надеюсь, что настанет день, когда вы узнаете, что я не брал у вас ни сантима. Долго ждать не придется! Вот вам ваши книги, бумаги, вот все, что будет необходимо моему преемнику. При этом я должен сказать, что помимо украденных трехсот пятидесяти тысяч франков в кассе есть еще один дефицит!
Дефицит! Это слово, слетевшее с уст кассира, точно обухом поразило всех присутствующих. Они встрепенулись.
— В кассе недостает еще трех тысяч пятисот, — продолжал Проспер. — Они израсходованы так: две тысячи франков я взял себе в счет жалованья, а полторы тысячи отдал служащим. Сегодня последний день месяца, и так как завтра следовало уже платить жалованье, то я и…
Его прервал комиссар.
— А вы имеете на это полномочия? — резко спросил он его.
— Нет, но господин Фовель не отказал бы мне в позволении сделать приятное сослуживцам. Так делается повсюду. Так поступал здесь и мой предшественник.
Банкир жестом согласился с этим.
— Что же касается лично меня, — продолжал кассир, — то я, по-видимому, имел на это право уже потому, что все свои сбережения, до пятнадцати тысяч франков, я вложил в этот же банкирский дом.
— Это совершенно верно, — подтвердил и Фовель. — Господин Бертоми имеет у меня счет именно на эту сумму.
Миссия комиссара была уже закончена. Он объявил, что уходит, и приказал кассиру следовать за собой.
— Я к вашим услугам, — сказал Проспер, нисколько не теряя присутствия духа.
Комиссар взял свой портфель и, простившись с Фовелем, сказал кассиру:
— Пойдемте!
И они вышли.
— Боже мой! — пробормотал банкир, при их уходе. — Пусть лучше бы украли у меня вдвое больше, чем мне лишиться бедного Проспера и потерять к нему уважение!
Эта фраза не ускользнула от внимания Фанферло и породила в нем уверенность, что она сказана неспроста. Он вышел из кабинета последним, задержавшись в поисках зонтика, которого никогда не имел, и услышал это.
Всю дорогу до управления у него не выходила из головы мысль о записке, написанной Проспером и находившейся теперь в кармане у Кавальона. Но как добыть ее? Попросту арестовать и Кавальона, припугнуть его и потребовать от него записку, а в случае надобности употребить в дело даже силу? Сыщику приходило в голову и такое. Фанферло был убежден, что записка эта была адресована не молодому приказчику, а третьему лицу. Но если сцапать Кавальона, то ведь он может налгать и указать совсем не на то лицо. Поразмыслив хорошенько, сыщик решил, что было бы наивным просить о записке, когда попросту ее можно перехватить. Подслушать Кавальона, проследить за ним и застать его на месте преступления, когда ему уже нельзя будет отпереться, было делом незамысловатым. Поэтому, выйдя на улицу, он вошел в ворота дома напротив банкирской конторы и спрятался в них. Здесь пришлось просидеть ему довольно долго. Но он был терпелив, так как ему приходилось не раз уже простаивать в течение целого дня или целой ночи напролет в ожидании добычи.
Наконец в дверях банкирского дома показался Кавальон. Выйдя на улицу, он пристально огляделся направо и налево. Видно было, что он задумал нечто, но не решается исполнить.
«Он чего-то опасается…» — подумал Фанферло.
Затем молодой приказчик отправился в путь, добрался до Монмартрского предместья и вошел в улицу Нотр-Дам-Деларет. Он шел так быстро, что сыщик едва мог поспевать за ним. Дойдя до улицы Шанталь, Кавальон свернул в нее и вошел в дом № 39.
Не пройдя и трех шагов по узкому коридору, он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и очутился лицом к лицу с Фанферло. Отлично узнав его, он побледнел и хотел уже бежать, но сыщик преградил ему дорогу.
— Что вам угодно? — спросил он Фанферло дрожащим голосом.
— Сегодня утром, — отвечал сыщик, — Проспер Бертоми тайком передал вам какую-то записочку.
— Вы ошибаетесь, — сказал Кавальон и покраснел до ушей.
Фанферло объяснил ему, как было дело.
— Пожалуйста, не отрицайте этого, — сказал он. — Иначе вы заставите меня пригласить тех четырех приказчиков, в присутствии которых записка была вам действительно передана. Она написана карандашом и свернута в несколько раз.
Приказчик понял, что запираться было трудно, и изменил свой план.
— Да, это верно… — сказал он. — Я получил от Проспера записку, но так как она была адресована лично ко мне, то я прочитал ее, разорвал и кусочки бросил в огонь.
— Позволю себе заметить, сударь, что это не совсем так: записка была вручена вам для передачи Жипси.
Жест отчаяния убедил сыщика, что он не ошибся.
— Клянусь вам… — начал молодой человек.
— Не клянитесь, пожалуйста, милостивый государь! — перебил его Фанферло. — Никакие клятвы не помогут. Вы вошли в этот дом именно для того, чтобы передать записку, и она у вас в кармане.
— У меня ее нет!..
— Нет, вы сообщите мне ее содержание… — продолжал сыщик вкрадчивым голосом. — Поверьте, что без серьезных поводов…
— Никогда! — ответил Кавальон.
И, улучив момент, сильным движением он вырвался из рук Фанферло и бросился бежать. Но сыщик оказался сильнее и быстрее его.
— Берегитесь, молодой человек! — сказал ему Фанферло. — Вам хуже будет! Потрудитесь показать мне записку!
— У меня ее нет!
— Отлично! Значит, вы доводите меня до крайних мер? Да знаете ли вы, до чего вас может довести ваше упорство? Я позову сейчас двух городовых, они станут у вас по бокам и сведут вас в полицию, а там уже не прогневайтесь: я обыщу вас насильно. Мне уже надоело!..
— Вы сильнее меня… — отвечал Кавальон. — Я повинуюсь.
И он достал из портфеля злосчастную записку и передал ее Фанферло.
Руки сыщика задрожали от удовольствия, и он стал читать ее:
«Дорогая Нина!
Если ты меня любишь, то скорее, не медля ни минуты, без всяких рассуждений, повинуйся мне. По получении этого письма возьми все, что у тебя находится, — абсолютно все — и скройся где-нибудь в номерах на другом конце Парижа. Скройся так, как будто бы тебя вовсе нет и на свете. От этого, быть может, зависит моя жизнь. Меня обвиняют в краже, и я буду арестован. В столе лежат пятьсот франков. Возьми их. Оставь твой адрес Кавальону, который объяснит тебе все, чего я не могу тебе написать. Торопись скорее.
Проспер».
— Кто же эта госпожа Нина Жипси? — спросил Фанферло. — Без сомнения, это знакомая Проспера Бертоми?
— Это его любовница, — отвечал Фанферло.
— Она живет здесь, в доме тридцать девять?
— Вы это знаете… Недаром же я вошел сюда.
— Она снимает квартиру на свое имя?
— Нет, она живет у Проспера.
— В котором этаже?
— В первом.
Фанферло тщательно сложил записку и сунул ее к себе в карман.
— Я сам передам эту записку госпоже Жипси, — сказал он.
Кавальон хотел было возражать, но Фанферло сказал ему:
— Советую вам возвратиться к вашим занятиям, молодой человек.
— Но ведь Проспер мой покровитель, он вытащил меня из нищеты, он мой друг!
— Зная, что вы так преданы кассиру, могут хватиться вас и истолкуют это в дурную сторону.
— Проспер невиновен, я знаю это!
— А если он будет обвинен, то это ваше признание может быть принято за соучастие в его преступлении.
Кавальон опустил голову. Он был сражен.
— А потому послушайте меня, молодой человек, — продолжал Фанферло. — Возвратитесь к своим занятиям! До свидания!
Молодой человек повиновался. А Фанферло поднялся по лестнице и позвонил в дверь первого этажа, в квартиру Проспера Бертоми. Ему отворила девочка лет пятнадцати, кокетливо одетая.
— Госпожа Нина Жипси? — спросил сыщик.
При виде Фанферло с запиской в руках девочка не знала, что ответить.
— Мне поручено передать ей послание от господина Проспера, — сказал он и подождал ответа.
— Войдите, я сейчас доложу.
Имя Проспера подействовало, и Фанферло ввели в гостиную.
— Черт возьми! — проговорил сыщик при виде роскошной обстановки. — А кассир устроился недурно.
Но он не мог продолжать своих наблюдений, так как раздвинулась портьера и вошла госпожа Нина Жипси. Она была очень хороша собою, и ее красота была настолько необычайна, так заявляла о себе, что даже Фанферло был ослеплен и приведен в смущение.
«Ах, черт возьми! — подумал сыщик, вспоминая благородную, строгую красоту Мадлены, которую видел так недавно. — У него положительно недурной вкус, даже очень, очень недурной!»
— Что вам угодно? — спросила дама, презрительно прищурившись.
Другой на месте Фанферло был бы смущен этим взглядом и тем тоном, с которым произнесена была эта фраза. Но все его внимание было поглощено изучением этой молодой женщины.
«Она недобра, нет! — подумал он про нее. — И кажется, невоспитанна…»
Он помедлил с ответом. Нина нетерпеливо топнула ногой.
— Да вы скажете наконец, что вам угодно, или нет? — спросила она.
— Мне поручено, сударыня, передать вам послание от господина Бертоми… — начал он вкрадчивым голосом.
— От Проспера? Разве вы его знаете?
— Да, сударыня, я имею честь быть его знакомым, и, простите за смелость, я один из его друзей.
Он вытащил из кармана записку, отнятую им у Кавальона, и подал ее госпоже Жипси.
— Читайте! — сказал он.
Она надела пенсне и пробежала записку одним взглядом. Сначала она побледнела, потом покраснела; нервная дрожь пробежала по ней с ног до головы. Ее колени затряслись. Она пошатнулась. Думая, что она упадет, Фанферло приготовился было поддержать ее и протянул к ней руки. Но она была не такова. Она пошатнулась, но не позволила себе упасть. Она собралась с силами, ухватилась своими миниатюрными ручками за руки сыщика, сжала их и стала плакать.
— Объясните, ради бога, — сказала она. — что все это значит? Не известно ли вам содержание этой записки?
— Увы… — отвечал он.
— Проспера хотят арестовать, его обвиняют в воровстве!..
— Да… Предполагают, что он украл из кассы триста пятьдесят тысяч франков.
— Это ложь! — воскликнула молодая женщина. — Это бесчестно и нелепо. Проспер — и вдруг украл! Какой это вздор! Красть! Да я для чего? Разве у него нет денег?
— Это совершенно верно, сударыня… — подтвердил и сыщик. — Но утверждают, что господин Бертоми вовсе не так богат и что, кроме жалованья, у него ничего больше и нет.
Этот ответ смутил госпожу Жипси.
— Однако же, — возразила она, — я всегда видела у него много денег! Небогат… Как же тогда…
Она не докончила фразу, посмотрела на Фанферло, и глаза их встретились.
«Так это, значит, он воровал для меня, для моих прихотей?…» — говорил ее взгляд.
«Может быть!» — ответил ей взгляд Фанферло.
Но уже через десять секунд к молодой женщине вернулось все ее прежнее самообладание. Сомнение оставило ее.
— Нет! — воскликнула она. — К несчастью, Проспер никогда не украл бы для меня. Кассир полными горстями мог бы загребать для любимой женщины из кассы, порученной ему целиком, и его оправдали бы за это все, — но Проспер не таков: он меня не любит и никогда не любил. Для меня он воровать не станет!
— Подумали ли вы о том, что говорите? — возразил Фанферло.
Она печально покачала головой; слезы застилали блеск ее прекрасных глаз.
— Да, подумала, — отвечала она, — и это так на самом деле. Он готов исполнить малейшую мою прихоть, скажете вы? Что ж из этого? Если я говорю, что он меня не любит, то я в этом совершенно убеждена и сознаю это. Только один раз в моей жизни меня любил один господин всей душой, и за это я страдаю теперь вот уже целый год, так как поняла теперь сама, какое несчастье приносит любовь без ответа. А в жизни Проспера я — ничто, так — случайный эпизод.
— Тогда зачем же он живет с вами?
— Зачем… Вот уже целый год как я напрасно ломаю себе голову над этим вопросом, таким ужасным для меня, а я ведь женщина!.. Я наблюдала за ним, как только может наблюдать женщина за человеком, от которого зависит ее судьба, но — напрасный труд! Он добр, мил, но это и все. У него слишком сильная воля. Это не человек, а сталь!
В порыве чувств Нина позволила заглянуть к себе в самую глубину души человеку, которому доверяла и в личных качествах которого нисколько не сомневалась, хотя он был ей совершенно незнаком. Она видела в нем друга Проспера, и этого было для нее совершенно достаточно.
Что касается Фанферло, то он внутренне восхищался собой, своим счастьем и умением обращаться с людьми. Нина дала ему самые драгоценные указания; теперь он знал отлично, с каким человеком имел дело, а это было уже половиной успеха.
— Говорят, что Бертоми игрок? — спросил он как бы вскользь.
Госпожа Жипси пожала плечами.
— Да, он играет… — ответила она. — На моих глазах он выигрывал и проигрывал громадные суммы без малейшей тревоги. Он играет без страсти, без увлечения, без удовольствия, точно обедает или пьет. Нет, он играет, но он не игрок. Иногда я боюсь его: мне представляется, что это тело без души. И этот человек мог бы украсть! Какой вздор!
— А он никогда не говорил вам о своем прошлом?
— Он?… Да ведь я же говорила вам, что он меня не любит!
Она заплакала, и крупные слезы медленно покатились у нее по щекам.
— Но я люблю его! — воскликнула она, и глаза ее засветились. — И я должна спасти его! О, я сумею говорить и с ничтожеством — патроном, который его обвиняет, и перед судом, и перед всем светом! Пойдемте, милостивый государь, и вы увидите, что еще до наступления вечера или он будет освобожден, или же вместе с ним буду арестована и я.
Фанферло постарался успокоить ее.
— Чего вы достигнете этим, сударыня? — сказал он ей. — Ровно ничего. Поверьте мне, успех сомнителен и вы этим только скомпрометируете себя. Кто поручится в том, что вас не примут за соучастницу господина Бертоми?
Но то что испугало Кавальона, что заставило его так трусливо отдать порученную ему записку, только подстрекнуло энтузиазм госпожи Жипси и заставило ее следовать вдохновению сердца.
— Ничего я не боюсь! — воскликнула она. — Я не верю этому, а если бы это так и случилось, то и отлично: он оценит мою попытку спасти его. Я уверена в его невиновности, а если он и виновен, пусть так: я разделю с ним его судьбу!
Настойчивость Жипси становилась небезопасной. Она торопливо набросила на плечи манто, надела шляпу и, как была, в пеньюаре и в туфлях, готова была идти ко всем судьям Парижа.
— Едемте! — сказала она нетерпеливо.
— Я к вашим услугам, сударыня, — ответил Фанферло. — Поедемте. Но только, пока не поздно, позвольте вам заметить, что мы этим окажем Просперу очень плохую услугу.
— Почему? — спросила она.
— А потому, что он, вероятно, уже выработал свой план защиты. Знаете ли вы, что, явившись к нему в то самое время, как он приказывает вам скрыться, вы тем самым, быть может, разрушите его самые надежные средства к самозащите?
Госпожа Жипси помедлила немного. Она оценивала значение слов Фанферло.
— Во всяком случае, — возразила она, — я не могу сидеть здесь сложа руки, не попытавшись хоть чем-нибудь спасти его. Этот пол жжет мне ноги, понимаете ли вы это?
Но было очевидно, что если она и не совсем была убеждена, то во всяком случае решимость ее была поколеблена. Сыщик понял это, что и придало его действиям большую свободу и его словам больший авторитет.
— Сударыня, — обратился он к ней. — У вас в руках очень простое средство помочь человеку, которого вы любите.
— Какое? Говорите!
— Повиноваться ему, дорогое дитя мое…
Жипси ожидала совсем другого.
— Повиноваться!.. — прошептала она. — Повиноваться…
— В этом ваша обязанность, — продолжал серьезно и с достоинством Фанферло, — священная обязанность.
Она все еще колебалась, а он взял со стола записку от Проспера и сказал:
— Взгляните! Господин Бертоми в ужасный момент своего ареста указывает вам, как поступить, и вы не хотите придавать значения этому разумному предостережению. Что он здесь пишет? Прочтемте вместе эту записку, прямо свидетельствующую о его просьбе. «Если ты любишь меня, — пишет он, — то повинуйся мне». А вы отказываетесь повиноваться. «От этого, быть может, зависит моя жизнь», пишет он далее. Значит, вы не любите его? Несчастное дитя, разве вы не понимаете, что, советуя вам бежать, спрятаться, господин Бертоми имеет на то свои основания, быть может, тяжкие, крайние…
Жипси была достаточно умна, чтобы понять эти слова.
— Основания!.. — сказала она. — Значит, ему необходимо, чтобы наш роман был тайной для всех? Да, я понимаю теперь, я догадалась! Совершенно верно! Мое присутствие здесь, где я живу целый год, может послужить для него тяжким обвинением. Будут придираться ко всему, чем я владею, к моим платьям, кружевам, драгоценностям, и благодаря этой роскоши обвинят его. Станут спрашивать его, откуда он брал столько денег, чтобы удовлетворить мои прихоти — это ужасно!
Сыщик утвердительно кивнул головой.
— В таком случае надо бежать, бежать поскорее, и кто знает, быть может, полиция уже стоит на пороге, сейчас войдет сюда…
И, оставив сыщика одного, Нина бросилась в будуар, кликнула к себе девушку, кухарку и казачка и стала поспешно укладываться.
— Все готово, — сказала она сыщику через минуту. — Куда теперь ехать?
— А разве господин Бертоми не указывает вам этого, сударыня? Куда-нибудь на другой конец Парижа, в какие-нибудь меблированные комнаты или в гостиницу…
— Но я не знаю ни одной.
— Я могу указать вам одну гостиницу, но, боюсь, она не понравится вам. Там уж такой роскоши не найдете… Но зато благодаря моей рекомендации вы будете там скрыты совершенно и там будут обращаться с вами, как с маленькой королевой.
— А где это?
— На краю света, набережная Сен-Мишель, гостиница «Архистратиг», у госпожи Александры…
— Вот перо и чернила. Пишите рекомендацию!
Он исполнил приказание.
— С этими тремя строчками, сударыня, — сказал он, — вы можете вить из госпожи Александры веревки.
— Отлично! Теперь каким образом передать мой адрес Кавальону? Он должен доставлять мне письма от Проспера…
— Я постараюсь найти его и передам ему ваш адрес сам.
Жипси послала за каретой, и Фанферло сам вызвался нанять ее. Когда он вышел на улицу, счастье и здесь не изменило ему: мимо дома проезжал извозчик. Он остановил его.
— Сейчас ты повезешь одну даму-брюнетку, — сказал он ему, записав предварительно его номер. — Она выйдет сейчас с чемоданами. Если она прикажет тебе везти ее на улицу Сен-Мишель, то ты пощелкай мне бичом. Если же она даст тебе другой адрес, то ты слезь с козел, точно бы для того, чтобы поправить упряжь. Я буду за тобой наблюдать издалека.
И он пошел на другую сторону улицы и спустился в погребок.
Ему недолго пришлось ожидать. Скоро громкие удары бича раздались в молчании улицы: Нина отправлялась в гостиницу «Архистратиг».
— Клюет! — радостно воскликнул сыщик. — Теперь она у меня в руках.
Глава IV
В то самое время, когда госпожа Жипси отправлялась искать убежища в гостинице «Архистратиг», указанной ей сыщиком Фанферло, Проспер Бертоми был доставлен в сыскную полицию.
Стояло превосходное время. Весенний день в полном своем блеске. Всю дорогу, пока экипаж ехал по улице Монмартр, Проспер то и дело высовывал голову из окна, глубоко сожалея о том, что ему придется сидеть в тюрьме именно теперь, когда так ласково солнце и когда так хорошо в природе.
— На улице так отлично, — проговорил он, — что никогда еще я не чувствовал такой зависти к прохожим, как сейчас.
— Я понимаю вас, — ответил ему один из сопровождавших его полицейских.
В сыскной полиции, как только закончились формальности передачи с рук на руки, Проспер на все предложенные ему необходимые вопросы отвечал свысока, с некоторой долей презрения. А когда ему предложено было вывернуть свои карманы и уже приблизились, чтобы обыскать и его самого, негодование засветилось в его глазах, и холодная слеза скатилась у него из глаз, но тут же и засохла на пылавшей щеке; виден был только один ее блеск. И, подняв кверху руки, он не шелохнулся, когда грубые сержанты с головы до ног стали обшаривать его, в надежде найти под его платьем что-нибудь подозрительное.
Обыск, быть может, зашел бы еще дальше и был бы еще более унизительным, если бы не вмешался один господин средних лет, благородной осанки, который в это время сидел у камина и держал себя так, точно у себя дома.
При виде Проспера в сопровождении полицейских он сделал жест удивления и, по-видимому, был очень этим заинтересован. Он встал, подошел к нему, хотел было ему что-то сказать, но раздумал.
В своем возбуждении кассир и не заметил взгляд этого господина, устремленный на него в упор. Кажется, они где-то встречались?
Этот господин был не кто иной, как знаменитый начальник сыскной полиции господин Лекок.
В ту самую минуту, как агенты покончили уже с обшариванием платья Проспера и готовились стащить с него и сапоги, Лекок сделал им знак и сказал:
— Довольно!
Они повиновались. Все формальности были теперь покончены, и несчастного кассира отвели в узкую камеру; окованная дверь с болтами и решетками заперлась за ним, и он остался один. Он глубоко вздохнул. Теперь, когда он знал, что он один, все его самообладание уступило вдруг место потокам слез, маска бесчувствия ко всему слетела с его лица. Его негодование, сдерживаемое им столько времени, вспыхнуло в нем с тою яростью, с какою вспыхивает пожар, долгое время горящий внутри дома и потом прорывающийся из него наружу. Он неистовствовал, кричал, говорил проклятия и богохульствовал. В припадке дикого безумия он колотил кулаками в стены тюрьмы, от того бессильного безумия, которое овладевает оленем, когда он вдруг видит себя в плену.
Это был уже совсем не тот Проспер, каким он был всегда. Гордый и корректный, он, как оказалось, имел огненный темперамент, и пылкие страсти были ему не чужды.
Когда вечером служитель принес ему поесть, он нашел его лежащим на постели, зарывшим голову в подушку и горько рыдающим. В одиночном заключении он ничего не мог есть. Непреодолимая слабость овладела всем его существом, все его самообладание расплылось в каком-то мрачном тумане.
Пришла ночь, длинная, ужасная, и в первый раз в жизни ему пришлось определять время по мерным шагам часовых. Он страдал.
Под утро он заснул, и, когда светило уже солнце, он еще спал. Вдруг в камере раздался голос тюремщика:
— Пожалуйте на следствие!
Он вскочил..
— Я к вашим услугам, — отвечал он, не стараясь даже приводить в порядок свой туалет.
По дороге тюремщик сказал ему:
— А вам повезло: вам назначили хорошего господина.
Проспера провели по длинному коридору, прошли с ним через какую-то залу, полную жандармов, по какой-то потайной лестнице свели его вниз и повели затем куда-то вверх по узкой, нескончаемой лестнице. Потом они вышли на длинную, узкую галерею, на которую выходило множество дверей с номерами.
Тюремщик, сопровождавший несчастного кассира, остановился перед одной из этих дверей.
— Мы пришли, — сказал он Просперу, — здесь должна решиться ваша судьба.
При этих словах, сказанных не без сострадания, Проспер задрожал.
И было от чего: здесь, за этой дверью, находился человек, который устроит ему допрос, и, судя по тому, что Проспер ему ответит, он будет отпущен на свободу или же вчерашний приказ об аресте обратится для него в приказ о предании его суду.
Но, призвав на помощь все свое самообладание, он взялся уже за ручку двери, как сопровождавший его тюремщик остановил его.
— Подождите еще! — сказал он. — Входить нельзя. Садитесь. Когда настанет ваша очередь, вас позовут.
Кассир сел, и тюремщик поместился рядом с ним. Нельзя было себе представить ничего более ужасного, более жалкого, чем эта мрачная галерея подследственных дел. С одного конца до другого вдоль стены тянулась громадная дубовая скамья, потемневшая от ежедневного употребления. Невольно приходило на ум, что на этой скамье в течение десятков лет пересидело множество подсудимых, убийц и воров, со всего Сенского департамента. Каким-то роковым образом, точно грязь в водосточной трубе, преступление изо дня в день протекало по этой ужасной галерее, которая одним концом вела в камеру предания суду, а другим — на площадку эшафота. Как выразился о ней один первый министр, эта галерея представляла собою большую государственную прачечную, для всей грязи Парижа.
В галерее было оживленно. Скамья была почти вся занята. Сбоку Проспера, касаясь его своими лохмотьями, сидел какой-то оборванец.
Перед каждой дверью толпились свидетели и разговаривали низкими голосами. То и дело входили и выходили жандармы, громко стуча каблуками по плитам пола, вводя и выводя арестантов.
При виде всего этого, в соприкосновении с этой грязью в этой душной атмосфере, полной странных испарений, кассир почувствовал, что сознание оставляет его, как вдруг раздался голос:
— Проспер Бертоми!
Несчастный собрался с силами и, не зная как, вошел в кабинет судебного следователя.
— Садитесь! — сказал ему судебный следователь Партижан. — Внимание, Сиго! — И сделал знак своему секретарю. — Как вас зовут? — обратился он снова к Просперу.
— Огюст-Проспер Бертоми, — отвечал тот.
— Сколько вам лет?
— Пятого мая исполнилось тридцать.
— Чем занимаетесь?
— Кассир банкирского дома Андре Фовель.
— Где вы живете?
— Улица Шанталь, тридцать девять. Уже четыре года. Раньше я жил на бульваре Батиньоль в доме номер семь.
— Где родились?
— В Бокере.
— Живы ваши родители?
— Мать умерла два года тому назад, а отец жив.
— Он в Париже?
— Нет, он живет в Бокере вместе с моей сестрой, которая там замужем за одним из инженеров Южного канала.
— Чем занимается ваш отец?
— Он был смотрителем мостов и дорог, служил также в Южном канале, как и мой зять. Теперь он в отставке.
— Вас обвиняют в похищении трехсот пятидесяти тысяч франков у вашего патрона. Что вы имеете на это сказать?
— Я невиновен, клянусь вам в этом!
— Я очень желаю этого для вас, и вы можете рассчитывать на то, что я всеми силами постараюсь выяснить вашу невиновность. Тем не менее какие факты можете вы привести в свое оправдание, какие доказательства?
— Что же я могу сказать, когда я сам не понимаю, как это случилось! Я могу вам только рассказать всю свою жизнь…
— Оставим это… Кража совершена при таких обстоятельствах, когда подозрение может падать только на вас или на господина Фовеля. Не подозреваете ли вы кого-нибудь еще?
— Нет.
— Если вы считаете невиновным себя, значит, виновен господин Фовель?
Проспер не ответил.
— Нет ли у вас каких-нибудь поводов, — настаивал следователь, — предполагать, что кражу совершил именно сам патрон?
Обвиняемый продолжал молчать.
— В таком случае вам необходимо еще подумать, — сказал ему следователь. — Выслушайте акт вашего допроса, который прочтет вам мой секретарь, подпишите его, и вас опять отведут в тюрьму.
Несчастный был этими словами уничтожен. Последний луч надежды, который мерцал ему в отчаянии, и тот погас. Он не слышал, что ему стал читать Сиго, и не видел того, что ему пришлось затем подписать. Он был так взволнован, выходя из кабинета, что его тюремщик посоветовал ему взять себя в руки.
— Ну что ж тут плохого? — сказал он ему. — Бодритесь.
Бодриться! Проспер был не способен на это вплоть до возвращения в тюрьму. Здесь вместе с гневом его душу наполнила ненависть. Он обещал себе поговорить со следователем, защитить себя, установить свою невиновность, и ему не дали говорить. Он с горечью упрекнул себя в том, что напрасно поверил в доброту судебного следователя.
— Какая насмешка! — сказал он себе. — Ну, что это за допрос! Нет, это не допрос, это одна только пустая формальность!
А если бы Проспер мог остаться в галерее еще хоть на час, то он увидал бы, как тот же самый судебный пристав вышел снова и снова крикнул:
— Номер третий!
Человеком, носившим № 3, был не кто иной, как Андре Фовель, который, поджидая очереди, сидел на той же самой деревянной скамье.
Здесь он вел себя совсем иначе. Насколько у себя в конторе он казался благорасположенным к своему кассиру, настолько здесь, у следователя, он был против него вооружен. И едва только ему были предложены неизбежные при каждом следствии вопросы, как его необузданный характер дал себя знать, и он обрушился на Проспера с обвинениями и даже бранью.
— Отвечайте по порядку, господин Фовель, — обратился к нему Партижан, — и ограничьтесь только моими вопросами. Имеете вы основания сомневаться в честности вашего кассира?
— Определенных — нет! Но я имел тысячи поводов беспокоиться…
— Какие это поводы?
— Господин Бертоми играл. Он целые ночи просиживал за баккара, и стороною я слыхал, что он проигрывал большие суммы. У него — плохие знакомства. Один раз с одним из клиентов моего дома, Кламераном, он был замешан в скандальной истории по поводу игры, затеянной у одной дамы и закончившейся у мирового судьи.
— Согласитесь, милостивый государь, — обратился к нему следователь, — что вы были очень неблагоразумны, чтобы не сказать виноваты сами, поручив вашу кассу подобному господину.
— Проспер не всегда был таким, — отвечал Фовель. — Всего год тому назад он мог служить примером для своих сверстников. В моем доме он был как свой человек, все вечера он проводил у нас, он был близким другом моего старшего сына Люсьена. Затем, как-то вдруг сразу, он перестал нас посещать, и мы перестали видеться с ним. И это тем более странно, что я полагал, что он влюблен в мою племянницу Мадлену.
— Не потому ли господин Проспер и перестал бывать у вас?
— Как вам сказать? Я очень охотно согласился бы выдать за него Мадлену, и, сказать по правде, я ожидал от него предложения. Моя племянница очень желательная партия, он не смел даже надеяться на ответное чувство: она прекрасна и к тому же у нее полмиллиона приданого.
— Какие же поводы у вашего кассира так повести себя?
— Совершенно не знаю. Я полагаю, что его сбил с пути один молодой человек по фамилии Рауль Лагор, с которым он познакомился у меня.
— А кто этот молодой человек?
— Родственник моей жены, красивый, образованный, сумасбродный господин, достаточно богатый для того, чтобы платить за свои сумасбродства.
— Перейдем теперь к фактам. Вы убеждены в том, что кражу совершил не кто-либо из ваших домочадцев?
— Вполне.
— Ваш ключ был всегда при вас?
— Большею частью. Когда я его не брал с собою, я запирал его в один из ящиков письменного стола у себя в спальной.
— А где он находился в ночь кражи?
— В письменном столе.
— В этом-то вся и штука!..
— Виноват, милостивый государь, — перебил его Фовель. — Позвольте вам заметить, что для такой кассы, как моя, недостаточно еще располагать ключом. Необходимо еще знать слово, состоявшее в данном случае из пяти букв. Без ключа еще можно отпереть, но без слова — нельзя.
— А вы никому не сообщали этого слова?
— Никому на свете. Да я и сам иной раз затруднился бы сказать, на какое именно слово была заперта касса, так как Проспер менял это слово по своему усмотрению и сообщал мне его, но я его часто забывал.
— Ну а в ночь кражи вы не забыли его?
— Нет. Слово было изменено только накануне и поразило меня своей оригинальностью.
— Каково было это слово?
— Жипси, ж, и, п, с, и, — отвечал банкир по буквам.
Партижан записал.
— Еще один вопрос, — сказал он. — Накануне кражи вы были дома?
— Нет. Я обедал у одного из своих знакомых и провел вечер у него. А когда я вернулся домой в час ночи, то жена моя уже спала и я сам лег тотчас же.
— И вам совершенно неизвестно, какая сумма находилась в кассе?
— Абсолютно. Судя по ордерам, я могу предполагать, что там находилась сумма небольшая: я заявил о ней полицейскому комиссару, и господин Бертоми признал ее.
Партижан молчал. Для него дело представлялось так: банкир вовсе не знал, было ли у него в кассе 350 тысяч франков или нет, а Проспер сделал ошибку в том, что взял их из банка.
Отсюда нетрудно было вывести заключение.
Видя, что он молчит, банкир хотел было высказать все, что накопилось у него на душе, но следователь остановил его, приказал ему подписать акт допроса и проводил его до дверей своего кабинета.
— Выслушаем других свидетелей, — сказал Партижан.
Четвертым номером был Люсьен, старший сын Фовеля.
Этот молодой человек сообщил, что он очень любит Проспера, с которым состоит в дружбе, и что знает его как человека в высокой степени честного, неспособного даже на простую неделикатность. Он сказал, что до сих пор не может понять, под влиянием каких именно обстоятельств Проспер вдруг стал причастен к этой краже. Он знал, что Проспер играет, но не в таких размерах, как ходят о том сплетни. Он никогда не замечал, чтобы Проспер жил не по средствам.
Что касается Мадлены, то свидетель сообщил следующее:
— Я всегда думал, что Проспер влюблен в Мадлену, и до самого вчерашнего дня был глубоко убежден, что он на ней женится, так как знал, что мой отец не будет препятствовать этому браку. Я допускаю, что Проспер и моя кузина могли поссориться, но вполне убежден, что все у них кончилось бы примирением.
Люсьен расписался под своими показаниями и вышел.
Ввели Кавальона.
Представ перед следователем, бедный малый имел необычайно жалкий вид.
Под большим секретом он сообщил накануне одному из своих приятелей приключения свои с сыщиком, и тот обрушился на него с насмешками за его трусость. И теперь его снедали угрызения совести, и он всю ночь протосковал, считая себя погубителем Проспера. На допросе он не обвинял Фовеля, но твердо заявил, что считает кассира своим другом, что обязан ему всем, что имеет, и что убежден в его невинности столько же, сколько и в своей лично.
После Кавальона были допрошены еще шесть или восемь приказчиков из банкирской конторы Фовеля; но их показания оказались несущественными.
Затем Партижан позвонил судебному приставу и сказал ему:
— Немедленно позовите ко мне Фанферло!
Сыщик уже давно дожидался этого, но встретив в галерее одного из своих коллег, отправился с ним в кабачок, и судебный пристав должен был сбегать за ним туда.
— До каких пор еще дожидаться вас? — сурово спросил его судебный следователь.
— Я был занят делом, — отвечал Фанферло в свое оправдание. — Я даром времени не терял.
И он рассказал ему о своих похождениях, как он отнял записку у Кавальона, показал ее следователю, вторично стянув ее у Жипси, но ни одним словом не обмолвился о Мадлене. Под конец он сообщил следователю кое-какие биографические сведения о Проспере и о Жипси, которые ему удалось собрать мимоходом. И чем далее он рассказывал, тем в Партижане все более складывалось убеждение, что Проспер виновен.
— Да, это очевидно… — бормотал он. — Только вот что, — обратился он к Фанферло, — не упускайте из виду этой барышни Жипси; она должна знать, где сейчас находятся деньги, и она поможет вам их найти.
— Господин следователь может быть вполне покоен, — отвечал Фанферло. — Эта дама в хороших руках!
Оставалось теперь допросить только двух свидетелей, но они не явились. Это были: артельщик, посланный Проспером в банк за деньгами, и Рауль Лагор. Первый из них был болен. Но и их отсутствие не помешало делу Проспера сделаться толще, а в следующий понедельник, то есть на пятый день кражи, Партижан уже был убежден, что в его руках должно находиться уже достаточно моральных доказательств, чтобы предать обвиняемого суду.
Глава V
В то время как вся жизнь Проспера была предметом мельчайших обсуждений, он сидел в секретной камере тюрьмы.
Два первых дня прошли для него еще не так заметно. Ему дали несколько листов пронумерованной бумаги, и в них он записывал все, что восстановила ему память и что он находил необходимым для своей защиты. На третий же день он начал беспокоиться, не видя никого, и, когда к нему приходил тюремщик и приносил ему поесть, он всякий раз спрашивал его, когда же наконец его вызовут еще раз?
— Дойдет очередь и до вас, — неизменно отвечал ему тюремщик.
Время шло, и несчастный, страдая от мук неизвестности, которые подламывают даже самые сильные натуры, приходил в отчаяние.
— Когда же этому будет конец? — восклицал он.
Но о нем не забыли. В понедельник утром, в неуказанное время, он услышал, как отпирается дверь его кельи. Одним прыжком он был уже около нее. Но, увидя на пороге седовласого старика, он остановился как вкопанный.
— Отец! — воскликнул он. — Отец!
— Да, отец… — отвечал пришедший.
Но вслед за удивлением Проспером овладела безграничная радость. Не раздумывая долго, он широко раскрыл объятия, чтобы броситься отцу на шею.
Но господин Бертоми оттолкнул его.
— Подожди! — сказал он.
Он вошел в камеру, и вслед за ним затворилась дверь. Отец и сын остались одни: Проспер уничтоженный и подавленный, а господин Бертоми полный гнева и угроз.
Отвергнутый этим последним своим другом, отцом, несчастный кассир в ужасном отчаянии едва владел собою.
— И ты тоже! — воскликнул он. — И ты! Ты поверил, что я преступен…
— Избавь меня от этой гнусной комедии, — перебил его господин Бертоми. — Я знаю все.
— Но я невиновен, отец, клянусь тебе покойной матерью!
— Несчастный, не кощунствуй! Твоя мать умерла, и я не ожидал, что настанет день, когда я возблагодарю Бога за то, что ее нет в живых. Твое преступление убило бы ее!
Последовало продолжительное молчание.
— Ты убиваешь меня, отец, — воскликнул наконец Проспер, — и это в ту минуту, когда мне нужно все мое самообладание, так как я стал жертвой какой-то подлой интриги.
— Жертвой!.. — усмехнулся господин Бертоми. — Хороша жертва!.. Значит, ты хочешь запятнать своими инсинуациями почтенного, доброго человека, который столько заботился о тебе, который оказал тебе столько благодеяний, который обеспечил тебе такое блестящее положение и предоставил тебе то, о чем ты даже и не смел мечтать… Довольно одной кражи, не позорь его!
— Ради бога! Отец, дай мне высказать тебе…
— О чем? Ты, быть может, хочешь отрицать благодеяния своего патрона? Однако же ты так был убежден в его расположении, что как-то даже приглашал меня в Париж, чтобы испросить у него для тебя руку его племянницы? Так, значит, и это была ложь?
— Нет, — отвечал Проспер, — нет…
— Это было год тому назад. Тогда ты любил еще Мадлену, по крайней мере ты мне так писал…
— Но я люблю ее, отец, и теперь больше, чем когда-либо! Я не переставал ее любить!
Господин Бертоми посмотрел на него с презрительным сожалением.
— Действительно так! — воскликнул он. — И все-таки мысль об этой чистой, непорочной девушке, которую ты любил, не остановила тебя от скандалов и дебошей? Любил! И ты осмеливался не краснея являться к ней после той подлой компании, с которой ты проводил время?
— Ради самого Бога! Дай мне объяснить тебе, почему Мадлена…
— Довольно, милостивый государь, довольно! Я знаю все, я уже предупреждал тебя об этом. Вчера я виделся с твоим патроном. Сегодня утром я говорил с твоим судебным следователем, и только благодаря его любезности меня допустили к тебе в тюрьму. Знаешь ли ты, что для этого меня обыскали, почти раздели донага!
Проспер больше не возражал. Он в отчаянии опустился на табурет.
— Всю нашу роскошь, — продолжал отец, — составляла честность. Ты первый из всей нашей семьи завел себе дорогие ковры работы Обюсона, и ты первый же из всего нашего рода оказался вором!
Кровь бросилась Просперу в лицо. Но он не тронулся с места.
— Я явился сюда не для упреков, — продолжал отец, — я пришел сюда для того, чтобы, насколько возможно, спасти еще нашу честь, чтобы наша фамилия не попала в один список с именами убийц и воров. Встань и выслушай меня.
Проспер повиновался.
— Прежде всего, — спросил его господин Бертоми, — сколько еще осталось у тебя от тех трехсот пятидесяти тысяч франков?
— Еще раз, отец, еще раз уверяю тебя, — отвечал несчастный, — что я невиновен.
— Я ожидал этот ответ. Наша семья все заплатит твоему патрону!
— Как? Что ты говоришь?
— Как только ты совершил преступление, твой зять возвратил мне приданое твоей сестры: семьдесят тысяч франков. Со своей стороны я даю сто сорок тысяч франков. Это составит двести десять тысяч франков, которые я взял с собою и отдам их господину Фовелю.
Эта угроза вывела Проспера из оцепенения.
— Ты не сделаешь этого! — воскликнул он с трудно скрываемым гневом.
— Я сделаю это сегодня же. В остальной сумме господин Фовель поверит мне. Мою пенсию составляют полторы тысячи франков, но я могу прожить на пятьсот, я еще могу заработать; с своей стороны твой зять…
Господин Бертоми следил за выражением лица своего сына. Гнев, граничивший с безумием, исказил его черты. Его потухшие глаза засветились.
— Ты не имеешь права, отец! — закричал он. — Нет, ты не имеешь права так поступать! Хорошо, не верь мне! Но кто убедил тебя в том, что я действительно виновен? Кто? В то время как сам суд медлит еще признать меня вором, ты, мой отец, спешишь с этим, более безжалостный, чем сам суд. Ты произносишь надо мной приговор, не выслушав меня!
— Я исполню свой долг.
— Я стою на краю пропасти, и ты толкаешь меня туда. И это ты называешь своим долгом! Неужели для тебя нет разницы между мной, уверяющим тебя, что я невиновен, и чужими для тебя людьми, которые меня обвиняют? Да уж сын ли я тебе? Ты говоришь, что затронута наша честь. Пусть так. Но ведь разумнее было бы поддержать меня, помочь мне, чтобы именно я лично мог выгородить нашу честь и спасти ее.
— Все против тебя!
— Ах, отец! Ты не знаешь, что с некоторых пор я должен был избегать Мадлену. Я был в отчаянии, я искал повсюду забвения. Мне хотелось забыть о самом своем существовании, я искал дурного общества и стыда. О Мадлена! Все против меня — что ж за важность! Я докажу, что я невиновен, или же погибну с этим пятном. Ведь бывают же судебные ошибки! Невиновный, я, быть может, даже буду осужден. Пусть будет так, пусть подвергают меня наказанию! Но убегают и с каторжных работ!..
— Несчастный, что ты говоришь?…
— Я говорю, отец, что теперь уж я совсем не тот, что был до сих пор. Отныне целью моей жизни будет мщение. Я жертва подлой интриги. До последней капли крови я буду разыскивать виновного. И я найду его, и он искупит все мои мучения, всю боль моей души. Он в доме Фовеля, вот где надо его искать!
— Перестань! — воскликнул господин Бертоми. — Гнев ослепляет тебя!
— Да, я понимаю тебя, — продолжал Проспер, — ты пришел сюда, чтобы сказать, что все добродетели нашли себе убежище под патриархальной кровлей Фовелей? Как бы не так! Под личиной честности скрываются иногда большие пороки. Почему вдруг ни с того ни с сего Мадлена запретила мне даже и мечтать о ней? Для какой цели она обрекла меня на изгнание, когда оно причиняет и ей самой такие же страдания, как и мне, когда она любит меня, — понимаешь? — еще любит меня! Я убежден в этом, у меня есть на это доказательства.
Назначенное для свидания время закончилось, и вошедший тюремщик объявил, что пора его прекратить.
Тысяча самых различных чувств наполняла сердце бедного старика и лишала его возможности соображать. Что, если Проспер говорит правду? А кто может доказать, что он говорит именно неправду?
Голос сына, с которым он за все время свидания был так жесток, разбудил в нем нежные отеческие чувства, так что их пришлось силою подавлять в себе. Что бы ни случилось, был ли Проспер виновен, или нет, он все-таки был его сын! Старик не хотел быть жестоким, он хотел войти к нему строгим и обиженным, каковым и вошел. Теперь же сердце его размягчилось, он открыл Просперу свои объятия и прижал его к груди.
— Сын мой! — бормотал он, расставаясь. — Что, если бы это была правда!
Двери камеры отворились почти тотчас же вслед за уходом отца, и, как и в первый раз, раздался голос тюремщика:
— Пожалуйте к допросу!
Проспер повиновался. Но походка его уже была не та, что прежде: большая перемена произошла в нем, он гордо выступал вперед и огонь решимости теперь светился в его глазах.
Теперь уж он знал дорогу и поэтому шел немного впереди своего конвойного. Когда они проходили через нижнюю залу с сыщиками и жандармами, Проспер опять повстречался с тем господином в золотых очках, который так пристально смотрел на него тогда в канцелярии.
— Бодритесь, господин Проспер Бертоми! — обратился к нему этот господин. — Если вы действительно невиновны, то это вам поможет!
Проспер в удивлении остановился. Он хотел ему что-нибудь ответить, но господин этот скрылся.
— Кто это? — спросил он у конвойного.
— Как! Вы его не знаете? — ответил конвойный в глубоком удивлении. — Да ведь это господин Лекок, сыщик!
— Что же это за Лекок?
— Это человек, с которым тягаться еще никто не вышел носом! Ему все известно! Если бы вы попали к нему, а не к этому сахару-медовичу Фанферло, то ваше дело было бы уже давно решено. Ему за ним не угнаться! А точно мне показалось, что вы с ним знакомы?
— Пока сюда не попал, я его ни разу не встречал.
— Да в этом вовсе и нет надобности. Никто на свете не видал господина Лекока в настоящем виде. Сегодня он один, а завтра — другой. Сегодня черный, а завтра — рыжий. То он молодой, а то — столетний старикашка. Да взять хоть бы меня! Ведь как он меня проводит! Подходишь к чужому, что, мол, ему угодно, а глядь — это он! Да если бы мне сейчас сказали, что вы — это он, я и тогда поверил бы: очень возможно! Ах, что только он из себя не выделывает!..
В это время они вошли в галерею судебных следователей.
На этот раз Просперу не пришлось дожидаться очереди на позорной скамье: его поджидал сам следователь. Нетрудно догадаться, что свидание отца с сыном устроил сам Партижан: ему нужно было угадать душу обвиняемого. Он был убежден, что между отцом, этим человеком редкой честности, и его сыном, обвиненным в воровстве, должна была произойти раздирающая душу сцена, и он думал, что эта сцена сломит упорство Проспера. Каково же было его удивление, когда он увидал кассира выступающим гордой поступью, с твердым и уверенным взглядом, но без всякого вызова или бравирования положением.
— Ну что же, вы решились? — спросил он его тотчас же.
— Невиновному не на что решаться, — отвечал обвиняемый.
— Значит, тюрьма оказалась для вас плохой советницей? Вы забыли, что только искренность и раскаяние могут заслужить для вас прощение у судей?
— Я не нуждаюсь ни в помиловании, ни в прощении.
Партижан сделал жест досады. Он немного помолчал и потом вдруг неожиданно спросил:
— А куда девались триста пятьдесят тысяч франков?
Проспер покачал печально головой.
— Ах, если бы это знать! — отвечал он просто. — Тогда бы я находился не здесь, а на свободе.
— Значит, вы упорно стоите на своем? Вы продолжаете обвинять вашего патрона?
— Его или кого-нибудь другого.
— Виноват!.. Только он один, понимаете ли, один только он знал слово. Был ли ему интерес обворовывать самого себя?
— Я долго искал этот интерес и не мог найти его.
— Отлично! Этот интерес имели только вы! Украли вы!
Партижан говорил так, точно был убежден в этом, на самом же деле он сомневался. Оставалось только последнее средство — это огорошить обвиняемого, который своим спокойствием и решимостью защищаться до конца попортил ему столько крови.
— А ну-ка, скажите, сколько денег вы потратили в этом году? — задал он вопрос, едва сдерживая себя от гнева.
Просперу не нужно было для этого ни воспоминаний, ни счетов.
— Извольте, — тотчас же ответил он. — Обстоятельства были настолько исключительны, что я достаточно-таки порастряс свои деньги: я потратил их около пятидесяти тысяч франков.
— Откуда же вы их взяли?
— Прежде всего у меня было двенадцать тысяч франков, доставшиеся мне по наследству от матери. Затем я получил от господина Фовеля жалованье и за участие в прибылях предприятия четырнадцать тысяч франков. Восемь тысяч я выиграл на бирже. Остальное я взял взаймы, состою должным в этой сумме и могу уплатить ее немедленно из тех пятнадцати тысяч, которые имею на текущем счету у господина Фовеля.
— А кто вам давал взаймы?
— Рауль Лагор.
Этот свидетель, отправившийся путешествовать, как нарочно, в день кражи, не мог быть допрошен.
— Хорошо, — сказал Партижан. — Поверю вам на слово. Объясните мне теперь, почему вы, вопреки формальным приказаниям вашего патрона, взяли из банка деньги накануне, а не в самый день платежа?
— Господин Кламеран дал мне знать, — отвечал Проспер, — что для него будет приятно и даже полезно получить свои деньги именно рано утром. Если вы допросите его, он подтвердит вам это. С другой стороны, я знал, что явлюсь на службу несколько позднее обыкновенного.
— Господин Кламеран ваш друг?
— Нисколько. Наоборот, я должен сознаться, что чувствую к нему необъяснимое отвращение, — я заявляю об этом. Он очень близок с Лагором.
— Как вы провели вечер накануне преступления?
— По выходе со службы, в пять часов, я взял билет на Сен-Жерменском вокзале и поехал в Везине на дачу к Раулю Лагору. Я отвез ему полторы тысячи франков, которые он ожидал от меня, но, не застав его дома, я вручил их его лакею.
— А вам не сказали там, что господин Лагор отправляется в путешествие?
— Нет. Я даже не знаю сейчас, в Париже он или нет.
— Отлично. Что вы делали затем?
— Я вернулся в Париж и обедал в ресторане с одним из приятелей.
— А потом?
Проспер помедлил.
— Вы молчите, — обратился к нему Партижан. — Тогда позвольте мне рассказать вам, как вы проводили ваше время. Вы возвратились к себе на улицу Шанталь, оделись и отправились на вечеринку к одной из тех дам, которые называют себя артистками, но только позорят свои театры, получая от них в жалованье гроши, а тем не менее заводя себе экипажи и лошадей. Вы были у мадемуазель Вильсон!
— Совершенно верно.
— У мадемуазель Вильсон идет большая игра?
— Иногда.
— В таких компаниях вы — свой человек. Не были ли вы замешаны в одной скандальной истории, имевшей место у одной из дам такого сорта по фамилии Кресченди?
— Я фигурировал только в качестве свидетеля, будучи очевидцем шулерства.
— Значит, игра велась не без шулеров! Вы у мадемуазель Вильсон не играли в баккара? Не проиграли ли вы там тысячу восемьсот франков?
— Виноват, господин следователь, — всего только тысячу сто франков.
— Пусть будет так. Утром в день преступления вы уже заплатили тысячефранковый билет.
— Да.
— Кроме того, пятьсот франков у вас было в письменном столе и четыреста оказалось в вашем кошельке в момент вашего ареста. Таким образом, в ваших руках в течение каких-нибудь двадцати четырех часов обернулось четыре тысячи пятьсот франков…
Проспер не оробел, но был поражен. Он не сомневался в могуществе парижской тайной полиции, но такие обширные сведения, добытые в такой короткий срок, поставили его в тупик.
— Ваши сведения совершенно достоверны… — сказал он наконец.
— Откуда вы взяли эти деньги, когда накануне только не могли их уплатить? — продолжал допрос Партижан.
— При участии одного биржевого маклера я продал кое-какие ценные бумаги на сумму около трех тысяч франков. Кроме того, я взял из кассы в счет своего жалованья две тысячи франков. Мне нечего скрывать от вас.
— А если вам нечего скрывать, то почему же вот эта самая записка, — и Партижан показал записку к Жипси, — так таинственно была передана вами одному из ваших сослуживцев?
На этот раз удар был нанесен метко. Под взглядом следователя Проспер опустил глаза.
— Я думал… — пробормотал он. — Я хотел…
— Вы хотели скрыть свою любовницу!
— Да! Да, это верно! Я знал, что при обвинении такого человека, как я, все мои слабые стороны, все мои малейшие недостатки будут раздуты в тяжкую преступность.
— Иначе говоря, вы поняли, что присутствие у вас женщины даст большие поводы к вашему обвинению. Вы живете с этой дамой?
— Я еще молод, господин судебный следователь…
— Довольно! Человек, хоть сколько-нибудь уважающий себя, не станет жить с такою дрянью. Значит, вы настолько пали, что снизошли до нее.
— Милостивый государь!..
— Вероятно, вы знаете, что это за дама?
— Госпожа Жипси до знакомства со мной была учительницей. Она родилась в Порто и приехала во Францию вместе с одной португальской семьей.
Следователь пожал плечами.
— Ее имя вовсе не Жипси, — сказал он. — Она никогда не была учительницей и никогда не была родом из Португалии.
Проспер хотел возражать, но Партижан раскрыл лежавшее перед ним дело и начал читать.
— Вот послушайте, — сказал он. — Пальмира Шокарель, родилась в Париже в тысяча восемьсот сороковом году от Жака Шокареля, приказчика из похоронных процессий, и от его жены Каролины. Двенадцати лет Пальмира Шокарель была помещена в учение к башмачнику и оставалась у него до шестнадцати. Далее за целый год справок о ней не имеется. Семнадцати лет она поступила в качестве горничной к супругам Домбас, занимавшимся бакалейной торговлей на улице Сен-Дени, и прожила у них три месяца. За этот год она переменила восемь или десять мест. В пятьдесят восьмом году она поступила уже в качестве бонны к одному торговцу веерами в пассаже Шуазель. В конце этого года девица Шокарель поступила на службу к госпоже Нюнэ и отправилась с нею в Лиссабон. Сколько времени она оставалась в Португалии и что там делала? Об этом у меня сведений нет. Наконец в шестьдесят первом она снова появилась в Париже, но тотчас же и была посажена на три месяца в тюрьму. Свое имя — Нина Жипси — она действительно привезла с собой из Португалии.
— Но я вас уверяю… — хотел было возразить Проспер.
— Да, я понимаю, — продолжал следователь, — что эта история гораздо менее романтична, чем та, которую она рассказала вам сама. Ну-с, по выходе Пальмиры Шокарель, или так называемой Жипси, из тюрьмы мы теряем ее из вида, и находим ее вновь только через полгода пристроившейся к некоему приказчику Кальдасу, который пленился ее красотой и устроил ей меблированную квартиру недалеко от Бастилии. Она жила с ним и носила его имя до тех пор, пока не сошлась с вами. Слышали ли вы когда-нибудь об этом Кальдасе?
— Ни разу в жизни…
— Этот несчастный был так в нее влюблен, что, когда она бросила его, сошел с ума от печали. А это был человек полный энергии, неоднократно клявшийся при всех, что убьет того, кто у него ее похитит. Можно полагать, что с тех пор он уже покончил самоубийством. По уходе девицы Шокарель он распродал обстановку и скрылся неизвестно куда. Несмотря на все усилия, найти его не удалось. Вот женщина, с которой вы живете и ради которой вы совершили воровство!..
Партижан ожидал, что Проспер, задетый за живое, издаст крик отчаяния. Однако же тот молчал. Из всего того, что сказал ему следователь, в его голове засело только имя этого несчастного приказчика Кальдаса, покончившего самоубийством.
— Итак, — настаивал Партижан, — вы признаете, что эта женщина погубила вас?
— Я не могу признать этого, — отвечал Проспер, — потому что это не так.
— Тем не менее она была причиной больших издержек с вашей стороны. Вот смотрите. — Он вытащил из дела счет. — За один только минувший декабрь вы уплатили за нее портному Клопену: за два туалета для прогулки — девятьсот франков, за платье для вечеров — семьсот франков, за домино из кружев — четыреста франков…
— Все это я уплатил вполне добровольно, свободно, без всякого понуждения с ее стороны.
Партижан пожал плечами.
— Вы идете против очевидного факта, — сказал он. — Неужели вы станете отрицать, что ради этой девушки вы изменили даже свои привычки и перестали бывать у вашего патрона?
— Это не из-за нее, уверяю вас.
— Тогда почему же вы так сразу, вдруг, порвали отношения с домом, где, казалось, у вас был роман с молодой девушкой, рука которой вам была уже почти обещана? Мне рассказал об этом господин Фовель, да и сами вы писали об этом своему отцу…
— Я имею на это основания, о которых не могу сообщить, — отвечал Проспер дрожащим голосом.
— Значит, вас отстранила сама Мадлена? — продолжал следователь.
Проспер молчал. Он был, видимо, взволнован.
— Говорите же! — настаивал Партижан. — Должен вас предупредить, что именно эта подробность имеет очень серьезное значение в вашем процессе.
— Я буду молчать, даже если бы от этого погиб!
— Ну, берегитесь! С юстицией не шутят!
Партижан помолчал. Он ожидал ответа, но его не последовало.
— Вы упорствуете? — продолжал Партижан. — Отлично! По вашим словам, за последний год вы издержали пятьдесят тысяч франков. По нашим сведениям — семьдесят тысяч. Но возьмем вашу цифру. Ваши ресурсы пришли к концу, ваш кредит исчерпан, продолжать такую жизнь, какую вы вели, не на что. Что вы предполагали делать дальше?
— Я не думал об этом, — отвечал Проспер. — Я руководствовался правилом «живи, пока живется», а потом…
— А потом можно приняться и за кассу?
— Э, милостивый государь, — воскликнул Проспер. — Если бы я был виновен, разве бы я сейчас был здесь? Разве бы я вернулся снова к кассе? Я предпочел бы убежать…
Партижан усмехнулся.
— Поезд идет скоро, — отвечал он, — но телеграф действует еще быстрее. Бельгия под боком, а в Лондоне французского вора находят на пари за двадцать четыре часа. Америка — тоже плохое убежище. Вы для этого достаточно благоразумны. Вы остались в Париже и сказали себе: «Возвращусь-ка я лучше к кассе; а если я и попадусь, то, отсидев три или пять лет в тюрьме, все-таки по выходе буду богат». Очень многие люди, сударь, жертвовали пятью годами своей жизни из-за трехсот пятидесяти тысяч франков.
Проспер подумал, точно желая на это возражать.
— Господин следователь, — обратился он к Партижану. — Есть одна маленькая подробность, о которой я впопыхах забыл упомянуть. Она пришла мне сейчас на память и может послужить мне в защиту.
— Говорите.
— Деньги из банка принес мне артельщик, которого мы туда посылаем всегда. Мне было некогда, и я собирался уже уходить, когда он пришел с деньгами. Я уверен, отлично помню, что прятал деньги именно при нем. Ах, если бы он это заметил! Во всяком случае, я ушел из кассы раньше, чем он.
— Отлично, — сказал Партижан. — Мы его допросим. А теперь отправляйтесь в тюрьму, и предупреждаю вас: подумайте!
Проспера увели, а Партижан поехал в больницу, где лежал артельщик Антонин, так некстати сломавший себе ногу. Он тяжко страдал, но все-таки мог давать ответы. Партижан подсел к его кровати, а Сиго со своими бумагами поместился у маленького столика.
— Мой друг, — обратился следователь к Антонину, — чувствуете ли вы себя настолько хорошо, чтобы давать мне показания?
— Так точно, сударь.
— Это вы были посланы в банк за теми тремястами пятьюдесятью тысячами франков, которые после исчезли?
— Так точно.
— В котором часу вы вернулись?
— Довольно поздно. Было уже пять часов, когда я вернулся к себе в банкирскую контору.
— Не припомните ли вы, что сделал господин Бертоми, когда вы вручили ему деньги? Не старайтесь отвечать сразу, припомните хорошенько…
— Позвольте… Мне припоминается, что сначала он сосчитал деньги, потом разделил их на четыре пакета, затем положил в кассу, а потом… потом он запер кассу, и… да, да… я отлично это помню… он ушел!
— Вы это твердо помните? — спросил его судебный следователь.
— Твердо!.. Да я дам голову на отсечение!
Трудно было настаивать на более точном ответе, и Партижан счел возможным оставить больного в покое.
— Вот это так важно! — говорил он дорогой Сиго. — Это очень, очень ценное показание!
Глава VI
Номера «Архистратига» на набережной Сен-Мишель, куда скрылась госпожа Жипси, содержала мадам Александра, жена Фанферло. В тот момент, когда Партижан отправился в госпиталь, чтобы допросить Антонина, мадам Александра приготовляла для мужа суп и очень удивлялась, что его так долго нет. Вернулся он домой довольно поздно.
— Как ты сегодня запоздал! — воскликнула она, бросившись к нему навстречу.
— Утомился! — отвечал Фанферло. — Целый день играл на бильярде с Эваристом, лакеем Фовеля. Дал ему обыграть себя. Третьего дня я только познакомился с ним, а сегодня уже мы с ним большие приятели. Если бы теперь я захотел поступить к Фовелю на место Антонина, то мог бы рассчитывать на протекцию Эвариста.
— Как! Ты хочешь поступить в артельщики? Ты?…
— Да, если понадобится поближе все узнать у Фовеля и получше изучить всех, кто меня интересует.
— Разве лакей тебе ничего не сообщил?
— Ничего такого, что могло бы для меня быть полезным, а между тем я располагаю им вполне. Этот банкир какой-то невиданный человек! Эварист говорит, что у него нет никаких пороков, никаких грехов. Он не курит, не пьет, не играет, не содержит любовниц. Какой-то святой! Он миллионер, а тратит на себя так мало, как какой-нибудь лавочник. Он влюблен в свою жену, обожает детей. Он часто принимает у себя, но очень редко выезжает сам.
— А его жена молода?
— Лет под пятьдесят.
— А из кого еще состоит семья?
— Один сын — офицер, не знаю в каком полку, об этом не разговаривали. Очень еще молодой. Другой, Люсьен, живет с родителями, хоть он и старший, а, говорят, скромен, как девица.
— Ну а что сама барыня и та ее племянница, о которой ты мне говорил?
— На этот счет Эварист не мог мне ничего ответить.
Госпожа Александра повела плечами.
— Знаешь, что я сделала бы на твоем месте? — спросила она.
— Говори.
— Я посоветовалась бы с Лекоком.
При этом имени Фанферло вздрогнул так, точно над ухом у него выстрелили из пистолета.
— Хорош совет! — воскликнул он. — Ты, вероятно, хочешь, чтобы меня погнали со службы? Стоит только Лекоку усомниться в правильности моих действий, и я пропал.
— А кто тебя заставляет выкладывать перед ним все свои планы? Можно спросить его совета в совершенно индифферентной форме.
Сыщик подумал.
— Может быть, ты и права, — сказал он. — Только Лекок дьявольски хитер, и его не проведешь. Хорошо, я подумаю, увижу… А что наша жиличка?
— Жипси? — переспросила госпожа Александра. — Возбуждена до крайности. Хотела даже пойти устроить Фовелю скандал. А потом раздумала, написала письмо и приказала Жану опустить его в почтовый ящик. Но я перехватила его, чтобы показать тебе.
— Как! — воскликнул Фанферло. — У тебя письмо, и ты до сих пор ничего мне не скажешь о нем? Да ведь в нем, быть может, все решение загадки? Давай его сюда скорее!
Мадам Фанферло отперла комод и достала из него письмо Жипси.
— На! — сказала она. — Ешь его!
На письме был написан следующий адрес: «Господину Кламерану, владельцу рудников. Гостиница „Лувр“ Передать господину Раулю Лагору (очень нужное)».
— Вот так штука! — воскликнул Фанферло.
— Ты хочешь его распечатать? — спросила Александра.
— Немножко, — отвечал ей муж и с удивительным искусством стал отламывать от письма печать.
И они принялись за чтение:
«Господин Рауль!
Проспер сидит в тюрьме по обвинению в краже, которой он не совершал, я убеждена в этом. Вот уже три дня, как я пишу вам об этом…»
— Как! — воскликнул Фанферло. — Эта дура пишет уже не в первый раз и я не видал ее писем?
— Весьма возможно, что она опускала их в ящик сама, — отвечала Александра.
— Очень возможно… — подтвердил и Фанферло и успокоился.
Чтение продолжалось:
«…пишу вам об этом и не получаю от вас ответа. Кто же придет на помощь Просперу, если его покидают даже его лучшие друзья? Если вы оставите без ответа и это письмо, то я буду считать себя свободной от известного вам обещания и сообщу Просперу о том разговоре, который происходил между мною, вами и господином Кламераном. Я буду ожидать вас послезавтра в гостинице „Архистратиг“ в 4 часа пополудни.
Нина Жипси».
Ни слова не говоря, Фанферло снял с этого письма копию.
— Ну-с, что ты на это скажешь? — спросила его Александра.
Фанферло тщательно вложил письмо в конверт и запечатал его. В это время дверь неожиданно отворилась и в ней показался мальчишка.
— Тсс!.. Тсс!.. — предостерег он два раза.
С поразительной быстротой Фанферло скрылся в кабинете, в который вела дверь из столовой. Тотчас же в комнату вошла Жипси.
— Как, дорогое дитя мое! — воскликнула с удивлением госпожа Фанферло. — Вы уходите?
— Да, по делам. Я убедительно прошу вас, если кто-нибудь ко мне придет, попросите его подождать меня.
— Но куда вы идете? В такой час и такая больная?
Жипси с минуту помедлила.
— Ах, — сказала она наконец. — Вы так добры ко мне, что от вас я ничего не скрою. Сейчас посыльный принес мне вот эту записку. Прочтите ее.
— Как! — воскликнула в изумлении Александра. — Посыльный?
— Что ж тут удивительного? — спросила Жипси.
— Нет, так… ничего…
И громким голосом, так, чтобы ее слышал муж в кабинете, госпожа Фанферло стала читать записку:
— «Друг Проспера, который не может ни принять вас у себя, ни лично побывать у вас, должен нечто вам сообщить. Сегодня вечером, в понедельник, как только пробьет девять часов, будьте в бюро омнибусов, которое находится против башни Святого Иакова. К вам подойдет написавший эти строки и передаст вам то, о чем должен вам сказать».
— И вы отправляетесь на это свидание? — воскликнула Александра.
— Конечно.
— Но ведь это очень неблагоразумно, это сумасшествие! Быть может, это для вас западня!
— Ну что ж такое? Я так несчастна, что мне нечего бояться!
И не успела она выйти на улицу, как Фанферло выскочил из своей засады.
— Черт побери! — закричал он. — Что же это у нас за проезжий дом, в котором можно появляться разным рассыльным, точно у себя на площади! Виданное ли это дело! Входит рассыльный, и его никто не замечает! И ты тоже хороша! Вздумала предостерегать эту змею от этого свидания! Разве ты не понимаешь, что я должен знать все, что она от нас скрывает? Помоги мне одеться, а то она меня узнает!
И в одно мгновение, надев парик и нацепив густую бороду, Фанферло стал неузнаваем. Затем он быстро надел блузу и стал походить на одного из тех рабочих, которые вечно просят работы и которым никто ее не дает.
— Не забудь захватить свой открытый лист и кистень!
— Нет, нет… А письмо этой несчастной все-таки опустите в почтовый ящик! До свидания!
И он исчез.
Жипси находилась от него уже на расстоянии восьми или десяти минут, но он ловко выследил ее и пошел за нею. На площади Шатле она сделала два или три тура, прочитала театральные афиши, посидела с минуту на скамье и, наконец, без четверти девять отправилась в бюро омнибусов. Жипси поместилась в дальнем углу, в тени. В бюро толпилось много народу. Люди входили и выходили, выкрикивались номера, и происходила раздача корреспонденции.
Наконец на городской думе пробило девять часов, и в бюро вошел какой-то господин. Не осведомляясь в кассе о доставшемся ему номере места в омнибусе, он подошел прямо к Жипси, поздоровался с ней и сел рядом.
Это был не толстый и не худой господин, высокого роста, с рыжей бородой, не представлявший собою ничего интересного и ничем не отличавшийся от других.
Фанферло уставился на него во все глаза. К несчастью, он не мог ничего услышать из того, о чем они говорили. Все, что ему оставалось сделать, это только догадываться о предмете их разговора по их жестам и по игре их физиономий.
«Экий я идиот! — злился на себя Фанферло. — Занять место так далеко!» И он уже хотел как-нибудь тайком приблизиться к ним, как вдруг высокий господин поднялся с места, подал руку Жипси, которая без церемоний взяла ее, и они вместе направились к выходу.
Подойдя к двери, Фанферло увидал, что высокий господин и Жипси недалеко от бюро омнибусов наняли извозчика и сели в фиакр.
— Превосходно! — пробормотал Фанферло. — Теперь уж они от меня не уйдут. Нечего торопиться!
Фиакр поехал к Севастопольскому бульвару. Он продвигался вперед довольно быстро, но для Фанферло это ничего не значило. Широко расставив локти и еле сдерживая дыхание, он побежал за ним вслед. Однако же, добежав до бульвара Сен-Дени, он стал задыхаться и почувствовал легкую боль в боку, а фиакр тем временем уже въезжал на улицу Форбур-Сен-Мартен. Тогда Фанферло уцепился за его рессоры и примостился на его оси. Здесь было очень неудобно, но он уже не стал рисковать собою, чтобы не потерять из вида фиакр.
— Однако! — усмехнулся он себе в фальшивую бороду. — Хлесткий извозчик!
Наконец экипаж остановился около какого-то кабачка, извозчик слез с козел и пошел выпить.
Сыщик покинул свое неудобное место и, притаившись за дверью, приготовился бежать вслед за высоким господином и Жипси, как только они вылезут из экипажа.
Но прошло пять минут, а они все еще не вылезали.
«Что они там делают?» — подумал сыщик.
И он подкрался к карете и заглянул исподтишка в окно.
Какая подлость! Карета была пуста.
Точно ушат холодной воды сразу вылили на Фанферло. Он остановился как вкопанный и окаменел, как жена Лота.
— Ах, черт возьми! — воскликнул он. — Удрали! Ну, хорошо же!
И он стал быстро соображать, что произошло.
— Очевидно, — пробормотал он, — этот индивидуум и Жипси вошли в одну дверцу кареты, а вышли в другую. Маневр самый элементарный. Но несомненно, что они его задумали еще раньше, так как ожидали погони. А если они боялись погони, то, значит, у них нечиста совесть. Следовательно…
Но тут ему пришла мысль допросить обо всем извозчика. Наверное, ему кое-что известно.
К несчастью, извозчик был очень выпивши и отказался говорить наотрез и так многозначительно помахивал кнутом, что Фанферло счел более благоразумным ретироваться.
Что теперь оставалось ему делать? Вся изобретательность покинула его. Печальный, побрел он домой, и было уже около полуночи, когда он позвонил в свою квартиру.
— Жипси вернулась? — спросил он первым делом.
— Нет, но откуда-то ей принесли два громадных свертка.
Фанферло принялся обшаривать эти свертки. В них находились три костюма, большие сапоги, простые юбки и чепцы.
Сыщик не мог удержаться от негодования.
— Что ж это такое? — воскликнул он. — Она хочет наряжаться? Теперь уж и я теряюсь!
И еще долгое время муж и жена разговаривали об этом приключении, рассматривая дело со всех сторон, изучая его и стараясь найти ему возможное объяснение. Они решили не укладываться спать до тех пор, пока не вернется Жипси, от которой мадам Александра надеялась добиться хотя бы каких-нибудь разъяснений.
Но вернется ли она? Это был еще большой вопрос!
Однако же Жипси вернулась во втором часу ночи. Едва только раздался ее звонок, как Фанферло моментально исчез в своем кабинете и его жена осталась одна.
— Наконец-то! — воскликнула она. — Вот и вы, дорогое, мое дитя! Ну как? Все благополучно? Я так о вас беспокоилась!..
— Благодарю вас за ваше участие ко мне… — отвечала Жипси. — Мне ничего не приносили?
Она вернулась совсем другою, чем ушла из дому: она казалась печальной, но уже не угнетенной, как прежде. После прострации первых дней твердая и бесповоротная решимость сквозила во всей ее фигуре, и глаза засветились блеском.
— Вот принесли вам откуда-то свертки, — отвечала Александра… — Видели вы господина Бертоми?
— Да, и он так успокоил меня, что завтра же, к сожалению своему, я должна с вами распрощаться… Я уезжаю.
— Завтра! — воскликнула госпожа Фанферло. — Разве что-нибудь случилось?
— Ничего такого, что может вас интересовать.
И, отвернув газовый рожок, Жипси многозначительно пожелала ей спокойной ночи и ушла к себе.
— Что ты думаешь об этом? — спросил жену Фанферло, вынырнув из своей засады.
— Что-то невероятное! Сама же зовет сюда на свидание Кламерана и вдруг не желает его дожидаться.
— Очевидно, она теперь презирает нас, она узнала, кто я такой!
— Вероятно, ее просветил в этом ее миленький кассир.
— Ну, кто знает! Я уже начинаю плохо верить в себя.
— Послушайся ты меня, сходи к Лекоку!
Фанферло подумал.
— Ладно! Будь по-твоему! — сказал он. — Я пойду к нему, но только единственно для успокоения совести, потому что где я ничего не вижу, там и он ничего не увидит.
Сыщик плохо спал всю эту ночь или, лучше сказать, не спал вовсе, занятый обдумыванием дела Бертоми, как драматург своей пьесой. Так как Лекока можно было застать только рано утром, то он встал в половине седьмого, наскоро выпил чашку кофе и отправился к знаменитому сыщику.
Ему отворил слуга Лекока, Жануйль, бывший каторжник, вооруженный карабином, преданный своему господину больше, чем собака пастуху.
— Что ж вы тут приросли, что ли? — обратился он к Фанферло. — Входите! Барин занимается в кабинете.
Посреди большой комнаты, довольно странно меблированной, представлявшей собою не то студию ученого, не то уборную актера, сидел за письменным столом тот самый господин в золотых очках, который в кулуарах судебного следствия сказал Просперу Бертоми: «Бодритесь».
Это и был знаменитый сыщик Лекок.
При входе почтительно приближавшегося к нему Фанферло он быстро поднял голову, положил перо и сказал:
— Наконец-то! Небось дело Бертоми не двигается вперед?
— Как? — прошептал Фанферло. — Вам известно…
— Мне известно только то, что ты мастер запутывать дела так, что и сам-то в них после не разберешься.
— Позвольте… Ведь я же…
— Молчи. Ты должен был знать, что в тот самый день, когда тебя пригласил полицейский комиссар исследовать кражу, ты должен был установить, чьим именно ключом, банкира или кассира, была отперта касса.
— Как же это было сделать?
— Ты желаешь объяснений? Изволь. Вспомни-ка о той царапине, которая так привлекла твое внимание на дверце кассы! Она поразила тебя так, что ты не мог удержаться при виде ее от восклицания. Ты тщательно рассматривал ее в лупу и убедился, что эта царапина — свежая, недавняя. Ты признал, и не без основания, что она сделана в момент кражи. Но чем она была сделана? Несомненно, ключом. Поэтому необходимо было тогда же тщательно исследовать оба ключа. На одном из них непременно должны были бы оказаться следы той зеленой краски, в которую выкрашена касса.
Фанферло выслушивал это объяснение, широко разинув рот. При последних словах он звонко ударил себя по лбу и воскликнул:
— Ах я дурак!
— Да, ты дурак! — продолжал Лекок. — Эта же улика сама бросалась тебе в глаза, и ты пренебрег ей и не вывел из нее никакого заключения! А это — самая верная и единственная отправная точка во всем этом деле. И если я найду виновного, то только благодаря именно этой царапине, и я его найду, я хочу этого!
— Значит, вы тоже ведете это дело, патрон? — спросил его Фанферло.
— Может быть. Сядь и расскажи мне все!
С Лекоком нечего было хитрить, и никакие экивоки не привели бы ни к чему. И Фанферло чистосердечно рассказал ему всю правду, что с ним очень редко случалось. Однако в конце рассказа он из суетности покривил душой и умолчал о том, как накануне его провели Жипси и высокий господин.
— Кажется, ты кое-что позабыл, — обратился к нему Лекок. — До каких пор ты следовал за пустой каретой?
Несмотря на свой апломб, Фанферло покраснел до ушей и, как школьник, опустил глаза.
— Как? — прошептал он. — Вам и это известно? Как же вы могли?…
Но вдруг внезапная идея осветила его мозг, он остановился, вскочил со стула и закричал:
— Понимаю!.. Этот высокий рыжий господин — это были вы?
От удивления лицо Фанферло приняло такое странное выражение, что Лекок засмеялся.
— Да, это были вы! — повторил пораженный сыщик. — Вы были этим высоким господином, который мозолил мне глаза и в котором я все-таки вас проморгал! Ах, какой вы удивительный актер, если бы вы знали! А я… я только клоун, и больше ничего!
— А знаешь ли ты, что нужно делать, чтобы тебя никто не узнал? Ты думаешь, что главное — это широкая борода и блуза? Как бы не так! А твои глаза, несчастный! Прежде всего изменяй выражение твоих глаз. В этом весь секрет.
Так вот почему Лекок, у которого глаза были быстрее, чем у рыси, всегда появлялся в официальных местах не иначе, как в золотых очках!
— В таком случае, — обратился к нему Фанферло, — вам, вероятно, известно и то, почему именно Жипси покидает номера «Архистратига», почему она не желает больше свидания с Кламераном и зачем именно ей понадобились костюмы?
— Она поступает так по моему совету.
— В таком случае мне остается только одно удовольствие — это признать себя дураком.
— Нет, нет, — возразил мягким тоном Лекок, — ты не совсем еще дурак. Ты только виноват в том, что взялся за дело, которое тебе не по силам. Ну, подвинул ли ты следствие вперед хоть на один шаг? Нет! А все это оттого, что у тебя не хватает хладнокровия. Прими же от меня в подарок один афоризм, запомни его, и пусть он послужит тебе на пользу: «Кто желает быть первым, пусть будет последним».
— Значит, вам известен уже и виновный?
— Столько же, сколько и тебе, даже меньше: ты уже составил себе хоть какое-нибудь убеждение, а я до сих пор не имею никакого. Ты утверждаешь, что виновен не кассир, а сам банкир, а я даже не берусь сказать тебе, прав ты или не прав. Я взялся за дело уже после тебя и сделал в нем только первые шаги. Я уверен, что самое главное в нем — это одна только царапина на дверце кассы. Вот и все мое убеждение!
Лекок взял со стола сверток, развернул его и разложил перед собою массу рисунков. На одном из них была сфотографирована дверца кассы. Все мельчайшие подробности ее были воспроизведены с громадной точностью. Сразу можно было узнать пять подвижных кнопок с выгравированными на них буквами и узкую замочную скважину, выступавшую бугорком на дверце. Царапина была воспроизведена с замечательной чистотой отделки.
— Вот наша царапина, — указал Лекок. — Она идет сверху вниз, от самой скважины, по диагонали, и — заметь это — слева направо, то есть, другими словами, со стороны двери, ведущей к потайной лестнице из апартаментов банкира.
— Это совершенно верно, — отвечал Фанферло.
— Конечно, ты думаешь, что эту царапину сделал автор кражи? Посмотрим, прав ли ты. У меня есть маленькая железная касса, выкрашенная так же, как и у Фовеля, в зеленую краску. Вот она. Возьми ключ и попытайся-ка ее исцарапать.
Сыщик немедленно повиновался приказанию и с силою стал проводить по краске ключом.
— Черт возьми! — воскликнул он после двух или трех раз. — Краска-то не поддается!
— Совершенно верно. Следовательно, та царапина была сделана не дрожавшею рукою вора, который не попадал, как ты думаешь, в скважину ключом, а кем-то другим.
— Вот так история! — воскликнул пораженный Фанферло. — А мне это даже и в голову не приходило, что кем-то другим.
— Чего тебе! Я и то ломал голову над этим целых три дня и только вчера лишь догадался! Теперь давай вместе исследуем, правильны ли мои предположения, чтобы считать их отправной точкой в моих исследованиях.
И, оставив фотографию, он подошел к двери, которая вела из его кабинета в спальню, достал ключ и сжал его в пальцах.
— Подойди сюда, — обратился он к Фанферло. — Стань здесь, сбоку от меня… так. Предположим теперь, что я желаю отпереть эту кассу, а ты хочешь, чтобы я ее не отпирал. Когда я коснусь ключом скважины, что ты сделаешь первым делом инстинктивно?
— Я схвачусь обеими руками за вашу руку и быстро потащу ее к себе, чтобы вы не попали в замок ключом.
— Совершенно верно. Давай-ка сделаем репетицию!
Фанферло повиновался и ключ который Лекок уже держал у скважины, отдернутый в сторону, скользнул по дверце и провел по ней черту точь-в-точь такую же, как и на кассе Фовеля, сверху вниз и по диагонали справа налево, в том самом виде, как это было указано на фотографии.
— Так, так… — удивился Фанферло.
— Теперь ты понимаешь?
— Понял! Теперь уж поймет и грудной младенец. Ах, какой вы удивительный человек! Точно вы там были сами! Итак — один воровал, а другой удерживал его от этого воровства. У кассы было двое лиц, это так ясно, так очевидно, что теперь уж я и сам убежден…
— Ну а как ты думаешь, какие могут быть последствия от этого предположения?
— Мое чутье не обмануло меня: кассир невиновен.
— Почему?
— Потому что кто ему может помешать открывать кассу, когда ему вздумается? Станет он приглашать свидетеля присутствовать при краже! Как же!
— Совершенно справедливо. Но в таком случае невиновен и банкир! Сообрази-ка хорошенько!
Фанферло подумал, и все его одушевление исчезло.
— Это верно, — сказал он тоном горького разочарования. — Это верно. Но что же теперь нам делать?
— Искать третьего воришку, который теперь расхаживает на свободе.
— Но ведь это же невозможно, невозможно! Ведь только Фовель и его кассир имели ключ, да и то с ним не расставались никогда.
— Извини, пожалуйста, но накануне кражи ключ банкира лежал у него в письменном столе.
— Одного ключа мало, надо было еще знать слово.
— А какое это было слово?
— Жипси.
— Да ведь это имя любовницы кассира! Пожалуйста, подумай получше! В тот день, когда ты найдешь человека, достаточно расположившего к себе Проспера, чтобы выведать от него это слово, и настолько принятого в семье Фовеля, чтобы проникнуть к нему в спальню, — в тот самый день преступник будет у тебя в руках и загадка будет решена.
Эгоист, как и все великие артисты, Лекок не любил ни у кого учиться и не нуждался ни в чьих услугах. Он работал на свой страх, не выносил сотрудников и не желал делиться с ними ни радостями триумфов, ни горестями поражений.
И Фанферло казалось странным, что Лекок, которого он знал так хорошо, обращается к нему не с приказаниями, а с советом.
— Можно подумать, — сказал он, — что в этом деле замешан ваш личный интерес.
Лекок нервно вздрогнул.
— Что это за тон! — строго спросил он. — Кажется, господин Фанферло сует свой нос дальше, чем следует?
Фанферло стал подыскивать извинения.
— Ладно, ладно! — перебил его Лекок. — Я буду головой, а ты руками. Один, с твоими предвзятыми идеями, ты никогда не отыщешь вора. Будем работать вместе, и мы его найдем, — пусть буду я не Лекок!
— Да уж стоит только вам приняться за дело!
— Я уже принялся за него, и вот уже четвертые сутки, как я кое-что узнал. Только помни: у меня есть свои соображения на то, чтобы не выступать в этом деле открыто. Что бы ни случилось, я запрещаю тебе упоминать мое имя. Если мы поймаем вора, успех этот будет принадлежать только тебе. Кроме того, не суйся ты с носом, куда тебя не спрашивают, и довольствуйся только одними моими указаниями.
— Я буду скромен…
— Рассчитываю на это. Для начала же возьми вот эту фотографию кассы и снеси ее к судебному следователю. Ты ему объясни все, точно от себя лично, повтори перед ним в лицах всю ту комедию, которую мы сейчас с тобой разыграли, и — я убежден — он отпустит кассира на волю. Чрезвычайно важно, чтобы Проспер находился на свободе, так как с него-то я и начну свои операции.
Сияя от радости, Фанферло свернул фотографию, взял шляпу и приготовился уже уходить, как Лекок жестом остановил его.
— Я еще не кончил, — сказал он. — Умеешь ты править и ходить за лошадьми?
— Что вы спрашиваете? Да ведь я же раньше служил в цирке Бутора!
— Ну, вот и отлично! Как только отпустит тебя судебный следователь, так ты со всех ног беги домой, переоденься в костюм хорошего слуги и загримируйся и вот с этим письмом отправляйся в контору для найма прислуги, что на углу улицы Делорм… Там тебе дадут место у Кламерана, который ищет себе человека. У него там кто-то получил расчет…
— Виноват, осмелюсь доложить, что вы отступаете от вашего плана. Кламеран, по-видимому, не имеет с этим делом ровно никакой связи, он не друг кассира…
— Делай, что тебе приказывают. Кламеран — не друг Проспера, это верно; но он друг и покровитель Рауля Лагора. А откуда эта дружба? Откуда взялась эта интимность отношений между такими двумя людьми, как эти юноша и почти старик? Это-то и надо разузнать. Надо узнать также и то, почему именно этот владелец коней околачивается здесь в Париже, а не торчит там у себя на заводах? Через тебя я все это узнаю. Он держит лошадей, ты будешь у него кучером, и тем не менее ты должен узнать все про его отношения и о малейших подробностях мне доносить. Еще одно слово. Кламеран — человек очень доступный, но и страшно подозрительный. Ты явишься к нему под именем Жозефа Дюбуа. Он потребует от тебя рекомендаций. Вот три, в которых говорится, что ты служил сперва у маркиза, потом у графа, а затем у барона. Скажешь, что с последнего места ты ушел только потому, что барон уехал в Германию.
— А куда я должен являться с донесениями?
— Я буду сам каждый день приходить к тебе. Впредь до новых моих распоряжений и носа не показывай сюда: он может следить за тобой. Если случится что-нибудь непредвиденное, то телеграфируй жене, а она даст мне знать. Ну, иди… и будь умник!
Как только Фанферло вышел за дверь, Лекок тотчас же бросился к себе в спальню. В мгновение ока он сбросил с себя широкий галстук, золотые очки и, дав свободу своим черным волосам, стал совсем не тем, кем был в официальных отношениях с сослуживцами. Официальный Лекок превратился в Лекока настоящего, которого не знала еще ни одна живая душа на свете: красивый быстроглазый малый с умным, энергичным лицом.
Но он недолго оставался таким. Усевшись за туалетным столом, уставленным разными пастами, эссенциями, румянами и накладками, не хуже, чем у современной барышни, он принялся за приготовление из себя совсем нового лица. И когда он окончил, то это был уже не Лекок, это был тот самый высокий господин с рыжими бакенами, которого не узнал Фанферло.
А Фанферло тем временем не тратил времени попусту. От радости он не бежал, а летел. Наконец-то он мог доказать судебному следователю свою высшую проницательность! И он не обманулся в своих надеждах. Если следователь и не был в нем вполне убежден, то, во всяком случае, он оценил его находчивость в объяснении царапины.
— Вот что я сделаю, — сказал следователь, отпуская Фанферло. — Я представлю в прокуратуру объяснения, достаточные для того, чтобы кассира освободили, и весьма вероятно, что завтра он будет уже на свободе.
И он составил одно из тех ужасных постановлений, которые обвиняемому дают свободу, но не возвращают ему честного имени, так и оставляя его под подозрением.
— Ну-с, — сказал он, обратившись к своему секретарю Сиго, — еще одно преступление, над которым суду не придется произнести своего решения! Еще одно дело, которому суждено исчезнуть в архивах нашей канцелярии!
И, взяв дело Проспера, он обмакнул перо в чернила и на его обложке написал:
Дело № 113
Глава VII
Истекали уже девятые сутки, как Проспер находился в секретной тюрьме, когда в четверг утром явился к нему тюремщик и объявил ему, что он свободен.
Его привели в канцелярию, возвратили ему отобранные у него при обыске часы, кое-какие драгоценности и приказали ему расписаться на большом листе бумаги.
Затем его провели по какому-то темному коридору, очень длинному и прямому, перед ним с шумом растворилась и затворилась дверь, и он оказался на улице.
Он был один и на свободе.
Но что это за свобода! Юстиция только признала себя бессильной доказать преступление, в котором его обвиняли! Теперь он мог идти, куда хотел, вдыхать в себя свежий воздух, но все двери были перед ним заперты. Что это за свобода?
И в этот самый момент, когда ему была возвращена свобода, Проспер вдруг почувствовал весь ужас своего положения и не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:
— Но ведь я же невиновен, невиновен!
Двое прохожих остановились, посмотрели на него и пошли далее: они подумали, что это сумасшедший.
У него есть Сена. Не покончить ли самоубийством?
— Нет! — воскликнул он. — Нет! Я не имею права убивать себя. Нет, я не желаю умирать, пока не докажу, что я невиновен!
Но как это доказать, как убедить в этом всех?
В отчаянии, но не падая духом, он побрел к себе домой. Тысячи беспокойных мыслей приходили ему в голову. Что-то произошло за эти девять дней, пока он был вычеркнут из числа людей? Что, если бы у него были теперь друзья! Но единственный друг — его отец — и тот в самую критическую для него минуту отказался ему поверить.
И он вспомнил о Нине Жипси.
Он не любил ее никогда… Бедная девушка! Бывали моменты, когда он даже ее ненавидел, но сейчас воспоминание о ней наполнило его душу радостью.
Дойдя до улицы Шанталь, он остановился перед своим домом и долгое время простоял в нерешимости, боясь позвонить. Он испытывал стыд человека, который был заподозрен в преступлении, и боялся встретить знакомых. Тем не менее, постояв на тротуаре, он вошел. При виде его швейцар обрадовался и воскликнул:
— Наконец-то! Ведь я же говорил, что вы чисты как стеклышко и что вас отпустят!
Это приветствие с болью отозвалось в сердце у кассира.
— Без сомнения, мадам уже уехала? — спросил он у швейцара. — Не знаете ли, куда именно?
— Не знаю, сударь. В день вашего ареста она послала за извозчиком, и с тех пор о ней ни слуху ни духу, точно в воду канула.
Новое горе прибавилось к испытаниям кассира.
— А что моя прислуга?
— Все ушли, сударь. Ваш батюшка заплатил им деньги и рассчитал их всех.
— Ключ от квартиры у вас?
— Никак нет, сударь. Ваш батюшка уехал, а сегодня утром в восемь часов в вашу квартиру переехал один его большой приятель. Ваш батюшка приказал мне до самого вашего возвращения относиться к нему как к хозяину. Вероятно, вы его знаете… Такой высокий, с рыжими бакенбардами…
Проспер был этим очень удивлен. Друг его отца, у него в квартире!.. Что это значит?
— Ах да, да… Знаю! — отвечал он и стал быстро подниматься по лестнице.
На его звонок ему отворил сам друг его отца.
— Очень рад с вами познакомиться, — сказал он Просперу.
Он был у Проспера как у себя дома. На столе в гостиной лежала книга, которую он вытащил из библиотеки. Еще немного, и он мог бы казаться собственником всей обстановки.
— Чем могу быть вам полезен? — спросил кассир.
— Вы удивлены, найдя меня здесь, не правда ли? Я знал это. Ваш батюшка хотел представить меня вам, но сегодня утром его вызвали в Бокер. Я должен засвидетельствовать от его имени и от своего, что оба мы убеждены в том, что вы не взяли у господина Фовеля ни сантима!
Эта новость обрадовала кассира.
— А вот и письмо к вам от вашего отца, — продолжал высокий господин. — Он просил меня передать его вам. В нем, надеюсь, он рекомендует вам меня.
Кассир принял протянутое к нему письмо, распечатал его, и, по мере того, как он читал, выражение лица его прояснялось и на бледных щеках стал появляться румянец.
Закончив чтение, он протянул высокому господину руку.
— Мой отец пишет мне, — сказал он, — что вы его лучший друг. Он советует мне быть с вами вполне откровенным и слушаться ваших советов.
— Превосходно! Сегодня утром ваш милый отец сказал мне: «Вердюре — это мое имя, — Вердюре, сказал он, мой сын попал в передрягу, надо его спасать!» И я ему ответил: «К твоим услугам». И вот я здесь. Но перейдем к делу. Что вы рассчитываете предпринять?
— Что я рассчитываю предпринять? — ответил с дрожью в голосе Проспер. — Найти несчастного, который погубил мою жизнь, указать на него суду и затем — отомстить!
— Отлично сказано! Я помогу вам в этом, Проспер. В доказательство этого я придумал кое-что и для вас. Вот мой план. Начните с того, что продайте поскорее эту обстановку, покиньте эту квартиру и скройтесь.
— Скрыться? — воскликнул возмущенный кассир. — Скрыться? Да разве вы не знаете, милостивый государь, что это было бы равносильно признанию себя виновным, что это перед всем светом подтвердило бы то, что я скрылся нарочно, чтобы втихомолку распорядиться украденными тремястами пятьюдесятью тысячами франками!
— Полноте! — холодно ответил господин с рыжими бакенбардами. — Лучший пловец, которого злодеи бросят в воду, никогда не станет тотчас же выплывать наружу. Наоборот, он нырнет, будет плыть под водою, насколько хватит ему дыхания, будет стараться уплыть как можно дальше и выйдет на сушу только там, где его уже не увидят, и когда будут считать, что он уже погиб, утонул, — вот тут-то для него и время мстить. У вас есть враг? Только одно его неблагоразумие может погубить его. И чем более вы будете вооружены против него, тем более он будет вас бояться.
С удивлением и в то же время с покорностью Проспер внимал этому человеку, который хотя и был другом его отца, но был ему совершенно незнаком. И сам того не сознавая, он подчинился влиянию натуры более энергичной, чем его собственная. И он был счастлив, что нашел в нем для себя опору.
— Я последую вашему совету, — ответил Проспер после долгого раздумья.
— Я знал это, мой друг. Я знал это настолько, что уже заранее пригласил мебельщика. За всю вашу обстановку, исключая картины, он дает вам двенадцать тысяч франков. Это жестоко с моей стороны, но необходимо. У вас нет вовсе денег, а они-то именно теперь и нужны. Вы мой больной, а я ваш врач. И если мне приходится резать вас по живому, то не мешайте мне резать. Это необходимо для вашего же спасения.
— Режьте! — отвечал с решимостью Проспер.
— Отлично. Но… надо торопиться! Есть у вас друг Лагор?
— Рауль? Да, я его близкий товарищ.
— Что это за тип?
— Это племянник господина Фовеля, очень молодой человек, богатый, воспитанный, остроумный, лучший и корректнейший из всех, кого я знаю.
— Гм!.. — ухмыльнулся Вердюре. — Вот смертный, одаренный сразу всеми добродетелями! Я с нетерпением ожидаю с ним знакомства. Я должен сознаться перед вами, Проспер, что от вашего имени я написал ему письмо, в котором просил его пожаловать сюда, и он дал мне ответ, что приедет непременно.
— Как! — воскликнул Проспер, ошеломленный этим сообщением. — И вы можете предполагать…
— Ничего я не предполагаю! — отвечал Вердюре. — Мне единственно нужно повидаться с этим господином. У меня есть даже маленький план разговора с ним, и я вам его сообщу…
В это время звонок прервал слова Вердюре.
— Да вот и он! — воскликнул Вердюре. — Прощай, мой план! Где бы мне скрыться, откуда бы можно было все видеть и слышать!
— Вот в этой комнате… Оставьте дверь открытой и спустите портьеру.
Раздался звонок во второй раз.
— Иду, иду! — крикнул кассир.
— Заклинаю вас вашей жизнью, Проспер, — сказал ему Вердюре, — ни одним словом не обмолвитесь перед этим человеком о ваших планах и обо мне. Оставайтесь для него убитым горем, разочарованным, не знающим, с чего начать…
И он скрылся, а Проспер пошел отворять Раулю. Первым движением Рауля было броситься на шею к кассиру.
— Мой бедный друг! — воскликнул он, пожимая ему руки. — Дорогой мой Проспер!
Но в этих демонстративных излияниях было нечто принужденное, что если и осталось незамеченным для Проспера, то, во всяком случае, было отлично видно Вердюре.
Они вошли в гостиную.
— Твое письмо, — продолжал Рауль, — меня прямо-таки поразило. Оно задело меня за живое. Я даже подумал: не сошел ли ты с ума? Но я все бросил и вот приехал к тебе.
Проспер едва понимал его, озабоченный содержанием письма, которого он вовсе даже и не писал. Что ему было отвечать? Что же это был за человек, который принимал в нем такое участие?
— Бодрись! — продолжал Лагор. — Зачем отчаиваться? Мы еще молоды, еще хватит времени начать жизнь сначала. У тебя друзей сколько угодно. И если я приехал сейчас к тебе, то только для того, чтобы сказать тебе: рассчитывай на меня вполне. Я богат, и половина моего состояния к твоим услугам.
Это благородное предложение, сделанное с редкой простотой, глубоко тронуло Проспера.
— Благодарю, Рауль, — отвечал он растроганным голосом. — Но никакие деньги в мире не в состоянии мне помочь.
— Неужели? Что же ты предполагаешь делать? Не думаешь же ты оставаться в Париже?
— Не знаю, мой друг. Ничего я не предполагаю. Я совсем потерял голову.
— Да ведь я же сказал тебе, что нужно начать новую жизнь! Прости меня за откровенность, я от души. Пока эта таинственная кража не будет объяснена, до тех пор тебе в Париже оставаться невозможно.
— А если она не будет вовсе объяснена?
— Самое главное, чтобы о тебе все забыли. На этих днях я говорил о тебе с Кламераном. Ты несправедлив к нему, он очень к тебе расположен. На месте Проспера, сказал он, я все распродал бы и уехал в Америку, нажил бы там состояние и, возвратившись обратно миллионером, убил бы конкуренцией Фовеля.
Этот совет затронул в Проспере его самолюбие. Он не возразил ничего. То же самое советовал ему и этот неизвестный для него Вердюре.
— Ну? — спросил Рауль.
— Я подумаю, — отвечал кассир, — посмотрю… Хотелось бы узнать, что говорит теперь господин Фовель?
— Мой дядя? Ты ведь знаешь, что с тех пор, как я отклонил его предложение поступить к нему в банкирскую контору, мы с ним не разговариваем. Вот уже месяц, как я у него не бываю. Но я получаю оттуда кое-какие сведения…
— Через кого?
— Через твоего протеже, Кавальона. Дядя после кражи чувствует себя еще хуже, чем ты. Его очень редко стали видеть в банкирской конторе, говорят, что он выдержал какую-то ужасную болезнь.
— А госпожа Фовель и… — робко спросил кассир, — и Мадлена?
— О, — весело отвечал Рауль, — тетка ударилась в религию и все молится об отыскании виновного. А что касается до моей прелестной кузины, то она не снисходит до вульгарных вопросов и вся поглощена приготовлениями к костюмированному балу, который будет послезавтра у Жандидье. Одна из ее подруг передавала мне, что она увлечена теперь какою-то совершенно неизвестной швейкой, которая шьет для нее костюм фрейлины Екатерины Медичи и у которой он выходит чудесно.
Проспер очень страдал, но последнее известие его доконало.
— Мадлена!.. — прошептал он. — Мадлена!..
Лагор сделал вид точно не расслышал и стал прощаться.
— Мне пора, дорогой Проспер, — сказал он. — В субботу я увижу на балу этих дам и привезу тебе новостей. Не падай же духом и помни, что, что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на меня вполне.
В последний раз Рауль пожал руку Проспера и удалился. А несчастный кассир так и остался недвижимый и уничтоженный. И нужен был веселый голос господина с рыжими бакенбардами, чтобы вывести его из оцепенения.
— Вот друзья! — воскликнул Вердюре, выйдя из засады.
— Да, — грустно отвечал Проспер. — Слышали? Он предлагал мне сейчас половину своего состояния.
— Это очень скупо с его стороны, — пожал плечами Вердюре. — Почему бы ему не предложить вам всего своего состояния? Я уверен, что этот красивый молодой человек с удовольствием дал бы вам миллион, чтобы только видеть вас по ту сторону океана.
— Он? Но почему же?
— Кто знает? Быть может, по той самой причине, которая заставила его дать вам понять, что вот уже целый месяц он не бывает у своего дяди.
— Но это совершенно верно, я знаю это!
— Да я этого и не отрицаю! А теперь приоденьтесь, и мы отправимся вместе к господину Фовелю.
Это предложение вывело Проспера из себя.
— Ни за что на свете! — закричал он. — Никогда! Я видеть его не могу!
Это нисколько не удивило Вердюре.
— Я вас понимаю, — отвечал он, — и вполне вас оправдываю, но я надеюсь, что вы согласитесь со мною. Я хотел повидаться с господином Лагором, теперь мне надо познакомиться с господином Фовелем. Понимаете ли, это необходимо! Неужели вы не можете потерпеть каких-нибудь пяти минут? Я ему представлюсь как ваш родственник, и вам не придется сказать ему ни единого слова.
— Если это действительно необходимо, — сказал Проспер, — если вы этого хотите…
— Да, я этого хочу. Идем, черт возьми! Ну, живее переодевайтесь! Уже поздно, и хочется есть. Мы позавтракаем по дороге.
Едва кассир вошел в спальню, как раздался новый звонок.
Вердюре пошел отпирать. Это был швейцар, принесший объемистый пакет.
— Письмо к господину Бертоми! — сказал он.
Это было совсем особенное письмо. Адрес был написан не от руки, а составлен из печатных букв, тщательно вырезанных из книги или из газеты и наклеенных на конверт.
— Вот так письмо! — воскликнул Вердюре. И, обратившись к швейцару, он сказал: — Подождите здесь, через минуту я выйду.
Он оставил швейцара в столовой, вошел в гостиную и затворил за собою дверь. Здесь он нашел Проспера, который, услыхав звонок и чужой голос, шел было узнать, кто это пришел.
— Посмотрите-ка, что вам принесли! — сказал Вердюре и без церемоний разорвал пакет.
Оттуда посыпались банковые билеты. Он сосчитал их. Оказалось десять. Проспер побагровел.
— Что это должно означать? — спросил он.
— А вот узнаем! — отвечал Вердюре. — Кстати, вот и записка!
Записка, как и адрес, тоже была составлена из печатных букв, вырезанных из книги и наклеенных на бумагу.
Она была коротка, но выразительна:
«Дорогой Проспер, друг, которого ужасает ваше положение, посылает вам эту помощь. Это от всего сердца. Уезжайте, бросьте Францию, вы еще молоды, будущее еще перед вами. Уезжайте, и пусть эти деньги послужат вам на счастье».
— Весь мир сговорился против меня! — воскликнул Проспер. — Все хотят, чтобы я уехал!
Вердюре самодовольно улыбнулся.
— Наконец-то! — сказал он. — Открыли глаза, начинаете понимать! Да, мой друг, на свете есть люди, которые вас ненавидят за причиненное вам зло; есть люди, для которых ваше присутствие в Париже будет служить постоянной угрозой и которые желают откупиться от вас деньгами.
— Но кто эти люди? Скажите мне! Объясните, кто прислал мне эти деньги?
Вердюре печально покачал головой.
— Если бы только их знать! — ответил он. — Тогда бы я считал свою миссию исполненной, так как знал бы, кто совершил ту кражу, которую приписывают вам. Но мы еще поищем! Начнем со швейцара!
И он отворил дверь и крикнул:
— Подите-ка сюда, любезный!
Швейцар подошел.
— Кто вам передал этот пакет? — спросил его Вердюре.
— Комиссионер. Он сказал мне, что доставка уже оплачена.
— Он вам известен?
— Даже очень хорошо. Он стоит всегда у винного погреба на углу улицы Цигаль.
— Позовите его ко мне.
Швейцар вышел, а Вердюре достал из кармана памятную книжку, разложил перед собою банковые билеты и, глядя то на них, то в книжку, старался сличить номера с написанными в книжке.
— Эти билеты присланы вам не вором, — сказал он решительно.
— Вы думаете?
— Я в этом уверен. У меня выписаны все номера украденных билетов.
— Как! Их не было даже у меня!
— Зато они были в банке. И это к счастью. Ну-с, посылка эта исходит не от вора. Очевидно, эти деньги посылает вам то другое лицо, которое находилось у кассы в момент кражи, которое не могло помешать и страдает теперь угрызениями совести. Вероятность присутствия при краже двоих лиц, подтверждаемая царапиной, теперь становится очевидной. Ergo — я прав.
Кассир из всех сил старался понять эти слова, боясь перебивать Вердюре.
— Поищем теперь, — продолжал высокий господин, — поищем теперь, кто это второе лицо, находившееся при краже.
И он взял письмо, медленно прочитал его три или четыре раза, изучая построение фраз и каждое слово.
— Да, это несомненно, — проговорил он. — Это письмо составлено женщиной. Мужчина, оказывая приятелю денежную услугу, никогда не написал бы «помощь». Это обидно для получателя. Мужчина в этом случае употребил бы слово «взаймы», «безделицу», или попросту — «эти деньги», но никогда не «помощь». Только одна женщина, которой непонятны глупые мужские условности, может выражаться так прямо. А фраза «Это от всего сердца» — уже совсем бабья.
— Вы ошибаетесь, — обратился к нему Проспер. — В этом деле не может быть замешана никакая женщина.
Вердюре не обратил на его слова внимания.
— Посмотрим теперь, — продолжал он, — откуда вырезаны все эти буквы.
Он подошел к окну и с вниманием ученого стал рассматривать наклеенные слова.
— Эти буквы не из газеты, — сказал он, — не из романа и даже не из прейскуранта. Они такие характерные, что, кажется, я их где-то видел!
Он остановился, полуоткрыл рот, стараясь припомнить, а затем вдруг ударил себя по лбу.
— Знаю! — воскликнул он. — Знаю! Черт возьми! Как я об этом сразу не догадался! Все эти буквы вырезаны из молитвенника. Надо проверить…
И осторожно он провел кончиком языка по бумаге, смочил им наклеенные буквы, и как только клей растаял, он стал их отдирать булавкой. На другой стороне одного из слов было напечатано по латыни «Бог».
— Ну что же? — улыбаясь от удовольствия, воскликнул Вердюре. — Я прав. Но что сталось с этим несчастным молитвенником? Сожгли его? Нет, книгу в кожаном переплете не скоро сожжешь. Ее забросили куда-нибудь в угол.
В это время возвратился швейцар, приведший с собою комиссионера с угла улицы Цигаль. Вердюре пришлось прервать свои изыскания.
— А, ты очень кстати! — ласково воскликнул он. И он показал комиссионеру конверт. — Ты принес сюда сегодня утром это письмо? — спросил он его.
— Так точно, сударь. Я даже адрес заметил. Сроду таких не видал…
— Кто тебе вручил его? Мужчина или женщина?
— Нет, сударь, мне передал его комиссионер.
— Ты знаешь его?
— Никак нет.
— Какой он из себя?
— Так, небольшой и не маленький, одет в зеленый кафтан, медаль имеет!
— Да ведь это приложимо ко всем комиссионерам сразу! Не сказал ли он тебе, кто его посылал?
— Никак нет. Он только дал мне десять су и сказал: «Неси на улицу Шанталь, дом тридцать девять; сейчас на бульваре мне передал это письмо какой-то кучер».
— А ты узнаешь этого комиссионера в лицо?
— Да, если посмотреть на него, то узнаю.
— Сколько ты зарабатываешь в день?
— Как случится, сударь. Я стою на бойком месте. Может быть, франков восемь или десять в день.
— Отлично, я буду тебе платить каждый день по десять франков только за то, чтобы ты ничего не делал, а только искал того комиссионера. Каждый вечер в восемь часов приходи в гостиницу «Архистратиг» на набережной Сен-Мишель, и я буду платить тебе за твои прогулки. Спросишь Вердюре. А если ты найдешь этого комиссионера, то я дам тебе сразу тридцать франков. Идет?
— Очень вами благодарен, сударь…
— Итак — проваливай! Не трать ни одной минуты зря! А теперь, — обратился Вердюре к кассиру, — пора и к Фовелю! Да и позавтракать было бы недурно!
Глава VIII
Рауль Лагор нисколько не преувеличивал, говоря о перемене, происшедшей в Андре Фовеле.
С того самого проклятого дня, когда по его доносу был арестован его кассир, банкир, этот бодрый до наглости человек, впал в меланхолию и был совершенно не способен заниматься текущими делами. Запершись у себя в кабинете на ключ, он стал безучастно относиться ко всему, и все его поступки говорили о том, что какой-то тайный недуг овладел всем его существом.
В тот день, когда Проспер был выпущен на свободу, в три часа, Фовель, по обыкновению, сидел у себя за письменным столом, положив локти на сукно и подперев ладонями лоб, и потерянным взором смотрел перед собою. Как вдруг к нему ворвался из банкирской конторы служитель.
— Сударь! — воскликнул он в страхе. — Там пришли бывший кассир Бертоми и его родственник. Они желают вас видеть непременно!
При этих словах банкир вскочил так, точно около него упала молния.
— Проспер! — воскликнул он, едва владея собою от гнева. — Да как он смел!..
Но, сообразив, что при прислуге неудобно выходить из себя, он овладел собою и холодно ответил:
— Проси.
Если Вердюре и ожидал от этого свидания чего-нибудь любопытного, то его ожидания сбылись. Ничего нельзя было представить себе более страшного, чем позы этих двоих людей, стоявших друг перед другом, — банкир, красный как рак, точно после апоплексического удара, а Проспер еще более бледный, чем раненый солдат, истекающий кровью; безмолвные, дрожавшие, они стояли в двух шагах один от другого и, едва обменявшись взглядами, полными смертельной вражды, готовы были броситься друг на друга. В течение доброй минуты Вердюре с любопытством наблюдал этих двух врагов, чуждый им обоим, и с хладнокровием философа, который даже в самых бурных душевных движениях человека видит только предмет для наблюдения и размышлений, изучал их.
Под конец молчание начинало становиться опасным, он решился нарушить его и обратился к банкиру:
— Вы, вероятно, уже слышали, — сказал он, — что мой родственник выпущен на свободу?
— Да, — отвечал Фовель. — За недостаточностью улик.
— Совершенно верно, милостивый государь. Эта-то недостаточность улик, или, другими словами, это «нахождение под подозрением» настолько портит будущее моего родственника, что он решил удрать в Америку.
При этих словах физиономия Фовеля сразу изменилась.
— Ах он удирает! — повторил он несколько раз. — Он удирает!..
Нельзя было сомневаться в интонации. Слово «удирает» было произнесено с явным намерением оскорбить. Вердюре заметил это.
— Мне кажется, — весело сказал он, — что решение моего родственника довольно резонно. Я хотел только, чтобы перед отъездом он засвидетельствовал свое почтение своему бывшему патрону.
Горькая усмешка пробежала по лицу банкира.
— Господин Бертоми, — возразил он, — мог бы с успехом избавить нас обоих от этой неприятной обязанности. Нечего мне больше выслушивать от вас и нечего мне сказать вам и самому.
Это уже была форменная просьба оставить его в покое, Вердюре так ее и понял, раскланялся с Фовелем и вышел вместе с Проспером, который за все время свидания не проронил ни слова.
И только на улице кассир нарушил молчание.
— Вы этого хотели, — грубо сказал он, — вы настаивали, и я послушался вас. Довольны ли вы? Добыл ли я хотя что-нибудь, прибавив это кровное унижение к тому, что уже испытал?
— Вы — нет, а я — да, — отвечал Вердюре. — Без вас я не мог бы пробраться к банкиру. И я узнал сейчас все, что требовалось узнать: Андре Фовель непричастен к краже.
— А разве нельзя прикинуться барашком?
— Без сомнения, можно, но не в этом отношении. И это еще не все: мне нужно было узнать для некоторых целей, подозревает ли кого-нибудь сам Фовель? И я теперь смело могу сказать, что да.
Они остановились отдохнуть на углу улицы Лафит на месте, только что освобожденном от хлама после сломанного дома. Вердюре казался озабоченным, хотя и болтал, и то и дело оглядывался по сторонам, точно кого-то поджидал. Вскоре он вскрикнул от удовольствия, так как увидел появившегося Кавальона. Тот был без головного убора и бежал. На этот раз он был так взволнован, что не догадался даже поздороваться со своим другом Проспером и подать ему руку. Он прямо обратился к Вердюре.
— Поехали, — сказал он.
— Давно?
— Нет, с четверть часа тому назад.
— Ах, черт возьми! Если так, то нам дорога каждая минута!
И, достав записочку, которую он ранее написал у Проспера, он вручил ее Кавальону.
— Вот, — сказал он ему, — доставьте по адресу и возвращайтесь поскорее к себе, чтобы не заметили вашего отсутствия. Нехорошо выбегать без шляпы: это может возбудить подозрения.
Кавальон не заставил дважды повторять эти слова и бросился бежать. Проспер был поражен.
— Как? — воскликнул он. — Вы знакомы с Кавальоном?
— Как видите, — отвечал с улыбкой Вердюре. — Не стоит об этом говорить, и давайте поспешим.
— Куда еще?
— Узнаете. Идемте же, бегом, бегом!..
И они побежали по улице Лафайет. Добежав до дома № 81, Вердюре сразу остановился.
— Здесь, — сказал он Просперу. — Войдем!..
Они поднялись на второй этаж и остановились перед дверью, на которой была прибита вывеска: «Моды и платья».
Вдоль косяка висела роскошная сонетка, но Вердюре даже и не прикоснулся к ней. Вместо этого он как-то особенно постучал в дверь пальцем, и, точно там кто-то уже заранее дожидался этого сигнала, — дверь отворилась.
Им отперла женщина лет сорока, простая, но довольно прилично одетая, и без всяких разговоров проводила Проспера и его компаньона в небольшую столовую, в которую выходило несколько дверей. При виде Вердюре женщина эта ему низко поклонилась, точно была чем-то обязана ему. Он ответил ей на поклон и взглядом спросил ее: «Здесь?»
Женщина утвердительно кивнула.
— Да.
— В той комнате? — шепотом спросил Вердюре, указав на одну из дверей.
— Нет, — так же шепотом отвечала ему женщина, — вот здесь, в маленькой гостиной.
Вердюре тотчас же отворил указанную ему дверь и ласково втолкнул в нее Проспера.
— Входите… — сказал он ему на ухо. — Побольше хладнокровия!
Но предупреждения оказались напрасными. Переступив порог, Проспер не мог удержаться и громко воскликнул:
— Мадлена!
То действительно была она, прекраснее, чем когда-либо, очаровательная той спокойной и искренней красотой, которая так возбуждает удивление и в то же время требует для себя благоговейного почитания. Она сидела у стола, сплошь покрытого материями, приготовленными, без сомнения, для костюма фрейлины Екатерины Медичи.
При виде Проспера кровь бросилась ей в лицо и, чтобы не упасть, Мадлена ухватилась за край стола. Затем она овладела собой, и чувство обиды и негодования засветилось вдруг в ее чудных глазах.
— Как у вас хватило смелости шпионить за мной? — сказала она дрожащим от оскорбления голосом. — Как вы могли снизойти до того, чтобы следить за мной, стараться проникнуть в этот дом? Вы клялись мне своей честью, что никогда не будете искать со мной свидания. Так-то вы держите ваше обещание?
— Да, я клялся вам в этом, — отвечал он ей, — но…
Он остановился.
— Продолжайте, — сказала она.
— Столько событий произошло с того дня, что я мог думать, что клятва эта уже позабыта вами, тем более что она вырвана у меня благодаря моей же слабости. Совершенно случайно, совсем не по своей воле я сейчас имею честь вновь видеться с вами. Но, увы! При виде вас мое сердце трепещет от радости. Я не думаю, нет, я даже не могу себе вообразить, что вы настолько безжалостны, чтобы отнестись ко мне, такому глубоко несчастному человеку, хуже, чем отнеслись ко мне другие.
— Вы отлично знаете меня, — отвечала она ему, — знаете и то, что все, что касается вас, касается и меня. Вы страдаете… Я скорблю о вас так, как только может скорбеть сестра о горячо любимом брате.
— Сестра! — с горечью воскликнул Проспер. — С этим же самым словом вы тогда запретили мне встречаться с вами. Сестра! Зачем же было целых три года поддерживать во мне надежды? Значит, я был для вас братом и тогда, когда — помните? — мы клялись друг перед другом в вечной любви перед алтарем и вы повесили мне на шею священный амулет? «Из любви ко мне храните его, — сказали вы мне тогда, — он принесет вам счастье…»
Она сделала нетерпеливый жест.
— И вот год тому назад, — продолжал Проспер, — вы возвратили мне мое слово назад и вырвали у меня обещание никогда с вами больше не встречаться. И я не знал, что было этому причиной. Вы даже не удостоили меня сообщением ее. Вы меня изгнали, и, чтобы повиноваться вам, я старался убедить всех, что это я сам добровольно избегаю вас. Вы сказали мне, что какое-то непобедимое препятствие стало между нами, и я вам поверил. Глупый! Да ведь это препятствие — само ваше сердце, Мадлена! А тем не менее я благоговейно ношу на себе ваш амулет. Но он не принес мне добра!
Мадлена оставалась неподвижной, бледная как статуя, и обильные слезы катились у нее по щекам.
— Ведь я же вас просила позабыть обо мне… — пробормотала она.
— Позабыть! — воскликнул Проспер, возмущенный так, точно услышал богохульство. — Позабыть! Да разве же я мог?… Это значит — вы никогда не любили! Чтобы позабыть, чтобы сладить со своим сердцем, остается только одно средство… умереть.
Это слово, произнесенное с суровой решимостью, встревожило Мадлену.
— Несчастный! — воскликнула она.
— Да, несчастный! В тысячу раз более несчастный, чем вы можете себе вообразить! Вы никогда не поймете моих мучений. И вы говорите мне о забвении… Я искал его в вине и не нашел, я старался потушить это воспоминание о прошлом и не мог. И как только изнемогало мое тело, неумолимая мысль о вас начинала бодрствовать вновь. Теперь вы видите, что самоубийство для меня — это то, о чем только я могу мечтать.
— Я запрещаю вам произносить это слово.
— Что вам запрещать тому, кого вы не любите, Мадлена!
Мадлена хотела говорить, но какая-то внезапная мысль удержала ее. В отчаянии она воскликнула:
— Господи! За что такие страдания!
Проспер не понял смысла этого восклицания.
— Ваша жалость ко мне приходит слишком поздно, — возразил он с раздирающей сердце решимостью. — Счастье уже невозможно для такого человека, как я, который уже раз испытал неземное блаженство. Ничто больше не в состоянии привязать меня к жизни. Вы убили во мне мои лучшие мечты, я выхожу из тюрьмы обесчещенный моими врагами. Чего же ожидать еще? Напрасно я стараюсь заглянуть в будущее: в нем нет для меня ни надежд, ни радостей, ни счастья… Я оглядываюсь вокруг себя и вижу только беспомощное положение, отчаяние и позор.
— Проспер, мой друг, мой брат, если бы вы только знали…
— Я знаю только то, что вы меня не любите, Мадлена, что вы меня не любили никогда и что я вас люблю!
Он замолчал в ожидании ответа. Но его не последовало.
Вдруг молчание нарушилось, и кто-то зарыдал.
Это заплакала горничная Мадлены, скромно сидевшая в уголке у камина. Мадлена совсем забыла о ней, а Проспер, поглощенный горем, не заметил ее.
Он посмотрел на нее.
Эта молодая девушка была одета, как и все горничные, но нельзя было обмануться в том, что это был не кто иной, как… сама Нина Жипси.
Удивление Проспера было настолько велико, что он не мог произнести ни одного слова и даже не вскрикнул.
Ужас положения овладел им. Он был здесь в обществе этих двух женщин, которые играли такую разную роль в его жизни: одну любил он, но она его презирала, а другая любила его, но он был к ней совершенно равнодушен.
И эта несчастная Жипси слышала все, теперь она увидала своими глазами всю страсть своего возлюбленного к другой. И его удивило то, что Жипси, эта пылкая, дикая натура, по-прежнему оставалась в уголке, горько плакала, но не протестовала.
Воспользовавшись молчанием Проспера, Мадлена собрала все свои силы, чтобы казаться спокойной. Безучастно, ни одним намеком не давая понять о том, что происходило внутри ее, она взяла с дивана манто и стала одеваться.
— Зачем вы приходили сюда? — обратилась она к Просперу на прощанье. — И это тогда, когда и вам и мне необходимо все наше мужество! Вы несчастны, Проспер, но я еще несчастнее вас. Вы имеете право заявлять о своих несчастьях открыто, я же не имею права пролить ни одной слезы и должна улыбаться тогда, когда сердце готово разорваться на части. Вы можете рассчитывать на утешение друга, а мне не к кому обратиться, кроме Бога.
Проспер хотел отвечать, но слова не шли у него с языка. Он был подавлен.
— Мне о многом следовало бы рассказать вам, — продолжала Мадлена, — я ничего не забыла. Но зачем? Это не дало бы вам надежды. Для нас с вами нет будущего. Если вы любите меня, то вы не лишите себя жизни. Не прибавляйте к моим страданиям еще вашей смерти! Быть может, настанет день, когда вы узнаете все и оправдаете меня. А теперь… о мой брат, мой единственный друг, прощайте, прощайте навсегда!..
И она подошла к Просперу, коснулась губами его лба и быстро вышла из комнаты. За ней последовала и Жипси.
Проспер остался один. Все это произошло для него точно во сне.
— Мужайтесь, Проспер, — раздался вдруг голос Вердюре. — Мадлена еще любит вас!
— О, если бы я мог этому поверить! — ответил Проспер.
— Верьте, я не обманываюсь в этом. Ах, вы и понятия не имеете о тех мучениях, которые испытывает эта благородная девушка, борясь со своей любовью к вам! Она считает это своим долгом. Возвратив вам ваше слово, она подчинилась чьей-то более сильной и непреклонной воле, чем ее. Она обречена в жертву… Кому? Мы это вскоре узнаем, и тайна эта раскроет перед нами секрет тех махинаций, жертвой которых стали вы.
— Если бы это была правда, если бы только это была правда!
— Несчастный молодой человек! Зачем вы закрываете глаза на то, что очевидно? Разве вы не понимаете, что Мадлена знает имя вора?
— Это невозможно!
— Но это так. И, поверьте мне, никакими человеческими усилиями невозможно вырвать у нее признания в этом имени. Да, она приносит вас в жертву, но имеет на это право, потому что и сама приносит себя в жертву.
Проспер был уничтожен.
— Вы не понимаете, нет, — воскликнул он, схватив Вердюре за руку, — вы не можете себе представить, как я страдаю…
Господин с рыжими бакенбардами печально покачал головою. В один момент лицо его переменилось, блестящие глаза его заволоклись слезами и голос его задрожал.
— Все то, что испытываете вы, — отвечал он, — испытал и я. Как и вы, я любил, но не благородную и не невинную девушку, как Мадлена. Целых три года я был у ее ног. Потом, в один день, как-то сразу, она бросила меня — меня, который ее обожал, чтобы отдаться человеку, который ее презирал. Так же, как и вы, я хотел умереть. Несчастная! Ни слезы, ни мольбы не могли ее удержать при мне. Но любовь не рассуждает: она привязалась к другому.
— И вы знаете этого другого?
— Да.
— И вы не отомстили ему?
— Нет. Помешал один случай.
В течение минуты Проспер хранил молчание.
— Я в вашем распоряжении, — сказал он наконец. — Располагайте мною как хотите.
И в тот же день Проспер, верный своему слову, продал мебель и написал своим знакомым письма, в которых извещал их, что уезжает в Сан-Франциско навсегда.
А вечером того же дня он вместе с Вердюре переехал на жительство к мадам Александре в меблированные комнаты «Архистратига».
Глава IX
Недалеко от Пале-Рояля, на улице Сен-Оноре, под вывеской «Добрая надежда» есть маленькое заведение, не то кафе, не то фруктовая лавчонка, которую часто посещают обитатели местного квартала.
Здесь-то, в пятницу, на другой день после освобождения, Проспер и поджидал Вердюре, который назначил ему свидание к четырем часам. И лишь только пробило четыре часа, как явился Вердюре, пунктуальный во всем. Он был еще розовее, чем вчера, и глаза его светились довольством собой.
— Ну? — спросил его Проспер. — Все исполнено?
— Да.
— Были вы у костюмера?
— Я передал ему ваше письмо. Все, что вы просите у него для меня, будет доставлено мне завтра в номера «Архистратига». Все идет отлично — я даром времени не терял и пришел к вам с большими новостями.
Вердюре достал из кармана памятную книжку.
— В ожидании, пока придут сюда те, кого я поджидаю, — сказал он, — поговорим лучше о Лагоре. Знаете ли вы, мой милый друг, откуда происходит этот молодой господин, который навязывается к вам со своей дружбой?
— Он родом оттуда же, откуда и госпожа Фовель, — отвечал ему кассир. — Из Сен-Реми.
— Вы уверены в этом?
— Вполне. Я не только слышал это от него самого, но мне говорил об этом также и господин Фовель. Наконец сама госпожа Фовель тысячу раз повторяла это, вспоминая о матери Лагора, которая была ее подругой.
— Значит, в этом отношении нет ни сомнений, ни заблуждений?
— Нет.
— Так-с… А славный городок Сен-Реми! Шесть тысяч жителей, прелестные бульвары, роскошная ратуша, масса фонтанов и прочее и прочее. Только это не родина вашего приятеля!
— Но у меня есть доказательства!
— Ну, конечно! Еще бы им не быть! Я написал в Сен-Реми и получил оттуда ответ.
— Какой?
— Немножко терпения, — сказал Вердюре, перелистывая свою памятную книжку. — Ах, вот! Номер первый! Из официального источника…
И он прочитал:
— «Лагоры. Старинная фамилия, родом из Мельяна. Основались в Сен-Реми с прошлого столетия…»
— Ну вот видите! — воскликнул Проспер.
— Значит, мне продолжать? — спросил Вердюре. И он стал читать далее: — «Последний из Лагоров (Жюль-Рене-Анри), носивший, без всяких на то документов, титул графа, в 1829 году вступил в брак с девицею Розалией-Клариссой Фонтане из Тараскона; он умер в 1848 году, не оставив после себя наследников мужского пола. И с тех пор в метрических книгах уже не встречается ни одного лица с фамилией Лагор…» Ну-с, что вы на это скажете? — спросил Вердгоре.
Проспер был ошеломлен.
— Как же тогда Фовель считает Рауля своим племянником? — сказал он.
— Потому что он племянник его жены, — отвечал Вердюре. — Но прочтем сообщение номер два. Это уже не официальная справка. Она покажет вам, откуда Рауль получает свои двадцать тысяч в год дохода. «Жюль-Рене-Анри Лагор, последний из рода Лагоров, скончался 29 декабря 1848 года в Сен-Реми в крайней бедности. Свое состояние он прожил на устройстве шелковичных разводок. После него не осталось мужского потомства. Две его дочери — одна замужем за небогатым купцом Органом, а другая служит учительницей в Э. Его вдова, которая живет теперь в Монтаньете, существует только на средства одной своей родственницы, богатой дамы, супруги одного парижского банкира. От ее щедрости она зависит вполне. Больше во всем округе Арль нет ни одного человека, который носил бы имя Лагор». Так вот какие дела! — воскликнул Вердюре. — Что вы на это скажете?
— Все это точно во сне… — отвечал Проспер.
— Я вас вполне понимаю. Только вот еще что. На это могут возразить, что весьма возможно, что у вдовы Лагор родился сын уже после смерти ее мужа. Но это не так. Раулю двадцать четыре года, а Лагор умер всего только лет двадцать тому назад. Иначе Рауль попал бы в метрики как законный…
— Тогда кто же такой этот Рауль?
— Не знаю. Только один человек во всем свете и мог бы это сказать.
— Это Кламеран!
— Совершенно верно.
— Всегда этот человек возбуждал во мне какое-то непонятное чувство отвращения. Ах, если бы только нам удалось установить его причастность к делу!
— Кое-что мне уже удалось разузнать о нем от вашего отца, который очень хорошо знавал всю семью Кламеран, но этого мало. Будем рассчитывать на другие сообщения.
— Что же вам сообщил мой отец?
— Не особенно приятное. Вот все, что касается до вашего дела: «Луи Кламеран родился в замке Кламеран близ Тараскона. У него был старший брат по имени Гастон. В 1842 году после какой-то ссоры он имел несчастье убить одного человека и тяжко ранить другого и должен был скрыться из отечества. Это был славный, честный, искренний молодой человек, пользовавшийся всеобщими симпатиями. Луи же, наоборот, отличался нехорошими инстинктами, и его не любили.
После смерти отца Луи переехал в Париж и менее чем за два года проел не только доставшееся ему от отца наследство, но и ту часть его, которая причиталась его изгнаннику-брату. Разоренный, весь в долгах, Луи Кламеран поступил на военную службу и так плохо повел себя в полку, что его тогда же перевели для исправления в провинцию.
Выйдя в отставку, он совершенно потерялся из виду. Говорили, что встречали его в Англии и в Германии, где он вел ужасную игру.
В 1865 году мы встречаемся с ним вновь в Париже. Он находится в самой крайней нищете и посещает дурные общества, проводя время исключительно с темными людьми и подозрительными женщинами.
Наконец объявляется его брат Гастон. Он возвращается во Францию богачом, которому посчастливилось в Мексике. Еще молодой, привыкший к деятельной жизни, он покупает близ Олорона металлургический завод, но через каких-нибудь полгода умирает на руках своего брата Луи. Эта смерть и делает нашего Кламерана богачом и маркизом».
Проспер слушал не перебивая.
— Из всего того, что вы сейчас сообщили, — сказал он наконец, — следует, что наш Кламеран находился еще в крайней нужде, когда я с ним познакомился у Фовелей.
— Очевидно.
— А немного позже приехал и Лагор из провинции.
— Совершенно верно.
— Спустя же месяц после его приезда Мадлена сразу прервала со мной отношения.
— Дальше! Дальше!.. — воскликнул Вердюре. — Вы начинаете постигать факты.
Но он не мог продолжать, так как в это время вошел в «Добрую надежду» новый посетитель. Это был слуга из хорошего дома, прилизанный, чисто выбритый, с длинными черными бакенами, в отличной ливрее.
— А, господин Жозеф Дюбуа! — обратился к нему Вердюре.
Проспер старался припомнить, где он встречал этого лакея. Ему казалось, что его физиономия ему знакома, что где-то он видел этот подавшийся назад лоб и эти подвижные глаза. Но как он ни старался, он не мог этого припомнить.
Жозеф подсел к столику, но не к тому, за которым сидел Вердюре, а к соседнему.
— Ну рассказывай, — начал Вердюре.
— Уж очень подлая служба быть кучером и лакеем у Кламерана, — начал Жозеф.
— Ладно! Ладно! Завтра пожалуешься.
— Слушаю. Вчера в два часа дня мой хозяин пошел куда-то пешком. По обыкновению, я последовал за ним. И знаете ли вы, куда он пошел? Одна прелесть! Он ходил в номера «Архистратига» для свидания с той дамочкой.
— Продолжай, продолжай! Там ему, конечно, отвечали, что она съехала с квартиры. Что же он?
— Он-то? Ну, он не остался доволен. Он бегом пустился в один ресторан, где его дожидался этот другой — Рауль Лагор. Рауль спросил у него, что нового, на что тот с гневом ответил: «Ничего нет нового, ровно ничего, если не считать того, что плутовка удрала неизвестно куда, выскользнув у нас из рук». Затем они, очень обеспокоенные, пошли вдвоем. «Известно ли ей самое серьезное?» — спросил Рауль. «Ей известно только то, — отвечал Кламеран, — о чем я тебе говорил. Но если это как-нибудь пронюхает от нее сыщик, то он может напасть на след».
Вердюре оценил страхи Кламерана и весело засмеялся.
— Ну а потом? — спросил он.
— Потом, — продолжал Жозеф, — Лагор вдруг весь позеленел и воскликнул: «А если так, то от этой дряни надо отделаться!» Каков, а? Но мой хозяин засмеялся и пожал плечами. «Ты глуп, — ответил он. — Когда надоест эта женщина, всегда найдется время принять против нее административные меры». И они долго смеялись над этой идеей.
— Ну еще бы! — одобрил Вердюре. — Это превосходная идея! Жаль только, что немного поздновато им теперь привести ее в исполнение, тем более что сыщик еще ничего не пронюхал, как выразился Кламеран.
Задыхаясь от волнения, с жадным любопытством Проспер прислушивался к этому разговору, каждое слово из которого освещало для него события последних дней. Тысячи мелочей, на которые он раньше не обращал никакого внимания, теперь пришли ему на ум, и он удивлялся на самого себя, что так слепо относился ко всему.
Тем временем Жозеф продолжал:
— Вчера, после обеда, мой хозяин вел себя так, точно молодой жених. Я его постриг, побрил, надушил, напомадил, разодел, а затем он сел в карету, и я отвез его на улицу Прованс к Фовелю.
— Как! — воскликнул Проспер. — После его грубых выходок в день кражи он еще смеет показываться туда?
— Да, милостивый государь, он смеет, и не только показываться туда, но даже и просиживать там целые вечера вплоть до полуночи, а я тем временем сиди на козлах и мокни под дождем, как курица!
— Что же дальше? — спросил Вердюре.
— На первый раз довольно! — отвечал Жозеф. — Сегодня мой хозяин встал поздно, злой как собака. В полдень пришел к нам этот другой, Рауль, тоже злющий-презлющий. Стали браниться так, что покраснели бы со стыда даже ломовые. Раз даже этот верзила Кламеран схватил мальца за горло и так сдавил его, что тот задрожал как осиновый лист. Даже я испугался. Но Рауль вытащил из кармана нож — этакое ведь животное! — и знаете что? Кламеран испугался и притих.
— О чем же они говорили?
— Вот в том-то и дело! — жалостно отвечал Жозеф. — Канальи разговаривали по-английски, и я ровно ничего не понял. Кажется, они говорили о деньгах.
— А почему же ты узнал это?
— На Всемирной выставке, когда надо было уплачивать за купленные предметы, приходилось слово «деньги» говорить сразу на всех европейских языках… Ну-с, так вот, когда мои негодяи успокоились, они стали продолжать разговор уже по-французски. Но, увы! Они коснулись только самых незначительных вопросов, о каком-то костюмированном вечере, который будет завтра у какого-то банкира. Только, провожая мальца, мой хозяин сказал ему: «Так как эта сцена неизбежна, а она непременно сегодня произойдет, оставайся вечером у себя дома в Везине». Рауль отвечал: «Хорошо».
Стемнело. Кабачок стал наполняться посетителями. Взобравшись на табуретки, половые зажгли газовые рожки.
— Пора тебе уходить, — обратился Вердюре к Жозефу. — Хозяин может хватиться тебя, да к тому же и мне некогда: надо поговорить еще с другим. Итак, до завтра!
Этим другим был Кавальон. Он был взволнован и дрожал так, как никогда. Беспокойно оглядываясь по сторонам, он чувствовал себя жуликом, который попал в сети, расставленные тайной полицией. Он не подсел к столику Вердюре, а украдкой подал руку Просперу и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, рискнул передать что-то Вердюре.
— Только это она и нашла в шкафу, — сказал он.
Это был молитвенник в роскошном переплете. Вердюре стал его быстро перелистывать и скоро отыскал те страницы, из которых были вырезаны буквы, приклеенные ко вчерашнему письму, полученному Проспером.
— Вот материальное доказательство, — обратился Вердюре к Просперу. — Только оно одно и может вас спасти.
Увидав молитвенник, Проспер побледнел. Он узнал его. Эту книжку он сам подарил Мадлене в обмен на ее амулет. Этого мало: на первой странице ее было написано рукою Мадлены: «На память о 17 января 1866 г.».
— Эта книжка Мадлены! — воскликнул он. Вердюре не отвечал.
В это время в кабачок входил молодой человек, одетый так, как одеваются обыкновенно сидельцы в винных погребках, и Вердюре поднялся к нему навстречу. Едва только глаза его пробежали по той записке, которую вручил ему этот молодой человек, как в сильном возбуждении он тотчас же вернулся к своему столу.
— Они от нас не уйдут! — воскликнул он.
И, бросив на стол пятифранковую монету и не сказав ни слова на прощание Кавальону, он потащил за собою Проспера.
— Какая случайность! — сказал он ему, когда они бежали уже по тротуару. — Как бы нам их не упустить! На поезд уже опоздали!
— Но для чего это надо? — спросил его Проспер.
— Идите, идите, поговорим после, по дороге!
Добежав до площади Пале-Рояль, Вердюре выбрал из всех биржевых извозчиков того, у которого были самые лучшие лошади, и спросил его:
— Сколько ты возьмешь до Везине?
— Я не знаю туда дороги… — отвечал извозчик.
При слове «Везине» Проспер понял все.
— Я укажу тебе дорогу… — сказал он.
— В такую погоду да в этакое время… Что ж? Двадцать пять франков!
— А если хорошо поедешь?
— Сколько пожалуете, добрый господин… Что ж? Тридцать пять франков…
— Я дам тебе сто, если ты догонишь карету, которая поехала туда же за полчаса перед нами.
— Ах, чтоб ей пусто было! — воскликнул, просияв, извозчик. — Да влезайте же скорее! Пропала одна минута зря!
И, нахлестав своих лошадей, он пустил их во весь дух по улице Валуа.
Глава Х
Извозчик заработал свои сто франков. Лошади его еле держались на ногах, но зато Проспер и Вердюре увидали-таки перед собою слабый свет от фонарей такой же точно кареты, как и их, скакавшей во весь дух по направлению к Везине.
Не доезжая с полверсты до этого села, Вердюре остановил извозчика, вышел из кареты и протянул ему стофранковый билет.
— Вот тебе обещанное! — сказал он ему. — Отправляйся в первый попавшийся трактир, по правой руке, как войдешь в деревню. Если в час ночи мы не придем к тебе, то ты можешь возвращаться обратно.
Извозчик рассыпался в благодарностях, но ни Проспер, ни Вердюре его не слыхали. Они бросились бежать по дороге.
Погода стала еще хуже, чем была, когда они договаривались с извозчиком. Дождь лил ручьями, и сильный ветер неистово дул в ветвях деревьев, которые как-то похоронно гудели. Темнота была непроницаемая, и только вдалеке, на станции железной дороги, мерцали огни, которые чуть не гасли от порывов ветра.
Они бежали с пять минут, усталые, залепленные грязью, то и дело попадая в лужи. Наконец кассир остановился.
— Вот здесь… — сказал он. — Это дом Рауля.
У железной решетки дома-особняка стояла та самая карета, которую видели перед собою Вердюре и его спутник.
Сгорбившись на козлах и укутавшись от ветра и дождя в свой капюшон, извозчик дремал в ожидании тех, кого привез.
Вердюре подошел к карете и дернул его за капюшон.
— Послушай-ка! Любезный!
Спросонья извозчик потянул за вожжи и забормотал:
— Пожалуйте, сударь, пожалуйте!
Но, увидав при свете своих фонарей таких грязных людей, он испугался за свой кошелек и даже за свою жизнь и в страхе замахал своим бичом.
— Я занят… — заговорил он. — Я занят.
— Да я знаю это, болван! — крикнул на него Вердюре. — Я хочу предложить тебе сто су за то, чтобы ты сообщил мне, не даму ли ты сюда привез?
Казалось, что пять франков прельстят его, но он грубо отвечал:
— Идите своей дорогой, а не то закричу!
Вердюре живо отошел от него.
— Уйдемте, — сказал он на ухо Просперу. — Он и впрямь кликнет полицию, и тогда прощай наш план! Надо перелезть где-нибудь в другом месте, а не через решетку.
И они стали разыскивать, где бы им можно было перелезть поудобнее, но в темноте трудно было отыскать подходящее место, тем более что решетка сменилась стеной, которая была десять или двенадцать футов вышиной. К счастью, Вердюре был очень ловок. Он отошел от стены, разбежался, вспрыгнул, ухватился за край ее руками и, взобравшись, сел на нее верхом. Затем он помог взобраться и слезть с нее Просперу.
Очутившись в саду, Вердюре стал исследовать место.
Дом Лагора находился в саду и представлял собой узкое, несоразмерно высокое здание в два этажа, кроме подвального.
Было освещено только одно окошко во втором этаже.
— Вы двадцать раз бывали в этом доме, — обратился к Просперу Вердюре. — Не можете ли вы мне сказать, в какой это комнате горит огонь?
— Это спальня Рауля.
— Отлично. А что в подвальном этаже?
— Кухня, буфет, бильярдная и столовая.
— А на первом?
— Две гостиные, разделенные драпировкой, и рабочий кабинет.
— Где помещается прислуга?
— В такую пору Рауль остается без прислуги. Ему прислуживают здешние жители, муж и жена, которые приходят утром и уходят вечером после обеда.
— Превосходно! В таком случае идемте!
И они направились прямо к крыльцу, но дверь оказалась запертой.
— Какая досада! — проворчал Вердюре. — Всегда инструменты надо иметь с собою! Ни отмычки, ни долота, хоть бы маленький кусочек железа!..
Видя, что ничего не выходит, он бросился от двери ко всем окнам подвального этажа. Но, увы! И здесь все окна были на запоре и ставни были плотно закрыты.
Вердюре был обозлен. Он бегал вокруг дома, как лисица вокруг курятника, стараясь отыскать вход и не находя его. В отчаянии он опять пошел на то место сада, откуда лучше виднелось освещенное окно.
— Ах, если бы можно было увидеть! — воскликнул он. — И только подумать, что там, именно там, — и он показал на окно, — ключ к загадке и что мы от него всего только в каких-нибудь тридцати или сорока футах…
Никогда еще Проспер не был так удивлен поступками своего странного компаньона. В этом саду Вердюре чувствовал себя как дома, несмотря на то, что проник в него воровски. Он разгуливал здесь без всяких стеснений, и можно было подумать, что он уже привык к такого рода экспедициям. Говоря об отмычках, он находил настолько же естественным отпереть ими дверь, насколько и чиновнику кажется естественным открыть свою табакерку. И, не входя в рассуждения ни о чем, он шлепал по грязи под ветром и под дождем, который по-прежнему лил на него ручьями.
Он приблизился к дому и стал что-то вычислять.
— Я хочу увидеть, что там делается, — сказал он, — и я обязательно увижу.
Вдруг Проспер вспомнил.
— Здесь есть лестница, — сказал он.
— И вы молчите!.. Где?
— В глубине сада, под деревьями.
Они побежали туда и без труда ее отыскали: она лежала около стены. Они подняли ее и в одну минуту поднесли ее к дому.
Но когда они приставили ее, то оказалось, что она не доставала до освещенного окна на целых шесть футов.
— Недостает! — проговорил, разочаровываясь, Проспер.
— Достанет! — перебил его торжествующий Вердюре.
И, отойдя от дома на аршин и повернувшись к нему лицом, он взял лестницу, осторожно приподнял ее и, ухватившись за нижние ее концы, поставил их себе на плечи. Таким образом препятствие было устранено.
— Теперь лезьте! — обратился он к Просперу.
Проспер был достаточно возбужден и заинтересован, и потому не медлил. Энтузиазм наполнил его душу надеждой на успех, и он почувствовал в себе наплыв бодрости, которой не замечал за собою раньше. Без всякого шума он добрался до нижних ступеней и стал подниматься по лестнице, которая шаталась и раскачивалась у него под ногами.
Но едва только его голова достигла окошка, как он издал крик, ужасный крик, подхваченный непогодой и потерявшийся в вое ветра. И, сорвавшись с лестницы, он упал на мокрую землю.
— Несчастная!.. — забормотал он. — Несчастная!..
С быстротой и невероятной силой Вердюре спустил на землю лестницу и бросился к Просперу, думая, что он расшибся.
— Что вы увидели? — спросил он. — Что там происходит?
— Там Мадлена… — отвечал Проспер слабым, заплетающимся голосом. — Понимаете ли, там, в этой комнате, Мадлена, одна, с Раулем!..
Вердюре смутился. Это сбило его с толку. Он отлично знал, что у Лагора должна быть женщина, но по своим соображениям и судя по записке Жипси, присланной ему в кабачок, он полагал, что это — сама госпожа Фовель.
— Вы не ошибаетесь? — спросил он.
— Нет, нет! Я не мог принять другую женщину за Мадлену. Ах! Вы, который слышали все вчера, научите же меня, что мне теперь делать? Как относиться к этой подлой измене? «Она вас любит, — утверждали вы, — она еще вас любит!»
Вердюре не отвечал. Сбитый с толку, он старался сообразить положение и уже начинал понимать.
— Она здесь, — продолжал Проспер, — и это не тайна даже для Нины. Мадлена, эта благородная и чистая Мадлена, в которую я верил как в свою мать, — и вдруг любовница этого негодяя, похитившего свое имя! И я, честный дурак, сделал из этого жалкого человека лучшего друга, которому поверял все свои тайны и надежды. Он ее любовник! А я… я служил только ширмой для их свиданий, и они смеялись над моей любовью, над моей глупой доверчивостью!.. Но довольно этих унижений!
И он направился к крыльцу.
— Что вы хотите делать? — спросил его Вердюре.
— Мстить!
— Вы не сделаете этого, Проспер!
— А кто мне может помешать?
— Я!
— Вы? Как бы не так!..
И если бы Вердюре не отличался железной силой, то Проспер действительно пошел бы мстить. Но между ними произошла борьба, и Вердюре осилил.
— Если вы поднимете шум, если нас увидят, — сказал он, — то конец всем нашим надеждам!
— Мне больше не на что надеяться.
— От нас улизнет Рауль, и вы навсегда останетесь под подозрением.
— Не все ли это равно для меня?
— Для вас — да, но для меня это не все равно, несчастный! Я поклялся доказать вашу невиновность. В ваши годы более стараются вернуть любовниц, чем свое честное имя!
— Я желаю отомстить за себя! — настаивал Проспер.
— Ладно, мстите, — воскликнул Вердюре, — но мстите, как подобает это мужчине, а не как ребенок! Что вам делать в этом доме? Есть у вас оружие? Нет! Вы броситесь на Рауля и сцепитесь с ним один на один? А в это время Мадлена сядет в карету и улизнет!
Проспер молчал.
— Что же делать? — спросил он потом.
— Ждать.
Проспер колебался. Затем с решимостью, в которую не поверил бы ранее сам, он поднял лестницу и поставил ее нижними концами на плечи так, как это делал и Вердюре.
— Лезьте вы! — сказал он ему.
В одну секунду Вердюре был уже у окна.
Проспер не ошибся. Это действительно была Мадлена, одна, у Рауля Лагора, в такой поздний час.
Стоя посредине комнаты, она о чем-то горячо говорила. Ее поза, движения, лицо говорили о негодовании, которое она плохо скрывала. Рауль сидел в кресле у камина и ковырял щипцами в углях. По временам он пожимал плечами с видом человека, решившего выслушать все, но ответить так: «Я ничего не могу для вас сделать».
Дул ветер, и до слуха Вердюре долетал лишь один звук их голосов, приставить же ухо к стеклу он не решался из боязни быть замеченным.
«Очевидно, — думал он, — у них очень серьезный разговор, но отнюдь не любовный».
И он продолжал наблюдать.
В отчаянии Мадлена стала умолять; она сложила руки, наклонилась и уже готова была встать на колени.
Рауль отвернулся. Он отвечал ей только односложными словами.
Два или три раза Мадлена направлялась к выходу, но затем возвращалась снова, точно в ожидании милости, не решалась уйти, не получив ее.
В последний раз она, по-видимому, решилась на крайнее средство, потому что Рауль вдруг встал, достав ключ, отпер маленький шкафчик, стоявший у камина, достал оттуда пачку бумаг и подал ей.
«Что это? — подумал Вердюре. — Уж не переписка ли, которая может компрометировать эту барышню?»
Мадлена, взяв пачку, по-видимому, не удовлетворилась ею. Она заговорила вновь и стала на чем-то настаивать, точно требуя чего-то еще. Рауль отказал ей, и она швырнула пачку на стол.
Эти бумаги очень заинтриговали Вердюре. Они были рассыпаны по столу, и он видел их отлично. Они были разных цветов: зеленые, серые, красные.
«Нет, я не обманываюсь, — подумал он, — глаза мне не изменяют. Это расписки из ссудной кассы!»
Мадлена стала рыться в бумагах. Она выбрала из них три, сложила их, спрятала их в карман, а остальные с презрением отшвырнула прочь.
На этот раз она решилась наконец уйти, так как Рауль взял лампу, чтобы ей посветить.
Больше Вердюре не на что было смотреть и он стал осторожно спускаться вниз.
— Расписки ссудной кассы!.. — бормотал он. — Какая странная тайна скрывается во всем этом деле!
Затем он стал быстро убирать лестницу. Рауль, провожая Мадлену, мог сделать несколько шагов по саду и, несмотря на темноту, мог бы ее заметить, если бы она черным пятном оставалась приставленной к стене. Поэтому Проспер и Вердюре положили ее на землю и притаились сами.
В эту самую минуту на крыльце показались Рауль с Мадленой. Он поставил лампу на первую площадку и протянул к ней руку, но молодая девушка с жестом негодования отстранила ее, и это бальзамом пролилось по сердцу Проспера. Однако же такое обращение нисколько не обидело и не удивило Рауля. Очевидно, он привык к нему, так как сделал иронический жест, который означал: «Ну как угодно!»
И он пошел к решетке, сам отпер калитку и затем быстро возвратился домой, а Мадлена села в карету и уехала.
— Ну-с, нам нечего здесь больше делать! — обратился Вердюре к кассиру. — Этот негодяй, ваш Рауль, запер калитку, я сам это видел. Надо удирать тем же путем, каким мы и пришли сюда.
— А лестница-то на что?
— Нет, пусть она остается там, где лежит. Так как нам не скрыть своих следов, то пусть подумают, что это воры…
И они вновь перелезли через стену. Но, не пройдя и ста шагов, они услышали, как вновь отпиралась калитка. Скоро они увидали, как кто-то их обогнал и направился к станции железной дороги.
— Это Рауль… — сказал Вердюре, как только шаги его замолкли. — Наш лакей Жозеф даст нам отчет обо всем, что он расскажет Кламерану об этой сцене. Ах, если бы только на этот раз они говорили по-французски!
Доставивший их извозчик еще находился в трактире, указанном ему Вердюре.
— Нам нельзя ехать поездом, — сказал Просперу Вердюре. — Мы можем столкнуться на станции с Раулем.
Вид обоих седоков удивил извозчика.
— Что это с вами? — воскликнул он, оглядывая их.
Проспер чистосердечно рассказал ему, что они отправились разыскивать дачу своего приятеля, сбились с дороги и оба свалились в темноте в канаву.
— Едем! — раздался повелительный голос Вердюре.
— Пожалуйте… — отвечал извозчик. — Садитесь!
И они поехали.
Но путь обратно показался им необычайно длинным, и всю дорогу они молчали.
Глава XI
На улице Сен-Лазар возвышались два дома двух знаменитых финансовых деятелей, братьев Жандидье. Царственное великолепие их, удивительное сочетание роскоши с комфортом и редкое радушие самих хозяев собирали сюда гостей со всего Парижа.
В субботу же, на другой день после описанной сцены, вся улица Сен-Лазар была запружена экипажами, вытянувшимися в длинную линию.
В десять часов танцевали уже в двух залах.
Был костюмированный бал. Среди костюмов были очень дорогие, попадались костюмы, сделанные с большим вкусом, были и просто оригинальные.
Среди последних выделялся один паяц. Он держал в левой руке древко, на котором в виде флага болтался кусок полотна. На этом полотне было изображено шесть или восемь картин самым лубочным способом, как это делают на балаганах. В правой руке у него была палочка, которой он похлопывал по полотну, точно комедиант, приглашая зрителей.
Паяца окружили со всех сторон, ожидая от него острот, но он упорно молчал и держался у входных дверей.
В половине одиннадцатого он покинул свой пост: в дверях показались господин и госпожа Фовель в сопровождении своей племянницы Мадлены. Группа гостей тотчас же столпилась у дверей. В течение уже десяти дней случай с банкиром с улицы Прованс был предметом всеобщих разговоров. И друзья и враги — все бросились к банкиру, одни — чтобы выразить ему свое сочувствие, а другие — чтобы сказать ему комплимент, похожий на сочувствие.
Принадлежа к людям серьезным, господин Фовель вовсе не был наряжен. Под руку с ним шла его жена, урожденная Валентина Вербери, раскланиваясь по сторонам и приветливо улыбаясь. Ее красота еще была заметна в ней. А теперь, при свете люстры, в очаровательном костюме, — она казалась совсем молодой. Никто не дал бы ей ее сорока восьми лет.
Она выбрала себе туалет эпохи конца царствования Людовика XIV, великолепный и строго выдержанный, весь из затканного бархата, но без единого бриллианта, без единой драгоценности.
Мадлена же оказалась царицей бала. В своем костюме фрейлины, она выступала в душистой атмосфере зала, под блеском массы огней, и красота ее всем настойчиво заявляла о себе. Никогда еще ее волосы не были так черны, никогда еще ее цвет лица не был так изыскан и ее глаза — так прекрасны — блестящи.
Она взяла свою тетку за руку и пошла с нею, а господин Фовель потерялся в толпе, направляясь к зеленым столам, этому убежищу для пожилых людей.
Бал был блестящ до апогея.
Два оркестра, один под управлением самого Штрауса, а другой — его помощника, наполняли залы своими звуками. Толпа двигалась, колебалась как в калейдоскопе, и это было чудесное смешение золота, атласа, бархата и кружев.
Бриллианты сверкали на головах и на груди у дам, щеки их пылали румянцем, глаза горели, и плечи их декольте белели лучше, чем мягкий снег под первыми лучами апрельского солнца.
Забытый всеми, паяц взял свое полотно и удалился в амбразуру окна. Отсюда он не спускал глаз с одной пары, танцевавшей недалеко от него.
Это были Мадлена и какой-то дож в золотом костюме. Дожем этим был сам маркиз Кламеран. Он сиял, помолодел, и глаза его светились торжеством. Между фигурами кадрили он низко склонялся к своей даме и с обожанием ей что-то говорил. Она слушала его, казалось, без удовольствия, но и без неприятного чувства, то покачивая головой, а то посмеиваясь.
— Несомненно, этот негодяй ухаживает за Мадленой, — пробормотал паяц. — Значит, хорошо, что я здесь. Но с другой стороны, странно, что Мадлена позволяет ему ухаживать за собой и говорить ей любезности. Хорошо, что здесь нет Проспера…
В это время к паяцу подошел какой-то пожилой господин в венецианском костюме.
— Помните же, господин… Вердюре, — обратился он к нему полушутя, полусерьезно. — Вы мне обещали!
Паяц почтительно и низко поклонился, но без малейшей тени самоуничижения.
— Я помню! — отвечал он.
— Будьте благоразумны.
— Граф может быть вполне покоен. Я дал ему слово.
— Отлично, я знаю ему цену.
Граф ушел, но в это время кончилась кадриль, и паяц потерял из виду Кламерана и Мадлену.
«Должно быть, они около госпожи Фовель», — подумал он.
И он отправился на поиски.
Изнемогая от жары, которая уже давала себя чувствовать, госпожа Фовель пошла прохладиться в большую галерею, которая благодаря талисману, именуемому деньгами, была обращена теперь в тропический сад, полный апельсинных деревьев, лавров, цветущих роз и белых лилий, протягивавших к публике свои цветы.
Госпожу Фовель паяц нашел именно здесь. Она сидела около группы деревьев, недалеко от двери, ведущей в игорную комнату. Слева от нее сидела Мадлена, справа — Лагор в костюме фаворита Генриха III. Мадлена была печальна. Сорвав камелию с ближайшего дерева, она нюхала ее машинально, безучастно глядя вдаль. Рауль и госпожа Фовель, склонившись друг к дружке, о чем-то перешептывались. В игорной комнате показался Кламеран и встал так, чтобы его не было видно и чтобы ему лучше было наблюдать за госпожой Фовель и Мадленой.
«Что, если бы я находился сейчас за этими камелиями, — подумал паяц, — я услыхал бы все, о чем они говорят».
И он стал с трудом пробираться к камелиям, боясь шевельнуть на ходу деревья. Когда же он добрался до них, то Мадлена поднялась, взяла за руку какого-то перса, сплошь усыпанного драгоценными каменьями, и вышла. В тот же момент поднялся и Рауль. Он вошел в игорную комнату и что-то передал на ухо Кламерану.
«Да, — сказал сам себе паяц. — Эти два негодяя держат в своих руках этих двух бедных женщин, и трудно им вырваться из их когтей. Но почему именно они их держат?»
В это время раздался анонс к менуэту, и галерея опустела. В ней осталось только несколько небогатых дам и угрюмых мужей, жены которых танцевали, да кое-кто из молодежи, стыдившейся своих костюмов.
Паяц решил, что для него это был самый подходящий момент, и, выйдя из засады, стал перед госпожой Фовель.
— Милостивые государыни и милостивые государи… — обратился он к ним. — Я намерен дать вам представление, которое обошло уже все пять частей света и за которое я избран членом многих академий. Потрудитесь занять ваши места! Лампы уже зажжены, и актеры уже одеваются! Видите вы эту превосходную картину? Отлично! На ней изображены восемь актов из одной ужасной, страшнейшей драмы. Ага, вы уже дрожите? Это хорошо! Эта великолепная картина не может дать даже и представления о моем представлении, как капля воды не может дать представления о море и искра о солнце. Ну-с, милостивые государи, мы — в Китае. Первая из этих картин — вон там наверху, налево, — и он указал палочкой, — изображает знаменитого мандарина Ли Фо в кругу своей семьи. Эта женщина, склонившаяся к его плечу, — его жена, а эти дети — плоды их счастливого супружества. Госпожа Ли Фо очень добродетельная дама, обожающая своего супруга и любящая своих детей. А где добродетель, там и счастье, как говорит Конфуций.
И незаметно паяц приблизился к госпоже Фовель, которая в свою очередь пересела на другое кресло, к нему поближе.
— Можете ли вы разобрать в этой мазне хоть что-нибудь? — обратился какой-то полишинель к своему соседу.
— Нет, а вы?
Паяц продолжал:
— Действие второе! Видите вы эту даму, в отчаянии рвущую свои седые волосы? Узнаете вы ее? Нет! А ведь это — сама мадам мандаринша! Я вижу уже слезы на ваших глазах… Плачьте, плачьте! Это уже больше не добродетельная женщина, счастье уже улетучилось вместе с ее добродетелью. Ах, это плачевная история! В один прекрасный день она встретилась на улицах Пекина с неким молодым бандитом и полюбила его. О, несчастная, она его полюбила!
И, произнеся эту фразу трагическим голосом, он стал лицом к лицу с женой банкира и старался не пропустить ни малейшего движения на ее лице.
— Она сознавала все безумие, — продолжал он, — всю нелепость своего чувства, она понимала, что он, еще такой молодой, не может полюбить ее, уже старуху, и что если он иногда шептал ей на ухо слова любви, то лгал. И она знала, что в один прекрасный день в ее руке останется только одна его одежда…
В это время вошел Кламеран и стал тоже слушать.
— На третьей картине, — продолжал паяц, — мандаринша уже примирилась с угрызениями совести, а они, как вам известно, пребеспокойные жильцы. Она решила привлечь к себе этого обольстительного юношу уже не любовью, а интересом. С этой целью она облеклась в ложное достоинство и представила этого господина всем главным мандаринам Поднебесной империи. А затем, так как этому молодому человеку нужно было играть в свете роль, она отдала ему все: браслеты, ожерелья, диаманты и перлы. А он снес их в ломбард, заложил их там и в благодарность за это отказался их выкупить.
Госпожа Фовель стала выказывать явные признаки беспокойства. Раз даже она хотела встать и уйти, но собравшись с силами и побуждаемая любопытством, закрылась веером и продолжала слушать.
— Наконец, — продолжал паяц, — все ее драгоценности были уже заложены, и у мандаринши не осталось больше ничего. Тогда молодой бандит придумал коварный проект — похитить яшмовую пуговицу невероятной цены, которая была спрятана у мандарина в гранитной кладовой, день и ночь оберегаемой тремя солдатами. Что было делать? Мандаринша долго сопротивлялась. Она знала, что обвинят непременно невинных солдат и распнут их на кресте, как это водится в Пекине, и мысль об этом угнетала ее. Но бандит говорил так нежно — яшмовая пуговица была украдена. Четвертая картина изображает, как эти двое людей тайком, воровски отправляются красть; вы видите, как они дрожат от волнения…
Он остановился. Трое или четверо зрителей заметили, что с госпожой Фовель дурно, и подскочили к ней на помощь.
Он обернулся назад и увидал перед собою Кламерана и Лагора, бледных как смерть, и с угрозой на него наступавших. Дурнота госпожи Фовель прошла незамеченной. Те, кто видел ее потерявшей сознание, смешались с толпой, приписав это влиянию жары. Тотчас же к ней позвали мужа, и когда он прибежал к ней, то она уже спокойно разговаривала с Мадленой, и ему оставалось только вернуться к своим партнерам.
Кламеран и Рауль еле владели собой.
— Позвольте спросить вас, — обратился к паяцу Кламеран, — с кем я имею честь говорить?
— Вам нужен мой паспорт? — весело отвечал паяц. — И вам тоже, господин фаворит? У меня его нет с собою, он в участке. В нем обозначены мое имя, фамилия, возраст, местожительство и прочее.
Кламеран остановил его грубым жестом.
— Вы позволили себе вероломный поступок, — сказал он.
— Я?
— Да, вы… Что это за ужасная история, которую вы здесь рассказали?
— Ужасная! Вам легко это говорить, а каково мне было ее сочинить!
— Довольно, милостивый государь, довольно! Это низкая инсинуация в адрес госпожи Фовель!
— В чем же тут сходство госпожи Фовель с моей мандариншей?
— Разве вам не известно несчастье, постигшее господина Фовеля?
— Несчастье?… — переспросил паяц.
— Я говорю, милостивый государь, о той краже, жертвой которой стал господин Фовель.
— Ах, знаю… От него удрал кассир, прихватив с собой и триста пятьдесят тысяч франков? Что ж такое! Это самый обыкновенный и повседневный случай.
— Милостивый государь, я требую от вас объяснений!
— Никаких объяснений я вам давать не желаю!
— Что вы сказали?
— Оставьте меня — вот что! Если помимо воли я обидел в чем-нибудь жену господина, которого я уважаю, то смею думать, что только ему одному и принадлежит право судить о том, насколько мои слова касаются его чести. Он старше меня, — скажете вы, — и не пожелает принимать от меня объяснений? Что ж, это очень возможно! Но у него есть сыновья, и один из них даже здесь, я его видел сейчас. Вы меня спрашиваете, кто я такой? В свою очередь обращусь к вам и я с вопросом: кто такие вы и какое право имеете вы заступаться за госпожу Фовель? Что, вы ее родственники, друзья, союзники? По какому праву вы стараетесь бросить на нее тень, выискивая в самой невинной истории то, чего в ней вовсе даже и нет?
— Я друг господина Фовеля, — ответил Кламеран, — и на этом основании должен заботиться о его чести так же, как и о своей собственной. А если и этого вам мало, то прошу вас знать, что его семья скоро станет моей.
— Что вы!
— Да-с, милостивый государь! Через восемь дней будет официально объявлено о моей помолвке с мадемуазель Мадленой!
Эта новость была настолько непредвиденна, что паяц раскрыл от удивления рот. Но это продолжалось всего только одну секунду. Он низко поклонился и громко, чтобы все могли его услышать, воскликнул:
— Честь имею вас поздравить! Не говоря уже о том, что мадемуазель Мадлена сегодня царица бала, за ней еще, говорят, целые полмиллиона приданого! Поздравляю вас!
— У вас очень длинный язык, господин паяц! — прикрикнул на него Рауль, теряя терпение и бросая вокруг себя беспокойные взгляды, из боязни, чтобы кто-нибудь их не услышал.
— Может быть, мой милый фаворит, может быть! Но руки у меня еще длиннее!
Кламеран поспешил положить этому конец.
— Довольно, — топнул он ногой. — Не стоит разговаривать с человеком, который прячется за свой костюм!
— Вы можете легко узнать у хозяина этого дома, кто я такой… если только посмеете это сделать!
— Вы!.. — воскликнул Кламеран. — Вы…
Быстрым жестом Рауль остановил на губах у владельца рудников обидное слово, готовое уже сорваться и дать дорогу событиям, которые бесповоротно повели бы за собой скандал.
Паяц помолчал немного и, не сводя глаз с Кламерана, выразительно произнес:
— Я был лучшим другом вашего покойного брата Гастона. Я был его советником, он поверял мне все свои малейшие надежды. Вот кто я.
Эти простые слова точно громом поразили Кламерана.
Он страшно побледнел, сделал шаг назад и протянул вперед руки, точно там, в глубине залы, видел перед собою призрак.
Он хотел отвечать, протестовать, что-то говорить, но ужас сдавил ему горло.
— Уйдемте! — шепнул ему Лагор, который сохранил еще присутствие духа.
И он с силою увлек Кламерана за руку, поддерживая его по пути, так как тот пошатывался, точно пьяный, и хватался за стену, чтобы не упасть.
«Что же это должно означать? — подумал паяц. — Откуда этот страх? Что это за ужасное воспоминание, которое я разбудил в этой грязной душе?»
И он унесся мыслями далеко от действительной жизни, далеко от этой галереи и от бала у Жандидье. Но легкий удар по плечу призвал его к действительности. Перед ним стоял венецианский граф.
— Довольны вы, господин Вердюре? — спросил он его.
— И да и нет, граф, — отвечал паяц. — Нет — потому что мне не удалось вполне достигнуть того, на что я рассчитывал, когда просил у вас разрешения прийти на этот бал, а да — потому что теперь у меня уже не остается ни малейшего сомнения в том, что это два больших негодяя.
— Значит, вы недовольны?
— Нет, я не жалуюсь, граф. Наоборот, я благословляю случай или Провидение, давшее мне лишний повод убедиться в существовании одной тайны, в которой я не сомневался.
В это время несколько гостей подошли к графу и прервали этот разговор. Граф должен был удалиться, но на прощанье с большою сердечностью пожал руку паяцу. А паяц пошел отыскивать госпожу Фовель, которая уже давно покинула галерею. Он нашел ее в зале разговаривавшей с Мадленой. Обе они были чем-то встревожены.
«Отлично! — подумал паяц. — Они обсуждают то, что произошло. Но куда скрылись Лагор и Кламеран?»
Скоро он и их увидел. Они ходили взад и вперед, протискиваясь сквозь толпу, раскланивались и обращались с вопросами то к тем, то к другим.
— Бьюсь об заклад, — проговорил паяц, — что речь идет обо мне. Эти почтенные негодяи выспрашивают у всех, кто я такой. Выспрашивайте, голубчики, выспрашивайте!
Скоро они стали прощаться. Они были так озабочены, столько им нужно было обдумать и обсудить на свободе, что, не дождавшись даже ужина и бросив госпожу Фовель и ее племянницу на произвол судьбы, они откланялись и уехали.
Паяц проводил их до передней и был свидетелем того, как они оделись, сошли с лестницы и вышли на улицу.
— На этот раз довольно, — проговорил паяц. — Теперь уж и мне нечего здесь делать.
И, одевшись в широкую накидку, которая вполне скрывала его костюм, он вышел вслед за ними.
У крыльца стояло много свободных извозчиков, но в воздухе было отлично, морозно, было сухо, и паяц решил отправиться пешком. И он пошел вдоль улицы Сен-Лазар и повернул к Нотр-Дам-Делорет, чтобы попасть поскорее на Монмартр.
Вдруг в ту самую минуту, когда он вступил уже в улицу Оливье, откуда-то из темноты выскочил какой-то человек, бросился на него и, замахнувшись кинжалом, ударил его изо всех сил по руке.
Удар был намечен прямо в грудь, но паяц ловко увернулся, и кинжал сильно поранил ему руку.
— Ах, канальи! — громко воскликнул паяц. И, отскочив назад, он приготовился к защите. Но эта предосторожность оказалась излишней.
Увидав, что дал промах, убийца бросился бежать и скоро скрылся из виду в окрестностях Монмартра.
— Это, несомненно, Лагор, — пробормотал паяц. — Значит, недалеко где-нибудь и Кламеран.
Тем временем рана давала себя чувствовать, хотя и не была особенно тяжелой. Он вытащил из кармана носовой платок и мастерски, точно в госпитале, забинтовал себе руку.
Однако же оставаться на том же самом месте было невозможно, так как было несомненно, что его преследуют. И он не ошибался. Дойдя до Монмартрского бульвара, он пересек улицу и увидал двух человек, которых тотчас же и признал. В тот же самый момент и они пересекли улицу, но несколько повыше его.
— Однако же мне приходится иметь дело с отъявленными негодяями, — проговорил паяц. — Они даже и не стараются скрыть того, что меня преследуют.
И он вошел на бульвар и, не оборачиваясь назад, сознавал, что в каких-нибудь тридцати шагах за ним идут по пятам и его преследователи.
— А все-таки надо отделаться от них во что бы то ни стало, — продолжал паяц. — На их глазах я не могу возвратиться ни к себе домой, ни в номера «Архистратига». Ясно, что они теперь идут за мною по пятам уже не с целью убить меня, а для того, чтобы узнать, кто я такой. И если они узнают, что под этим паяцем скрывается Вердюре, а под Вердюре — сам Лекок, то тогда конец всем моим проектам. Они удерут за границу, так как денег у них на это хватит, — и я останусь ни при чем.
И ему не оставалось больше ничего, как обмануть своих преследователей. Это он и сделал. Дойдя до сквера Искусств и Промышленности, он сразу остановился. Навстречу ему шли двое полицейских, он их остановил и о чем-то спросил.
Этот маневр повлек за собою то, чего он и ожидал. Рауль и Кламеран тоже остановились шагах в двадцати от него, боясь двинуться вперед.
В двадцати шагах!.. Это все, что было нужно для паяца. Разговаривая с полицейскими, он постучался в ворота дома, около которого они стояли, но ворота оказались незапертыми; он раскланялся с блюстителями порядка и быстро шмыгнул в калитку.
Через минуту ушли и городовые. И Кламеран и Лагор в свою очередь подошли к этим же воротам и тоже постучались в калитку.
Им отворил заспанный дворник, которого они спросили, кто этот господин, который вошел сейчас в костюме паяца? Он им ответил, что никого не видал и что никакой паяц сейчас в ворота не входил.
— Разве же я могу всех углядеть! — огрызнулся он. — Двор наш проходной, одни ворота выходят сюда, а другие на улицу Сен-Дени!
— Нас провели! — воскликнул Лагор. — Теперь уж мы никогда не узнаем, кто это такой!
И, полные беспокойства, Рауль и Кламеран отправились восвояси, а тем временем паяц как молния помчался в номера «Архистратига» и прибежал туда, когда уже было три часа утра.
А между тем еще с полночи его с лихорадочным нетерпением поджидал Проспер и, заслышав его шаги, бросился к нему навстречу, спустившись до самой половины лестницы.
— Ну что? — спросил он. — Что вы узнали? Видели Мадлену? Были на балу Рауль с Кламераном?
Но не в правилах Вердюре было разговаривать о таких вещах там, где их могли легко подслушать.
— Прежде всего, — отвечал он, — пойдемте в вашу комнату, и добудьте мне кувшин воды, чтобы обмыть рану, она немилосердно жжет.
— Боже мой! Вы ранены!
— Это ваш друг Рауль оставил мне на память!
И они оба принялись за обмывание раны.
— А теперь, — обратился к Просперу Вердюре, покончив с перевязкой, — давайте поболтаем. Наши враги поняли, в чем дело. Надо ковать железо, пока горячо. До сих пор я обманывался, я стоял на ложном пути. Предположив, что между госпожой Фовель и Раулем существуют преступные отношения, я думал, что у меня в руках уже находится нить, которая приведет нас к истине. Но я не должен был этому доверять. Это так просто, так естественно.
— Значит, вы признаете госпожу Фовель невиновной?
— Нет, не признаю, но она невиновна именно в том смысле, в каком я предполагал. Вот каковы были мои предположения, вот как я представлял себе это дело: увлеченная молодым, обольстительным авантюристом, госпожа Фовель дала ему имя какой-нибудь из своих родственниц и ввела его в дом своего мужа как племянника. Дело велось к тому, чтобы открыть двери для адюльтера. Она стала отдавать ему свои деньги, а когда их не хватило, она доверила ему свои драгоценности, которые он относил потом в ссудную кассу. Наконец, лишившись всего, она помогла ему добраться до кассы своего мужа. Вот каковы были мои предположения.
— При таком объяснении становится понятным все, — отвечал Проспер.
— Нет, не все. И это потому, что я чрезвычайно легкомысленно отнесся к делу. Ну, как вы объясните себе власть Кламерана, если мое первое предположение верно?
— Он просто соучастник Лагора.
— В этом-то вся и ошибка! Я сам думал, что Рауль в этом деле — все, а на деле оказалось, что он в нем — ничто. Вчера они разговаривали между собою, и Кламеран сказал ему: «Не вздумай, любезный, идти против меня, а не то я тебя разобью вдребезги, как стекло». Видите, в чем суть? Фантастический Лагор представляет собой не креатуру госпожи Фовель, а душу, обреченную на власть Кламерану. И если бы наши первые предположения были верны, то как объяснить себе такое безответное повиновение Мадлены? Нет, она повинуется не Лагору, а Кламерану!
Проспер хотел было возражать, но Вердюре нетерпеливо повел плечами. Для того чтобы убедить Проспера, довольно было бы произнести одну только фразу: стоило бы только сообщить, что всего только три часа тому назад сам же Кламеран объявил о своей помолвке с Мадленой. Но Вердюре не решился сделать это. Он был убежден, что еще достаточно времени впереди, чтобы расстроить этот брак, и потому счел нужным не нарушать спокойствия своего протеже.
— Кламеран, — продолжал он, — только один Кламеран держит в своих руках госпожу Фовель! Но чем он ее держит, что это за таинственное орудие власти? Только пятнадцать месяцев тому назад они встретились, и это в первый раз после их знакомства в ранней молодости, и до этого времени репутация госпожи Фовель была вне сомнений. Значит, секрет этой власти, с одной стороны, и этого подчинения — с другой, надо искать в их далеком прошлом.
— Мы ничего не узнаем, — проговорил Проспер.
— Наоборот, мы узнаем все, когда проникнем в прошлое Кламерана. Ах, когда я сегодня вечером упомянул имя его брата Гастона, он побледнел и попятился так, точно видел перед собою привидение. А я знаю, что Гастон умер скоропостижно после одного из посещений своего брата.
— Вы подозреваете его в убийстве?
— Я могу подозревать людей, которые хотели убить и меня. Милый мой, кража в этом деле составляет собою только второстепенную подробность. Ее легко объяснить, и если бы суть состояла только в ней, то я сам сказал бы вам: «Моя задача окончена, передадим дело судебному следователю». Но, к сожалению, это не так. Я знаю, кто дал вору ключ, и знаю, кто сообщил ему и слово.
— Ключ!.. Вероятно, сам господин Фовель. Но кто же сообщил ему слово?
— Слово? Несчастный… Его сообщили сами вы! Не помните?… К счастью, ваша любовница помнит это лучше, чем вы. Поройтесь-ка в воспоминаниях! За два дня до кражи вы ужинали с Жипси, Лагором и еще с какими-то двоими. Нина была печальна. Под конец ужина она стала плакать, утверждая, что вы ее не любите.
— Да, да… теперь я это припоминаю.
— И знаете вы, что вы ей на это ответили?
Проспер подумал и ответил:
— Нет.
— Бедный малый! Вы ответили Нине следующими словами: «Ты упрекаешь меня в том, что я не думаю о тебе, и ты не права. В эту самую минуту твое имя оберегает кассу моего патрона».
Проспер точно обезумел. Эти слова как громом поразили его.
— Да, — воскликнул он. — Теперь я все припоминаю!
— А остальное понятно, — продолжал Вердюре. — Один из мужчин отправился к госпоже Фовель и силой вынудил ее отдать ключ ему. Затем он нажал на замке пуговицы на слово «Жипси» и взял из кассы триста пятьдесят тысяч франков. И заметьте это — госпожа Фовель повиновалась только благодаря угрозам. На другой день после кражи она чуть не умерла, несчастная, и это именно она прислала вам тогда десять тысяч, рискуя навлечь на себя подозрение.
— Но кто же украл? Рауль? Кламеран? Какое они имеют отношение к госпоже Фовель? При чем тут Мадлена?
— На эти вопросы, дорогой Проспер, пока я ничего вам не отвечу и именно благодаря им считаю еще преждевременным передавать дело судебному следователю. Дайте мне сроку только десять дней. Если в течение этих десяти дней я ничего не узнаю нового, то я сам приду к вам и скажу: «Пойдем к Партижану и передадим ему все, что нам известно».
— Значит, вы уезжаете?
— Через час я уже буду на пути в Бокер. Там жили Кламеран и госпожа Фовель, когда она еще была девицей Вербери. Кламеран и Рауль от нас не уйдут, за ними будет наблюдать полиция. Но вы, Проспер, мой друг, будьте благоразумны. Поклянитесь мне, что в мое отсутствие вы ни разу не выйдете из дому!
Проспер поклялся, но на прощание не мог удержаться от вопроса:
— Узнаю ли я наконец, кто вы такой? — спросил он Вердюре.
— Это я скажу вам в присутствии Нины, — отвечал этот удивительный человек, — в тот день, когда вы будете венчаться с Мадленой.
И он отправился в путь, а Проспер уединился в номерах «Архистратига», боясь даже подойти к окну.
Два раза он получал известия от Вердюре. В первый раз пришло от него письмо, в котором он сообщал, что виделся с его отцом, посвятившим его во многое, а во второй раз от его имени приходил лакей Кламерана Дюбуа, который сообщил, что все обстоит благополучно.
Все шло своим чередом, пока наконец на девятые сутки добровольного заключения, в десятом часу вечера, Просперу не захотелось вдруг пройтись. От долгой бессонницы у него разболелась голова, и ему казалось, что прогулка на чистом воздухе может его освежить.
— Чем я рискую в такой поздний час и в таком квартале, как этот? — соображал он сам с собою. — Я дойду только до Ботанического сада и, конечно, не встречусь по пути ни с кем.
К несчастью, он не исполнил этого в точности и, перейдя через полотно железной дороги на Орлеане, зашел в портерную выпить кружку пива.
Машинально развернул он попавшуюся под руку газету и прочитал в ней следующее:
«Объявляется о предстоящем бракосочетании племянницы банкира господина Фовеля с маркизом Луи Кламераном».
Эта ужасная новость доказала ему всю справедливость предостережений Вердюре. В отчаянии, потеряв голову, он уже видел перед собою Мадлену, навеки связанную с этим негодяем, и ему казалось, что Вердюре уже не застанет ее свободной и уже никакими силами не устранить этого брака.
И, приказав подать себе бумагу и перо и позабыв о том, что никакими несчастьями в свете нельзя оправдать такой гадости, как анонимное письмо, он изменил свой почерк и написал следующие строки своему бывшему патрону:
«Милостивый государь!
Вы сделали донос на вашего кассира, и вы правы, потому что потеряли к нему доверие.
Но если это он украл у вас 350 тысяч франков, то не он ли также стащил и бриллианты у вашей жены и снес их в ломбард, где они находятся и сейчас?
На вашем месте я не делал бы скандала, а стал бы наблюдать за вашей женой и, быть может, получил бы основания для того, чтобы остерегаться и ее племянника.
Кроме того, перед самым подписанием Мадленой брачного контракта я отправлюсь в полицию и кое-что сообщу ей из прошлого господина маркиза Кламерана.
Ваш доброжелатель».
Написав это письмо, Проспер расплатился и вышел. А потом, боясь, что письмо может опоздать, он отправился прямо на Главный почтамт. До сих пор он еще не сознавал всей неприглядности своего поступка, но в самый последний момент, когда рука его уже потянулась к почтовому ящику, он сделал над собой усилие и опустил в него письмо.
А придя домой, он горько раскаялся в своем поступке.
В его отсутствие заходил Жозеф Дюбуа. Он велел передать, что получил от Вердюре телеграмму, в которой тот извещал его, что послезавтра вечером, в девять часов, с лионским поездом он возвратится в Париж.
Проспер был в отчаянии. Он отдал бы все на свете, чтобы только получить назад анонимное письмо.
А тем временем Вердюре вез важные открытия. Скомбинировав все, что он уже знал, с тем, что рассказала ему старая служанка мадемуазель Вербери и что сообщил ему старый лакей Кламерана, а также показания прислуги Рауля в Везине и сведения, добытые Дюбуа — Фанферло, он пришел к заключению, что здесь в свое время произошла тяжкая драма и благодаря своему гению восстановил ее до самых малейших деталей.
И он был прав, предположив то, что именно в далеком прошлом наших героев следует искать причины того преступления, жертвой которого оказался Проспер Бертоми.
Вот какова была эта драма.
Глава XII
В двух милях от Тараскона, на левом берегу Роны, возвышается потемневший от времени и запущенный, но еще крепкий замок Кламеран.
В 1841 году в нем обитали старый маркиз Кламеран и двое его сыновей — Гастон и Луи.
Эмигрировав во время французской революции 1789 года одним из первых вместе с графом Дартуа, старый маркиз возвратился во Францию только в 1815 году вместе с войсками союзников. Здесь, благодаря судьбу, он нашел поджидавшую его возвращения небольшую часть от его прежних неизмеримых владений, чудом не попавшую в чужие руки, истощенную, но все же дававшую достаточно дохода для того, чтобы вести честную, трудовую жизнь. Но, имея в своем распоряжении только около пятнадцати тысяч ливров ежегодно, он проживал по 25 и даже по 30 тысяч, в надежде на то, что скоро наступит Реставрация, которая возвратит ему его бывшие владения сполна.
Глядя на него, жили широко и оба его сына. Младший, Луи, проводил время в вечных поисках за приключениями, пил, играл, много проигрывал. Старший же, Гастон, старался идти в уровень с эпохой, работал, читал и тайком получал журналы, одно заглавие которых казалось его отцу кощунством.
Невдалеке от замка Кламеран находился замок Вербери, не такой внушительной наружности, как первый, и построенный не с такими претензиями, но очень красивый. Здесь жила вечно судившаяся и вечно проклинавшая свою судьбу графиня Вербери. Это была высокая, худая женщина с резкими чертами лица и характера, надменная, презрительно и холодно относившаяся ко всем, кого она считала ровней себе, и жестоко к тем, кто был ниже ее по общественному положению.
У нее была единственная дочь, восемнадцатилетняя девушка, Валентина, бледная, хрупкая, со светлыми волосами и большими пугливыми глазами; о ее красоте говорили далеко на берегах Роны. Часто ее видели с книжкой в руке, сидевшею у самой воды под большим деревом в белом платье, с прекрасными полураспущенными волосами, и прозвали ее «феей Вербери».
Старый Кламеран презирал графиню Вербери, и она ему платила тем же. Но они были соседи, настолько близкие, что Кламеран мог видеть, как собаки Валентины бегают по аллеям парка Вербери, а графиня каждый вечер имела удовольствие поглядывать на ярко освещенные окна столовой Кламерана. И как только зажигались в ней огни, графиня каждый день, в определенный час и определенным тоном, в котором звучали неприязненные нотки, восклицала:
— Ну, опять начинаются оргии!
Между двух замков протекала Рона, быстро катившая свои струи, но был между этими двумя семьями еще и другой забор, более непроходимый, чем Рона, который трудно было бы устранить или разрушить.
Что же это за забор? Откуда он?
На этот вопрос затруднились бы ответить даже сами графиня и маркиз.
Говорили, что еще при Генрихе IV или Людовике XIII один из Вербери обольстил и бросил одну из Кламеран. Обольщение это повлекло за собою дуэль; сверкали мечи, было пролито много крови. Но это не все. Однако же на этой канве, полуисторической, полулегендарной, сложилось поверье, переходящее из уст в уста и от поколения к поколению, которое из этого простого события сделало целую трагедию, полную ужасов, вероломства, крови и слез.
Вот почему случилось то, что должно было случиться и что так часто происходит в жизни и описывается в романах. Случилось то, что Гастон, увидав на празднике Валентину, пленился ею. А Валентина заметила Гастона и не могла о нем не думать. Но было столько препятствий!.. В течение целого года каждый из них ревниво скрывал свой секрет. И этот год, полный радостных и опасных воспоминаний, должен был решить их будущее. За первым сладким впечатлением последовало нежное чувство, а затем пришла любовь. А уединение только способствует превращению любви в пылкую страсть.
В один из майских вечеров, когда госпожа Вербери уехала в Бокер, Гастон неожиданно проник в парк и предстал перед Валентиной. Она не удивилась и не обиделась. Взявшись под руку, они долгое время гуляли вместе по аллеям парка. Они говорили между собою только о любви, они знали, что любят друг друга, и со слезами на глазах признавали то, что любовь их безнадежна. Они понимали, что любовь их никогда не восторжествует вследствие глупых отношений между их семьями. Они сознавали, что всякая попытка с их стороны считалась бы безумием, и клялись вечно любить друг друга, но больше уже не встречаться никогда.
Но, увы! Валентину можно было вполне извинить. С робкой, любящей душой, она должна была всякий раз подавлять в себе желание быть нежной с матерью вследствие ее холодного, сурового с ней обращения. И никогда между Валентиной и госпожой Вербери не существовало тех интимных отношений, благодаря которым мать читает в сердце своей дочери как по открытой книге. В своей дочери госпожа Вербери ценила одну только наружность, и больше ничего.
— Вот настанет осень, — говорила она, — заложусь и повезу дочь в Париж. Буду ее там вывозить, и, возможно, к ней присватается какой-нибудь богатенький женишок, который пленится ее глазами и женится на ней. А то и мне самой бедность надоела!
И это она называла любовью к дочери!
И благодаря такой любви и второе свидание влюбленных не было последним. Гастон давал Валентине сигнал, зажигая свечу в одном из окон замка Кламеран, и через четверть часа уже был у ее ног. Каковы же были их намерения, их надежды? Увы, они ничего не ожидали, ни на что не надеялись. С закрытыми глазами, не рассуждая и ничего не боясь, они отдались вполне своему счастью. Не пугаясь тяжкого пробуждения, они предавались счастливому сну настоящего.
И они думали, что никто не узнает об их тайне, а между тем уже давно история об их любви и их свиданиях стала переходить из уст в уста.
Как-то вечером невдалеке от берега они заметили темную тень, которая оказалась баркой, плывшей по течению.
— Это запоздалый рыбак, — сказали они. — Он возвращается домой.
Но они ошиблись. Это был шпион, который подглядел за ними, чтобы потом рассказать о них с тысячами прикрас.
В начале ноября Гастон и сам узнал об этом.
От долгих, упорных дождей Рона вздулась. Боялись наводнения. Пускаться через реку вплавь было бы смешно, и Гастон отправился в Тараскон, чтобы там перейти через мост и левым берегом добраться до замка Вербери. Валентина поджидала его к одиннадцати часам. В Тарасконе он встретил приятеля и зашел с ним пообедать в гостиницу «Три императора». После обеда они отправились в маленькое кафе на ярмарочной площади. Кафе оказалось полно народу: Гастон с приятелем потребовали себе пива и стали играть в бильярд. Не доиграв партии и до середины, Гастон вдруг услыхал взрыв смеха у одного из столиков, стоявших в глубине. Поиграв еще с минуту, он вдруг побледнел, положил кий на бильярд и бросился к столу. Вокруг него сидели пять человек, играли в домино и пили красное вино.
— Повторите еще раз то, что вы сейчас сказали, — обратился Гастон к одному из них, по имени Жюль Лазе. — Потрудитесь немедленно повторить!
— А кто мне в этом помешает? — спокойно отвечал Лазе. — Я сказал сейчас и могу это снова повторить, что девушки высшего сорта ведут себя хуже, чем мещанки.
— Но вы упомянули сейчас имя!
— Да, я произнес сейчас имя этой хваленой феи Вербери!
Все посетители поднялись со своих мест и окружили разговаривающих. По вызывающему тону Гастона они подумали, что он придирается к Лазе, и Гастон понял, что они на его стороне и что он сам окружен врагами. Но он был не таков, чтобы отступать даже и в том случае, если бы их было не пятнадцать — двадцать, а целые десятки.
— Это подло! — воскликнул он, задрожав от гнева. — Подло и мерзко говорить гадости о девушке, мать которой вдова и у которой нет ни брата, ни отца, чтобы заступиться за ее честь!
— А если у нее нет ни брата, ни отца, — отвечал Лазе, — то есть любовники. Довольно и этого!
Ужасного слова «любовники» было достаточно для того, чтобы ярость овладела всем существом Гастона. Он поднял руку, размахнулся ею и изо всех сил ударил по щеке Лазе.
В кафе поднялись шум, крики. Все знали необузданный характер Лазе, его геркулесовскую силу и неустрашимость. Одним ударом он отшвырнул от себя стол, стоявший между ними, бросился на Гастона и схватил его за горло. Друг Кламерана хотел было прийти к нему на помощь, но его окружили со всех сторон и избили киями. К тому же и сам Лазе не желал вмешательства третьего лица.
— Расступитесь, — кричал он, — сдай назад! Я разделаюсь с ним и один!
Но все были слишком возбуждены и не могли оставаться простыми зрителями драки. Пять или шесть человек молодежи бросились к Гастону, отняли его у Лазе и оттолкнули его к бильярду. Тогда он потерял голову. Схватив с соседнего стола, за которым обедали какие-то приказчики, попавшийся ему под руку нож, он два раза вонзил его в грудь первому подвернувшемуся врагу.
Это был Жюль Лазе. Он повалился, как сноп.
Все остальные бросились на Гастона. Он уже считал себя погибшим, ему уже было нанесено три или четыре удара, как вдруг отчаянное решение пришло ему на ум. Он вскочил на бильярд и, разбежавшись по нему, изо всех сил бросился в окно. Зазвенели стекла, но Гастон уже был вне кафе. Он бежал по ярмарочной площади, не зная куда.
Была скверная погода, солнце уже село, и большие, черные, снеговые тучи плыли по небу. Но было еще светло.
Он решил, если удастся, бежать к замку Кламеран и с невероятной быстротой, перебежав по диагонали ярмарочную площадь, бросился к плотине, которая защищала Тарасконскую долину от наводнений. К несчастью, добравшись до этой плотины, поросшей великолепными деревьями и служившей местом для гулянья, Гастон позабыл, что она обнесена изгородью в три проволоки, как это делается обыкновенно вокруг мест, предназначенных для одних только пешеходов. Разлетевшись со всех ног, он ударился об изгородь, которая отбросила его назад, сильно поранив ему бедро.
Он быстро поднялся, но преследователи уже насели на него, и на этот раз ему уже нельзя было ожидать пощады. Рассудок оставил его. Он не знал, как ему поступить. Кто-то бросил в него бутылкой, она рассекла ему бровь, и кровь пролилась из раны и ослепляла его.
Он решил пробиться или умереть.
И, все еще не расставаясь с окровавленным ножом, несчастный взмахнул им во второй раз. Раздался ужасный крик, и повалился еще один человек.
Это дало ему отсрочку. Он бросился к изгороди и перескочил на плотину.
Двое из преследовавших склонились над раненым, а пятеро остальных с удвоенной энергией пустились за ним в погоню.
Но Гастон был проворен, ужас положения утроил его силы. Разгоряченный борьбой, он не чувствовал своих ран и бежал быстрее, чем скаковая лошадь.
Скоро преследователи от него отстали, шум их голосов стал замолкать и наконец замолк совсем.
А Гастон все еще бежал, перелезая через изгороди и перепрыгивая через канавы, пока не убедился наконец, что погоня уже невозможна. Тогда он упал в изнеможении у дерева, попавшегося ему на пути.
Он убил…
Он убил, но его рука все еще сжимала это орудие смерти. Он с ужасом отбросил его подальше от себя.
Теперь он погиб. Но с ним вместе погибала также и Валентина: ее репутация была подорвана. И все из-за того, что он не сумел обуздать себя.
Однако же оставаться здесь было бы невозможно. Не было никакого сомнения в том, что придется иметь дело с вооруженными людьми. Его уже разыскивали. Уже бежали по его следам. Необходимо было во что бы то ни стало попасть в замок Кламеран и, прежде чем бежать, и, быть может, навсегда, повидаться с отцом и еще хоть один раз пожать руку Валентине.
Он поднялся.
Было уже десять часов, когда он, после мучительной ходьбы, постучался наконец в калитку замка.
При виде его старый слуга, отворявший ему калитку, в ужасе отступил.
— Боже мой, граф! — воскликнул он. — Что с вами?
— Молчи! — пригрозил ему Гастон тоном, дававшим понять о страшной опасности. — Молчи! Где отец?
— Господин маркиз у себя в комнате вместе с господином Луи.
Гастон быстро поднялся по лестнице и вошел в ту комнату, где сидели его брат и отец. Они играли в кости.
Вид его поразил старика так, что он выронил кость.
— Что с тобой? — воскликнул маркиз.
— Я пришел проститься с тобой в последний раз, отец, — отвечал Гастон, — и попросить тебя научить меня, как бежать за границу.
— Зачем?
— Нужно, и притом немедленно, сию же минуту. Меня преследуют, за мною погоня, через несколько минут жандармы уже будут здесь. Я убил двоих человек.
— Где? Когда? — спросил старик страшно изменившимся голосом.
— В Тарасконе, в кафе, час тому назад. Их было пятнадцать человек, я был один, схватил ножик и…
— В чем же состояла обида?
— При мне говорили гадости об одной благородной девушке?
— О ком именно?
— О Валентине Вербери.
— Боже мой! — воскликнул маркиз. — О дочери этой старой ведьмы! Эти Вербери, будь они трижды прокляты, всегда приносили нам несчастье!
И хотя он презирал графиню, однако же уважение к благородному происхождению в нем говорило сильнее, чем личное чувство. И, обратившись к сыну, он сказал:
— Что же делать, сын, — ты исполнил свой долг!
А тем временем слуги узнали обо всем, и так как любопытство сильнее, чем даже страх перед господином, то один из старых лакеев маркиза Сен-Жан осмелился, отворил дверь, вошел в нее и спросил:
— Господин маркиз изволил звонить?
— Нет, старый хрен, я не звонил, — отвечал Кламеран, — и ты знал это. Но так как ты уже пришел, то тем лучше. Давайте скорее белье, платья. Неси сюда все, что необходимо для перевязки.
Все было исполнено в одну минуту. Сделав перевязку, Гастон почувствовал себя другим человеком.
— И ты все-таки думаешь бежать за границу? — спросил его отец.
— Да, — отвечал Гастон.
— Брату надо спешить, — настаивал и Луи. — Если он останется, то его арестуют, отведут в тюрьму и будут судить с присяжными… А кто знает, каков еще будет приговор?
— Много они понимают! — проворчал старый маркиз. — Конечно, его засудят! Вот вам ваша хваленая революция! В наше доброе, старое время мы все трое сами взялись бы за оружие, сели бы на лошадей, поскакали бы в Тараскон и уж показали бы!.. А теперь — изволь вот бежать…
— И как можно скорее, — заметил Луи.
— Это верно, — отвечал маркиз. — Но чтобы бежать, чтобы перейти границу, нужны деньги, а у меня их сейчас нет…
Луи отпер шкаф и достал оттуда девятьсот двадцать франков франков золотом.
— Только девятьсот двадцать франков!.. — воскликнул маркиз. — Ну что это за деньги? Разве старший из нашего рода может бежать с такой ничтожной суммой?
В отчаянии старик не знал, что делать. Затем, приняв решение, он приказал Луи подать ему маленький сундучок, окованный железом, хранившийся в нижнем ящике шкафа. Ключ от этого сундучка маркиз хранил на себе, на черной ленте, висевшей у него на шее.
Не без усилии отпер он сундучок и медленно достал оттуда колье, крест, браслеты другие драгоценности.
— Гастон, дорогой мой сын, — сказал он, — выслушай меня. Эти драгоценности принадлежали твоей матери, святой, благородной женщине, которая смотрит сейчас с небес. Они всегда были со мной. В дни несчастий, во время эмиграции, когда мне приходилось давать в Лондоне уроки на фортепиано, я все равно не расставался с ними. И ни разу в жизни мне не приходило в голову их продать. Даже заложить их казалось мне святотатством. Но сегодня… возьми их, продай, и за них тебе дадут около двадцати тысяч ливров.
— Нет, отец, нет!..
— Возьми, мой сын. Твоя мать, если бы она еще жила на свете, сказала бы тебе то же, что и я. Я приказываю тебе.
В волнении, весь в слезах, Гастон опустился на колени перед маркизом, взял его за руку и поцеловал.
— Спасибо, отец… — проговорил он. — Я возьму эти драгоценности, которые носила моя мать. Но я потрачу их только тогда, когда дозволит это моя честь, и отдам тебе в них отчет…
Растроганные сын и отец стали плакать. Но Луи не любил таких спектаклей.
— Уже прошел целый час!.. — прервал он их прощание. — Пора!
— Да, это правда! — воскликнул и маркиз. — Беги, Гастон, беги! Пусть Господь сохранит старшего из рода Кламеранов!
Гастон медленно поднялся.
— Прежде чем расстаться с тобой, отец, — начал он, — я должен исполнить священную обязанность. Я тебе не сообщил еще, что эту девушку, Валентину, которую я сегодня защищал, я люблю…
— О! — застонал Кламеран. — За что такие испытания!
— И я хочу просить тебя, умолять тебя на коленях, чтобы ты испросил для меня у госпожи Вербери руку ее дочери. Я знаю, что Валентина не задумается отправиться со мною в изгнание и приедет ко мне за границу…
— Но это чудовищно! — воскликнул старик, задыхаясь от гнева. — Это сумасшествие!..
— Я люблю ее, отец. Я клялся ей, что не променяю ее ни на одну женщину на свете. И я женюсь на ней, потому что я клялся в этом, а это касается нашей чести.
— Глупости!
— Валентина будет моей женой, потому что уже поздно брать мое слово назад, потому что она отдалась мне, и то, что говорили о ней в кафе, — сущая правда. Валентина — моя любовница!
— Никогда! Слышишь — никогда я не дам тебе своего согласия! Ты отлично знаешь, что значит для меня честь нашего рода. Пусть лучше тебя схватят, засудят, пусть лучше сошлют тебя в каторжные работы, чем мне видеть тебя мужем этой дряни!
Последнее слово задело Гастона за живое.
— Пусть будет по-твоему, — сказал он. — Я остаюсь, пусть меня арестуют и делают со мной что хотят. Мне не нужно жизни без надежды. Возьми назад эти драгоценности, они мне не нужны.
Страшная сцена произошла бы между сыном и отцом, если бы в это время не отворилась с шумом дверь. Вся прислуга, со всего замка, затолпилась в ней.
— Жандармы! — закричали все. — У нас жандармы!
Эта весть как громом поразила старика. Он вскочил на ноги.
— Жандармы? — воскликнул он. — Как, у меня в Кламеране! Но они дорого поплатятся за эту дерзость! Вы мне поможете разделаться с ними!..
— Да, да, — отвечала прислуга. — К черту жандармов!
К счастью, в эту минуту, когда все потеряли голову, Луи сохранил свое спокойствие.
— Сопротивление бесполезно, — сказал он. — Сегодня мы, быть может, прогоним их, а завтра их придет вдвое больше!
— Да, это верно, — с горечью отвечал маркиз. — Луи прав.
— Где они? — спросил Луи.
— У калитки. Разве виконт не слышит, как ужасно они стучат своими саблями?
— Тогда пусть Гастон бежит через огород!
Старик протянул Гастону мешок с драгоценностями, который Гастон положил перед этим на стол, и раскрыл ему свои объятия.
— Подойди ко мне, мой сын, — сказал он, стараясь придать голосу твердость, — подойди, я хочу благословить тебя.
Гастон медлил.
— Подойди же, — настаивал маркиз. — Я хочу обнять тебя в последний раз. Спасайся, Гастон, спасай свое честное имя, а затем… знай, что я тебя люблю. Возьми же эти драгоценности…
И целую минуту отец и сын, взволнованные, стояли, крепко обнявшись друг с другом.
Но шум у калитки становился слышнее.
— Беги! — сказал Кламеран.
И, сняв со стены два пистолета, он протянул их сыну и, отвернувшись, прошептал:
— Не попадайся живым, Гастон…
Гастон бросился в свою комнату, зажег свечу и поставил ее на окне, чтобы дать этим сигнал своей подруге. Он стал поджидать от нее ответа.
— Поскорее, граф! — обратился к нему Сен-Жан, не понимавший того, что он делает. — Ради бога, бегите скорее! Иначе вы погибнете…
Гастон бегом пустился с лестницы. Выбежав на огород и перепрыгивая с борозды на борозду, он скоро оставил за собой значительное пространство еще плохо распаханной и унавоженной каштановым перегноем земли.
Он так отлично знал все эти места, что не сомневался в успехе побега. Он знал, что сейчас же за каштанами начнутся поля, заросшие бурьяном, и вспомнил, что между ними была проложена длинная, глубокая канава.
Ему пришла мысль, что если он спрыгнет в эту канаву, то его не найдут, и что по ней он может незаметно пробежать далеко, тогда как его будут тем временем разыскивать в кустах.
Но он позабыл о том, что река поднялась. Подбежав к канаве, он увидал, что она была полна водою.
Разочарованный, но не сбитый с толку, он остановился и вдруг недалеко сбоку увидал перед собою трех всадников.
Это были жандармы.
При виде их он понял, что возвращаться назад значило бы попасть к ним в руки.
Он знал, что справа от него, невдалеке, был маленький лесок, но между ним и этим леском уже стучали копыта лошадей и его могли бы поймать и здесь. С левой же стороны от него протекала река, вздувшаяся от половодья. Рона пенилась, клокотала, с страшным шумом катя свои мутные воды.
Что оставалось делать?
Для него был только один исход, правда ненадежный, отчаянный, ужасный, но все же возможный, — это броситься в реку.
И он побежал к ней со всех ног, держа перед собою заряженные пистолеты и стараясь достигнуть мыса, на три добрых аршина возвышавшегося над Роной.
— Сдавайтесь! — закричал ему жандармский бригадир.
Гастон не ответил. Он знал, что в эту минуту по ту сторону реки бродит его Валентина, поджидая его и молясь.
— Во второй раз говорю вам: сдавайтесь! — закричал бригадир.
Несчастный не слышал его.
Голос могучего, ревевшего потока заглушил его.
Затем он перекрестился, протянул руки вперед и вниз головою бросился в Рону.
Его перевернуло, закружило и понесло по течению.
Ужас и сожаление, более чем злоба, заставили всех жандармов вскрикнуть.
— Погиб! — сказал один из них. — Кончено! С Роной шутки плохи. Завтра в Арле придется разыскивать его труп.
— Баста! — промолвил и бригадир. — Не суд присяжных, так Рона. Не все ли равно?
Глава XIII
Валентина знала, что в этот вечер Гастон отправится в Тараскон, перейдет там через железный мост, ведущий из Тараскона в Бокер, и, как было условлено накануне, в одиннадцать часов ожидала его на этой стороне.
Но незадолго до назначенного часа, бросив случайно взгляд на замок Кламеран, она увидела там мелькание огней, чего раньше никогда не случалось.
Предчувствие чего-то страшного сразу овладело ею, и сердце у нее похолодело.
Какой-то тайный голос помимо ее воли настойчиво шептал ей, что в замке Кламеран случилось что-то страшное и особенное.
И ее беспокойство возрастало все более и более, пока наконец в окне у Гастона не засветился дорогой для нее сигнал, указывавший на то, что ее друг выходит к Роне.
Она не верила своим глазам, готова была ошибаться в своих чувствах и только тогда, когда сигнал этот повторился три раза, ответила на него сама.
А затем, полуживая, не чувствуя под собою ног и придерживаясь за стену, она сошла в парк и направилась к реке.
Господи!.. Кажется, никогда еще Рона так не бесновалась, как теперь. Возможно ли, чтобы Гастон ее переплыл? Едва ли… значит, действительно произошло нечто ужасное.
Она упала на колени и стала молиться.
И каждый предмет, который появлялся перед нею в темноте на поверхности реки, представлялся ей трупом ее Гастона.
Временами ей казалось, что она уже слышит его крик среди бушующих волн, ужасный крик утопающего, последний его протест против неумолимых, слепых стихий.
Но это не был крик Гастона.
В то самое время, когда гусары и жандармы возвращались без успеха в Кламеран, Гастон сотворил одно из тех чудес, в которое не поверил бы никто, если бы не было на то доказательств.
Он вышел из воды невредимым у самого парка Вер-бери.
И под деревьями он увидел белую тень: это его поджидала Валентина.
Он спасся!
Тотчас же, не дав себе перевести дух, он бросился к Валентине и скоро уже был около нее.
Измученная ожиданиями, несчастная Валентина лежала без чувств, и жизнь уже готова была ее оставить.
Объятия Гастона вернули ее к сознанию.
— Ты! — воскликнула она голосом, полным безграничной любви. — Это ты! Господь сжалился над нами? Он услышал мои мольбы!
— Нет, — проговорил он, — нет, Валентина, Бог безжалостен к нам.
Предчувствия не обманули ее. Она поняла это из слов Гастона.
— Что же случилось? — спросила она. — Почему ты пришел сюда вплавь, рискуя и своею жизнью, и моей? Что произошло?
— Случилось то, Валентина, что наш секрет теперь уже не наш и что наша любовь сейчас известна всем.
Она отшатнулась назад, точно пораженная громом, закрыла руками лицо и громко застонала.
— Да, это так, — сказал Гастон. — Вот что уготовило нам слепое чувство злобы между нашими семьями! Нашу благородную, святую любовь, которая представляет собою лучезарную славу для Бога и для людей, мы должны со стыдом, позорно скрывать, точно совершаем какое-то преступление. И я не мог уничтожить, стереть с лица земли всех тех подлецов, которые осмелились произнести твое святое имя! Ах, зачем, зачем я убил только двоих из этих негодяев!..
— Ты убил?… Гастон!..
Глубокое отчаяние Валентины привело его в себя.
— Да, — отвечал он, стараясь овладеть собою, — да, я дрался… Вот почему мне и пришлось пускаться через Рону вплавь. Это касалось моей чести. Еще бы один момент, и все жандармы нашего округа устроили бы на меня охоту, как на дикого зверя. Я удрал от них, и теперь я должен скрыться, бежать…
Валентина едва держалась на ногах.
— Куда же ты надеешься бежать? — спросила она.
— Я и сам еще не знаю! Куда идти? Какое будущее ожидает меня, что со мною случится? Могу ли я все предвидеть! Постараюсь добраться до границы, переменю свое имя, переоденусь, и, возможно, мне удастся скрыться в какой-нибудь такой стране, где еще не существует законов и где принимают даже и убийц.
Гастон замолчал. Он ожидал, он надеялся на ответ. Но ответа не последовало.
— И если перед тем как скрыться, — снова начал он, — я пришел проститься с тобой, Валентина, то это лишь потому, что в этот тяжкий момент, когда все погибло для меня, я еще полагаюсь на тебя и верю в твою любовь. Нас соединила связь более крепкая и более нерушимая, чем все связи в мире: я люблю тебя. Ты моя жена перед Богом, я твой и ты моя, и это на всю нашу жизнь. Допустишь ли ты, чтобы я бежал один, без тебя, Валентина? Неужели ты прибавишь к мукам моего изгнания, к горьким сожалениям о потерянной жизни еще разлуку с тобой?
— Гастон, клянусь тебе…
— Я знал это, — перебил ее Гастон, иначе поняв ее слова. — Я отлично знал, что бы бежишь вместе со мною. Итак — идем же! Идем, Валентина, на общую погибель или на общее спасение. Перед нами открывается сказочное будущее, будущее свободы и любви!
Он сходил с ума, он бредил; он взял Валентину за талию и стал ее тащить за собою.
И чем более овладевала им экзальтация, и чем более забывал он об осторожности, тем решительнее Валентина брала себя в руки.
Ласково, но с твердостью, которой нельзя было в ней даже и подозревать, она высвободилась из его объятий и оттолкнула его от себя.
— Это невозможно, — печально, но твердо ответила она.
Это его смутило.
— Невозможно! — пробормотал он.
— Ты знаешь меня хорошо, — продолжала Валентина. — Тебе отлично известно, что разделить с тобой даже горчайшую судьбу было бы для меня величайшим счастьем. Но кроме твоего голоса, который зовет меня за собою, кроме моего голоса, который заставляет меня послушаться тебя, во мне еще говорит голос более сильный и более повелительный — это долг.
— Как? Ты еще можешь оставаться здесь после того, что сегодня произошло, и после того скандала, о котором уже завтра все узнают?
— Что ты хочешь этим сказать? То, что я погибла, опозорена? Разве я сегодня совсем другая, чем была вчера?
— А твоя мать?
— Ради нее-то я здесь и остаюсь. И ты требуешь, чтобы я оказалась неблагодарной дочерью, бросила свою мать и последовала за любимым человеком в то время, как она без денег, без друзей, брошенная всеми, только и имеет, что меня одну!
— Но ведь ее предупредят наши враги, Валентина, и она узнает обо всем!
— Что ж делать! Совесть мне не позволяет, и этого с меня достаточно. Мать жестока со мной, черства, безжалостна, я этого не заслужила от нее, но я готова отдать свою жизнь, чтобы не дать ей повода думать, что ее Валентина преступила законы чести. О мой единственный друг! Мы находились в сладком забытье, которое не могло долго продолжаться, и я ожидала, что пробуждение будет тяжко. Бедные, глупенькие, мы могли поверить, что вне долга возможно вечное счастье! Рано или поздно, а плата за тайное счастье настанет. Смиримся же, и пусть нас унижают все!
— Не говори так! — воскликнул Гастон. — Сама мысль о твоем унижении сводит меня с ума!
— А что поделаешь? Мне предстоят еще и другие неприятности…
— Тебе? О чем ты говоришь?
— Знаешь, Гастон, я…
Но она не окончила, помолчала с минуту и потом быстро проговорила:
— Нет, ничего!.. Это я так… Пустяки.
— Надежда еще не потеряна, — продолжал он. — Моя любовь и отчаянное положение, я уверен, тронут моего отца, а он добрый человек. Быть может, мои письма и настояния моего брата Луи убедят его попросить для меня у госпожи Вербери твоей руки.
— Нет, — отвечала она. — Твой отец никогда на это не решится.
— Почему?
— Потому что мать отвергнет его предложение. Насколько я знаю, она поклялась, что я буду женой только человека со средствами, а твой отец небогат.
— И это мать, — возмутился Гастон, — для которой ты жертвуешь собою!
— Она мне мать, и этого довольно. Я не имею права ее судить. Мой долг оставаться с ней, и я остаюсь.
— Так-то ты меня любишь! Зачем же тогда Рона возвратила мне жизнь, которая без тебя мне в тягость?
И он бросился к Роне, решив умереть. Валентина его удержала.
— И это ты называешь любовью? — спросила она.
— А для чего же жить? — возразил он. — Что у меня впереди?
— А Бог? Наше будущее у Него в руках.
Одно только слово «будущее» сразу пролило надежду в мрачной судьбе Гастона.
— Ты это говоришь? — воскликнул он, воспрянув духом. — Хорошо, я повинуюсь. Долой слабость! Я буду жить, бороться и добьюсь своего! Твоей матери нужно богатство — хорошо, в три года я наживу его или умру!
Валентина сложила руки и стала молиться. Она не смела даже рассчитывать на такое внезапное решение.
— Но прежде чем бежать, — обратился к ней Гастон, — я хочу передать тебе священные для меня вещи.
И он вытащил из кармана шелковый мешок, в котором лежали драгоценности маркизы Кламеран, и положил их в руки Валентины.
— Это драгоценности моей покойной матери, — сказал он. — Только одна ты достойна их носить. Я дарю их тебе. Возьми их как залог моего возвращения к тебе. Если через три года я не потребую их от тебя обратно, то знай, что я уже умер, и тогда сохрани их себе на память обо мне.
Она зарыдала и взяла от него мешок.
— А теперь, — продолжал он, — моя последняя к тебе просьба: все думают, что я утонул. Но мне не хочется убивать этим отца. Завтра утром сходи к нему и скажи ему сама, что я спасен.
— Хорошо, — отвечала она. — Я схожу, клянусь тебе в этом.
Он обнял ее в последний раз.
— Куда ты теперь пойдешь? — спросила она его.
— Думаю, в Марсель. Скроюсь там у одного своего приятеля, может быть, он устроит мне побег!
— Ты не можешь так отправляться. Тебе необходим попутчик, проводник, и я сейчас предоставлю тебе такого человека, на которого ты можешь вполне положиться. Это Менуль, наш сосед. У него есть на Роне лодка.
Они вошли в калитку парка, от которой у Гастона имелся ключ, и скоро были уже у старого матроса.
Он сидел у огня в белом некрашеном кресле и дремал. При виде Валентины и Кламерана он вскочил и стал протирать глаза, думая, что это во сне.
— Послушайте, Менуль, — обратилась к нему Валентина. — Этому господину надо скрыться. Его надо доставить к морю и посадить тайком на корабль. Можете вы доставить его на вашей лодке до устья Роны?
Матрос тряхнул головою.
— В половодье и ночью, — отвечал он, — это невозможно.
— Это для меня, Менуль.
— Для вас, мадемуазель Валентина? Тогда это можно.
И он осмотрел Гастона.
— Я дам вам платье моего покойного сына, — сказал он ему. — В него все переодеваются. Идите за мной.
Затем Менуль и Гастон возвратились опять, почти совсем неузнаваемые, и отправились к берегу реки, к тому месту, где в кустах была спрятана лодка. Валентина проводила их до самой реки.
В последний раз, пока матрос приготовлял свои весла, несчастные обнялись и слились в последнем прощальном поцелуе.
— Через три года! — кричал Гастон. — Через три года!
— До свиданья, барышня… — сказал старый матрос, — а вы, молодой человек, теперь держитесь хорошенько!
И сильным ударом багра он оттолкнул лодку на самую середину реки.
А три дня спустя благодаря знакомствам Менуля Гастон уже сидел в трюме трехмачтового американского корабля «Том Джонс», который уже на следующее утро должен был отправляться в Вальпараисо.
Глава XIV
Неподвижная, бледная как статуя, Валентина стояла на высоком берегу и смотрела, как на этой утлой ладье уезжал тот, кого она так любила. Лодка мчалась вниз по течению, быстрая, как птица, и через несколько секунд обратилась в черную точку, едва заметную в далекой быстрине реки.
Гастон уехал. Он был спасен. Валентина могла теперь без боязни предаться своему отчаянию. Теперь уж ей не от кого было скрывать свои рыдания. Подавленная событиями, она понимала, что всему настал конец, и мысль о будущем заставляла ее ужасаться и трепетать.
Но пора было уходить домой.
Тихо поплелась она к замку, пройдя через ту калитку, которая столько раз так таинственно отпиралась перед Гастоном. Валентина заперла ее за собой, и ей показалось, что там, позади нее, осталось все ее счастье.
Но прежде чем подняться к себе, она обошла вокруг замка и заглянула в окошко к матери.
Окна ее в этот час были обыкновенно освещены, так как госпожа Вербери часть ночи проводила за книгой.
Зарывшись в тупом материализме, эгоистка до мозга костей, графиня мало занималась своей дочерью. Она предоставила ей полную свободу. Валентина могла делать что хотела, но этой ночью девушка предпочла войти незамеченной. Ее могли спросить, откуда такой беспорядок в ее одежде и почему она так намокла и вся в грязи.
К счастью, ей удалось незаметно пробраться в замок. Она вошла к себе в комнату и заперлась. Ей необходимо было уединение, ей нужно было продумать, прочувствовать все, чтобы прямо взглянуть в лицо тем ужасным ударам судьбы, которые предстояли ей впереди.
Сидя за своим рабочим столиком, она вытащила из кармана мешок, который передал ей Гастон, и стала машинально перебирать лежавшие в нем драгоценности.
Может ли она надеть себе на палец хотя бы самое простое, дешевенькое кольцо? Нет! Мать спросит у нее, откуда она его взяла, и ей придется солгать.
Она прижала к груди этот мешок и спрятала его подальше в комод.
Настало утро.
На деревенской церкви зазвонили к ранней обедне, она решила, что пора отправляться в путь, и пошла.
Слуги в замке уже поднялись. Одна из горничных, Мигонна, приставленная к Валентине, мыла песком плиты парадного крыльца.
— Если мама спросит, — обратилась к ней молодая девушка, — то ты скажи, что я пошла к ранней обедне.
И, выйдя из замка, она поспешила, насколько могла. Сознание необходимости исполнить такое важное поручение, боязнь, что это не удастся, и пренебрежение к опасностям придавали ей сил. Она забыла об усталости, хотя всю ночь провела в слезах.
Только к восьми часам утра она добралась до длинных живых изгородей, посаженных по бокам дороги, ведущей к калитке замка Кламеран.
Навстречу ей вышел лакей маркиза Сен-Жан, которого она хорошо знала. Лицо у него передергивалось, и глаза были красны, точно от слез.
— Вы, барышня, в замок? — спросил он Валентину.
— Да, — отвечала она.
— Если вы насчет Гастона, то это бесполезно. Граф погиб из-за своей любовницы.
— Я пришла сюда поговорить с господином маркизом.
Сен-Жан зарыдал:
— Это невозможно, потому что господин маркиз теперь далеко.
— Где же он?
— Сегодня утром, в пять часов, маркиз Кламеран скончался.
Чтобы не упасть, Валентина ухватилась за дерево.
— Скончался… — произнесла она.
— Да, — ответил Сен-Жан, — скончался… Как только ему объявили, что его сын погиб, это поразило его как громом. Я был при нем. Он всплеснул руками и без малейшего крика упал. Мы перенесли его на кровать, а господин Луи сел на коня и поскакал за доктором в Тараскон. Но это был удар. И когда приехал доктор, то ему уже нечего было делать. Только один раз, и то ненадолго, маркиз пришел в сознание. Он позвал к себе господина Луи и о чем-то говорил с ним наедине. А когда началась агония, он сказал: «Отец и сын — оба в один день, на радость Вербери». Это были его последние слова.
— В таком случае проведите меня к господину Луи.
Это поразило Сен-Жана.
— Вас! — воскликнул он. — Вас!.. И не мечтайте об этом, милая барышня! Как! После всего, что произошло, и вы еще хотите видеться с ним? Послушайтесь моего совета, уходите домой. Я не ручаюсь за других слуг, они могут разболтать о вашем приходе.
И, не дожидаясь ответа, он зашагал назад.
Возвратившись в Вербери, Валентина первым делом столкнулась с Мигонной, которая обрадовалась ее приходу.
— Ах, барышня, — сказала она ей. — Идите поскорее. Сегодня утром кто-то был у вашей мамы, и с тех пор она все время кличет вас к себе. Идите, но будьте осторожны: барыня очень сердита.
Графиня уже знала о том, что произошло накануне. Ей в страшно преувеличенном виде обо всем сообщила некая старушка вдова, ее подруга, которая поспешила к ней со своими соболезнованиями, несмотря на раннее утро.
Госпожа Вербери ужаснулась, так как видела в этом гибель для репутации Валентины и все ее планы относительно блестящей партии для ее дочери должны были разлететься в прах. Девушка, так сильно скомпрометированная, уже не могла рассчитывать на богатого жениха. И нужно было еще по крайней мере года два, чтобы все было забыто и чтобы можно было выезжать в свет.
— Несчастная! — закричала графиня на дочь, вся побагровев. — Так-то ты уважаешь традиции нашего дома? Для того тебе дана была полная свобода, чтобы ты снизошла до тех тварей, которые служат позором нашему полу?
Валентина предвидела эту сцену и ожидала ее с страшным биением сердца. Она считала ее справедливым, заслуженным искуплением за свою преступную любовь и стояла молча, опустив голову.
— Ты не отвечаешь? — спросила она.
— Что же я могу отвечать тебе, мама? — сказала Валентина.
— Ты должна доказать мне, что все это ложь, что ты вовсе не пала! Защищайся же, говори!
Валентина молча покачала головой.
— Так значит это правда? — закричала вне себя графиня. — Это правда?
— Прости меня, мама… — прошептала девушка.
— Как! Простить?… И ты смеешь еще меня просить об этом, бесстыдница! Да какая же кровь течет у тебя в жилах? Ты воображаешь, что это можно будет отрицать даже и тогда, когда все станет очевидным? И это моя дочь! У нее есть любовники, и она даже не краснеет! Честь тебе и слава!
— Мама, ты безжалостна…
— А ты ко мне жалостлива? Подумала ли ты хоть раз о том, что твой позор может убить меня? Я поручила тебе честь нашего дома, и что же из этого вышло? Ты бросилась в объятия первому встречному.
Слова «первому встречному» возмутили Валентину. Она не заслужила, не могла заслужить такого обращения с собой. Она попыталась протестовать.
— Я ошиблась, — продолжала графиня. — Ты права, твой любовник не первый встречный. Из всех ты выбрала Гастона Кламерана, наследника самого злейшего из наших врагов. И он тебя надувал. Трус. Он хотел похвастаться перед всеми твоей к нему любовью; жалкий человек, он хотел на мне и тебе выместить геройский поступок наших предков.
— Нет, мама, нет, это неправда… Он меня любил, и если бы сейчас он мог рассчитывать на твое согласие…
— Жениться на тебе?… Никогда! Да, кроме того, ведь он же утонул, этот твой любовник; умер также и старый маркиз, мне уже сказали об этом. Бог справедлив, мы отомщены.
И Валентина вспомнила слова Сен-Жана: «На радость Вербери». Радость ненависти засветилась в глазах у графини.
Видя, что ее дочь по-прежнему стоит без движения, графиня позвонила. Стоявшие в передней горничные дрожали от страха и, заслышав звонок, бросились бежать к ней со всех ног.
— Отведите барышню в ее комнату, — скомандовала графиня, — заприте ее там на замок и ключ принесите мне!
Графиня решила подержать Валентину подольше взаперти и не позволять ей выходить из дома.
Но скоро горничные доложили ей, что Валентина больна. Графиня ответила им, что все это одно только ломанье и кривлянье, но так как Мигонна настаивала, то графиня решила наконец подняться к дочери. Оказалось, что Валентина была действительно больна.
Не дрогнув ни одним мускулом, графиня послала в Тараскон за доктором, тем самым, который ночью был приглашен к маркизу Кламерану.
Осмотрев больную, доктор нахмурил брови.
— Эта барышня больна очень серьезно! — сказал он наконец. — Мне нужно поговорить с нею наедине.
Графиня удалилась.
Через полчаса доктор снова вышел к графине, видимо взволнованный серьезностью болезни.
— Ну? — спросила его графиня.
— Вы мать, графиня, — отвечал он печально, — и ваше сердце должно уметь прощать… Бодритесь! Валентина беременна…
— Несчастная!.. Я так и знала…
И взгляд графини принял такое ужасное выражение, что это поразило даже доктора. Он положил свою руку на руку старухи и, посмотрев на нее так, что она задрожала, сказал, отчеканивая каждое слово:
— Ребенок должен быть доношен.
Проницательность доктора не обманула его, потому что внезапная мысль овладела вдруг госпожой Вербери — она решила уничтожить ребенка, который мог быть живым свидетелем падения Валентины.
— Я вас не понимаю, доктор… — проговорила она.
— Но я-то, я понимаю вас, графиня, — отвечал ей доктор. — И я должен вам сказать, что преступление отнюдь еще не искупает ошибки.
— Доктор!..
— Я говорю вам то, что думаю, мадам. И если я ошибаюсь, то тем лучше для вас. Мой долг — спасти вашу дочь и ее дитя, и я спасу их. Мой долг также потребовать от вас отчета относительно ребенка. Вы можете поступать, как хотите, но вы предоставите мне доказательства того, что ребенок жив, или что по крайней мере против его появления на свет вы не принимали никаких мер.
И с этой угрозою он ушел.
— Негодяй! — закричала она ему вслед. — Грубиян! Смеет еще он делать нравоучение женщине моего круга! Ах, если бы только я в нем не нуждалась!..
Но она в нем нуждалась и понимала отлично, что во всем должна дать ему отчет.
Бедная Валентина! С нею обращались так сурово, что ей казалось, будто бы в ней начинает уже иссякать источник жизни. Но еще тяжелее для нее были мысли о Гастоне. Как это узнать? Хотя дня через два доктор уже и позволил ей встать с постели, но о том, чтобы ей добраться до хижины Менуля, нечего было и думать.
К счастью, старик и сам понимал, что такое настоящая преданность. Узнав, что Валентина больна, он стал обдумывать средство, как бы ему повидаться с ней и сообщить ей о беглеце. Под разными предлогами он проник в Вербери и наконец повидался с Валентиной.
Они были не одни, но старик сразу, одним взглядом, дал ей понять, что Гастону уже нечего больше бояться.
Это сообщение было для Валентины лучше всех лекарств на свете, и немного спустя доктор объявил, что больная поправилась уже настолько, что может отправляться в дальнее путешествие без опасений.
Этой минуты графиня дожидалась с большим нетерпением. Еще раньше, чтобы не задерживаться понапрасну, она продала половину своих земель и с 25 тысячами франков, которые выручила от этой продажи, считала себя обеспеченной вполне. Кроме того, она целые две недели перед этим повсюду трезвонила, что, как только поправится ее дочь, они поедут в Англию, где их уже давно ожидает один из их родственников, очень старый, но очень богатый господин.
Этого путешествия Валентина ожидала с трепетом и сильно задрожала, когда графиня обратилась к ней со словами:
— Послезавтра мы уезжаем.
Послезавтра!.. А Валентина еще до сих пор не могла дать знать Луи Кламерану, что брат его жив.
И она решилась на крайнее средство: она во всем открылась перед Мигонной и передала ей письмо к Луи.
Верная женщина бесполезно проходила в замок Кламеран: он оказался пуст. Вся прислуга была распущена, и сам Луи, которого величали теперь маркизом, уехал неизвестно куда.
Наконец отправились в путь. Будучи уверенной в Мигонне, графиня решила и ее взять с собой, но предварительно заставила ее поклясться на Евангелии, что все останется в глубокой тайне.
По прибытии в Англию графиня с дочерью и с прислугой поселилась в маленькой деревушке близ Лондона и стала называться госпожой Вильсон.
Она выбрала Англию только потому, что долгое время жила там в молодости, отлично знала условия жизни и говорила по-английски как на своем родном языке; она восстановила там связи с аристократией, часто выезжала на вечера и в театр, а Валентину в свое отсутствие окружала унизительными для девушки предосторожностями.
В этом-то печальном, уединенном домике в одну майскую ночь Валентина и произвела на свет сына.
Его отнесли в церковь, окрестили и дали ему имя Рауль Вильсон.
А тем временем графиня все предвидела и все обдумала.
Недалеко от деревушки после долгих поисков она разыскала некую толстую фермершу, которая за 12 тысяч франков согласилась взять к себе на воспитание ребенка, пообещав относиться к нему так же, как и к своим собственным детям.
И бедного малютку отдали ей тотчас же, всего через несколько часов после его рождения.
Фермерша не знала точного имени графини, считая ее англичанкой. И это было для графини достаточным ручательством в том, что ребенок никогда не узнает тайны своего появления на свет.
В конце июня Валентина уже поправилась настолько, что мать отвезла ее обратно в Вербери. Здесь графиня стала разъезжать повсюду, жалуясь на свою неудачную поездку в Англию, и добилась того, что никто не догадался о тайном смысле ее отсутствия в Вербери. Только один человек, доктор Раже, знал, в чем дело. Но госпожа Вербери, ненавидевшая его всей душой, все-таки отдавала должное справедливости его характера и была убеждена, что он не разболтает.
К нему-то она и отправилась раньше всех.
Она застала его за завтраком и грубо замахала перед его глазами документами, которыми запаслась заранее.
— Вот видите, — сказала она ему, — ребенок жив, отдан на воспитание одной доброй женщине и обошелся мне в порядочную сумму денег.
— Очень приятно, графиня, — отвечал ей доктор, внимательно просмотрев документы, — и если вы не чувствуете угрызений совести, то, со своей стороны, и я ничего не имею против вас.
— Моя совесть чиста, милостивый государь… Я поступила так, как должна была поступить женщина моего круга, и не скрою от вас своего удивления, что вижу в вас защитника разврата.
— Э, мадам, — воскликнул доктор. — Именно вам-то и нужно было бы пожалеть вашу дочь! Ну кто пожалеет ее, несчастную, если вы сами к ней так безжалостны?…
— Это все, что вы хотели мне сказать? — спросила она высокомерно.
— Да, все… — отвечал доктор.
И она вышла.
Началась прежняя жизнь, но так как часть имений была уже продана, то графине приходилось круто. И всякий раз она обрушивалась за это на дочь.
— Твой разврат погубил нас! — при каждом удобном случае повторяла она.
Однажды Валентина даже не смогла сдержаться и ответила:
— А если бы он обогатил нас, то ты меня за него только благодарила бы!
Но эти вспышки случались у Валентины редко, и все ее существование обратилось в одно сплошное мучение, доходившее до крайних пределов.
Даже мысль о Гастоне, избраннике ее сердца, и та причиняла ей страдания. Что с ним сталось? Почему он до сих пор не дает о себе вестей? Быть может, его уже нет в живых, быть может, он уже позабыл о ней… Он поклялся, что через три года возвратится богачом… Удастся ли ему это когда-нибудь?
Валентина начала отчаиваться. Напрасно она старалась заглянуть в свое печальное будущее: ни малейшей искры не светилось на мрачном горизонте ее жизни.
Но время шло, и прошло уже четыре года со дня того фатального вечера, когда Гастон на лодке Менуля помчался вниз по Роне.
И эти четыре года и для госпожи Вербери протекли неважно.
Видя, что решительно невозможно жить без средств, а продавать уже истощенную благодаря плохому управлению землю было бы безрассудно, она решила ее заложить и жить на капитал и проценты. И сначала она заложила саму землю, а потом дошла очередь и до замка. Но менее чем в четыре года ее долг возрос до 40 тысяч франков, и она уже была не в состоянии уплачивать за него даже проценты.
Призрак продажи с молотка уже стал появляться перед нею во время бессонных ночей, и она уже начала подумывать о том, что ей негде будет приклонить голову, как вдруг случай пришел ей на помощь.
Вот уже целый месяц, как в окрестностях Вербери появился молодой инженер, присланный для гидрографических работ на Роне. Он был красив собой, умен и сразу расположил к себе все местное общество, так что старая графиня стала частенько встречаться с ним на вечерах.
Этот молодой инженер был Андре Фовель.
Заметив Валентину, он стал внимательно ее изучать и мало-помалу увлекся ее сдержанностью, ее большими, добрыми, печальными глазами, которые светились ему среди окружавшего ее старья, как расцветшие розы среди зимнего пейзажа.
Он был сравнительно богат, блестящая карьера открывалась перед ним, он был свободен и обладал инициативой, которая делает из людей миллионеров… И он поклялся, что Валентина будет его женой.
Узнав, что графиня жадна, он предложил ей пенсию — четыре тысячи франков в год.
— Четыре тысячи, — сказала она, — это пустяки. Все теперь так вздорожало… Вот если бы шесть тысяч!
Это показалось молодому инженеру бесцеремонным, но с беззаботной щедростью влюбленного он отвечал:
— Человек, который пожалел бы эти несчастные две тысячи, тем самым доказал бы, что он мало любит Валентину.
Графиня протянула ему свою сухощавую руку, которую он с благоговением поцеловал, и пригласила его на послезавтра к обеду.
И никогда еще в течение столь долгих лет госпожа Вербери не была так весела, и никогда еще прислуга не видала ее в таком отличном расположении духа.
— Шесть тысяч франков пенсии! — говорила она себе. — Этот молодой инженер — положительно хороший человек! Да еще три тысячи с имения — это девять тысяч франков в год дохода! Этот мальчик будет жить с моей дочерью в Париже, я буду бывать у них, останавливаться, и это мне будет обходиться даром…
Господи! Да за эту цену она продала бы не одну дочь, а целых три, если бы только они у нее были!
«А что, если Валентина не согласится?» — приходило ей на ум.
И ее так это беспокоило, что она решила сбросить с сердца эту тяжесть и поднялась к своей дочери. Склонившись над огарком, Валентина читала.
— Дочь моя, — обратилась к ней графиня. — Один молодой человек, который мне очень нравится, попросил у меня твоей руки, и я дала ему свое согласие.
Пораженная этим неожиданным сообщением, Валентина вскочила.
— Это невозможно, — пробормотала она.
— Почему?
— Да ты сказала ли ему, кто я такая, ты сообщила ли ему обо всем?
— Это ты про прежние глупости? Да боже меня сохрани! Я полагаю, что и ты настолько благоразумна, что будешь тоже молчать.
Как ни была подавлена Валентина гнетом материнского деспотизма, однако это возмутило ее.
— Когда же наконец ты перестанешь испытывать меня, мама? — воскликнула она. — Выйти замуж за человека и ничего не сообщить ему — да ведь это подлее и хуже, чем предательство!
Графине страшно захотелось обругать ее. Но она поняла, что на этот раз ее угрозы ни к чему не приведут, и вместо того, чтобы приказывать, стала ее умолять.
— Дорогое дитя мое, — сказала она, — моя милая Валентина, если бы ты хоть сколько-нибудь понимала весь ужас нашего положения, то ты бы так не говорила. Твоя глупость послужила началом нашего разорения. Сегодня оно может быть прекращено. Знаешь ли ты, что нас ожидает впереди? Кредиторы уже грозятся выгнать меня из Вербери. Что тогда с нами будет? Неужели же ты допустишь, чтобы на старости лет я побиралась с протянутой рукой? Мы погибаем, и все наше спасение — в твоем замужестве.
Ошеломленная, уничтоженная, Валентина задавала себе вопрос: действительно ли эта высокомерная женщина, несговорчивая до сих пор в том, что касалось чести и долга, — ее мать? И, говоря так, она не лжет в первый раз за всю свою жизнь?
Увы, это действительно была ее мать!
Ловкие доводы и постыдные софизмы, которые приводила графиня, не могли ни тронуть, ни поколебать Валентину, но в то же время она не сознавала в себе ни силы, ни храбрости противостоять матери, которая валялась у нее в ногах, заклиная спасти ее своим замужеством.
Взволнованная так, как никогда еще в жизни, терзаемая тысячами самых противоположных чувств, она не решалась ни отказать, ни соглашаться и умоляла мать дать ей несколько часов на размышление.
— Ты этого хочешь, — сказала она дочери, — хорошо, я удаляюсь. Твое сердце лучше подскажет тебе, чем ум, какой выбор сделать между бесполезным ожиданием и спасением твоей матери.
И с этими словами она вышла.
Наутро Валентина встала бледная, промучившись целую ночь без сна, и готова уже была дать отрицательный ответ, но когда вечером к ним пришел Андре Фовель и она увидела перед собой угрожающий и в то же время умоляющий взгляд своей матери, самообладание окончательно покинуло ее. А может быть, сыграло роль и то, что помимо ее воли в душе ее появилась надежда. Брак, даже несчастный, открывал перед нею новые перспективы, новую жизнь, быть может, даже прекращение невыносимых страданий.
В этот вечер мать оставила ее вдвоем с этим человеком, который должен был скоро стать ее мужем.
Увидев ее всю в слезах, страшно взволнованной, Фовель ласково взял ее за руку и спросил о причине ее слез.
— Разве я не лучший ваш друг, — сказал он, — разве я не достоин того, чтобы вы поверили мне свое горе, если оно у вас есть? Зачем же плакать, мой друг?
В этот момент она почувствовала, что могла бы обо всем ему рассказать, но мысль о скандале, о гневе матери и об оскорблении, которое она нанесет этим Андре, лишила ее мужества. Она поняла, что сообщать об этом уже поздно, и, громко зарыдав, как и все девушки, когда приближается последняя минута, отвечала:
— Мне страшно…
А он, объяснив себе эти слезы боязнью неизвестного, протестом стыдливости, стал ее утешать, разуверять, но все его ласковые слова вместо того, чтобы успокоить ее, только удвоили ее печаль.
Но в эту минуту быстро вошла госпожа Вербери и предложила ему подписать контракт. Андре Фовель не должен был узнать ничего.
А через несколько дней, в яркий весенний полдень, в деревенской церкви произошло венчание Андре Фовеля с Валентиной Вербери.
С самого утра в этот день замок наполнился подругами невесты, которые, по обычаю, должны были одеть ее к венцу.
Она старалась казаться спокойной, даже смеялась, но тем не менее была бледнее, чем ее вуаль. Ее угнетали угрызения совести. Ей казалось, что вот-вот по ее лицу догадаются об истине и что ее белое платье составляет для нее только горькую иронию и еще большее унижение.
Она задрожала, когда одна из близких подруг приблизилась к ней, чтобы приколоть ей на голову флёрдоранж. Ей казалось, что эти цветы сожгут ее. Но они не сожгли ее, и только кусочек проволоки, плохо загнутой назад, уколол ее в лоб, и из ранки скатилась на платье капелька крови.
Дурное предзнаменование! Валентина почувствовала себя дурно.
Но предзнаменования часто не оправдываются, и через год после свадьбы Валентина уже чувствовала себя счастливейшей из женщин.
Счастливейшей!.. Да, она была бы ею вполне, если бы только могла забыть…
Андре ее обожал. Он не бросал своих занятий, и все ему удавалось. Но он хотел быть богатым, страшно богатым, не для себя, а для женщины, которую он так любил, которую хотел окружить всеми радостями света. Находя ее красивой, он желал видеть ее и богатой.
Восемнадцать месяцев спустя госпожа Фовель родила ему сына. Увы, ни этот сын, ни другой, который родился еще через год, не помогли ей забыть первого, брошенного на произвол судьбы, того, который был продан за деньги в чужом краю.
Страстно любя своих сыновей, она воспитывала их, как принцев. И, вспоминая о своем первенце, не могла удержаться, чтобы не думать: «Кто знает, есть ли у него там хлеб?»
Что, если бы она знала, где он теперь, если бы только у нее хватило храбрости!.. Но она не решалась. Часто она беспокоилась также и о мешке, порученном ей Гастоном, о тех драгоценностях маркизы Кламеран, которые она считала себя не вправе держать при себе.
Иногда она говорила себе: «Слава богу, несчастья позабыли обо мне».
Бедная женщина! Несчастье — гость непрошеный и оно редко забывает о человеке.
Глава XV
Луи Кламеран жаждал независимости, популярности, денег, удовольствий, неизвестного. Он не любил своего отца и до бешенства ненавидел брата Гастона. Сам старый маркиз помимо своей воли возбуждал в младшем сыне всепожирающую зависть к брату. Верный традициям своего рода, он постоянно заявлял во всеуслышание, что в благородных семьях старший сын должен наследовать отцу во всех имениях и после его смерти все должно достаться Гастону.
Эта явная несправедливость, это нескрываемое предпочтение старшего брата приводили в отчаяние завистливую душу Луи. Часто Гастон уверял его, что никогда не согласится привести в исполнение отцовские намерения, что в наследовании оба брата будут равны. Но, судя о других по самому себе, Луи счел это смешным тщеславием ложного бескорыстия.
В этой ненависти не сомневались ни сам маркиз, ни Гастон.
И когда жандармы и гусары, печальные и взволнованные, пришли сообщить, что Гастон Кламеран бросился в Рону и, по всей вероятности, погиб, возгласы отчаяния встретили это грустное сообщение. Один только Луи оставался бесстрастен, и ни один мускул не дрогнул у него на лице. И только его глаза засветились блеском триумфа. Тайный голос зашептал ему: «Теперь ты богат, и титул маркиза переходит к тебе». Теперь уж он не на хлебах, не бедный родственник у своего старшего брата, а единственный наследник Кламерана!
— Я не могу сообщить бедному старику, — сказал жандармский бригадир, — что его сын утонул! Увольте меня от этого…
Но Луи не испытывал ни беспокойства, ни мягкости души старого солдата. Он тотчас же поднялся к отцу и твердым голосом сказал ему:
— Брат сделал выбор между жизнью и честью… Он умер…
Как дуб, подкошенный молнией, маркиз задрожал от этих слов и упал. Приглашенный к нему врач мог только установить бессилие науки. А к утру Луи хладнокровно принял последний вздох своего отца.
Теперь Луи был уже независим. Он стал маркизом Кламераном, был свободен, сравнительно богат. Он, который всю свою жизнь до этого жил на подачках, был теперь обладателем имения в двести тысяч франков.
Это внезапное, неожиданное богатство так вскружило ему голову, что он забыл свое искусное притворство. За его лицом следили во время похорон маркиза. Опустив голову, с платком у рта, он следовал за гробом, который несли двенадцать крестьян, но его выдавали глаза, в которых под притворным горем светилась радость.
И едва только окончилось предание тела земле, как Луи уже продал в замке все, что только можно было продать: лошадей, упряжь, экипажи…
Став хозяином, он рассчитал всех слуг; бедняги думали здесь и помереть, под гостеприимной кровлей Кламерана. Со слезами на глазах они умоляли его оставить их даже без жалованья, но он их все-таки рассчитал.
Приехал нотариус его отца, за которым он послал. Дав ему доверенность на продажу всех земель и получив от него в задаток двадцать тысяч франков, в конце недели, вечером, Луи запер все двери замка, поклялся, что никогда не возвратится в него назад, и сдал все ключи Сен-Жану, который теперь вынужден был на свои сбережения купить небольшую лачугу в окрестностях замка и поселиться в ней.
И, точно земля Кламерана жгла ему подошвы, Луи отправился в путь. Он послал вперед свой багаж и, прибыв в Тараскон, сел там в дилижанс, совершавший рейсы между Марселем и Парижем. Железной дороги тогда еще не было и в помине.
Наконец-то он в пути! Тяжелый дилижанс, запряженный шестеркой лошадей, скакал во весь опор и с каждым поворотом колеса увеличивал пропасть между прошлым и будущим Луи. Перед ним в ярком пурпуре вставал уже Париж, яркий, как солнце, и ослеплявший, как его лучи.
Он ехал в Париж… Это ли не обетованная земля, страна чудес, где каждый Аладдин находит свою лампу? Там, в этом Париже, в двадцати театрах плачет драма и смеется комедия, а в опере красивейшие женщины в мире, сверкая бриллиантами, умирают под звуки чарующей музыки.
И везде шум, движение, огни, наслаждение…
Какой волшебный сон! И сердце Луи Кламерана замирало от желаний, и ему казалось, что лошади бегут тихо, как черепахи.
О прошедшем он не сожалел и не вспоминал. Какое значение имели теперь для него его отец и брат!
Он еще молод, у него железное здоровье, он носит титул и богат. В его кармане 20 тысяч франков и впереди его ожидает сумма еще больше этой в десять раз.
И когда под вечер при мерцании газовых фонарей он выпрыгнул из дилижанса на мостовую Парижа, он почувствовал себя его владельцем и верил, что этот великий город в его власти и что он может весь его купить.
Имя его предков давало ему привилегию, перед ним открылись двери Сен-Жерменского предместья. Он был маркизом, о нем знали, что он богат, и везде его стали принимать. И если у него не нашлось друзей, зато оказалось много знакомых. В первое же время после своего приезда он приобрел с десяток прихлебателей, которые взяли на себя удовольствие посвятить его в тайны светской жизни и исправить в нем его провинциализм.
И он быстро постиг их уроки. Не прошло и трех месяцев, как он завертелся, за ним установилась репутация хорошего игрока и нашлась женщина, которую он с треском скомпрометировал. Покинув номера, он поселился в комфортабельном отеле близ церкви Мадлены, стал держать кучера и тройку лошадей. И эту «холостяцкую» квартиру он меблировал только самым необходимым; к несчастью, это самое необходимое стоило ему громадных денег.
Но в самый первый день устройства этой квартиры он попробовал было подвести итог своим расходам, и сумма его ужаснула. Пребывание в Париже обошлось ему уже в 50 тысяч франков, то есть в четверть того, что он имел.
А далее началось уже падение.
Он думал, что в этом великом городе, где миллионы валяются на тротуарах, он непременно найдет свой миллион.
Но как? Он не имел об этом представления, да и не старался его иметь. Он просто был убежден, что рано или поздно, а счастливый случай выпадет на долю и ему.
Но счастливого случая не выпадало.
В этой жестокой борьбе за существование нужна была ловкость, чтобы первому вскочить на коня, который называется счастьем, и повести его прямо к цели.
Но Луи не задумывался. Как человек, который хочет выиграть в лотерею, не боясь проигрыша, он сказал себе:
— Кончено! Только случай, счастье или выгодный брак и могут меня вытащить из этого омута.
Но он не сватался, а тем временем был израсходован и последний франк.
Тогда он написал нотариусу отчаянное письмо, но и на него получил отказ.
«Больше продавать уже нечего, господин маркиз, — писал ему нотариус, — остается только один замок. Конечно, он стоит хороших денег, но трудно, да, пожалуй, и невозможно найти покупателя на такой дом без обстановки».
Луи был так поражен, точно этого и не предвидел вовсе. Что же оставалось делать?
Разоренный, без надежды впереди, это был уже не маркиз, а один из тех бедных сумасбродов, которые каждый год выплывают неизвестно откуда, блеснув на один момент, и внезапно исчезают.
Но Луи не мог отказаться от этой легкомысленной жизни, которую вел уже три года. И он решил, что, прежде чем уступить, можно еще прозакладывать свою совесть и честь.
И вот настал день, когда все кредиторы сразу предъявили ему свои взыскания, и разоренный маркиз должен был уступить им остатки своего прежнего величия — мебель, экипажи, лошадей…
Приютившись в скромной гостинице, он, однако, не захотел порвать свои отношения с теми представителями «золотой молодежи», которых считал своими друзьями.
Теперь он жил ими, как до этого жил поставщиками… Занимая деньги то у одного, то у другого, он никому их не отдавал. Он играл по-прежнему, и если проигрывал, то не платил. Он прислуживал молодежи и исполнял для нее позорные услуги, добывая этим тот опыт, который обошелся ему в двести тысяч франков. С ним не церемонились и говорили ему неприятное прямо в глаза.
Оставшись один, брошенный всеми, он оказался в какой-то лачуге. Став нищим после нескольких лет богатства, он вдруг почувствовал себя готовым не только ко всяким случайностям, но даже и на преступление.
Но он не совершил преступление, а был скоро скомпрометирован в какой-то скверной истории, похожей на мошенничество и на шантаж.
Старинный друг их семьи граф Комарен спас его, замял дело и дал ему возможность уехать в Англию.
Чем он существовал в Лондоне? На это могут ответить одни только сыщики этой развратной столицы.
Упав до последних ступеней порока, маркиз Кламеран проводил время в обществе мошенников и продажных женщин, которые предоставляли ему постыдные средства к существованию.
Высланный из Лондона, он должен был скитаться по всей Европе. Наконец в 1865 году, попытав счастье в Гамбурге, он возвратился в Париж, где, как он полагал, о нем уже забыли.
Восемнадцать лет он не был во Франции.
Первой мыслью Луи по прибытии в Париж было посетить родные места. И вот три дня спустя, в один славный октябрьский вечер, он прибыл в Тараскон, где узнал, что замок все еще принадлежит ему, и побрел пешком в Кламеран.
Как все здесь переменилось за эти двадцать лет!
Но вот сквозь деревья показалась уже и колокольня церкви села Кламеран, а потом выплыло на пригорке все в оливковых деревьях и само село. Несколько крестьян, которых он встретил по дороге, останавливались и с любопытством оглядывали его запыленные сапоги.
Дверь дома Сен-Жана оказалась отпертой, и он вошел в нее. Не было ни души. Он кликнул.
— Кто там? — ответил чей-то голос.
И почти тотчас же дверь отворилась и в ней показался мужчина лет сорока, честный и веселый, и с удивлением посмотрел на гостя.
— Что вам угодно? — спросил он Луи.
— Не здесь ли живет Сен-Жан, старый слуга маркиза Кламерана?
— Мой отец уже пять лет тому назад скончался, — отвечал мужчина.
Луи сделалось грустно, точно этот старик, которого ему хотелось здесь найти, мог возвратить ему его юность. Он вздохнул и сказал:
— Я маркиз Кламеран…
При этих словах мужчина обрадовался и воскликнул:
— Вы? Вы господин маркиз? И вы у меня? Какое счастье! Жена моя будет очень счастлива вас видеть. Антуанетта! Антуанетта! Иди сюда скорее! Посмотри-ка!..
Этот сердечный прием тронул Кламерана. Столько уже лет он не видал к себе искреннего отношения!
Вошла молодая женщина, покраснела и сконфузилась.
— Это моя жена, господин маркиз, — сказал сын Сен-Жана, Жозеф. — А это, Антуанетта, — наш маркиз.
Молодая женщина поклонилась, оробела и, не найдя слов в ответ, подставила Луи лоб, в который он ее и поцеловал.
— Сейчас господин маркиз увидит наших детей, — сказал Жозеф, — они в школе, я послал за ними.
И муж с женой захлопотали для маркиза. Жозеф спустился в погреб, а Антуанетта вышла на двор и устроила облаву на цыплят.
Пришли дети из школы. Луи обнял их, а они неподвижно, полные страха перед его титулом, стали в уголок и смотрели на него большими, удивленными глазами.
Новость обошла всю деревню, и в открытых дверях в один момент столпились любопытные, чтобы взглянуть на маркиза Кламерана.
Отдохнув, Кламеран спросил у Жозефа, где ключи от замка. Он хотел его осмотреть.
— Только один ключ от калитки и нужен, господин маркиз, — отвечал Жозеф, — а внутри…
И он был прав. Время сделало свое дело, и несокрушимое некогда жилище Кламеранов теперь представляло собой одни только руины.
Вся мебель, которую не успел в свое время продать Луи, стояла еще на своих местах, но в каком виде! Дорогая обивка висела в лохмотьях, от роскошных постелей осталось одно только дерево, покрытое тряпьем.
И только с трудом Луи в сопровождении Жозефа мог проникнуть в эти громадные залы, где так угрюмо отдавались теперь их шаги. И ему казалось, что вот-вот старый маркиз выйдет сейчас к нему навстречу и грозно его спросит:
«Что ты сделал с нашей честью?»
А может быть, этот его страх имел и другую причину, быть может, ему вспомнилась судьба Гастона?
— К сожалению, я не настолько богат, чтобы реставрировать этот замок, — сказал Луи. — Пока еще он не развалился совсем, необходимо его продать. Но кто купит эти руины?
— Это зависит от цены, господин маркиз, — отвечал Жозеф. — Я знаю одного человека, он живет недалеко от нас, который мог бы их купить, но только по сходной цене.
— А как его зовут?
— Это некто Фужеру. Он живет на том берегу Роны. Это выходец из Бокера, женившийся двенадцать лет тому назад на горничной покойной графини Вербери. Господин маркиз, вероятно, ее помнит: это — полная брюнетка Мигонна.
Но Луи не помнил Мигонны.
— Когда мы можем повидаться с этим Фужеру?
— Да хоть сейчас… Стоит только переплыть через Рону.
— Отлично. В таком случае идемте… Я тороплюсь.
И они пошли. Перевоз через Рону содержал уже не Менуль, а его сын Пилорель. Менуль уже умер. Они сели в лодку и поплыли. Пристав к берегу и приказав перевозчику ждать их возвращения, Жозеф и маркиз отправились в Монтаньету, где жили Мигонна и ее муж.
Это была очень приличная ферма, чистенькая, окруженная со всех сторон культурными растениями.
Жозеф спросил, где хозяин. Мальчуган ответил ему, что «господин» Фужеру недалеко в полях и что он сбегает за ним.
Скоро явился и «господин». Это был низенького роста человек с рыжей бородой и с беспокойно бегавшими глазами.
Войдя в дом, он окликнул старушку, которая сидела у очага, и приказал ей спуститься в погреб и принести вина для маркиза Кламерана.
При этом имени старуха вздрогнула так, точно ее поразила молния. Казалось, она хотела что-то сказать, но в замешательстве вышла и возвратилась с бутылкой вина и тремя стаканами, которые и поставила на стол.
Для нее появление маркиза было одной из тех случайностей, которые в состоянии сразу переменить всю жизнь человека.
Сторговались. Сошлись на том, что Фужеру давал 5280 франков за замок вместе с садом и что остатки мебели поступали в собственность Жозефа. Тотчас же Фужеру вышел, чтобы из сокровенного уголка достать бутылочку.
Для Мигонны настал удачный момент. Она поднялась, подошла к маркизу и быстро шепнула ему на ухо:
— Господин маркиз, мне нужно поговорить с вами наедине.
— Со мной, моя милая?
— Да, с вами. Это тайна жизни и смерти. Сегодня вечером, как только станет темно, приходите к ореховой роще, я выйду к вам и расскажу вам все.
Она возвратилась на свое место: входил ее муж.
Фужеру наполнил стаканы и провозгласил тост за Кламерана.
Затем, когда снова сидели уже в лодке, Луи задавал себе вопрос, стоит ли ему идти на это странное свидание.
— Какого черта может мне сообщить эта старая ведьма? — обратился он к Жозефу.
— Ну, как знать! — отвечал ему Жозеф. — Она служила у барышни, которая, как передавал мне отец, была любовницей господина Гастона. На вашем месте, господин маркиз, я бы пошел. Вы пообедаете у нас, и после обеда Пилорель вас перевезет.
Любопытство взяло верх, и около шести часов вечера Луи был уже около ореховой рощи. Мигонна уже давно его поджидала.
— Наконец-то и вы, дорогой маркиз! — радостно воскликнула она. — А я уже отчаялась…
— Да, это я, милая старушка; посмотрим, что вы хотите мне сказать?
— Ах, много о чем надо поговорить, господин маркиз! Получаете ли вы письма от вашего брата?
И Луи уже раскаялся, что согласился на свидание, так как ему показалось, что она бредит.
— Да ведь вам известно, — отвечал он, — что мой бедный брат бросился в Рону и утонул?
— Как! — воскликнула Мигонна. — Как! Вы до сих пор еще не знаете, что он спасся? Да, ему удалось то, что не удастся никому: он переплыл через Рону во время половодья. На другое утро Валентина сама ходила в Кламеран, чтобы сообщить об этом, но Сен-Жан не допустил ее к вам. Затем я ходила к вам с письмом, но вы уже уехали.
Эти откровения после того, как прошло уже двадцать лет, смутили Луи.
— Да вам это приснилось, милая моя! — сказал он мягко.
— Нет, — продолжала она, — нет! И если бы жив был старый Менуль, он рассказал бы вам, как он довез господина Гастона до Камарга и как оттуда ваш брат добрался до Марселя и там сел на корабль. Но это еще не все: у господина Гастона есть сын.
— У моего брата сын? Решительно вы сходите с ума!
— Увы, нет! У него действительно есть сын от Валентины, бедное невинное дитя! Я сама держала его на своих руках за границей и сама относила его к женщине, которая за деньги взяла его на воспитание.
И Мигонна рассказала ему все: как графиня узнала о падении Валентины, как потом она поехала в Лондон и как бросила там маленького Рауля.
Звонкий, продолжительный окрик прервал ее рассказ.
— Боже мой! — испугалась она. — Меня кличет муж!
И со всех ног она побежала к ферме.
Несколько времени Луи оставался недвижимым.
Сообщения Мигонны сразу внушили ему одну преступную идею. Теперь он знал тайну, которая в хороших руках могла бы принести большие доходы! Он придумал шантаж.
И, получив с Фужеру 5280 франков, Луи Кламеран отправился тотчас же в Лондон.
Глава XVI
Госпожа Фовель уже смело могла глядеть в глаза своему будущему, ее погибшая молодость терялась для нее в тумане, и воспоминания о ней были для нее точно тяжкий сон.
Да, она могла уже считать себя в полной безопасности, когда вдруг, в одно из отсутствий ее мужа, отлучившегося по весьма важным делам в провинцию, в ноябрьский полдень, лакей подал ей письмо, переданное швейцару неизвестно кем, пожелавшим скрыть свое имя.
Странные предчувствия заставили ее задрожать, и нетвердой рукой она разорвала конверт и стала читать:
«Милостивая государыня!
Можно ли рассчитывать на то, что воспоминания еще живы в вашем сердце, и надеяться, что Вы не откажете в получасовом разговоре с Вами?
Завтра от двух до трех часов пополудни я буду иметь честь представиться Вам в Вашем доме.
Маркиз Кламеран».
К счастью, госпожа Фовель была одна.
Страшная, смертельная боль заставила сжаться сердце бедной женщины при одном только взгляде на это письмо.
Десять раз перечитала она его вполголоса, чтобы убедиться, что это действительно было письмо, а не галлюцинация.
Она надеялась, что все ее фатальное прошлое уже давно позабыто, что оно умерло и никогда уже не воскреснет. Бедняжка! Она и не знала, что в одну несчастную минуту оно встанет перед нею живое, безжалостное, полное угроз.
В то самое время, когда она считала себя в полной безопасности, когда сама судьба, казалось, простила ее, дала ей полное счастье, вдруг нагрянула катастрофа, разбивающая теперь на тысячи кусков хрупкое здание ее надежд.
Нет, ей нечего пугаться! Это бесполезно. От кого может быть это письмо? Конечно, от Гастона. Тем лучше. Значит, незачем и дрожать. Ясно, что, вернувшись во Францию, Гастон желает ее видеть. Она вполне понимает его желание, но она также отлично знает и то, что этот человек, когда-то так горячо любимый ею, не способен заставить ее бояться.
Он придет, увидит, что она замужем за другим, что она уже старуха, имеет детей, они вспомнят вместе былое, и, быть может, не без сожаления, и она возвратит ему его драгоценности — вот и все.
Но тяжкие сомнения обуревали ее.
Нужно ли признаваться Гастону, что у нее от него есть сын?
Признаваться? Но это значило бы выдать себя. Это значило бы отдать в руки чужого человека не только свою честь и счастье, но также и судьбу своих мужа и детей.
Молчать? Но ведь это преступление! Бросить ребенка на произвол судьбы, лишить его забот и ласки матери, а теперь еще похищать у него имя и состояние его отца?
И она не знала, как ей поступить, когда ей доложили, что стол накрыт. Но она не смогла спуститься к обеду. Мадлена встревожилась, прибежала к ней, но она попросила ее уйти, сославшись на головную боль и сказав, что она хочет немного вздремнуть.
Ей хотелось остаться одной, лицом к лицу со своим несчастьем, и ее ум старался проникнуть сквозь завесу будущего и предугадать то, что должно было случиться завтра.
Настало это завтра, которого она так боялась и вместе с тем так желала.
До двух часов она считала часы, после двух — стала считать минуты.
Наконец в половине третьего дверь в гостиную отворилась и слуга доложил:
— Господин маркиз Кламеран!
Госпожа Фовель решила оставаться спокойной и хладнокровной, но в самый последний момент силы оставили ее, тяжкое волнение пригвоздило ее к креслу, и у нее пропал вдруг и голос и мысли.
А он вошел, почтительно поклонился ей и долгое время ожидал от нее приветствия, остановившись посреди гостиной.
Дрожа, обуреваемая невыразимыми чувствами, госпожа Фовель смотрела на него, стараясь отыскать в его лице того человека, которого она когда-то так любила.
Но он покачал печально головой и сказал:
— Я не Гастон, сударыня, я Луи Кламеран.
Как! Это был не Гастон, это был не он! Чего же хотел от нее этот другой, этот его брат, которого, как она знала, Гастон настолько не любил, что не мог доверить ему своей тайны никогда?
И при мысли об этом тысячи вероятностей, одна ужаснее другой, пришли ей на ум. Но она овладела собой и спросила:
— Чем же я могу быть вам полезной? Вашего визита я никак не ожидала…
Не спуская с нее пытливо устремленных глаз, он сел.
— Прежде всего, — начал он, — я должен вас спросить, сударыня, не услышит ли кто-нибудь нас, когда мы будем говорить?
— Зачем этот вопрос?… Я не думаю, чтобы вы могли сказать мне такое, чего не могли бы слышать мои дети или муж…
Луи пожал плечами.
— Позвольте мне настаивать на этом, — отвечал он, — не для меня, а для вас.
— Говорите, милостивый государь, мы здесь одни…
Маркиз придвинул свое кресло поближе к госпоже Фовель.
— Гастон умер, — сказал он тихо. — Я принял его последний вздох, и он выбрал именно меня для исполнения его последней воли. Но так как вы некогда состояли в любовных отношениях с моим несчастным братом…
— Милостивый государь!..
— Нет нужды, сударыня, это отрицать. Повторяю вам, Гастон открылся мне во всем, во всем!
И он подчеркнул последнее слово. Но госпожа Фовель еще не испугалась этого сообщения. Из чего могло бы состоять это «все»? Главного-то, именно того, что она была беременна, Гастон ведь и сам не знал!
И она поднялась.
— Вы забываете, милостивый государь, — обратилась она к нему, — что вы разговариваете с пожилой женщиной, которая замужем и имеет детей. Очень возможно, что ваш брат был в меня влюблен, — это его секрет, а не ваш. Если и я, молодая и неопытная, была недостаточно благоразумна, то не вам об этом со мной говорить. Наконец, каково бы ни было это прошлое, о котором вы говорите, с тех пор прошло уже двадцать лет!..
— Значит, вы обо всем позабыли?
— Обо всем совершенно.
— Даже о своем ребенке?
Эта фраза, произнесенная с таким взглядом, который проникал в самую глубину души, точно громом поразила госпожу Фовель.
— Как! Он знает! — прошептала она. — Но откуда?
Но ей нужно было защищать своих близких, и, в сознании этого священного долга, она выказала такую силу, на которую не была способна никогда.
— Вы меня оскорбляете, милостивый государь! — сказала она.
— Но это верно. Значит, вы позабыли о Рауле совсем?
— Это ловушка!
Теперь она уже отлично знала, что этому человеку известно все. Откуда? Не все ли это равно? Он знал обо всем, и кончено!.. Но она решила отпираться до конца.
— Ну, что же дальше? — принужденно засмеялась она. — Чего вы от меня еще хотите?
— Вот чего, мадам… Два года тому назад мой изгнанник-брат случайно попал в Лондон. Там в одной семье он встретил некоего молодого человека по имени Рауль. Черты лица, интеллигентность этого юноши до того поразили Гастона, что он пожелал узнать, кто он такой. Это оказался тот самый ребенок, которого когда-то бросила мать. И, приняв меры, брат мой узнал, что Рауль его сын… от вас, мадам.
— Вы мне рассказываете какой-то роман.
— Да, мадам, роман, и окончание его зависит от вас. Конечно, ваша матушка-графиня приняла все меры, чтобы скрыть вашу тайну, но после вашего отъезда одна из ее лондонских знакомых отправилась навестить ее в ту деревушку, где вы обитали, и там нечаянно произнесла ваше настоящее имя перед женщиной, которой вы отдали на воспитание ребенка. Таким образом все открылось. Мой брат потребовал доказательств, и теперь в его распоряжении доказательства самые положительные, самые веские.
— А потом? — спросила госпожа Фовель, стараясь придать своему голосу веселость.
— Потом Гастон признал этого ребенка своим. Но Кламераны бедны, мой брат умер на подлом тюфяке в плохой гостинице, а я живу всего только на тысячу двести франков пенсии. Что может ожидать Рауля, одного, без семьи, без покровителя, без друга? Эти заботы не оставляли моего брата до самых последних минут его жизни и мучили его.
— Далее, далее, милостивый государь…
— Я кончаю… Вот почему Гастон и открыл мне свое сердце. Вот почему он приказал мне отправиться к вам. «Валентина, — сказал он мне, — припомнит все, она не потерпит, чтобы наш сын был лишен всего, даже куска насущного хлеба; она богата, очень богата, и я могу умереть спокойно».
Госпожа Фовель поднялась. Настала пора положить конец всему.
— Вы злоупотребляете моим терпением, милостивый государь… — начала она.
Ее невозмутимость смутила даже Луи, и он ничего не отвечал.
— Я могу сказать вам только то, — продолжала она, — что некогда действительно я пользовалась доверием господина Гастона Кламерана. И я вам это докажу. У меня сейчас драгоценности вашей матери, которые он передал мне на хранение перед тем, как отправиться за границу.
И она вытащила из-под подушки дивана мешок с драгоценностями и передала его Луи.
— Вот, — сказала она. — Меня только удивляет, что до сих пор ваш брат еще ни разу не потребовал их от меня обратно.
И она протянула руку к сонетке.
— Надеюсь, что вы теперь поймете, милостивый государь, — обратилась она к нему, — что мне уже пора прекратить этот разговор; я признаю его только в той его части, которая касалась возвращения вам бриллиантов.
— Пусть будет по-вашему, — отвечал Луи. — Я удаляюсь. Я только должен добавить, что мой брат говорил мне еще и следующее: «Если Валентина обо всем позабыла, если она откажется признать нашего сына, я предоставляю тебе право ее приневолить». Запомните эти слова, мадам; я поклялся их исполнить и, честное слово, исполню их!..
Он ушел, и госпожа Фовель осталась одна. Наконец-то она могла свободно, без боязни, предаться своему горю! Израсходовав все свои силы на то, чтобы казаться спокойной в глазах Кламерана, она ослабела теперь и духом и телом.
Пошатываясь, она едва нашла в себе силы добраться до своей комнаты, запереться в ней и лечь.
Теперь уже несомненно, что ее опасения начинают сбываться. Она с уверенностью могла теперь измерить всю глубину той бездны, в которую валилась сама и тянула за собой свою семью.
— Господи, — молилась она. — Порази только меня, только меня одну, но избавь от Твоего праведного гнева невиновных, пощади моих мужа и детей!
Ну что значат все двадцать лет счастья в сравнении с этим одним только часом отчаяния? Ничего. Остались только угрызения совести.
Ах, зачем она послушалась тогда свою мать, зачем она тогда же смолчала и не открыла Фовелю всего!
Но и мысль о том, что, быть может, теперь Рауль испытывает на своих плечах все жестокости судьбы, заставила все ее существо трепетать от тяжкой боли.
Он, ее дитя, без куска насущного хлеба! И это тогда, когда она так богата и когда весь Париж завидует ее счастью!
Ах, отчего она не может растоптать сейчас под ногами все то, что теперь имеет? Уж лучше бы она испытывала теперь тяжкую бедность!
Голос благоразумия шептал ей, что она не должна, не может принимать посредничество Луи Кламерана. Довериться ему — значило бы подпасть под его власть самой и подвести под нее своих близких, а он внушал ей какой-то инстинктивный ужас.
Она отлично знала, что Андре не скажет ничего и примет все меры, чтобы потушить этот ужасный скандал. Но это будет стоить им счастья. Он покинет свой семейный очаг, а сыновья поступят так, как сочтут необходимым. И семья будет разбита.
И ей стали приходить на ум мысли о самоубийстве. Но она понимала, что ее смерть не остановит непримиримого Кламерана и что если ему не удастся опозорить ее живую, то он запятнает ее память.
К счастью, банкир отсутствовал еще два дня, последовавшие за визитом Луи, госпожа Фовель могла не выходить из своей комнаты, и никто не видал ее мучений. И если Мадлена со своей женской чуткостью и догадывалась о том, что здесь была совсем не нервная болезнь, на которую жаловалась ее тетка и против которой врач прописал ей всевозможные успокоительные средства, то она была вполне убеждена, что эта болезнь была вызвана появлением в их доме какого-то грубого господина, который долгое время о чем-то разговаривал с ее теткой наедине.
Мадлена почувствовала, что здесь есть какой-то секрет, и, увидев на другой день госпожу Фовель еще в большем волнении, чем накануне, отважилась ей сказать:
— Ты печальна, дорогая тетя. Не послать ли за нашим кюре? Вы бы вместе потолковали…
Госпожа Фовель отклонила это предложение.
И то, чего ожидал Луи, случилось.
Не находя ни малейшего выхода из положения, госпожа Фовель мало-помалу стала уступать. Соглашаясь на все, она видела в этом спасение своей семьи. Она не обманывалась, она понимала, что готовила этим себе невыносимую жизнь, но пусть уж лучше она будет терпеть одна и тем выиграет время!
Тем временем возвратился ее муж. Но она уже не была прежней счастливой матерью, с веселым, светлым лицом, уверенной в своем будущем и спокойно глядевшей вперед. Все в ней было поглощено ужасными предчувствиями.
От Кламерана не было вестей. Она ожидала его каждую минуту, вздрагивала от каждого звонка, становилась бледной при каждом хлопке дверей, не смела выйти из дому из боязни, что он придет в ее отсутствие. Так осужденный к смертной казни каждое утро, просыпаясь, задает себе вопрос: «Не сегодня ли?» Она испытывала мучения еще худшие, чем осужденный.
Но Кламеран не пришел. Он написал. Он прислал ей записку, смысл которой могла понять только она. Ссылаясь на болезнь, он извинялся за то, что должен пригласить ее к себе, послезавтра, в гостиницу «Лувр».
Это письмо принесло облегчение госпоже Фовель. Она предпочла его своим беспокойствам. Она решилась соглашаться на все.
Она сожгла письмо и сказала: «Я пойду!»
В назначенный день в указанный час она надела простое черное платье, шляпу, которая могла скрыть ее лицо, сунула в карман вуаль и вышла.
Швейцар в гостинице сказал ей, что комната маркиза Кламерана на третьем этаже. Она стала подниматься по лестнице, радуясь тому, что никто ее не узнал. Наконец вот и дверь, на которой написано «№ 317».
Она остановилась, держась обеими руками за грудь, точно стараясь удержать биение своего сердца, готового разорваться на части.
Дрожащей рукой она тихонько три раза стукнула в дверь.
— Войдите! — послышался голос. Она вошла.
На середине номера стоял молодой человек, почти еще юноша.
Первым впечатлением госпожи Фовель было то, что она ошиблась.
— Виновата, — сказала она, покраснев, — мне нужен господин Кламеран.
— Вы у него, мадам… — отвечал молодой человек. — Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с госпожой Фовель?
Она утвердительно кивнула головой и задрожала, услыхав свое имя. Значит, Кламеран не соблюдал необходимой тайны.
— Будьте покойны, сударыня, — обратился к ней молодой человек. — Вы здесь в такой же безопасности, как и у себя дома. Господин Кламеран поручил мне передать вам его извинения: он не может вас видеть.
— Но ведь он сам же прислал мне третьего дня письмо, в котором требовал, чтобы я пришла. Так что я должна была предполагать… я полагаю, что…
На лице молодого человека выразилось сочувствие.
— Маркиз отказался от исполнения того, — сказал он, — что он считал своим священным долгом. Поверьте, он долгое время не решался требовать от вас таких тяжких признаний. Вы дали ему отпор, вы должны были отказаться выслушивать его, он не понимал, какие серьезные поводы руководили вашим поведением. В тот день, ослепленный несправедливым гневом, он поклялся силою вырвать из вас то, что не удалось ему по доброй вашей воле. Решившись угрожать вашему счастью, он хотел собрать против вас доказательства, чтобы подтвердить ими то, что очевидно. Простите… его связывала клятва перед покойным братом.
Он взял с камина пачку бумаг и стал их перелистывать.
— Вот эти доказательства, — продолжал он, — неоспоримые, собранные вместе. Вот метрическое свидетельство, выданное пастором Седли, вот показания миссис Доббин, фермерши, вот свидетельство врача, вот удостоверения лиц, знавших в Лондоне госпожу Вербери. Ничего не упущено! Все эти доказательства мне с трудом удалось отнять у господина Кламерана, и вот что я хочу с ними сделать!
Быстрым движением он бросил все эти бумаги в камин. Они загорелись и скоро обратились в пепел.
— Все покончено, — продолжал он. — Прошлого, как вы того хотите, нет. Оно сгорело вместе с этими бумагами. Если кто-нибудь осмелится теперь касаться того, что у вас до брака был сын, то вы можете привлекать за клевету… Больше нет доказательств, вы свободны!
В эту минуту госпожа Фовель забыла обо всем. Нежность матери, которую она столько времени подавляла в себе, выплеснулась наружу, и чуть слышно она проговорила:
— Рауль!
При этом имени молодой человек затрепетал.
— Да, Рауль! — закричал он. — Рауль, который согласится лучше умереть тысячу раз, чем причинить своей матери даже легкое страдание, Рауль, который готов пролить всю свою кровь до последней капли, чтобы только избавить ее от слез!
Она не старалась ни сопротивляться, ни возражать. Все ее существо замерло. Она открыла свои объятия, и Рауль стремглав бросился в них.
— Мама! Мама! — задыхаясь, заговорил он.
Госпожа Фовель опустилась на кресло и стала жадно смотреть на Рауля, а он припал к ее ногам. Она проводила рукой по его тонким, волнистым волосам, целовала его белый, чистый, как у девушки, лоб, его большие, пугливые глаза, его розовые губы! Сладкие, как никогда еще в жизни, слезы, катились у нее по щекам. И в этом порыве нежности были забыты все: и Андре, и сыновья, и Мадлена.
Тем временем Рауль продолжал:
— Только вчера я узнал, что мой дядя ходил к тебе, чтобы выпросить для меня крох от твоего богатства. Зачем это? Я беден, это правда, очень беден. Но бедность не пугает меня, я уже знаком с нею. У меня есть руки и голова, я сумею прожить и ими. Говорят, что ты очень богата. Что мне до этого за дело? Оставь свои богатства при себе, милая мама, но удели мне немножко твоего сердца. Позволь мне тебя любить. Обещай мне, что эти твои первые поцелуи не будут последними. Никто не узнает. Я сумею скрыть свое счастье!
Она стала его расспрашивать, она хотела знать всю его жизнь, как он проводил свое время, что делал. Он ничего не скрывал от нее и рассказал ей все. Его жизнь была полна лишений.
— Но теперь, — сказал он, — все забыто, все! Был ли я несчастлив? Об этом я теперь ничего не могу сказать, потому что вижу тебя, люблю тебя.
Время шло, и госпожа Фовель не считала его. К счастью, за нее бодрствовал Рауль.
— Уже семь часов! — вдруг воскликнул он.
Этот окрик вернул госпожу Фовель к действительности. Семь часов!.. Такое ее долгое отсутствие могут заметить.
— Увижу ли я тебя, мама, еще раз? — спросил Рауль при расставании.
— Да! — отвечала она в безумной нежности. — Да, часто, завтра, каждый день!..
И, с трудом наняв себе карету, она поехала домой.
Было уже около половины восьмого, когда она возвратилась на улицу Прованс, где ее уже давно поджидали к обеду.
Ни муж, ни сыновья никогда не узнают в ней тех мыслей, которые овладевают ей: с этой стороны она может быть вполне спокойной; но она боится немного племянницу.
Ей показалось, что, когда она вошла в столовую, Мадлена как-то особенно посмотрела на нее. Значит, она о чем-то догадывается. Да и после этого в течение нескольких дней она задавала ей странные вопросы. Ясно, что она вызывает ее на откровенность.
И эти опасения превратили привязанность госпожи Фовель к своей приемной дочери в какую-то ненависть.
Она, такая добрая, такая любвеобильная, уже сожалела о том, что дала ей пристанище у себя в доме и что теперь над нею есть шпион, от которого ничего не скроешь. Куда же теперь деться, спрашивала она себя, от этой преданности, от этих непрошеных о ней забот, от этой проницательности молодой девушки, которая по выражению ее лица уже догадывается о том, что она так ревниво от всех скрывала?
И с неописуемой радостью она вдруг нашла под рукою средство.
Уже целых два года поговаривали о браке Мадлены с Проспером Бертоми, кассиром и протеже банкира. Госпожа Фовель решила, что она займется этим делом теперь же и, насколько возможно, ускорит этот брак. Выйдя замуж, Мадлена уйдет к своему мужу, и госпоже Фовель уже никто не помешает навещать Рауля.
В первый же вечер она заговорила с Мадленой о Проспере и с настойчивостью, на которую была не способна раньше, вырвала от нее признание.
Испуганная, сконфуженная, покраснев, Мадлена опустила голову. Госпожа Фовель притянула ее к себе.
— Дорогое дитя мое, — ласково сказала она ей. — Зачем бояться? Разве ты не убедилась еще до сих пор, хитрец ты этакий, что уже давно твои тайны — это наши тайны? Разве бы мы относились к Просперу так, как к родному сыну, если бы заранее не считали его достойным быть нашим зятем?
Чтобы скрыть свою радость, Мадлена бросилась к тетке на грудь…
— Благодарю, — забормотала она, — благодарю! Ты добрая, ты любишь меня!..
«Так нечего и медлить, — подумала госпожа Фовель. — Надо сказать Андре, чтобы он намекнул об этом Просперу. Месяца через два их уже можно будет повенчать».
К несчастью, попав в водоворот страсти, которая не давала ей ни минуты для размышлений, она отложила в сторону этот разговор.
Отправляясь в «Лувр» к Раулю, что стало для нее уже ежедневной потребностью, она не переставала мечтать о том, как бы ей создать для него общественное положение и обеспечить ему независимое будущее. И пока она не решалась действовать, Луи Кламеран пришел ей на помощь.
С того дня как он в первый раз так напугал ее, она стала уже часто с ним встречаться, и ее первое отвращение к нему сменилось тайной симпатией. Она полюбила его за ту привязанность, которую он так выказывал ее сыну.
Видя в брате Гастона второго отца своему сыну, она скоро поняла, что вовсе не может без него обойтись. Каждую минуту ей нужно было его видеть или для того, чтобы посоветоваться с ним, что она придумала сама, или же для того, чтобы выразить ему тысячу благодарностей.
И она была довольна, когда однажды он выразил желание открыто явиться к ним в дом.
Ничего не могло быть легче. Она представила бы мужу маркиза Кламерана как старого друга их семьи.
Госпожа Фовель не должна была откладывать этого решения в долгий ящик.
Не имея возможности продолжать свидания с Раулем ежедневно и не решаясь писать к нему из боязни получить от него ответ, она все сведения о нем стала получать через Луи. Но сведения эти недолго были хороши. Не прошло и месяца с тех пор, как госпожа Фовель отыскала своего сына, как Кламеран уже сообщил ей, что Рауль начинает его серьезно беспокоить. И это было сказано в таком тоне, что у нее похолодело сердце.
— Что с ним? — спросила госпожа Фовель.
— У этого юноши, — отвечал Луи, — страсти и замашки, оказывается, точно такие же, как и у Кламеранов. Он из тех натур, которые, вспылив, не останавливаются ни перед чем, не признают никаких препятствий, и я положительно не знаю, чем его унять.
— Боже мой! Что же он хочет делать?
— Решительно ничего такого, что было бы достойно порицания, но меня беспокоит его будущее. Он надеется на мой кошелек и расточителен так, точно он сын миллионера.
Вот почему, видя, что все его усилия остаются тщетными и не останавливают молодого человека от падения по наклонной плоскости, он и просит госпожу Фовель употребить на него свое влияние. Ради будущего своего дитяти она должна поближе вникнуть в его жизнь, постараться видеть его каждый день.
— Увы! — отвечала бедная женщина. — Это и мое сердечное желание. Но что поделаешь? Разве я могу рисковать своей репутацией? У меня есть другие дети, для которых я должна оберегать свою честь.
Этот ответ, казалось, удивил маркиза Кламерана. Целые пятнадцать дней госпожа Фовель не упоминала еще ни разу о других своих детях.
— Я подумаю, — сказал Луи, — быть может, в одно из следующих ваших свиданий мне удастся сообщить вам какую-нибудь комбинацию, которая все примирит.
Такой опытный человек, как он, не мог тратить время попусту. В следующий же четверг он явился уже успокоенным.
— Я искал, — сообщил он, — и нашел.
— Что?
— Средство спасти Рауля.
И он сообщил ей это средство. Не имея возможности всякий день видаться с сыном, не возбуждая этим подозрений в муже, она должна дать ему убежище у себя.
Это предположение вселило в нее только ужас: она была, быть может, неблагоразумна, даже виновата, но она всегда была честна. Она жила мыслью, что Рауль когда-нибудь будет введен в святилище ее семьи, протянет руку ее мужу и — кто знает? — станет другом ее сыновей, но честность ее возмущалась в ней.
— Это невозможно! — воскликнула она. — Это будет подло, низко, гадко!..
— Да, — отвечал задумчиво маркиз, — но это послужит спасением для вашего сына.
— Нет, я никогда на это не соглашусь!
Но не прошло и недели, как она уже не могла сопротивляться и этому проекту и уже обсуждала средства к его исполнению. Потеряв голову, лишившись под ногами почвы, она напрасно старалась не слушать вежливых угроз Кламерана и просьб и ласк ее Рауля.
— Как же?… — спрашивала она. — Под каким предлогом ввести Рауля?
— Под очень простым, — отвечал Кламеран. — Нет ли у вас в Сен-Реми одной престарелой родственницы, вдовы, у которой было когда-то две дочери?
— Это моя кузина Лагор.
— Ну вот и отлично! Каково ее имущественное положение?
— Она очень, очень бедна.
— Совершенно верно. И если бы вы ей тайком не помогали, то ей пришлось бы просить милостыню.
Госпожа Фовель не сумела отречься: так все хорошо было известно маркизу.
— Как? — пробормотала она. — Вы знаете и это?
— Да, сударыня, и кое-что еще. Так, например, мне известно то, что ваш муж не знает ровно никого из вашей родни и едва ли будет сомневаться в том, что у вас есть племянник Лагор. Понимаете ли вы мой план? Завтра или послезавтра вы получите из Сен-Реми письмо от вашей кузины, в котором она вам сообщит, что отправляет своего сына в Париж, и будет просить вас принять в нем участие. Естественно, вы покажете это письмо вашему мужу, а несколько дней спустя ему уже представится племянник Рауль Лагор, милый, богатый, умный, любезный молодой человек, который сделает все, чтобы понравиться вашему мужу, и добьется того, что расположит его к себе.
— Никогда! — закричала госпожа Фовель. — Никогда моя кузина, эта честная женщина, не согласится принимать участие в этой возмутительной комедии!
Маркиз самодовольно улыбнулся.
— Положитесь в этом на меня, — отвечал он. — Письмо, которое вы получите от нее и покажете вашему мужу, будет написано под мою диктовку первой попавшейся женщиной и будет опущено в почтовый ящик в Сен-Реми одним верным человеком. А если я заговорил о том, что вы помогаете вашей кузине, так это только для того, чтобы показать вам, что в случае чего в ее же интересах молчать. Вы все еще в сомнении?
— Но ведь это преступно, милостивый государь! Вы толкаете меня на преступление!
— Мы, кажется, не понимаем друг друга, — едва сдерживая себя, возразил он. — Прежде чем говорить о преступлении, не лучше ли поговорить о прошлом? Ведь вы менее опасались, когда, еще будучи девушкой, обзаводились любовником? Правда, вы отреклись от него, от этого любовника, вы отказались последовать за ним, тогда как из-за вас он убил двоих людей и рисковал эшафотом… У вас не было этих глупых предрассудков, когда после тайных родов, близ Лондона, вы бросили вашего ребенка. И надо вам отдать справедливость, вы отлично позабыли об этом ребенке, и, сделавшись миллионершей, вы даже ни разу не осведомились, есть ли у него кусок хлеба? Где же была ваша совестливость, когда вы выходили за господина Фовеля? Сказали ли вы этому честному человеку, какой позор скрывал на вашем лбу флёрдоранж? Вот где преступление! И когда от имени Гастона я потребовал от вас исправления вашего поступка, как вы тогда возмутились! Но теперь уже поздно. Вы погубили отца, сударыня, но вы спасете сына, или, клянусь вам честью, вы на долгое время погубите себя в глазах всего света!
Разбитая наголову, уничтоженная в прах, несчастная прошептала:
— Я повинуюсь.
А восемь дней спустя Рауль уже носил фамилию Лагор и обедал у банкира в обществе госпожи Фовель и Мадлены.
Глава XVII
Попав благодаря своим кузенам в общество богатых молодых людей, Рауль стал вести чрезвычайно расточительную жизнь. Он стал играть, давать ужины; его видели часто на скачках, и деньги лились у него сквозь пальцы рекой. Ошеломленный новой жизнью, не желавший вначале получить от матери ничего, кроме одной только ее привязанности, теперь он постоянно требовал от нее денег.
И она давала с радостью, без счета, но не могла в то же время не понять, что ее щедрость, если не будут своевременно приняты меры, только послужит его погибели. Муж ей не отказывал ни в чем. С самого дня их свадьбы он вручил ей ключ от своего письменного стола, и она бесконтрольно брала оттуда столько денег, сколько считала необходимым для хозяйства. Но так как она не отличалась широкими замашками и вела хозяйство с возможной экономией, то, конечно, не могла взять оттуда крупную сумму сразу без того, чтобы не возбудить беспокойства своего мужа.
А Рауль в три месяца пустил на ветер целое состояние. Ему нужны были лошади, ложа — как было ему отказать?
И каждый день являлась новая фантазия.
И всякий раз как госпожа Фовель улучала минуту, чтобы поговорить с ним, его физиономия принимала жалостное выражение и его прекрасные глаза наполнялись слезами.
— Это верно, — отвечал он. — Я и позабыл, что я сын бедной Валентины, а не богатой госпожи Фовель. Твоим другим сыновьям, Авелю и Люсьену, — им хорошо, они счастливы, они уже родились на деньгах. Им все можно, им все принадлежит по праву.
— Но чего же тебе не хватает, беспокойное дитя? — спрашивала в отчаянии госпожа Фовель.
— Мне? По-видимому, ничего, а на деле многого. Что мне принадлежит по закону? Какое я имею право на твои ласки, на те деньги, которые ты мне даешь, на то имя, которое я ношу? Я их уворовал и буду воровать их до конца моей жизни!
И госпожа Фовель была готова на все, лишь бы только он не имел повода завидовать братьям.
Наступила весна. Госпожа Фовель попросила Рауля переехать на дачу где-нибудь в окрестностях Сен-Жермена, где у нее была собственность. Поближе к ней. Она ожидала возражений, но их не последовало. Это предложение ему понравилось, и через некоторое время он объявил, что снимает усадьбу в Везине и меблирует ее на свои средства.
— Итак, мамочка, я буду около тебя! — сказал он. — Какое счастливое лето проведем мы вместе!
Она обрадовалась. Все-таки есть надежда, что расходы его сократятся!
Но в конце той же недели Рауль пробрался к банкиру в кабинет и непринужденно взял у него 10 тысяч франков. Узнав об этой невероятной смелости, госпожа Фовель в отчаянии ломала себе руки.
— Господи, что мне делать? — восклицала она. — Столько денег!
И она решила написать Кламерану, чтобы он пришел поговорить. Когда он явился и выслушал то, что произошло, между ним и Раулем произошла самая дикая сцена. Но оттого ли, что в госпоже Фовель пробудилась ее мнительность, или это было на самом деле — весьма возможно! — ей показалось, что их ссора была ими придумана и что в то время как они говорили друг другу обидные слова и сыпали угрозами, глаза их смеялись.
Она не сказала им ничего, но это сомнение, зародившись в ее сердце, как капля яда, который уничтожает все, чего только ни коснется, прибавило к ее невыносимым страданиям еще новые муки.
И она перестала обвинять Рауля. Он был ее сыном, которого она горячо любила, и если кто и был виноват, так это сам маркиз, который употреблял во зло слабость и неопытность своего племянника. Она знала, что, попав под власть такого человека, как Кламеран, она должна была ожидать от него неисполнимых требований, но, как ни старалась, не могла постигнуть его намерений.
Но скоро он сам их ей открыл.
Побранив Рауля сильнее обыкновенного и сказав госпоже Фовель, какая пропасть разверзается под ногами этого молодого человека, маркиз объявил, что единственное средство спастись от катастрофы — это ему, Кламерану, жениться на Мадлене.
Это неожиданное предложение Кламерана задело за живое госпожу Фовель.
— И вы могли подумать, милостивый государь, — воскликнула она с негодованием, — что я даже пальцем пошевельну для ваших подлых комбинаций?
Маркиз кивнул головой.
— Да, — отвечал он.
— Да к тому же, к какой женщине вы обращаетесь? Правда, я виновна, но ведь наказание искупает вину. Разве вы уже не заставили меня жестоко раскаяться в моем неблагоразумии? Но пока речь шла только обо мне одной, вы могли делать со мной, что хотели, я вас боялась, трепетала. Но раз заходит речь о моих близких — довольно, я возмущаюсь!..
— Неужто такое уж несчастье для Мадлены стать маркизой Кламеран?
— Моя племянница может сама выбрать себе супруга, она свободна в этом. Она любит Проспера Бертоми.
Маркиз досадливо повел плечами.
— Институтское увлечение… — сказал он. — Стоит только вам захотеть, и она забудет его.
— Я этого не захочу, — отвечала госпожа Фовель.
— Вы уступите мне и на этот раз!
— Нет! Ни за что на свете!
— Если я настаиваю на этом браке, так только потому, что это устроит ваши и наши дела, которые сейчас в плачевном состоянии. У вас уже теперь не хватает денег на прихоти Рауля, и вы должны экономить. Настанет минута, когда вам нечего будет ему дать, когда вам уже нельзя будет скрывать от мужа тех сумм, которые вы берете теперь из денег, предназначенных им на хозяйство. Что тогда будет?
Госпожа Фовель задрожала. Этого дня, о котором говорил маркиз, она ожидала уже в очень скором времени.
— Мадлена богата, — продолжал Кламеран. — Ее приданое позволит мне уплатить вам долг Рауля и спасти вас.
— Лучше погибнуть, чем добиваться спасения такими средствами.
— Но я не потерплю, чтобы вы скомпрометировали наше будущее. Мы соучастники с вами, сударыня, в одном и том же преступлении, не забывайте же о будущем Рауля!
— Не запугивайте, пожалуйста. Мое решение непоколебимо.
— Ваше решение?
— Да. Если вы будете меня принуждать, то я пойду к мужу, брошусь ему в ноги и расскажу ему обо всем. Он любит меня, он узнает все, что я выстрадала, и простит меня.
— Вы думаете? — с иронией спросил Кламеран.
Маска светского человека была сброшена с его лица, и перед нею предстал подлец, возмущавший своим цинизмом. Вся фигура его выражала угрозу, и сам голос сделался зверским.
— Так-с! Отлично! — воскликнул он потом. — Вы решили во всем признаться господину Фовелю? Превосходная идея! Жаль только, что так поздно она пришла вам на ум! Признавшись во всем в тот день, когда я только в первый раз явился к вам, вы бы еще могли рассчитывать на спасение: ваш муж еще мог бы простить вам ваш стародавний грех, который вы искупили двадцатилетним безупречным поведением. Вы были для него верной женой и доброй матерью его детей. Но вы подумайте только о том, что скажет этот почтенный господин, когда вы дадите ему понять, кто такой этот комический племянничек, которого вы ввели к нему в дом, посадили с ним за один стол, который брал у него деньги и представляет собой плод вашей первой любви! Не думаю, чтобы он с удовольствием принял это сообщение. Не обманывайте же себя понапрасну!
— Что бы ни случилось, я поступлю так, как должна! — объявила госпожа Фовель.
— Вы поступите так, как я захочу! — закричал на нее Кламеран. — Нам необходимо приданое вашей племянницы, да к тому же Мадлену… я люблю!
А затем он с холодной вежливостью прибавил:
— Взвесить мои доводы теперь зависит, сударыня, от вас. Поверьте мне, вам необходимо согласиться на эту последнюю жертву. Подумайте о честном имени вашего дома, а не о каких-то там увлечениях вашей племянницы. Через три дня я приду за ответом.
— Это будет бесполезно, милостивый государь. Как только вернется мой муж, я ему сообщу обо всем!
Он церемонно поклонился и вышел.
— Да! — крикнула она ему вслед с тем энтузиазмом, который сопровождает обыкновенно великие поступки. — Да, я все расскажу Андре!
Но в этот самый момент около нее раздались чьи-то шаги. Она обернулась и увидала перед собою Мадлену, бледную и холодную как статуя, с глазами, полными слез.
— Тетя, — сказала она. — Надо повиноваться этому человеку!
Мадлена подслушала их разговор.
— Как! — воскликнула госпожа Фовель остолбенев. — Ты знаешь все?
— Да, все.
— И ты хочешь, чтобы я пожертвовала тобой?
— Я готова умолять тебя на коленях, чтобы ты позволила мне тебя спасти.
— Но ведь ты презираешь Кламерана!
— Я ненавижу его, тетя, я чувствую к нему отвращение. Он есть и будет для меня самым ненавистным человеком даже и тогда, когда я стану его женой.
Госпожа Фовель смутилась.
— А Проспер? — спросила она. — Проспер, которого ты любишь?
Мадлена подавила в себе рыдания и твердым голосом ответила:
— Завтра я навсегда порву с господином Бертоми.
— Нет!.. — воскликнула госпожа Фовель. — Нет! Я не желаю тебя, невинную, приносить в жертву за мои грехи!
Благородная девушка печально покачала головой.
— Зато никто никогда не скажет, — отвечала она, — что я допустила бесчестье в этот дом, который считаю своим. Разве я не обязана вам своею жизнью? Что я без вас? Бедная работница на фабрике. Кто меня взял оттуда? Ты. Разве не дядя дал мне это состояние, которое навлекает на нас теперь несчастье? Разве Авель и Люсьен не братья мне? И когда нашему счастью угрожают, ты хочешь, чтобы я стала медлить?… Нет! Я буду маркизой Кламеран. Только подумай о тех страданиях, которые ожидают дядю, когда он узнает обо всем! Да ведь он умрет!
Молодая девушка была права.
И обстоятельства всегда складывались именно так, что госпожа Фовель всякий раз должна была уступать тому, что требовал от нее ее долг. Так, принеся мужа в жертву своей матери, она жертвовала теперь им и своими детьми Раулю. И подобно тому, как из кома снега получается целая снеговая гора, так от небольшой ошибки может произойти преступление.
Из ложного положения есть только один выход, это — правда. И госпожа Фовель старалась воспротивиться решению Мадлены, но не могла.
— Ах, если бы можно было откуда-нибудь взять эти деньги! — воскликнула она. — Ему нужны только твои деньги, Мадлена, этот человек желает только их, и больше ничего!
— Значит, мой брак не будет бесполезен, — прошептала Мадлена. — Сегодня вечером мы напишем Кламерану.
— Зачем же сегодня, Мадлена? Зачем спешить? Мы можем еще ждать, тянуть, выиграть время…
Решившись на самопожертвование, Мадлена разрубала узел сразу: она закрыла двери для обманчивых иллюзий и пошла напрямик, не оборачиваясь по сторонам.
— Лучше кончать сразу, дорогая тетя, — твердо отвечала она. — Поверь мне, в действительности несчастье совсем не таково, каким его ожидаешь.
Она взяла тетку за руку и подвела ее к зеркалу.
— Посмотри на себя, — сказала на, — что из тебя стало!
От госпожи Фовель осталась только одна тень. В четыре месяца она постарела. Горе положило на ее чело свою роковую печать. Ее свежие, как у девушки, виски избороздили морщины, и в волосах засветились серебряные нити.
— Ах, милая тетя! — воскликнула Мадлена. — Ну, как было не догадаться, что у тебя есть на сердце какая-то тайна? Но только я думала, что ты любишь кого-нибудь другого, а не дядю.
Госпожа Фовель глубоко вздохнула. Это могли подумать про нее и другие.
— Честь потеряна… — прошептала она.
— Нет, тетя, нет! — воскликнула молодая девушка. — Не падай духом, бодрись: теперь мы будем страдать вместе, вдвоем. И мы защитим себя, мы себя спасем!
В этот вечер Кламеран остался доволен. В письме на его имя госпожа Фовель извещала, что она согласна на все. Она просила у него только отсрочки, так как нельзя же было разорвать тотчас же с господином Бертоми и нужно было ожидать возражений со стороны господина Фовеля, который был на его стороне.
Строчка, приписанная на этом письме самой Мадленой, уверяла Кламерана, что его домогательства увенчались успехом.
Прошло три недели. У банкира был большой обед, на который было приглашено до двадцати человек гостей.
Уже подавали десерт, когда среди всеобщих разговоров банкир вдруг ни с того ни с сего обратился к Кламерану:
— Не могли бы вы дать маленькую справку, маркиз, — сказал он. — Есть у вас еще другие родственники, которые носят вашу фамилию?
— Насколько знаю, нет, — отвечал Кламеран.
— Восемь дней тому назад я узнал еще другого маркиза Кламерана.
Кламеран смутился и побледнел.
— Кламеран… маркиз… — пробормотал он, стараясь овладеть собою. — Ну, уж маркизом-то он быть не может!
— Маркиз или нет, — продолжал Фовель, — но на деле этот Кламеран показался мне достойным этого титула.
— Он богат?
— Насколько могу предполагать — очень. По его поручению я взыскивал с одного из моих корреспондентов в его пользу четыреста тысяч франков.
Кламеран удивительно умел владеть собой. Ни одно душевное движение не отразилось на его лице. Но на этот раз история была настолько странна, настолько неожиданна, она предвещала такие неприятности, что его обычная самоуверенность изменила ему.
Ему показалось, что банкир рассказал это с иронией, не без некоторой доли вызова. Не беда, если бы это было сказано при одних только гостях, которые мало выказали к этому интереса. Но здесь сидели Мадлена и ее тетка, которые вздрогнули и быстро посмотрели на Рауля.
— Кажется, этот новый маркиз ведет торговлю? — спросил Кламеран.
— Вы слишком многое хотите знать от меня, — отвечал ему Фовель. — Все, что я знаю, это только то, что четыреста тысяч следовали ему в уплату от пароходной компании в Гавре за проданный им бразильский пароход.
— Значит, он прибыл из Бразилии?
— Я не знаю, но если вы так интересуетесь, то я могу вам назвать его полное имя.
— Пожалуйста.
Банкир встал, вышел в кабинет и возвратился оттуда с записной книжкой, которую стал быстро перелистывать, произнося вполголоса попадавшиеся имена.
— Вот, — сказал он, — слушайте… двадцать второго… нет, это гораздо позже… Ах, вот! Гастон Кламеран… Его имя Гастон.
На этот раз Луи даже не нахмурился. Он имел время собраться с силами и запастись смелостью для того, что будет впереди.
— Гастон!.. — весело отвечал он. — Знаю, знаю! Это, должно быть, сын сестры моего отца, муж которой проживал постоянно в Гаванне. Возвратившись во Францию, он взял без всяких церемоний фамилию своей матери, более звучную, чем фамилия его отца, которого, насколько припоминаю, звали не то Муаро, не то Буаро.
Банкир положил свою памятную книжку на буфет.
— Буаро или Кламеран, — сказал он, — а я скоро приглашу вас с ним вместе пообедать. Из четырехсот тысяч франков, которые я для него получил, он взял только сто, а остальные поручил мне принять от него на текущий счет. Следовательно, можно предположить, что он скоро появится в Париже.
Разговор перешел на другие темы, и скоро Кламеран сделал вид, что совсем даже и позабыл о том, что сообщил ему банкир, но все время не переставал наблюдать за госпожой Фовель и ее племянницей.
Но они были смущены совсем иначе, чем он, так как смущение их было заметно. Украдкою они обменивались очень многозначительными взглядами. Очевидно, одна и та же страшная идея смутила их дух. Но еще более, чем тетка, была смущена Мадлена. В тот самый момент, когда банкир произнес имя Гастона, она увидела, и не обманулась в этом, как Рауль отодвинул свой стул и стал поглядывать в окошко, точно вор, застигнутый на месте преступления.
Обед кончился, гости перешли в салон, а Кламеран и Рауль точно случайно задержались в столовой. Теперь они были одни, и им нечего было скрывать свое беспокойство.
— Это он!.. — воскликнул Рауль.
— Несомненно.
— Значит, все потеряно! Давайте удирать!
— Ну, кто знает! — пробормотал Кламеран. — Кто знает! Жаль только, что этот несчастный банкир не сообщил нам, где нам отыскать Кламерана?
Но он тут же радостно вскрикнул, бросился к буфету и схватил памятную книжку, позабытую Фовелем.
— Внимание! — сказал он Раулю.
Он стал лихорадочно перелистывать ее и наконец нашел:
— «Маркиз Гастон Кламеран, город Олорон в Нижних Пиренеях».
— Какая же польза нам из того, — спросил Рауль, — что мы знаем теперь его адрес?
— Может быть, в этом наше спасение, — отвечал Кламеран. — Иди! Надо, чтобы не заметили нашего отсутствия. Хладнокровнее же, черт тебя побери, веселее! Я заметил один раз, что твое выражение лица чуть не выдало нас!
— Обе дамы в чем-то сомневаются.
— Что же из этого?
— Нам не следует оставаться здесь.
И они вышли к гостям.
Но если их разговор остался неуслышанным, зато их жесты были замечены. Появившаяся в дверях Мадлена видела, как Кламеран заглядывал в памятную книжку ее дяди.
А двумя часами позже Кламеран проводил Рауля до Везине и сообщил ему свой план.
— Это он, я не сомневаюсь, — сказал он. — Скоро нам придется испытать немало тревог.
— Благодарю покорно! — отвечал Рауль.
— Молчи! — прервал его Кламеран. — Теперь вопрос: знает он или не знает, что Фовель женат на Валентине? В этом-то и вся закавыка. Если знает, то нам остается только подобрать фалды и удирать, а если не знает, то дело в шляпе.
— А как это узнать?
— Очень просто: отправиться к нему и спросить.
— Это очень недурно, но опасно.
— А оставаться в неведении еще того опаснее. Когда возникнет подозрение, тогда уже будет поздно упираться.
— А кто к нему отправится?
— Я!
— А я-то как же?
— Ты? Ну, ты можешь оставаться и здесь. При малейшей опасности я пришлю тебе телеграмму — и ты удерешь.
И они остановились у решетки дома Рауля.
— Теперь выслушай меня, — сказал Раулю Кламеран. — Ты останешься здесь и все время, пока я буду в отъезде, старайся разыгрывать из себя почтительнейшего сынка. Ругай меня, позорь меня, сколько влезет, но не делай глупостей! Перестань просить денег… А теперь — прощай! Завтра вечером я уже буду в Олороне и увижу этого Кламерана…
Глава XVIII
После долгой борьбы за существование Гастон Кламеран нажил громадное состояние и обширные земельные угодья. Он был уверен, что никогда уже не покинет Бразилию и закончит свои дни в Рио-де-Жанейро. Но он не мог не считаться с любовью к родине и никогда не переставал быть в душе французом. Вот почему, когда он разбогател, он пожелал умереть во Франции. Ввиду этого он поступил так, как ему указывало само его положение. Он знал, что теперь, по возвращении, его уже за давностью лет не арестуют, реализовал то, что ему необходимо было для существования на первое время, а остальное поручил своему корреспонденту и сел на корабль.
Ему было уже 44 года и 4 месяца, когда в один прекрасный январский день 1866 года он высадился в Бордо. Это был еще не старый человек, полный надежд, но его здоровье, благодаря катастрофам жизни и быстрому влиянию климата, пошатнулось. Страдая сочленовным ревматизмом, он через несколько месяцев по прибытии отправился на минеральные воды, где, как уверяли его врачи, он получит выздоровление.
Но безделье убивало его. Пораженный великолепием Пиренеев и Аспийской долины, он решил здесь основаться навсегда. К счастью, здесь, недалеко от Олорона, продавался металлургический завод, он купил его, желая применить к делу те лесные богатства, которые благодаря отсутствию путей сообщения непроизвольно пропадали в горах.
И прошло уже несколько недель, как он поселился здесь, как вдруг его слуга однажды вечером подал ему визитную карточку какого-то господина, который желал его видеть.
Он взял карточку и прочитал: «Луи Кламеран».
Уже несколько лет он так не волновался. Кровь прилила ему к лицу, он задрожал и зашатался, как дерево, подкошенное топором.
Чувства, которые, казалось, уже давно в нем умерли, вдруг воскресли в нем с новой силой.
— Мой брат! — воскликнул он наконец. — Мой брат!
И, к удивлению испуганного слуги, он бросился вниз по лестнице.
В передней действительно стоял в ожидании какой-то господин. Это был Луи Кламеран.
Гастон бросился к нему и, не пожав даже ему руку, потащил его к себе в гостиную. Здесь он усадил его, сел и сам напротив него и взял обе его руки в свои. Он плакал и смеялся.
— Так это ты! — повторял он. — Ты, мой милый Луи, мой брат… Так это ты! Я тебя узнал, да, я тебя сразу узнал… Выражение твоего лица совсем не изменилось: тот же взгляд, та же улыбка, что и прежде… Значит, теперь я уже не один: есть человек, который меня любит и которого я люблю. Ты женат?
— Нет.
— Тем хуже, тем хуже! Мне хотелось бы, чтобы ты был женат на какой-нибудь доброй, преданной женщине, чтобы у тебя было много славных красивых ребят. Как бы я открыл вам мое сердце! Твоя семья была бы моей. Это было бы так хорошо, так приятно! Семья… Жить одному, без подруги, которая делила бы вместе с тобою и радость и горе, неудачи и успех, — разве это жизнь? Только я думал об одном себе — как это скучно! Но что же это я говорю? А ты-то на что? Луи!.. У меня зато есть брат, с которым я могу поболтать по душам, как с самим собой!
— Да, Гастон, у тебя есть друг.
— Ты не женат? Ну, что ж такое? Мы вместе поведем хозяйство. Мы останемся оба старыми холостяками, счастливыми, как боги, и будем жить, как мальчишки. Будем веселиться, делать глупости. Знаешь? Ты меня омолодил! Мне кажется, что мне еще только двадцать лет! А как я жестоко боролся, страдал, как страшно я постарел, изменился!
— Ты! — перебил его Луи. — Ты менее постарел, чем я!
— Спасибо за комплимент.
— Нет, клянусь тебе.
— А ты меня узнал?
— Совершенно. Ты все тот же…
— Но как ты меня нашел? — спросил Гастон. — Какая добрая фея довела тебя до моего дома?
Этот вопрос Луи предвидел. За восемнадцать часов пути в вагоне он уже обдумал на него ответ.
— Я должен благодарить за нашу встречу Провидение, — отвечал он. — Три дня тому назад я встретил по дороге одного молодого человека, который возвращался из минеральных вод и сообщил мне, что ходят слухи, будто на Пиренеях поселился какой-то маркиз Кламеран. Вообрази себе мое удивление! Мне даже показалось, что это самозванец. Тотчас же я бросился на вокзал, взял билет и вот сейчас у тебя.
— И ты не подумал обо мне?
— Ах, дорогой брат, ведь уже двадцать три года, как я считал тебя на том свете!
— Мертвецом… Меня! Да разве же Валентина Вербери не передала вам, что я жив? Она поклялась мне, что повидается с моим отцом!
— Увы! — отвечал Луи. — Она нам ровно ничего не передавала.
Вспышка гнева засветилась вдруг у Гастона в глазах. Быть может, ему пришла на ум мысль о том, что Валентине было приятно отделаться от него.
— Ничего? — воскликнул он. — Она ничего вам не передавала? Да ведь это же варварство! Заставить оплакивать мою смерть, старика отца умирать с горя! Вот что значит иметь трусость перед светом: она пожертвовала мною для своей репутации…
— Но ты-то сам, — перебил его Луи, — почему ты не писал?
— Я писал вам по мере возможности через некоего Лафуркада, но он сообщил мне, что отец умер, а ты куда-то эмигрировал. Но я все болтаю, болтаю, а не спрошу тебя: быть может, ты не обедал?
— Признаюсь, нет…
— И не скажешь!.. Я, впрочем, тоже еще не обедал! В первый же день и я морю тебя голодом! А какое у меня вино!
И он позвонил. В один момент весь дом был уже на ногах, и через каких-нибудь полчаса оба брата сидели за столом. Но и здесь разговор их казался бесконечным. Гастон хотел знать все.
— Ну а что наш Кламеран? — спросил он.
— Я его продал, — нерешительно отвечал Луи, не зная, говорить ли ему правду или нет.
— Даже и замок?
— Да.
— Я тебя вполне понимаю, но я бы на твоем месте… Ведь там жили наши предки, там умер наш отец!.. Впрочем, я и сам не вернулся бы туда. Я боюсь вновь пережить мучения при виде замка Кламеран, парка Вербери… Ведь только там я и был счастлив!
Физиономия Луи прояснилась. Это сообщение брата, что он не вернулся бы в Кламеран, избавило его от беспокойства.
Они пробеседовали до двух часов ночи, а на следующий день под каким-то предлогом Луи побежал на телеграф и дал следующую телеграмму Раулю:
«Все идет отлично. Добрые надежды».
А затем, улучив удобный момент, когда они сидели за завтраком, Луи сказал:
— А знаешь, дорогой Гастон, мы все говорим о пустяках, а до главного-то еще не договорились. Ведь, думая что тебя нет уже в живых, я наследовал отцу.
Гастон весело засмеялся.
— И это ты называешь главным? — спросил он. — Все, что ты получил, — твое. Ты имеешь на это право в силу давностного владения. Во всяком случае, я желал бы, чтобы ты не оставлял без своего внимания и мою… то есть нашу собственность.
Но если эта щедрость — комедия? Недоверчивость Луи уже заговорила в нем, и он стал раскаиваться, что послал накануне такую многообещающую телеграмму.
Сбоку, на краю красивой поляны, находился завод в полном действии. Гастон стал рассказывать Луи свои планы, как он рассчитывает превращать леса в каменный уголь и извлекать доходы из эксплуатации тех лесных богатств, которые до сих пор считались недоступными.
Луи поддакивал. Он восхищался всему этому в душе, но отвечал только односложными словами:
— Да! Конечно! Это хорошо!..
Новая боль, которую ему причинил своим рассказом Гастон, стала его мучить. Это благополучие, которое так бросалось в глаза, приводило его в отчаяние. Всеми своими ядовитыми колючками ревность вцепилась в его завистливую душу. Он видел, что Гастон богат, счастлив, почтенен, получил уплату за свой риск и труд, тогда как он… И никогда еще он не чувствовал так жестоко всего ужаса того положения, которое было делом его же собственных рук.
— Оставайся-ка здесь, под этим чудным небом Беарна, — обратился к нему Гастон. — Разве можно сравнить скупую на природу и раздолье парижскую жизнь с тем довольством и обилием, которые ожидают тебя здесь? Ты холост, значит, ты свободен. Оставайся, мы отлично заживем вместе! Скучать будет некогда, дело всегда найдется, ведь у нас — завод. Вдвоем, при капитале, да ведь мы натворим чудес! Ну, как ты находишь мой план?
Луи молчал. С каким наслаждением он принял бы это предложение год тому назад! А теперь он не мог принять его, и это приводило его в бешенство. Нет, он несвободен! Он не может бросить Париж. Там, в этом городе, у него остался сообщник, который его погубит, если он его покинет, и донос которого может довести его до эшафота…
Он мог бы скрыться, если бы был один, но он не один, у него есть соучастник.
— Ты не отвечаешь, — настаивал Гастон, удивленный его молчанием. — Значит, у тебя есть для этого препятствие?
— Да.
— Какое?
— Без Парижа мне нечем жить.
— Ты или не понял меня, или же не желаешь быть добрым братом.
Луи опустил голову.
— Я буду тебе в тягость, — пробормотал он.
— В тягость! Да ты с ума сошел! Разве я тебе не говорил, что я очень богат? В Америке у меня сейчас двадцать четыре тысячи ливров ренты, да еще скоро будут проданы мои бразильские концессии. У меня, брат, дело обстоит превосходно! Мой поверенный уже перевел на мое имя четыреста тысяч франков.
Луи задрожал от удовольствия. Наконец-то он узнал!
— Какой поверенный? — спросил он по возможности равнодушно.
— Мой старый компаньон в Рио-де-Жанейро. — Деньги эти уже находятся в моем распоряжении в Париже.
— У кого-нибудь из твоих приятелей?
— Нет! Мне указал на это лицо мой банкир в По и рекомендовал его как человека очень богатого, благоразумного и известного своей честностью. Это… Фовель, он живет на улице Прованс.
Луи, так умевший владеть собою, заметно побледнел, а потом покраснел.
— Знаешь ты этого банкира? — спросил его Гастон.
— Только по слухам, — отвечал Луи.
— Тогда мы вместе в очень скором времени познакомимся с ним. Я провожу тебя в Париж, пока ты там будешь устраивать свои дела, чтобы переселиться сюда.
При этом неожиданном сообщении о том, что неминуемо должно было бы погубить Луи, он все-таки нашел в себе достаточно самообладания для того, чтобы оставаться безучастным. Он почувствовал, что взгляд Гастона остановился на нем.
— Ты думаешь ехать в Париж, — спросил его Луи. — Ты?
— Да, что же тут необыкновенного?
— Ровно ничего.
— Я не люблю Париж; хотя я и ни разу не бывал в нем, а все-таки я ненавижу его — это тоже что-нибудь да значит. Но меня тянут туда важные дела, очень серьезные обязанности… Наконец, — он помедлил немного, — наконец там, говорят, поселилась Валентина Вербери, и я хочу ее видеть.
— Что ты!..
Гастон что-то сообразил. Он был взволнован, и его душевное состояние отражалось на лице.
— Тебе, Луи, — сказал он, — я могу сообщить, почему я желал бы ее видеть. Я отдал ей на хранение бриллианты нашей матери.
— И ты хочешь требовать их назад через двадцать три года?
— Да… Но это еще не все. Это только один предлог. Я хочу ее видеть, потому что… потому что… я ее любил когда-то, вот почему!
— Но как ты ее найдешь?
— О, это пустое! Стоит только справиться на родине, и первый встречный скажет фамилию ее мужа. Да вот что: завтра же я напишу в Бокер.
Луи понял, что ему во что бы то ни стало надо отговорить Гастона. Он привык бравировать всем, он не боялся ничего. Его ум был способен выдумывать самые преступные планы, а воля — хладнокровно приводить их в исполнение. Но в эту минуту он растерялся, и его обычная вера в себя и наглость оставили его. Со всех сторон ему стала угрожать опасность, неумолимая, не входившая ни в какие компромиссы. Фовель, его жена и их племянница могли его погубить. Узнав, в чем дело, Гастон, наверное, будет мстить. Сам его сообщник Рауль в случае опасности станет играть против него же и сделается его непримиримым врагом.
Найдет ли он хотя какое-нибудь средство помешать свиданию Валентины и Гастона?
Очевидно, нет!
И момент их встречи будет началом его гибели.
Но он ни одним звуком, ни одним жестом не выдал волновавших его тревог. А на следующее утро он еще более стал нежен к брату, смешил его, болтал так, как никогда прежде. Просил оседлать для него лошадь и только и говорил что об экскурсиях по окрестностям.
Он хотел этим занять Гастона, развлечь его, отвлечь его внимание от Парижа и Валентины.
Время шло, и в этих занятиях он не отчаивался уже, что разубедит брата от свидания с его старинной любовью. Он старался доказать ему, что из этого свидания абсолютно ничего не выйдет путного и что оно будет плачевно для них обоих: тягостно для него и опасно для нее.
А что касается бриллиантов, то если Гастону так уж хочется их вернуть, то тем лучше!.. Луи предлагает ему для этого деликатного дела свои услуги!
Но вскоре все его надежды и попытки оказались тщетны.
— Знаешь? — обратился к нему однажды Гастон. — Я написал.
— Написал? — воскликнул он. — Куда, кому, зачем?
— В Бокер, насчет мужа Валентины.
— Ты все еще думаешь о ней?
— Да.
— И все еще хочешь повидаться с ней?
— Более, чем когда-либо.
— А ты не подумал о том, что девушка, которую ты любил, уже жена другого, что она уже, быть может, мать семейства. Согласится ли она тебя принять? Стоит ли тебе беспокоить ее, нарушать ее жизнь, стоит ли тебе причинять себе еще большее горе?
— Правда, это глупо, я сознаю это, но сама эта глупость дорога для меня.
Он сказал это таким тоном, что Луи понял, что в его вмешательстве не нуждаются вовсе.
Тогда он принялся за письма, которые получались в доме. Он выследил, в какой час обыкновенно приезжал почтарь, и точно случайно выбегал к нему навстречу на двор. А когда почтарь приходил в их отсутствие, а отсутствовали они всегда оба, он знал, на какое место кладутся пришедшие письма и тотчас же к ним бежал. И его усилия не остались тщетны. В следующее же воскресенье среди писем, поданных ему почтарем, он нашел одно со штемпелем «Бокер» и быстро сунул его в карман. В это время подали лошадей. Луи ехал с братом кататься. Но, будучи не в силах сладить с нетерпением, Луи нашел какой-то предлог и побежал к себе в комнату.
Прочитав письмо, он дрожал, как человек, только что избавившийся от опасности. Теперь его погибель хотя и не менее вероятна, однако же отсрочена на некоторое время. Гастон будет ожидать ответа еще с неделю, затем напишет снова. Луи имеет в своем распоряжении еще десять — двенадцать дней.
А тем временем внизу, потеряв терпение, Гастон кричал:
— Иди же!
— Иду! — отвечал Луи.
А Гастон, казалось, даже и позабыл уже о том, что писал в Бокер, и больше уже ни разу не произносил имени Валентины.
Как человек, всю свою жизнь проведший в труде, Гастон нуждался в движениях, деятельности и весь ушел в свое новое дело.
Завод, казалось, поглотил его совершенно. Когда он его покупал, завод этот работал в убыток, но Гастон поклялся, что разумной эксплуатацией он заставит его приносить пользу и ему и стране.
Он пригласил молодого инженера, умного и смелого, и уже теперь, благодаря быстрым улучшениям производства и различным переменам в применении прогрессивных методов, им удалось сбалансировать доход и расход.
— В нынешний год еще куда ни шло! — радостно говорил Гастон. — Но уж на будущий год мы будем непременно получать тысяч двадцать пять!
На будущий год! Какая ирония судьбы!
Пять дней спустя, в субботу, после обеда, Гастон как-то вдруг почувствовал себя нехорошо.
С ним сделалось такое головокружение, что он положительно не мог стоять на ногах.
— Я знаю это, — сказал он. — У меня в Рио часто бывали эти головокружения. Стоит только, бывало, наступить двум часам дня и готово. Пойду лягу. Разбудите меня к обеду.
Но настал обед, и когда он попробовал было подняться, то не смог.
Вслед за головокружением страшно заболела голова. В висках застучало с невероятной силой. Горло стали сжимать судороги, и ощущалась сухость во рту. Но это было не все: язык заплетался и уже не следовал за мыслью. Гастон хотел сказать одно слово, а произносил совсем другое, и было похоже на то, что его поразили безгласие и немота. Наконец мускулы у челюстей напряглись, и нужно было много усилий, чтобы он мог открыть или закрыть рот.
Дежуривший около брата Луи настаивал на том, чтобы послать за врачом, но Гастон не хотел.
— Твой врач, — сказал он, — будет пичкать меня лекарствами и уложит меня совсем, тогда как я просто недомогаю и знаю от этого средство сам.
И он приказал своему слуге Мануэлю, старому испанцу, служившему у него уже десять лет, приготовить ему лимонад.
И действительно, на следующее утро Гастону было заметно лучше.
Он встал, ел за завтраком много и с аппетитом, но в тот же самый час, как и вчера, почувствовал себя еще хуже.
На этот раз, ничего не сказав Гастону, Луи послал в Олорон за доктором С… Доктор объявил, что серьезного ничего нет, поставил несколько мушек, предварительно посыпав их морфием, внутрь прописал препарат из валерианы и цинка.
Но среди ночи, не проспал Гастон спокойно и трех часов, как болезнь приняла еще более бурный характер. Приехавший на утро доктор С… был очень удивлен и положительно был сбит с толку происшедшей переменой.
Он спросил, не увеличили ли дозу морфия, чтобы облегчить страдания больного? Мануэль, который ухаживал за хозяином, отвечал, что нет. Тогда он прописал кровопускание и в больших дозах хинин и удалился, сказав, что приедет завтра.
Сделав над собою усилие, Гастон приподнялся на своей постели и послал слуг за знакомым адвокатом.
— Зачем это? — спросил Луи.
— Мне нужен его совет, — отвечал Гастон. — Не будем обманываться: я тяжко болен. Я буду покоен, когда распоряжусь заранее. Послушайтесь меня.
Еще нужен был юрист, чтобы составить новое духовное завещание, и на это раз уже в пользу Луи. Он хотел отдать ему все.
Узнав, в чем дело, и сообразив намерения своего клиента, адвокат решил, что нужно, насколько возможно, обставлять дело так, чтобы не платить наследственных пошлин, которые в данном случае могли бы быть очень значительны. И он предложил следующее простое средство.
Если Гастон подпишет сейчас бумагу в том, что принимает своего брата в компаньоны на половинных началах, то в случае его смерти Луи уплатит наследственные пошлины только с половины всего того, что ему достанется по завещанию.
С живейшим участием Гастон одобрил эту комбинацию. И не потому, что он хотел этим соблюсти некоторую экономию в случае смерти, а потому, что видел в ней случай, если останется в живых, разделить с братом все, что имел, не задев этим его самолюбия и щепетильности.
И между Луи и Гастоном был совершен акт, которым Луи признавался участником в деле брата на сумму в полмиллиона франков.
Этого-то Луи и надо было! Теперь перед юстицией всего мира, перед всеми судами на свете, Луи был компаньоном своего брата и собственником половины всех его имений.
Умрет ли Гастон или будет жить, теперь Луи по закону имел в своем распоряжении 25 тысяч ливров годового дохода, не считая случайной прибыли от завода.
На такое богатство он не смел даже надеяться, не смел даже о нем мечтать. Теперь его желания не только исполнились, но даже были превзойдены. Чего ему теперь недостает?
Увы! Ему не хватало только одного: мирно наслаждаться этим богатством. Оно пришло к нему слишком поздно. Это богатство, свалившееся ему с неба, вместо того, чтобы обрадовать его, только наполнило его душу гневом и печалью.
Вот что он писал Раулю два или три дня спустя по подписании договора:
«Я имею теперь 25 тысяч ливров дохода, в моем распоряжении полмиллиона франков. Но к чему мне это богатство сейчас? Всего золота в мире недостаточно сейчас, чтобы устранить все трудности нашего с тобою положения. Мы вступили с тобой на наклонную плоскость и волей-неволей должны уже катиться до ее конца. Было бы безумием остановиться посередине. Богатый или бедный, я должен каждую минуту бояться, что вот-вот Гастон повидается с Валентиной. Как их разлучить навсегда? Откажется ли мой брат увидеть женщину, которую он так любил? Нет, Гастон не перестанет ее искать, желать свидания с нею, и доказательством этому может служить то, что несколько раз, в минуты самых тяжелых страданий, он произносил ее имя».
Гастону стало лучше. Он уже не страдал так тяжко, голова его прояснилась, он легко стал дышать, и его предчувствия уже оставили его.
— Я крепко построен, — сказал он окружавшим его рабочим. — Меня вылепили из извести и песка, и вот я уже могу выходить.
Приехавшие из Олорона его знакомые высказали предположение, что, быть может, болезнь его произошла от перемены климата, и было нетрудно убедить в этом и его самого.
— Старые деревья погибают, когда их пересаживают, — отвечал он. — Весьма возможно, что я прожил бы дольше, если бы возвратился в Рио.
Какая надежда для Луи! С каким пылом он ухватился за нее!
— Да, — сказал он. — Ты очень хорошо сделаешь, если возвратишься туда, отлично сделаешь. Я буду тебя туда сопровождать. Путешествие в Бразилию вместе с тобой составит для меня громадное удовольствие.
Но что поделаешь с больными! Они — как дети. На другое утро Гастон уже говорил совсем другое.
Он утверждал, что никогда не решится бросить Францию. Напротив, как только поправится, он тотчас же поедет в Париж. Там он посоветуется с врачами, там повидается с Валентиной.
И по мере того как продолжалась его болезнь, он все более и более беспокоился о Валентине, и его удивляло, что он до сих пор еще не получил ответа из Бокера. Ответ этот так занимал его, что он собрался с силами и написал второе письмо в более категорических выражениях и с часу на час стал поджидать возвращения почтаря.
Но и это второе письмо оказалось в кармане у Луи.
В тот же вечер Гастон стал жаловаться на боли. После двух или трех дней улучшения болезнь вспыхнула вновь и на этот раз уже с невероятной силой. И в первый раз за все течение ее доктор С… стал высказывать беспокойство.
С этого момента уже можно было предвидеть роковой конец. И если страдания Гастона, казалось, уменьшились, если он стал менее стонать, так это только потому, что силы стали ему изменять и что наступил, наконец, кризис. Час от часу удары сердца становились все слабее и слабее и конечности стали холодеть.
Наконец, на четырнадцатый день болезни, утром, после целой ночи беспокойного полузабытья, Гастон пришел в себя.
Он послал за священником и, пробыв с ним наедине целых полчаса, объявил, что теперь уж он может умереть по-христиански, как и его предки.
Затем он приказал растворить настежь все двери и позвать к нему рабочих. Он простился с ними и сказал им, что не забыл и их.
Когда они удалились, он попросил брата не бросать завод, обнял его в последний раз и, повалившись на подушку, впал в агонию.
А когда настал полдень, он тихо и мирно почил навеки. Морфий сделал свое дело.
С этой минуты Луи становился маркизом и миллионером.
А пятнадцатью днями позже, устроив все дела и поговорив с инженером, который стал управлять заводом, Луи уже сидел в вагоне.
Накануне же он дал Раулю следующую многозначительную телеграмму:
«Я добился».
Глава XIX
Первое свидание между двумя сообщниками произошло в гостинице «Лувр». Было оно очень бурное. Рауль, этот практический молодой человек, доказывал, что они уже достигли самых счастливых результатов и что желать еще большего глупо.
— Чего нам теперь недостает? — говорил он своему дяде. — Чего еще нам желать? В нашем распоряжении теперь больше миллиона. Поделим его и успокоимся. Нам выпало на долю счастье, поверь мне — не надо испытывать судьбу.
Но эта умеренность не понравилась Луи.
— Я богат, — отвечал он, — но ведь у меня есть и другие желания. Более чем когда-либо я хочу жениться на Мадлене. О, она будет моею, клянусь тебе в этом! К тому же я ее люблю. А затем, сделавшись племянником одного из самых богатейших банкиров столицы, я немедленно же приобрету важное положение…
— Желать Мадлену, милый дядюшка, это дело очень рискованное.
— Пусть будет так… Но я согласен даже и на риск. Я согласен делиться с тобой, но поделюсь только тогда, когда женюсь на Мадлене. Ее приданое будет твоим. Поэтому в нашей комедии необходим еще новый акт.
— Новый акт?…
— Тебе он кажется трудным? Ничего не может быть проще. Выслушай меня, потому что от твоих способностей зависит его будущее исполнение.
Рауль откинулся на спинку кресла с видом невозмутимого слушателя и просто отвечал:
— Я к твоим услугам.
— Через четыре или пять дней я повидаюсь с господином Фовелем и сообщу ему, что хранящиеся у него фонды принадлежат мне, и попрошу его подержать у себя эти деньги, так как я в них вовсе не нуждаюсь. Так как ты не доверяешь мне, то эти деньги будут тебе служить гарантией в том, что я сдержу свое слово.
— Мы еще поговорим об этом!
— Затем, милый племянничек, я отправлюсь к госпоже Фовель и обращусь к ней со следующими словами: «Когда я был беден, сударыня, я должен был заставить вас прийти на помощь сыну моего брата, который в то же время и ваш сын. Правда, это большой негодяй…»
— Покорнейше благодарю! — сказал Рауль.
— «…он доставил вам тысячи беспокойств, — продолжал Луи, — он отравил вам жизнь, хотя должен был бы составить вам утешение, примите от меня извинения и поверьте, что я очень о вас сожалею. Теперь я богат и пришел вам объявить, что с нынешнего дня я принимаю на себя заботу о настоящем и будущем Рауля».
— И это ты называешь планом?
— Ты сейчас увидишь. Весьма возможно, что от этого сообщения госпожа Фовель бросится мне на шею. Но она этого не сделает из боязни перед племянницей и спросит меня, не откажусь ли я от Мадлены в виду того, что разбогател. На это я категорически отвечу: «Нет. Напротив, это новое доказательство моего бескорыстия. Вы считали меня жадным, сударыня, — скажу я ей, — но вы обманулись. Я увлечен красотой и умом Мадлены, и… я ее люблю. И если бы у нее не было даже гроша за душой, то и тогда бы еще с большей настойчивостью я на коленях просил у вас ее руки. Она согласна быть моей женою. Позвольте мне настаивать на этом, но под одним только условием: мое молчание за этот брак. А чтобы убедить вас в том, что ее приданое не играет для меня ни малейшей роли, я даю вам честное слово, что на другой же день после свадьбы я подпишу на имя Рауля двадцать пять тысяч ливров годового дохода».
Луи сказал это с таким ударением, таким увлекательным тоном, что даже Рауль, этот классический притворщик, был удивлен.
— Восхитительно! — воскликнул он. — Эта последняя фраза выкопает между госпожой Фовель и ее племянницей сразу целую пропасть. Это обеспечение моего будущего сразу привлечет мою мать на нашу сторону!
— Надеюсь, — отвечал Луи с притворной скромностью, — и это тем более, что я доставлю этой милой даме превосходные поводы извинять себя в своих же собственных глазах. Я докажу ей и ее племяннице, что Проспер их недостойно обманывал. Я представлю им этого малого по уши погрязшим в долгах, игроком, развратником, кутилой и открыто живущим с продажной женщиной.
— И на закуску — с хорошенькой, — вставил Рауль. — Не забудь упомянуть, что эта синьора Жипси очаровательна и что не обожать ее нельзя. Это будет маслом в огонь.
— Не бойся, уж я сумею! У меня красноречие и ум министерские. Затем я дам понять госпоже Фовель, что если она действительно любит свою племянницу, то она не может не желать видеть ее замужем не за этим хамом-кассиром без гроша за душой, а за человеком почтенным, крупным промышленником, унаследовавшим одно из славных имен Франции, маркизом, имеющим претензию на высокое положение в свете.
Рауль и сам представлял себе эти перспективы.
— Если ты ее и не убедишь, — сказал он, — то, во всяком случае, поколеблешь.
— О, эти дела не скоро делаются! — продолжал Кламеран. — Это только семена, которые я зароню в ее душу. Благодаря же тебе они взойдут, вырастут и дадут свои плоды.
— Благодаря мне?
— Да, но дай мне кончить. Сказав все это, я скроюсь, я даже и носа не покажу туда, и вот тут-то и начинается твоя роль. Конечно, мать тотчас же передаст тебе о нашем разговоре. Но при одной только мысли об услугах именно от меня ты возмутись. Ты энергично заяви, что готов примириться со всеми лишениями, с нуждой, скажи даже — с голодом, что тебе не впервой голодать, но что ты никогда не согласишься одалживаться перед человеком, который… которого… Ну, одним словом, ты меня понимаешь!
— Понимаю! Чувствую! Патетические роли у меня всегда выходят хорошо, в особенности когда я заранее подготовлюсь.
— Отлично. Только это благородное бескорыстие на том и окончится. Ты снова должен начать расточительную жизнь. Более чем когда-либо ты должен играть, ставить ставки, проигрывать. Требуй денег, как можно больше денег, при этом будь настойчив, безжалостен. И помни, что все, что ты стащишь у матери, ты возьмешь себе сполна. Делиться со мной тебе уже больше не придется.
— Ах, черт возьми!
— Я требую этого, Рауль. Необходимо, чтобы в три месяца ты истощил все источники у этих двух женщин — понимаешь? — все! Необходимо, чтобы ты пустил их по миру, чтобы в эти три месяца они были разорены абсолютно, чтобы они остались без копейки, без малейшей драгоценности, без всего!
— И тебе не жалко этих несчастных женщин?
— Это необходимо. В тот день, когда ты поставишь госпожу Фовель и ее племянницу на край пропасти и когда они увидят всю ее глубину, — вот тут-то я и явлюсь. И когда они будут считать себя навеки погибшими, я их спасу. Я разыграю перед ними очень милую сцену, и это тронет Мадлену. Она меня ненавидит, тем лучше! Но когда она увидит, когда ей будет доказано, что я хочу именно ее, а не ее деньги, она перестанет меня презирать. Нет такой женщины, которую не тронула бы чья бы то ни было привязанность, а привязанность извиняет все. Я не говорю, что она меня полюбит, но она отдастся мне без сопротивления. А это все, чего я желаю.
Рауль молчал, пораженный таким цинизмом и такой холодной развращенностью своего дядюшки.
— Ты, конечно, добьешься своего, дядя, — сказал он, — но между тобой и Мадленой всегда будет стоять обожаемый кассир Проспер, а если и не он, то воспоминание о нем.
Луи нехорошо улыбнулся.
— Проспер, — отвечал он, бросив сигару, которая уже потухла, — меня беспокоит столько же, сколько и вот эта дрянь…
— Она его любит.
— Тем хуже для него. Через полгода она уже не будет его любить. Уже теперь он уронил себя морально. А в ту минуту, когда я добьюсь своего, я уничтожу его. Ах, когда я почувствую в своей руке трепет руки Мадлены, когда я услышу вдруг у себя на лбу ее дыхание от поцелуя, — весь мир не отнимет ее у меня! И горе тому, кто станет тогда у меня поперек пути! Проспер меня стесняет, и я его уничтожу. С твоей помощью я втащу его в такую тину, что он позабудет даже и думать о Мадлене.
Тон Луи выражал такую ненависть, такое безграничное желание мстить, что Рауль испугался не на шутку и задумался.
— Ты, кажется, готовишь для меня отвратительную роль, — сказал он спустя некоторое время.
— У моего племянника, кажется, заговорила совесть? — спросил Кламеран насмешливо.
— Совесть?… Не совсем… но признаюсь…
— Как? На попятный двор? А ну-ка предположи, куда ты денешься, если госпожа Фовель вдруг завтра умрет? В глубоком трауре ты, значит, пойдешь клянчить пособие у ее вдовца?
Рауль с гневом прервал его.
— Оставь! — сказал он. — Я вовсе не ухожу на попятный двор. Если я возражаю, так только потому, что хочу прежде всего указать тебе, какой подлости ты от меня требуешь, а затем уже доказать, что без меня ты обойтись не можешь.
— Я и не говорю, что могу.
— Но какое же я получу вознаграждение, почтенный дядюшка? Что ты можешь предложить мне в случае успеха? И что, если мы сядем на мели?
— Как я уже сказал тебе, ты получишь двадцать пять тысяч ливров годового дохода, и все, что я получу в приданое за Мадленой, будет твое.
— Согласен. А в чем будут состоять гарантии?
— Чего ты боишься? — спросил Кламеран.
— Всего, — отвечал Рауль. — У кого я должен искать защиты, если ты меня надуешь? У этого вот кинжала? Нет, благодарю покорно! Твоя шкура мне обойдется дороже, чем шкура честного человека.
Наконец после долгой беседы они сговорились: все было улажено к общему удовольствию, и они расстались, крепко пожав друг другу руки.
Увы! Госпожа Фовель и ее племянница не замедлили почувствовать на себе всю горечь этого соглашения.
Все случилось именно так, как предвидел и желал Луи Кламеран.
В ту самую минуту, когда госпожа Фовель собиралась уже вздохнуть свободно, поведение Рауля сразу изменилось. Его мотовство вспыхнуло еще с большей силой.
До этого времени госпожа Фовель еще могла себя спрашивать: «Куда он тратит деньги, которые я ему даю?» Теперь уж она не могла задавать себе и этого вопроса: Рауль относился к ней с большой теплотой.
Он показывался повсюду, одевался по самой последней моде, его стали видеть на первых представлениях за кулисами, он приезжал на бега в карете, запряженной четверкой лошадей.
И никогда еще он не требовал денег так настойчиво, так жестко, как теперь. И госпожа Фовель не находила защиты против этих чудовищных и частых трат.
Скоро все дозволенные источники у госпожи Фовель и ее племянницы иссякли.
В один месяц негодяй расточил все, что только они успели сэкономить. Тогда они обратились ко всем неблаговидным приемам, употребляемым теми женщинами, тайные издержки которых служат началом разорения семей. Они стали наживать деньги на самых позорных экономиях. Они заставляли дожидаться поставщиков, брали на книжку. Затем они стали завышать счета на те покупки, что тратили на самих себя. Они стали выдумывать такие наряды, что даже господин Фовель с улыбкой им как-то сказал:
— Да вы становитесь, мадам, завзятыми кокетками!
Несчастные женщины! Они уже целые месяцы ничего для себя не покупали, они жили только остатками от прежнего величия, переделывали старые платья, сгибаясь под теми требованиями, которые предъявляло к ним их общественное положение.
Более рассудительная, чем тетка, Мадлена уже предвидела не без страха, что скоро должен настать момент, когда придется ответить «нет» и все откроется наружу.
Но она молчала. Деликатность заставляла ее скрывать все свои предположения.
И день этот настал. Мадлена и ее тетка оказались лишенными всего, что имели.
Накануне у госпожи Фовель собрались гости к обеду, и нечего было дать повару на покупку провизии.
Пришел в этот день и Рауль. Никогда еще он не был в таком затруднении. Во что бы то ни стало ему нужны были десять тысяч франков. Он не хотел ждать и был ужасен и безжалостен.
— Но у меня уже вовсе нет ничего, несчастный! — возразила ему госпожа Фовель в отчаянии. — Ни одного сантима! Ты взял уже все. У меня остаются только драгоценности. Если они тебе нужны — бери уж и их!
— Давай! — отвечал он озверевшим голосом. — Я снесу их в ссудную кассу!
Госпожа Фовель вынесла ему футляр с бриллиантами. Их подарил ей ее муж, когда, подведя итог, узнал, что он уже миллионер.
И одна за другой драгоценности госпожи Фовель последовали за этими бриллиантами, и, когда не хватило и их, Рауль, принялся и за бриллианты Мадлены.
Чтобы защищаться от ополчившихся против нее негодяев, госпоже Фовель оставались одни только слезы и молитвы. Но этого было мало.
Эти возмутительные вымогательства доходили до того, что даже сам Рауль возмущался, волновался и испытывал ужас и отвращение.
— У меня положительно переворачивается сердце, — говорил он своему дяде, — я начинаю терять терпение. Добро бы сражаться с равным врагом, с оружием в руках, а то истязать этих несчастных женщин, которых любишь, — нет, слуга покорный!
Кламеран, казалось, нисколько не удивился этим протестам.
— Конечно, это печально, — отвечал он, — но ведь нужда не знает законов. Подожди, еще немного терпения и энергии — и мы будем у цели.
Но они были к цели гораздо ближе, чем предполагал Кламеран. К концу ноября госпожа Фовель, предвидя неминуемую катастрофу, решилась обратиться к нему. Она не могла сообщить об этом Мадлене, опасаясь с ее стороны возражений. Но, к ее удивлению, Мадлена сама начала об этом разговор.
— Чем скорее ты повидаешься с Кламераном, — сказала она тетке, — тем будет лучше.
И действительно, дня через два госпожа Фовель отправилась сама к маркизу в гостиницу «Лувр», предупредив его заранее письмом.
Он принял ее с холодной, притворной вежливостью, с тоном человека, которым пренебрегли, но который оскорблен и унижен и должен соблюдать поэтому известную осторожность.
Он возмутился поведением своего племянника и даже дозволил себе обругать его, сказав, что расправится с этим негодяем по-своему. Но когда госпожа Фовель сообщила ему, что если Рауль беспрестанно и обращается именно к ней, то это только потому, что он не желает одалживаться перед дядей. Кламеран, казалось, стал в тупик.
— Какова дерзость! — воскликнул он. — Мерзавец! В эти четыре месяца я дал ему двадцать тысяч франков, и если я согласился их ему дать, так это только потому, что он всякий раз грозил мне, что обратится к вам.
Видя по фигуре госпожи Фовель, что она не столько удивлена, сколько сомневается, Луи встал, отпер свой шкаф, достал оттуда расписки Рауля и показал ей их. Расписок было выдано на сумму в 23 500 франков.
Госпожа Фовель не знала, что ей делать.
— Но ведь и я ему дала около сорока тысяч франков, — сказала она. — Ведь это шестьдесят тысяч франков в какие-нибудь четыре месяца!
— Это было бы невероятно, — отвечал Кламеран, — если бы у него не было любовницы.
— Боже мой! Куда только девают эти твари деньги, которые тратят на них мужчины?
— Этого никто не знает…
И он, казалось, искренне жалел госпожу Фовель и обещал ей, что сегодня же вечером повидается с Раулем и постарается пробудить в нем лучшие чувства. А затем, после долгих возражений с ее стороны, он кончил тем, что предоставил в ее распоряжение все свое состояние.
Госпожа Фовель отказалась от его предложения, но была им тронута и, возвратясь домой, сказала Мадлене:
— Быть может, мы обманывались; весьма возможно, что он не такой уж плохой человек…
Мадлена печально покачала головой. То, что произошло, она отлично предвидела! Милое бескорыстие маркиза было только подтверждением ее догадки.
Придя к своему дяде за новостями, Рауль нашел его сияющим.
— Все идет отлично, милый племянничек, — сказал ему Кламеран. — Твои расписки сотворили чудеса. Ты отличный партнер, и я тебя горячо поздравляю. Сорок тысяч в четыре месяца! А?
— Да, — небрежно отвечал Рауль, — приблизительно на эту сумму я заложил бриллиантов в ссудной кассе.
— Черт возьми! У тебя теперь должно быть много денег, потому что любовницу-то ведь я приплел только как предлог!
— Ну, это уж мое дело, дяденька. Ты-то сам не забывай нашего условия. Я должен сказать тебе только то, что госпожа Фовель и Мадлена теперь совсем уже без гроша. У них теперь нет ничего, и я считаю свою роль исполненной.
— Да, твое дело окончено, и я запрещаю тебе требовать от них даже и один сантим.
— А что мы будем делать далее? В чем будет состоять дальнейшее?
— Дальнейшее заключается в том, что мина уже подведена и что нужно теперь только подождать удобного случая, чтобы ее поджечь.
Этот случай, которого Луи поджидал с таким лихорадочным нетерпением, должен был, по его плану, доставить ему сам Проспер Бертоми.
Луи так любил Мадлену, что до ненависти ревновал ее к этому человеку, которого она выбрала свободно и которого не презирала всеми силами своей души, как его.
Он знал, что женится на Мадлене. Но как? Силой, приставив ей нож к горлу. Он приходил в неистовство от одной только мысли, что будет владеть только ее телом, но не душой, которая, не подчинившись его силе, все-таки будет принадлежать Просперу.
И он поклялся, что, прежде чем жениться, он утопит кассира в клоаке бесчестья, откуда ему уже не вылезти никогда. Он мог бы его убить, но ему хотелось лучше его унизить.
До сих пор он воображал себе, что несчастного молодого человека легко погубить, что он сам же доставит к этому средства. Но он ошибся.
Правда, Проспер вел безумную жизнь, которая часто доводит до катастрофы, но даже в беспорядочной жизни у него был свой порядок. Он вел большую игру, но играл без страсти, без всякого интереса, и ни экзальтация выигрыша, ни разочарование проигрыша никогда не могли нарушить его хладнокровия.
Его любовница Нина Жипси была сумасбродна, расточительна, но она обожала его, и ее фантазии не переходили установленных им пределов.
— Ты не знаешь Проспера, дядя, — говорил Кламерану Рауль. — Мертвого не воскресишь. В тот день, когда Мадлена дала ему отставку, она убила в нем человека. Для него безразлично решительно все, и ни к чему он не питает интереса.
— Что ж, подождем!..
И они подождали, а, к великому удивлению госпожи Фовель, Рауль снова стал по отношению к ней таким же, каким был в отсутствие Кламерана. Его расточительность сменилась вдруг бережливостью. Он окончательно порвал с несуществовавшей любовницей. Под предлогом экономии он не хотел уезжать из Везине, хотя оставаться там на зиму было неприятно. Он хотел искупить свою вину уединением. На деле же он продолжал там жить для того, чтобы пользоваться большей свободой и избавиться от частых посещений матери.
Именно в это самое время госпожа Фовель, обрадовавшись происшедшей в нем перемене, придумала определить его на службу в банкирскую контору к своему мужу.
Господин Фовель одобрил эту идею. До него доходили слухи о расточительности Рауля, да и сам он уже неоднократно давал ему взаймы денег. Убежденный в том, что молодой человек без занятий способен на одни только глупости, он предложил ему место корреспондента, назначив ему жалованье по пятьсот франков в месяц.
Предложение это очень обрадовало Рауля, но, получив приказание от Кламерана, он отказался от него наотрез, отговорившись тем, что не чувствует ни малейшего призвания к банковской деятельности.
Этот отказ так обидел банкира, что он сказал ему несколько резких слов и объявил ему, чтобы тот больше уже не рассчитывал на его услуги. Это послужило Раулю предлогом демонстративно перестать у них бывать.
Это затишье после стольких жестоких издевательств показалось Мадлене подозрительным. Она понимала, что это спокойствие, которое обыкновенно предшествует буре, было предвестником какого-то страшного, гибельного шторма. Она не говорила тетке ничего о своих предчувствиях, но приготовилась ко всему.
— Что-то они замышляют? — не раз говорила госпожа Фовель. — Будут ли они нас снова преследовать?
— Да, — шептала и Мадлена. — Что-то они замышляют?
И если Рауль и Кламеран не подавали и признаков жизни, так это только потому, что они, как охотники на тяге, подстерегали своих жертв. Они выжидали только удобного момента.
Следя за каждым шагом Проспера, Рауль прилагал все свои старания к тому, чтобы завлечь его в такую передрягу, где он потерял бы свою честь навсегда. Но, как он и предвидел, безучастное отношение кассира ко всему служило ему большим препятствием.
Кламеран начал терять терпение и стал уже подыскивать более верное средство, когда однажды ночью, в три часа, его разбудил вдруг Рауль.
— Что случилось? — спросил с беспокойством Луи.
— Может быть, ничего, а может быть, и все, — отвечал Рауль. — Я сейчас только от Проспера.
— Ну?
— Я повез его обедать, пригласил также Жипси и еще троих из моих знакомых. После обеда я затеял громадную игру в баккара, но Проспер был такой кислый, что я не мог его втянуть.
Разочарованный Луи сделал недовольное движение.
— Ты сам кислый, — проворчал он. — Ходишь только беспокоить среди ночи людей из-за такой ерунды!
— Подожди, я еще не окончил.
— Так говори же, черт возьми!
— Окончив игру, мы стали ужинать. Проспер, хмелея все больше и больше, сболтнул слово, на которое запирается касса.
Кламеран вскрикнул от удовольствия.
— Какое же это слово? — спросил он.
— Имя его любовницы.
— Жипси!.. Да, это так! Всего только пять букв.
Он был очень возбужден и взволнован, встал с постели, надел халат и зашагал по комнате.
— Попался-таки! — сказал он с выражением удовлетворенной ненависти. — Теперь уж он в наших руках! И если этот хваленый кассиришка сам не хочет обворовывать свою кассу, так обворуем мы за него, и, как ни вертись, влопается-то все-таки он! Теперь слово в нашем распоряжении, остается только достать ключ. Ты ведь знаешь, куда его кладут?
— Когда господин Фовель уезжает, он почти всегда оставляет ключ в своей комнате в одном из ящиков письменного стола.
— Отлично! Ты пойдешь к госпоже Фовель и потребуешь от нее этот ключ. Если она не согласится его отдать, употреби силу. Что с ней церемониться! Получив ключ, ты отопрешь кассу и возьмешь все, что в ней находится… Ну-с, господин Проспер, дорого же вам обойдется любовь к девушке, которую люблю и я!
— Не радуйся заранее, — сказал Рауль. — Трудностей еще немало.
— Я их вовсе не вижу.
— Проспер может завтра же переменить это слово.
— Это верно, но маловероятно. Он, должно быть, уже и позабыл то, о чем сболтнул. Во всяком случае мы поспешим.
— И это еще не все. Согласно строгому предписанию господина Фовеля, в кассе оставляют на ночь только очень незначительные суммы.
— Стоит только мне захотеть, и в ней оставят громадную сумму.
— Как это?
— У господина Фовеля сейчас лежат мои четыреста тысяч. Я закажу их платеж рано утром, в момент открытия банкирской конторы. Тогда их положат в кассу на ночь.
— Какая мысль! — воскликнул пораженный Рауль, хотя и опасался со стороны госпожи Фовель непобедимого сопротивления. Будучи побежденной, она, наверное, признается мужу во всем, а тем более если почувствует в своей душе угрызения совести.
Но Луи этого не опасался.
— Жертва влечет за собою жертву, — отвечал он. — Она уже слишком много делала для нас, чтобы не соглашаться на все что угодно. Для нас она предала свою приемную дочь Мадлену, предаст и этого молокососа, который для нее совсем чужой.
— Так-то так, только в глазах Мадлены Проспер все-таки не будет бесчестным.
— Ты просто ребенок, милый племянничек!
И они обдумали весь план действий и самое легчайшее его осуществление.
— Если это действительно то самое слово, — проговорил Рауль, — то Проспер погиб!..
И сообщникам больше ничего не оставалось делать, как только обсудить частности и назначить день к приведению в исполнение их возмутительного замысла. Они решили, что преступление может быть совершено вечером 27 февраля.
Они выбрали именно этот вечер потому, что Рауль знал, что господин Фовель будет обедать у одного из своих друзей и что Мадлена приглашена на вечеринку к подруге. И без всякой помехи Рауль отправится в этот вечер к Фовелям в половине девятого, когда его мать во всем доме будет одна.
— Сегодня же, — сказал Кламеран, — я пойду к Фовелю и потребую, чтобы деньги были приготовлены к утру во вторник.
И, сказав друг другу «до завтра» и пожелав успеха, Рауль и Кламеран расстались.
Кламеран был так рад, что позабыл даже о той бездне грязи, которая еще отделяла его от успеха. Рауль был спокоен и полон решимости. Подлое дело, которое он должен был совершить, возбуждало его своей проклятой властью. Он ни о чем больше не думал, как только о самостоятельности, о финансовой независимости. Даже Луи так не думал о Мадлене.
И все шло так, как условились эти двое негодяев. Банкир позабыл о своем постановлении и из любезности сделал распоряжение о выдаче денег именно в условленный час, а Проспер пообещал, что деньги к назначенному времени будут уже на месте.
Уверенность в успехе сводила Луи с ума. Он считал часы и минуты. Наоборот, Рауль становился все печальнее и печальнее. Размышления о предстоящем деле раскрывали перед ним всю его гнусность.
Рауль был настоящим бандитом, смелым, ужасным во всем, что касалось исполнения его алчных желаний. Он мог красть с веселым видом, мог пырнуть своего врага кинжалом из-за угла и после этого спокойно спать, но он был молод.
Он был молод, и порок еще не успел проникнуть в него до мозга костей; испорченность еще не настолько поработила его душу, чтобы заглушить в ней последние остатки благородных чувств.
И его решимость, такая твердая накануне, все ослабевала по мере того, как приближалась решительная минута.
— Ты боишься? — спросил его Кламеран, с беспокойством следивший за его внутренней борьбой.
— Да, — отвечал Рауль. — У меня нет твоей силы воли и я боюсь.
— Как! Ты? Мой ученик, мой друг? Это невозможно! Черт возьми, бодрись! Побольше энергии, еще один взмах веслом — и мы у берега. Это нервы. Пойдем обедать, стакан бургонского тебя подправит.
И они отправились на бульвар, зашли в один первоклассный ресторан, в котором часто бывали, и потребовали себе отдельный кабинет.
Но напрасно Луи старался быть веселым: он не мог развеселить своего товарища.
Рауль оставался мрачным и бледным. В кабинете пробило восемь часов.
— Пора! — сказал Луи.
Рауль побагровел, зубы его застучали. Он хотел встать и не мог. Ноги отказались ему служить.
— Ах, я не могу! — воскликнул он с болью и отчаянием.
Огонь сверкнул в глазах у Кламерана. Неужели всем его комбинациям суждено пропадать даром? Но он овладел собой, сообразив, что малейшая вспышка может погубить все дело. И он быстро позвонил. Пришел слуга.
— Бутылку портвейна, — обратился к нему Кламеран, — и бутылку рому!
Слуга подал, Луи налил в большой стакан того и другого, смешал и поднес Раулю.
— Пей! — сказал он.
Одним глотком Рауль осушил стакан. Затем он встал и, стукнув кулаком по столу, воскликнул:
— Идем!
Но, не сделав и двадцати шагов по бульвару, он почувствовал, что энергия, вызванная в нем алкоголем, оставляет его.
И он взялся за руку Кламерана.
— Помни хорошо о том, что мы придумали, — сказал ему Кламеран. — Главное — уметь войти. От того, с каким видом ты войдешь, зависит все! Пистолет с тобой?
— Да, да, оставь меня…
Очутившись у дверей дома Фовелей, Рауль почувствовал новый упадок сил.
— Бедная женщина! — воскликнул он. — Несчастный тот человек, которому я только вчера еще пожимал руку, а сегодня уже подтолкну на гибель!.. Ах, как это подло, как подло!
— Да ну же! — оборвал его Кламеран со злобой. — Я, кажется, в тебе ошибся!
Но в это время низменные инстинкты взяли над Раулем верх, он подбежал к двери и позвонил. Ему отворили.
— Тетя дома? — спросил он у лакея.
— Барыня одна, в своем будуаре, — отвечал слуга.
Рауль стал подниматься наверх.
Глава XX
Кламеран сказал Раулю:
— Главное — это уметь войти. Сам твой вид должен оказать такое действие, чтобы не нужно было больше никаких объяснений.
Но это предупреждение оказалось излишним.
Войдя в будуар, Рауль был так бледен и так расстроен, его глаза выражали такое замешательство, что, увидев его, госпожа Фовель не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть:
— Рауль!.. Какое еще несчастье?
Звук этого голоса, полный нежности, произвел на молодого бандита впечатление электрического удара. Дрожь пронзила его с ног до головы. Но он не оробел. Луи не ошибся: Рауль вошел в свою роль, он был на сцене, самоуверенность вернулась к нему, его плутовская натура одержала верх.
— Меня, мама, постигло несчастье… — отвечал он. — Но это уж последнее!..
Госпожа Фовель никогда еще не видала его таким. Взволнованная, вся затрепетав, она поднялась с места, подошла к нему и, посмотрев ему прямо в глаза, старалась прочитать в них всю его душу.
— В чем дело? — настаивала она. — Рауль, мой сын, отвечай же!
Он ласково отстранил ее от себя.
— В том, — отвечал он задыхающимся голосом, — в том, что я не достоин тебя, не достоин своего честного, благородного отца!
Она замахала головой, точно для того, чтобы не дать ему это говорить.
— О, я знаю себя! — продолжал он. — Я сам себе судья!
— Говори же! — воскликнула она. — Объяснись! Разве я тебе не мать? Говори всю правду, я все должна знать!
Он помедлил немного, точно боясь того ужасного удара, который должен был нанести своей матери, а потом упавшим голосом чуть слышно произнес:
— Я погиб!
— Погиб?
— Да, больше уже мне не на что надеяться, нечего ожидать! Я обесчещен, и я сам же в этом и виноват! Сам!
— Рауль… Что ты говоришь?…
— Но ты не бойся, мама, я не втопчу в грязь имя, которое ты мне дала. У меня хватит смелости пережить свой позор. Перестань, мама… не оплакивай меня… Я из тех людей, на которых ожесточилась сама судьба и для которых нет другого выхода, кроме смерти. Я сын рока. Разве ты не осуждена вечно проклинать мое рождение? Воспоминание обо мне заставляло тебя в долгие бессонные ночи испытывать угрызения совести. Наконец я нахожу тебя и за твою же привязанность ко мне вношу в твою жизнь погибель.
— Неблагодарный!.. Упрекнула ли я тебя хоть раз?
— Ни разу в жизни. Твое дорогое имя будут благословлять эти губы, когда твой Рауль умрет.
— Умрешь? Ты?
— Это необходимо, мама, этого требует честь. Я присужден к этому судьями, выше которых нет на свете, это моя совесть и воля.
— Но что же ты такое сделал?
— Мне были поручены чужие деньги, и я их проиграл.
— Большую сумму?
— Ни ты, ни я не сможем ее уплатить. Бедная мама! Я разве не все у тебя забрал? Разве ты не все драгоценности до малейшей безделушки отдала мне?
— Но ведь Кламеран богат, он сам предлагал мне свое состояние. Я прикажу сейчас заложить лошадей и поеду к нему сама.
— Кламеран уехал на восемь дней, и именно сегодня вечером я должен или уплатить, или умереть. Прежде чем решиться, я уже все обдумал. Лишиться жизни-и это в двадцать лет!
Он вытащил из кармана пистолет и насильно улыбнулся.
— Вот кто устроит все! — сказал он.
Госпожа Фовель была слишком взволнована, чтобы узреть в его угрозах хитрость. Позабыв о прошлом, не заботясь о будущем, вся поглощенная настоящим, она видела только то, что ее сын должен умереть, застрелиться и что она ничем не могла удержать его от этого самоубийства.
— Я умоляю тебя подождать, — сказала она. — Андре вернется, я попрошу у него денег. Сколько тебе было поручено?
— Триста тысяч франков.
— Завтра я их тебе достану.
— Мне они нужны сегодня же вечером!
Она почувствовала, что сходит с ума, и в отчаянии всплеснула руками.
— Сегодня же вечером, — повторяла она. — Отчего же ты не пришел ко мне раньше? Значит, ты потерял ко мне доверие?… Вечером ведь в кассе никого нет!..
— В кассе! — воскликнул он. — А ты знаешь, где лежит от нее ключ?
— Да, вот там!
— Отлично!..
Он посмотрел на нее с такой дьявольской дерзостью, что она опустила глаза.
— Давай мне его сейчас же!
— Несчастный!..
— От этого зависит моя жизнь.
— Нет, — залепетала она, — нет, это невозможно!
Он настаивал, а потом вдруг собрался уходить.
— В таком случае, мама, поцелуй меня в последний раз.
Она его остановила.
— Зачем же тебе ключ, Рауль? — спросила она. — Разве тебе известно слово?
— Нет, но я попытаюсь.
— Да ведь в кассе никогда не оставляют денег!
— Попробуем! Если я чудом открою ее и если в ней окажутся вдруг деньги, то это значит, что сам Бог сжалился над нами.
— А если не откроешь? Клянешься ли ты мне тогда подождать до завтра?
— Клянусь памятью моего отца.
— Тогда вот тебе ключ. Возьми его.
Бледные и дрожащие, Рауль и госпожа Фовель вошли в кабинет банкира и направились к узкой винтовой лестнице, которая вела из апартаментов в банкирскую контору.
Рауль шел впереди, держа лампу и сжимая в кулаке ключ от кассы.
Госпожа Фовель была твердо убеждена, что все попытки Рауля останутся безуспешны. Зная устройство кассы, она понимала отлично, что с одним ключом еще не доберешься до денег и что надо было знать еще слово. И ей казалось невозможным, чтобы Рауль знал это слово, которое не было известно даже ей самой. Ну откуда и как ему было узнать о нем? Даже допустив, что он отопрет кассу, она была уверена, что все равно он не найдет там денег, так как все фонды хранились постоянно в банке.
И если она приняла участие в деле, даже мысль о котором казалась ей ужасной, если она дала своему сыну ключ, так это только потому, что поверила слову Рауля и хотела оттянуть время до утра.
«Когда он убедится в тщетности своих надежд и своих усилий, — думала она, — он подождет до завтра, он поклялся мне в этом, и тогда я завтра же… завтра…»
Они вошли в бюро Проспера, и Рауль поставил лампу на конторку, которая была настолько высока, что, несмотря на абажур, лампа освещала все.
Быстро, с привычной ловкостью он нажал на пять кнопок на крышке кассы: «ж», «и», «п», «с», «и».
Затем он вставил в скважину ключ, повернул его раз, затем вдвинул глубже и повернул вторично. Сердце его так билось, что госпожа Фовель могла слышать его удары.
Слово не было изменено. Касса отперлась.
Рауль и его мать оба вскрикнули: один от радости, другая от страха.
— Запри ее! — воскликнула госпожа Фовель, пораженная этим неожиданным, необъяснимым результатом.
И, потеряв голову, она бросилась на Рауля, отчаянно вцепилась ему в руку и потянула ее на себя с такой силой, что ключ выскочил из скважины, скользнул по дверце кассы и оставил на ней длинную, глубокую царапину.
Но Рауль улучил время и, увидав на верхней полке кассы три пачки процентных бумаг, схватил их левой рукой и сунул себе под сюртук между жилеткой и рубашкой.
Израсходовав себя всю на это движение и будучи не в состоянии сладить с охватившим ее волнением, госпожа Фовель выпустила руку Рауля и, чтобы не упасть, ухватилась за спинку кресла Проспера.
— Умоляю тебя, Рауль, — сказала она, — заклинаю тебя, положи обратно в кассу эти билеты… Завтра я тебе достану эти деньги, клянусь тебе в этом, я дам тебе их в десять раз больше, только, умоляю тебя, пожалей свою мать!
Он не слушал ее и рассматривал царапину, оставленную на дверце. Она была очень заметна и беспокоила его.
— Не бери хоть всего, — настаивала госпожа Фовель. — Возьми, сколько нужно, и положи обратно остальное.
— Для чего? Чтобы менее заметили кражу?
— Да. Пойми ты, я все устрою. Предоставь действовать мне. Я придумаю какое-нибудь извинение, скажу Андре, что это мне понадобились деньги.
С тысячами предосторожностей Рауль снова запер кассу.
— Идем, — обратился он к матери. — Удалимся скорее, а то нас могут хватиться. Прислуга может войти к тебе в будуар и, не найдя нас, поднимет тревогу.
Это жестокое равнодушие, эта способность рассуждать в такой момент возмутили госпожу Фовель.
— Отлично! — воскликнула она. — Хорошо же! Пусть нас ловят на месте преступления! Тогда все будет кончено, Андре меня выгонит, как последнюю тварь, но я не стану губить невинных. Завтра в этом кабинете обвинят Проспера. Кламеран отнял у него любимую женщину, а ты хочешь украсть у него и честь, — нет, довольно!
— Идем же! — крикнул он, схватив ее за руку.
Но она упиралась. Она уцепилась за край стола и не хотела идти.
— Я уже предала вам Мадлену, — сказала она, — поэтому не хочу предавать вам еще и Проспера!
Рауль понял, что необходим очень веский мотив, чтобы изменить решение госпожи Фовель.
— Эх, простота! — засмеялся он с цинизмом. — Разве ты не понимаешь, что сам Проспер мой сообщник и что мы эти деньги поделим поровну? Он уже дожидается меня.
— Это невозможно!
— А что ж по-твоему, откуда бы я мог узнать слово?
— Проспер честен.
— Конечно; мы оба честны! Только нам нужны деньги.
— Ты лжешь!
— Нет, милая маменька, Мадлена прогнала от себя Проспера, надо же ему, бедному мальчику, чем-нибудь утешаться, а для этого нужны ведь деньги…
Он взял лампу и осторожно, но с силой повел госпожу Фовель по лестнице. Она уже не владела собою и машинально переступала со ступени на ступень.
— Надо положить ключ обратно в стол, — сказал Рауль, когда они были снова в спальне.
Но она не слышала его, и он сам положил его туда, так как видел, откуда она его взяла.
Затем он снес на руках госпожу Фовель в ее будуар, где она сидела во время его прихода, и усадил ее в кресло.
И так велик был упадок ее сил, так дико смотрели в пространство ее глаза, по которым можно было судить об ужасе, охватившем ее душу, что испугался даже сам Рауль, и ему показалось, что она сошла с ума.
Он поцеловал ее в лоб и ушел.
В том самом ресторане, в котором они обедали, Кламеран, мучимый неизвестностью, поджидал своего сообщника.
И едва только показался Рауль, как он стремительно вскочил с места, побледнел от беспокойства и едва слышно спросил:
— Ну?
— Все исполнено, дяденька, спасибо тебе. Теперь я последний из негодяев.
Он быстро расстегнул жилет и, бросив на стол, еще залитый тем вином, которым он опьянял себя для храбрости, четыре связки банковых билетов, он с ненавистью и презрением сказал:
— На, подавись! Эти деньги будут стоить чести и, быть может, жизни трех человек.
Кламеран не почувствовал обиды. Дрожавшей рукой он сгреб банковые билеты и стал их ощупывать, точно стараясь убедиться в успехе.
— Теперь Мадлена моя! — сказал он.
Рауль молчал. Вид этой радости после всего того, что он испытал за этот час, его возмущал и унижал.
— Трудно было? — спросил Кламеран с улыбкой.
— Я тебе запрещаю, — закричал вне себя Рауль, — понимаешь? Я тебе запрещаю когда бы то ни было говорить со мной об этом вечере! Я должен его позабыть…
Кламеран нетерпеливо пожал плечами.
— Забывай, забывай, милый племянничек, — насмешливо проговорил он, — сделай такое одолжение! Только я не думаю, чтобы из боязни воспоминаний ты отказался от этих трехсот пятидесяти тысяч франков. Возьми же их! Они твои.
Это великодушие не удивило и не удовлетворило Рауля.
— По нашему условию я имею право на большее, — сказал он.
— Совершенно верно. Это — в счет платежа.
— А когда я получу остальное?
— В день моей свадьбы с Мадленой. Не раньше.
— Ладно, я соглашаюсь. Но от поручений, подобных нынешнему, я положительно отказываюсь.
Кламеран расхохотался.
— Хорошо, хорошо, — отвечал он. — Теперь ты можешь сделаться честным сколько влезет: момент удобный, ты богат. А так как тебя пугает твоя трусливая совесть, то я больше уже не буду давать тебе никаких поручений. Итак — иди за кулисы. Теперь начинается уже моя роль.
Глава XXI
По уходе Рауля госпожа Фовель целый час оставалась в оцепенении, близком к полной нечувствительности ко всему, что бывает следствием одинаково как крупных моральных потрясений, так и сильных физических страданий.
Мало-помалу она стала приходить к сознанию настоящего положения и вместе со способностью мыслить возвратились к ней и страдания.
Теперь она поняла, что была жертвой гнусной комедии, что Рауль мучил ее сознательно, хладнокровно, с заранее обдуманным планом, делая из ее страданий себе забаву, спекулируя на ее нежности.
Но Проспер? Был ли он сообщником Рауля? Способствовал ли он ему в краже?
В этом вопросе для госпожи Фовель заключалось все. Если не он, то кто же другой мог сообщить Раулю слово и заранее положить в кассу такую громадную сумму денег, когда, согласно формальным приказаниям патрона, она всегда должна была оставаться пустой. Да и самое поведение Проспера делало вероятным сообщение Рауля. Она знала, что он живет с одной из тех тварей, по капризу которых бросаются на ветер целые состояния и которые губят даже лучших людей. Она считала ее способной на все.
Разве она не знала по опыту, до чего может довести увлечение?
Тем не менее она извиняла Проспера и его падение приписывала себе. Благодаря кому именно Просперу было отказано от дома, который он считал своим? Кто разрушил хрупкое здание его надежд и испортил его чистую любовь?
Она думала об этом и не знала, как теперь поступить, сообщить ли обо всем Мадлене или нет?
И она решила, что преступление Рауля должно остаться в тайне. И когда в одиннадцать часов вернулась из гостей Мадлена, она ей не сказала ничего.
Ее спокойствие не изменило ей и тогда, когда пришли домой и Фовель с Люсьеном. Но под внешним спокойствием было скрыто ее тяжкое страдание. Что, если банкир вздумает сейчас сойти вниз, в контору, и осмотреть кассу? Это бывало редко, но все-таки бывало.
Наступившая ночь была для госпожи Фовель одним долгим и невыносимым страданием.
— Через шесть часов… — говорила она себе. — Через четыре часа… Через три часа все будет открыто. Как-то все обойдется!
Настал день, стали в доме пробуждаться. Вот заходила прислуга. Вот стали отпирать контору, вот донеслись до нее голоса приказчиков.
Она хотела встать и не могла. Непобедимая слабость и тяжкие страдания овладели ей. Тогда она стала ожидать, присев на краю кровати и насторожив слух. Отворилась дверь, и в ее комнату вошла Мадлена. Несчастная была бледна как смерть и дрожала как осиновый лист.
Госпожа Фовель поняла, что преступление открыто.
— Ты знаешь, тетя, что случилось? — спросила Мадлена прерывающимся голосом. — Обвиняют Проспера в краже. Сейчас внизу полиция, и его отведут в тюрьму.
Госпожа Фовель застонала.
— Все это штуки Рауля или маркиза… — продолжала молодая девушка.
— Как? Почем ты знаешь?
— Я ничего не знаю. Проспер не виноват — вот и все. Сейчас я его видела, говорила с ним. Если бы он был виновен, то он не осмелился бы так честно смотреть мне в глаза.
Госпожа Фовель уже открыла было рот, чтобы сообщить ей обо всем, но не смогла.
— Чего хотят еще от нас эти два чудовища? — воскликнула Мадлена. — Каких им жертв еще надо? Обесчестили Проспера!.. Лучше бы убили его…
Приход Фовеля прервал ее. Банкир так был возмущен, что не мог говорить.
— Негодяй! — пробормотал он наконец. — И он осмелился обвинить меня!.. Сказал во всеуслышание, что это я сам себя обокрал… Теперь маркиз Кламеран может заподозрить меня.
И, не замечая выражения лиц двух дам, он рассказал, как все случилось.
В этот день преданность Мадлены своей тетке выдержала тяжкое испытание. На глазах у благородной девушки втаптывали в грязь человека, которого она любила; она верила в его невиновность как в свою собственную.
Она знала тех, кто подставил ему ловушку, и не могла его защищать.
А госпожа Фовель поняла, что ее недомогание может послужить уликой, и, полумертвая, собралась с последними силами и вышла к завтраку.
Это был печальный завтрак. Никто не ел. Прислуга ходила на цыпочках и перешептывалась, точно в доме был покойник.
В два часа Фовель сидел запершись у себя в кабинете, когда к нему пришел вдруг казачок и доложил, что его желает видеть маркиз Кламеран.
— Как! — воскликнул банкир. — Он смеет…
А потом он подумал и сказал:
— Проси.
Но маркиз не пожелал входить. Возвратившийся мальчик доложил, что по важным соображениям он хочет видеть господина Фовеля в банкирской конторе.
— Что еще за новости? — воскликнул банкир.
Но, не найдя отговорок, он все-таки сошел вниз. Кламеран ожидал его, стоя в первой комнате перед кабинетом кассира. Фовель направился к нему.
— Что вам еще нужно от меня, милостивый государь? — резко спросил он его. — Ведь вы же получили все? У меня ваши расписки…
К великому удивлению приказчиков и самого банкира, маркиза нисколько не смутил этот вопрос.
— Вы жестоки ко мне, — отвечал он, — но если я настаивал на том, чтобы видеть вас здесь, а не в вашем кабинете, так это только потому, что именно здесь, при ваших служащих, я дозволил себе быть неделикатным с вами и вот при них же хочу просить у вас извинения.
Поведение Кламерана было настолько неожиданно, что банкир едва нашел от удивления два-три банальных слова ему в ответ. Он протянул ему руку и сказал:
— Забудем обо всем…
Затем они несколько минут дружелюбно беседовали, Кламеран рассказал банкиру, почему именно ему так неотложно понадобились деньги, и они стали прощаться. Уходя, Кламеран заявил, что хотел бы получить от госпожи Фовель позволение засвидетельствовать ей свое почтение.
— После такого горя, какое ей пришлось испытать сегодня утром, — сказал он с видимой нерешительностью, — было бы, пожалуй, это и нескромно…
— О, не беспокойтесь об этом! — отвечал банкир. — Мне даже кажется, что немножко поболтать ей просто было бы полезным, развлекло бы ее, а то и я так расстроен этим неприятным приключением…
Госпожа Фовель находилась в том же самом будуаре, где накануне Рауль пугал ее самоубийством. Изнемогая от страданий, она едва сидела на кушетке, и Мадлена была около нее. Но когда лакей доложил о Кламеране, обе они вскочили, испугавшись так, точно это было привидение.
Он поздоровался с ними; ему указали на кресло, но он отказался от него.
— Простите, мадам, — начал он, — что я осмелился вас беспокоить, но я должен исполнить свой долг.
Дамы молчали.
— Я знаю все! — тихо сказал он. — Час тому назад я узнал, как вчера вечером Рауль прибег к позорному насилию, как он вынудил у своей матери ключ от кассы и как похитил из нее триста пятьдесят тысяч франков.
Гнев и стыд при этих словах покрыли щеки Мадлены.
Она бросилась к тетке и схватила ее за руки.
— Так это правда? — злобно спросила она ее. — Так это правда?
— Увы! — застонала уничтоженная госпожа Фовель.
Мадлена выпрямилась во весь рост.
— И ты допустила, что обвиняют Проспера, — воскликнула она, — ты позволила обесчестить его, посадить в тюрьму?
— Прости!.. — прошептала госпожа Фовель. — Я боялась. Рауль хотел себя убить. Затем ты не знаешь… Проспер его соучастник.
— Тебе об этом наврали и ты веришь? — возмутилась Мадлена.
Кламеран искал удобного момента прервать ее.
— К несчастью, — язвительно сказал он, — ваша тетушка права: господин Бертоми действительно тут причастен.
— Доказательств, милостивый государь, доказательств!
— Признание Рауля.
— Рауль — подлец!
— Я согласен с вами, но кто же сообщил ему слово? Кто заранее принес деньги в кассу? Несомненно, что господин Бертоми.
Но Мадлена не слушала его. Бросив на него уничтожающий взгляд, она многозначительно сказала:
— Вы должны знать, где эти деньги. Вы подстрекнули его на эту кражу, и укрыватель — тоже вы!
— Настанет день, мадемуазель, — отвечал он, — когда вы раскаетесь в этих словах. Я понял значение ваших слов. Не старайтесь их отрицать…
— Я и не подумаю их отрицать.
— Мадлена! — прошептала госпожа Фовель, дрожа всем телом при мысли о том, что она всецело находится в его руках. — Мадлена, имей жалость!..
— Да, — печально произнес Кламеран. — Мадемуазель безжалостна. Она жестоко поступает с честным человеком, единственная вина которого состояла лишь в том, что он повиновался последней воле своего покойного брата.
И он медленно вытащил из кармана пачку банковых билетов и положил ее на камин.
— Рауль украл триста пятьдесят тысяч франков, — сказал он, — вот эта сумма. Это — половина моего состояния. От всей души я отдаю вам все, чтобы только быть убежденным, что это преступление — последнее.
Мадлена была смущена. Все ее предположения, казалось, разлетелись прахом. Госпожа Фовель, наоборот, с распростертыми объятиями встретила эту щедрость.
— Мерси, — говорила она, пожимая Кламерану руку. — Мерси, вы так добры!..
Луч радости засветился в глазах Луи. Но он начал торжествовать слишком рано. Минута размышления вернула Мадлене все ее недоверие.
Для человека, которого она считала неспособным на благородное чувство, она считала это бескорыстие слишком великим поступком, и у нее появилась мысль, не новая ли это западня?
— Для чего нам эти деньги? — спросила она.
— Вы отдадите их господину Фовелю.
— Мы? И как? Отдать ему эти деньги — значит выдать Рауля, а это в свою очередь значило бы погубить тетю. Нет, милостивый государь, возьмите эти деньги себе назад.
Кламеран повиновался и собрался уходить.
— Я понимаю ваш отказ, — сказал он. — Но я не уйду, мадемуазель, без того, чтобы не сказать вам, как сильно заставляет меня страдать ваша несправедливость. Быть может, вы теперь измените и данное вами обещание?
— Нет, я сдержу свое обещание, но только в том случае, если вы дадите мне гарантии.
— Гарантии?… В чем? Говорите, прошу вас…
— Кто может знать, что после моей свадьбы с вами Рауль снова не будет угрожать своей матери? Что значит мое приданое для такого человека, который в четыре месяца растратил более ста тысяч? Давайте сторгуемся: моя рука за честь и жизнь моей тети. Но предварительно я должна знать: в чем ваши гарантии?
— О, я предоставлю вам все, что только вы потребуете от меня! — воскликнул Кламеран. — Вы сомневаетесь в моей преданности, чем же я мог бы вам ее доказать? Попытаться спасти господина Бертоми?
— Благодарю за ваше предложение, — с достоинством отвечала Мадлена. — Если Проспер окажется виновным, то пусть его засудят, а если он невиновен, то Бог ему поможет.
Госпожа Фовель и ее племянница поднялись. Визит окончился. Кламеран должен был уходить.
«Каков характерец? — говорил сам себе Кламеран. — Какова сила воли!.. Требовать от меня гарантий!.. Но я ее люблю и хочу видеть эту гордячку у своих ног… Она так хороша… Что ж, тем хуже для Рауля!»
И в самый тот момент, когда Луи уже считал себя у цели, возникло новое препятствие. Приходится начинать сначала. Было ясно, что Мадлена решила пожертвовать собой ради тетки, но было также ясно и то, что она не пожертвует собой ради одних только сомнительных обещаний.
А как ей дать гарантии? И какие? Какими мерами можно ясно и определенно удостоверить, что госпожа Фовель отныне будет ограждена от Рауля?
Конечно, раз Кламеран женится, то Рауль будет богат и уже оставит мать в покое. Но как это доказать, как это объяснить Мадлене?
Какие ей дать гарантии?
И долго Кламеран обдумывал этот вопрос. И все-таки он не находил ничего, ни одного возможного решения, ни одного средства выйти из положения.
Но он был не из тех людей, которые долго задумываются над одним каким-нибудь предметом. Если он не мог решить вопроса, то он прямо устранял его.
Рауль стеснял его. Оставалось устранить этого Рауля. И он решил устранить его.
Через господина Фовеля его жена и Мадлена узнавали постепенно о результатах следствия над Проспером, об его упорном замешательстве, об обвинениях, которые ему предъявлялись, о нерешительности судебного следователя и, наконец, об его освобождении из тюрьмы за недостатком улик, так как не оказалось специальных поводов к его задержанию. С самого посещения Кламерана и предложения его выкупить кассира госпожа Фовель не сомневалась в его виновности, Мадлена же, напротив, была убеждена в его полной непричастности к делу. И когда он получил свободу, то под каким-то благовидным предлогом Мадлена выпросила у дяди десять тысяч франков и послала их этому несчастному, сделавшемуся жертвой стечения обстоятельств, так как до нее доходили слухи, что он остался вовсе без денег.
И если она приложила к своей посылке письмо, склеенное из букв, вырезанных ею из молитвенника, в котором советовала Просперу покинуть Францию, так это только потому, что еще не знала, что и здесь его существование еще возможно. К тому же, убежденная, что рано или поздно она станет женою Кламерана, она предпочитала видеть далеко от себя человека, которого любила так горячо.
А тем временем поставщики, деньги которых потратил Рауль и которые вот уже столько времени отпускали Фовелю в кредит, настаивали на платеже. Они не понимали, как это такой дом, как дом Фовеля, может заставлять их ожидать такие незначительные суммы. Одному были должны две тысячи, другому — тысячу, третьему всего только полтораста франков. Мясник, лавочник, виноторговец — все представили свои счета разом, и всем необходимы были деньги сейчас же и до зарезу. Некоторые даже грозили, что обратятся прямо к господину Фовелю. Увы! Госпожа Фовель была должна 15 тысяч франков, и ей неоткуда было взять этих денег.
С одной стороны, Мадлена и ее тетка, всю зиму воздерживавшиеся от выездов, чтобы избежать расходов на туалеты, должны были во что бы то ни стало ехать на бал к Жандидье, личным друзьям Фовеля.
Но как отправляться на этот бал, который в довершение несчастья был костюмированный? Откуда взять денег на костюмы? Целый год они уже не платили своей портнихе. Целый год они ей были должны изрядную сумму. Согласится ли она продолжать им кредит?
Но тут им оказала услугу их новая горничная Пальмира Шокарель, нанятая к Мадлене. Эта девушка, отличавшаяся знанием жизни, без всяких просьб с их стороны указала им на очень искусную портниху, которая только что открыла свою мастерскую, не нуждалась в деньгах и была бы счастлива шить все что угодно, ждать деньги, и все это только из-за того, что госпожа и мадемуазель Фовель могут послужить ей рекламой и привлечь к ней заказчиков.
Но это еще не все. Ни госпожа Фовель, ни ее племянница не могли отправиться на бал без драгоценностей.
А как быть, если все их драгоценности до единой были заложены Раулем в ссудной кассе и сами расписки хранились у него?
Вот почему Мадлене пришла на ум идея попросить Рауля на часть похищенных денег выкупить драгоценности, оказавшиеся в его руках благодаря слабости его матери. И она открыла этот проект тетке.
— Разреши мне свидание с Раулем, — говорила она. — Он не посмеет мне отказать.
И на другой день отважная девушка взяла фиакр и, несмотря на отвратительную погоду, отправилась в Везине.
Эта попытка оказалась все-таки бесполезной. Рауль объявил ей, что поделил деньги с Проспером, свою же часть уже растратил и сидит теперь без денег сам. При этом он не хотел возвратить ей и расписок, и со стороны Мадлены потребовалось много энергии, чтобы добиться от него возвращения четырех расписок из пяти, самых необходимых и притом наименее дорогих.
Этот отказ с его стороны был внушен ему Кламераном. Маркиз надеялся, что в самый критический момент они обратятся к нему. Рауль отказался исполнять это приказание и только после сильной ссоры, о которой рассказывал Жозеф Дюбуа, новый лакей Кламерана, ему пришлось уступить.
Оба сообщника понимали отлично, что они очень опасны друг для друга. Кламеран стал подыскивать средство, если и не особенно честное, но безответственное, как бы ему отделаться от Рауля, а молодой бандит чувствовал каждую минуту это «дружественное» к нему расположение.
И только сознание тяжкой опасности могло их примирить снова, и эта опасность во всей своей силе проявилась перед ними на балу у Жандидье.
Кто же был этот таинственный паяц, который, прозрачно рассказав историю госпожи Фовель, так многозначительно сказал Кламерану:
«Я друг вашего брата Гастона».
Они не могли его узнать, но они настолько хорошо понимали, что это их непримиримый враг, что по выходе с бала решились его убить.
Зная, что за ними наблюдают, что напали уже на их след, они были очень этим встревожены.
— Будь осторожен, — говорил вполголоса Кламеран. — Мы очень скоро узнаем, кто этот человек.
Рауль же, напротив, советовал ему отказаться от Мадлены.
— Нет! — восклицал Кламеран. — Она будет моя, хотя бы я от этого погиб!
И они думали, что раз они знают, что за ними следят, то уже трудно будет их поймать. Но они не знали, какого сорта был тот человек, который напал на их след.
Глава XXII
Таковы были факты, которые, благодаря невероятной способности к производству предварительного следствия, были собраны и скомбинированы жизнерадостным господином, взявшим под свое покровительство Проспера, — именно Вердюре.
Возвратившись в Париж в девять часов вечера, но не с Лионского вокзала, как он извещал, а с Орлеанского, Вердюре тотчас же отправился в номера «Архистратига», где его с нетерпением поджидал кассир.
— Ах, вы ожидаете новостей? — воскликнул Вердюре. — Сейчас вы увидите, как иногда в далеком прошлом кроются первые причины преступления. Ведь если бы Гастону не захотелось двадцать лет тому назад выпить пива в тарасконском кафе, то ваша касса не была бы обворована три недели тому назад. Госпожа Фовель расплачивается теперь за тот удар ножом, который был нанесен еще в сороковом году. Ничто не проходит и ничто не забывается! Тем не менее — слушайте.
И он тотчас же принялся рассказывать, то и дело заглядывая в записки и в объемистую записную книжку.
Проспер слушал его, пораженный необычайной ясностью и удивительным правдоподобием предположений.
Долгое время продолжался рассказ Вердюре. Было уже четыре часа утра, когда он его окончил и когда Вердюре с триумфом воскликнул:
— А теперь они у нас в руках! Они хитры, но я еще хитрее их и заткну их за пояс. Через каких-нибудь восемь дней, милый Проспер, вы будете уже реабилитированы: я обещал это вашему отцу.
— Что, если бы это было возможно! — проговорил кассир. — Если бы только это было возможно!
— Что?
— То, что вы говорите.
Вердюре вскочил, как человек, который не привык к тому, чтобы ему не доверяли.
— Это вполне возможно! — воскликнул он. — Это сама истина, это сама очевидность, опирающаяся на факты и бьющая в глаза!
— Но мне хотелось бы знать, как вы открыли всю эту подлую историю?
Вердюре громко засмеялся.
— Конечно, трудно было разобраться во всем этом темном деле, — отвечал он, — необходима была хоть искра света. Но пламя, зажегшееся в глазах Кламерана, когда я произнес имя его брата Гастона, зажгло и мою лампу. С этого момента я прямо пошел к разрешению этой загадки как к маяку.
Проспер смотрел на него вопросительно и умоляюще: ему хотелось знать частности, так как он все еще сомневался и не смел верить в счастье, которое тот ему пообещал, именно полную реабилитацию.
— Я расскажу вам сейчас свою систему, — продолжал Вердюре. — Вы уже знаете, благодаря каким именно поводам я пришел к заключению, что у Кламерана рыльце в пуху. С этого же момента, благодаря кое-каким сведениям, работа уже значительно упрощалась. Что же я сделал? Первым делом я поместил своих подручных к тем лицам, в которых имел интерес, а именно: Жозефа Дюбуа — к Кламерану, а Нину Жипси — к дамам Фовель.
— Я положительно не могу понять, как это Нина могла согласиться на такое предложение.
— Ну, это мой секрет! — отвечал Вердюре. — Итак, я продолжаю. Имея в своем распоряжении отличные глаза и чуткие уши на месте, уверенный в настоящем, я должен был узнать прошлое и потому отправился в Бокер. На другой день я уже был в Кламеране и сразу же отправился к сыну старого лакея Сен-Жана. Это славный малый, простой, как сама природа. Я стал покупать у него свеклу…
— Свеклу?… — спросил сбитый с толку Проспер.
— Да, свеклу. У него имелась продажная, и мы стали торговаться. Торг продолжался целый день, и мы усидели с ним дюжину бутылок. К вечеру сын Сен-Жана был пьян в стельку, и я таки купил у него на девятьсот франков свеклы, которую перепродал потом вашему отцу.
Проспер дико смотрел на него, так что Вердюре засмеялся.
— Я рискнул девятьюстами франками, — продолжал он, — но зато узнал всю историю Кламеранов, роман Гастона, его бегство за границу. Я узнал также, что только год тому назад Луи был на родине, что он продал замок некоему Фужеру и что жена этого Фужеру, Мигонна, назначала свидание Луи. В тот же вечер я переправился через Рону и побывал у этой Мигонны. Я сказал ей, что пришел от Кламерана, и она выложила передо мною все, что знала. С этих пор у меня в руках уже был главный конец нити. Оставалось только узнать, что сталось с Гастоном, и тридцать шесть часов спустя я был уже в Олороне. Здесь я повидался с Мануэлем и узнал от него всю биографию Гастона и малейшие детали его смерти. От него же я узнал и о том, что к ним приезжал Луи. А пока я там путешествовал, мои помощники не сидели сложа руки. Ненавидя друг друга, Рауль и Кламеран все-таки довольно хитро скрывали свои письма. А Жозеф Дюбуа все-таки находил их, с большей части из них снимал копии, а некоторые сфотографировал и доставил все это мне. С своей стороны, Нина подслушивала у дверей и представляла мне полный отчет о том, что ей довелось слышать… Наконец, кое-что есть и другое, о чем я вам сообщу только впоследствии.
Это было ясно, неоспоримо.
— Понимаю, — говорил Проспер, — понимаю.
— А что вы тут поделывали без меня, дорогой приятель? — спросил Вердюре.
При этом вопросе Проспер смутился и покраснел. Но он понимал, что скрывать о своем поступке было бы нечестно и неумно.
— Увы, — ответил он, — я прочитал в газете, что скоро будет свадьба Кламерана с Мадленой.
— А потом? — спросил с беспокойством Вердюре.
— Я написал Фовелю анонимное письмо, в котором обращал его внимание на его жену и на ее отношения с Раулем.
Вердюре со злобою стукнул кулаком о стол.
— Несчастный! — закричал он. — Да ведь вы этим, быть может, погубили все!
Его физиономия изменилась, радостное лицо вдруг стало грозным.
— Вас не было, — залепетал Проспер, — это известие о свадьбе встревожило меня. Вы были где-то очень далеко, быть может, были очень заняты…
— Написать анонимное письмо! — волновался Вердюре. — Да знаете ли вы, что этим наделали? Вы будете причиной того, что, быть может, я не сдержу слова, данного мною одной из редких женщин, которую я глубоко уважаю. И я окажусь обманщиком, я, который…
И он вдруг встрепенулся, точно поняв, что сказал больше, чем следовало.
— Где и когда вы опустили это письмо? — спросил он уже спокойно.
— Вчера вечером, на улице Кардинала Лемуана.
— В котором часу?
— Около десяти.
— Значит, сегодня утром оно уже попало в руки к Фовелю. Теперь он его уже читает. Вы можете вспомнить то, о чем вы ему писали?
— Буквально все.
И он в точности восстановил свое письмо к Фовелю. Вердюре выслушал его с большим вниманием, и морщины на его лбу стали разглаживаться.
— А ну-ка прочтите еще раз! — сказал он.
Проспер повиновался.
Когда чтение было окончено, Вердюре выпрямился и стал перед Проспером, скрестив руки на груди.
— Эффект вашего письма, вероятно, был ужасен, — сказал он. — Ваш патрон вспыльчив?
— Воплощенная горячность, — отвечал Проспер.
— Тогда еще не все, значит, пропало.
— Как так?
— Все вспыльчивые натуры никогда не подчиняются первому впечатлению. В этом наше спасение. Если бы, получив ваше письмо, господин Фовель подчинился первой вспышке, то он моментально бросился бы к жене и закричал: «Где твои бриллианты?» — и тогда прощай наши планы. Я ведь знаю госпожу Фовель. Она сознается во всем.
— А это было бы большим несчастьем?
— Да, мой друг, потому что первое слово, произнесенное в повышенном тоне Фовелем и его женой, рассеет все наши надежды.
Проспер не предвидел этого.
— Кроме того, — продолжал Вердюре, — это причинило бы одной особе невыносимое горе.
— Я ее знаю?
— И даже очень. Наконец, мне очень было бы жаль видеть, как эти два негодяя улизнут от меня, так и не попав в уготованное им место.
— Мне кажется все-таки, что вы знаете, как теперь действовать.
Вердюре пожал плечами.
— А разве вы не заметили пробелов в моем рассказе? — спросил он.
— Нет.
— Значит, вы плохо слушали меня. Первое: отравил Кламеран своего брата или нет?
— После этого вашего намека я почти убежден в этом.
— Такого же мнения и я. Но где доказательства? У нас их нет. Я спрашивал доктора С… В нем нет и тени подозрения. А ведь доктор С… не шарлатан, а действительно человек науки. Какие яды производят описанные мною явления? А вот и второе: я совершенно ничего не знаю о прошлом Рауля.
— А это разве необходимо?
— Во что бы то ни стало. Но мы скоро узнаем его. Я уже отправил в Лондон одного из моих подручных… виноват, сослуживцев, очень расторопного парня, некоего Пало, и он мне пишет, что уже напал на след…
Проспер плохо слушал. Уверения Вердюре возвратили ему веру. Он уже видел в руках правосудия настоящих преступников и представлял себе заранее все разбирательство на суде присяжных, где установится его невиновность и где он с триумфом будет реабилитирован. И он снова уже видел около себя Мадлену, так как по ее поведению, по ее намекам у портнихи он понял, что она все еще его любит. И эта уверенность в счастье возвратила ему хладнокровие, которое изменило ему с тех самых пор, как было открыто ограбление кассы.
Пробило шесть часов.
— Ловко! — воскликнул Вердюре. — Уже шесть часов, а я-то рассчитывал выспаться с дороги! А теперь уже не время спать…
Он вышел из комнаты и стал на лестнице.
— Мадам Александра! — закричал он. — Эй! Мадам Александра!
Содержательница номеров «Архистратига», почтенная супруга Фанферло, оказалось, еще вовсе не ложилась спать. Это очень удивило Проспера.
Она явилась с заискивающей улыбкой.
— Что вам угодно? — спросила она.
— Как можно скорее пошлите за Жозефом Дюбуа и за Пальмирой, — отвечал ей Вердюре. — Скажите им, что я их жду. Когда они придут, разбудите меня. Я немножко вздремну.
И госпожа Фанферло не дошла еще и до середины лестницы, как Вердюре без всяких стеснений уже растянулся на кровати Проспера.
— Вы позволяете? — спросил он. — Я так и знал.
Около девяти часов утра кто-то робко постучал три раза в дверь. Стук этот был очень слаб, но его было вполне достаточно, чтобы Вердюре проснулся и вскочил с кровати.
— Кто там? — спросил он.
Но Проспер, который никак не мог заснуть, сидя в кресле, уже шел отворять. Это оказался лакей Кламерана, Жозеф Дюбуа.
— Наконец-то! — воскликнул он. — Сколько лет, сколько зим, патрон! Наконец-то снова вы дадите мне совет. В ваше отсутствие я, право, не знаю, какому святому и молиться! Я похожу на того плясуна, под которым лопнул канат.
— В чем же дело? — спросил его Вердюре. — Только, пожалуйста, не тяни и говори без лишних фраз.
— Да вот в чем дело. Я не знаю, каковы ваши намерения, мне неизвестны ваши методы, но пора уже кончать, наносить последний удар, и притом скорее, как можно скорее.
— Ты так думаешь?
— Да, патрон, потому что если вы будете тянуть, если вы будете употреблять уловки, то тогда прощай все наши усилия и вам останется только одна пустая клетка без птиц. Вы смеетесь?… Да, я знаю, что вас не проведешь, но ведь и они тоже хитры! Вчера утром, часов в десять, едва продрав глаза, мой почтенный хозяин задумал приводить в порядок свои бумаги. Они хранятся у него в шкатулке, замок в которой, кстати сказать, доставил мне немало хлопот. С первого же взгляда он увидал, точно его черт под руку толкнул, что кто-то рылся в этих проклятых бумагах. Он побледнел как полотно и стал ругаться… Да ведь как!
— Дальше, дальше…
— Ну, как он догадался о моих экскурсиях в его письма? Просто непонятно. Вы ведь отлично знаете, как старательно я прячу концы. Если бы вы видели, с какой тщательностью я привел все в порядок!.. И вот, чтобы убедиться, что он не ошибается, мой маркиз стал разглядывать каждую букву, стал переворачивать письма, нюхать… Жаль, что не было микроскопа, а то он посмотрел бы и в него. Затем вдруг — паф!.. Он вскакивает с места и, сверкая глазищами, отбрасывает ногою стул в другой конец кабинета и кидается на меня. «Кто-то был здесь, кто-то рылся в моих бумагах, — закричал он, — это письмо даже сфотографировали!» Бррр!.. Я не трус, но кровь во мне похолодела, запахло смертью, топором, убийством… Так что я даже простился с Александрой…
Вердюре нахмурил брови.
— Продолжай, — сказал он.
— Тогда я забежал за другой конец громадного стола, который таким образом оказался между нами. «Это не может быть, — сказал я ему. — Господин маркиз изволит ошибаться. Это невозможно!» Но он не хотел меня даже слушать. Он тыкал мне в глаза письмо и повторял: «Это письмо сфотографировано! Вот доказательство!» И он не ошибался, скотина этакая. Он протянул мне письмо и указал на нем маленькое желтенькое пятнышко. «Смотри! — закричал он мне. — Смотри же! Ведь это… ведь это…» И он мне назвал, что такое, да я и позабыл. Кажется, это какой-то фотографический реактив…
— Знаю, знаю! — перебил его Вердюре. — Что же потом?
— Потом, патрон, у нас вышла сцена… Да еще какая! Он схватил меня за шиворот и стал трясти, как грушу, чтобы я ему сказал, кто я такой, откуда я явился и что у меня на уме. Он стал допытываться, как я провожу свое время, с той самой минуты, как попал к нему. Вот из кого бы вышел отличный судебный следователь! Потом он вызвал к себе лакея из гостиницы и стал его о чем-то спрашивать по-английски. Но ведь английского я не знаю. Под конец он смягчился, и, когда лакей ушел, он дал мне на чай двадцатифранковую монету и сказал: «Я погорячился, ты не способен на то, в чем я тебя подозревал».
— Он это сказал?
— Слово в слово.
— И ты поверил ему?
— Вполне.
Вердюре многозначительно засвистел.
— Если ты поверил этому, — сказал он, — то Кламеран прав: ты ни на что не способен.
— Только и всего?
Последовало продолжительное молчание. Вердюре соображал свой план сражения и поджидал только сообщений Нины, действовавшей теперь под именем Пальмиры, чтобы сразу приступить к атаке.
Жозеф Дюбуа выказывал нетерпение и беспокойство.
— Что же мне теперь делать, патрон? — спросил он.
— Тебе? — отвечал Вердюре. — Отправляться обратно в гостиницу. Весьма возможно, что твой хозяин уже хватился тебя.
Но в это время восклицание Проспера, который стоял у окошка, прервало Вердюре.
— Что такое? — спросил он.
— Кламеран!.. — воскликнул Проспер. — Вон там!
Одним прыжком Жозеф и Вердюре были уже у окна.
— Где вы его видите? — спросили они.
— Вон там, у моста, позади будки с апельсинами.
Проспер не ошибался. Это действительно был благородный маркиз Кламеран, который, присматриваясь к входившим и выходившим из номеров «Архистратига», очевидно, поджидал своего лакея.
— Когда Кламеран узнал, что в его бумагах шарили, — спросил Жозефа Вердюре, — он повидался после этого с Лагором?
— Нет, патрон.
— И не написал ему ничего?
— Даю голову на отсечение, что нет. Согласно вашим инструкциям зорко следить за его корреспонденцией, я организовал целую систему, благодаря которой от меня не могло ускользнуть малейшее прикосновение к перу. Но в эти сутки к перьям никто не прикасался.
— Кламеран выходил вчера после обеда, — настаивал Вердюре.
— Но он ничего не писал дорогой. Шпион, который за ним следил, удостоверил это.
— Тогда иди! Действуй! — воскликнул Вердюре. — Уходи отсюда как можно скорее! Даю тебе четверть часа на переодевание. А я тут послежу за этим негодяем сам.
В четверть часа Жозеф Дюбуа должен был изменить свою наружность. Но не прошло и десяти минут, как он явился вновь. От красивого лакея в красном жилете и с длинными, выхоленными бакенбардами не осталось ничего. Жозеф Дюбуа исчез, и из его ливреи вдруг выскочил радостный и сияющий хитрец Фанферло.
При его появлении Проспер не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть, и скорее от испуга, чем от удивления. Он узнал в нем того самого человека, который в день совершения кражи помогал полицейскому комиссару у Фовеля.
Вердюре испытующим оком окинул Фанферло и остался доволен.
— Недурно! — одобрил он. — Очень недурно!
Этот комплимент понравился Дюбуа — Фарферло.
— А что мне делать теперь, патрон? — спросил он.
— Ничего трудного для опытного человека. Выслушай меня. От твоих маневров зависит успех нашего плана. Прежде чем заняться Лагором, я хочу покончить с Кламераном. Кроме того, пока негодяи разъединены, необходимо помешать им соединиться.
— Понимаю! — отвечал Фанферло.
— Итак, выходи на улицу Гюшет и иди прямо к мосту Сен-Мишель. Перейдя его, сойди по ступеням на набережную и веди себя так неумно, чтобы привлечь к себе внимание Кламерана. Пусть он поймет, что в то время, как он шпионит, шпионят и за ним. Если он не обратит на тебя внимания, то ты сам обрати его внимание на себя.
— Я брошу в воду камень.
— Тогда запасись камнем заранее. Как только Кламеран тебя заметит, он испугается и станет удирать. Ты последуй за ним, неосторожный с виду, но будь настойчив. Узнав, что полиция идет по его следам, он струсит и употребит все свои усилия, чтобы сбить тебя с толку. Вот тут-то и необходимо умение. Он хитер, не забывай этого.
— Знаю, не вчера ведь я родился!
— Тем лучше. Докажи-ка это Кламерану! Весьма возможно, что ему взбредет в голову сесть на поезд железной дороги и удрать. В таком случае и ты поезжай за ним, хотя бы он завел тебя даже в Сибирь. Есть у тебя деньги?
— Я возьму их у Александры.
— Отлично!.. Еще два слова. Если этот мошенник сядет в поезд, дай мне знать. Но он может проболтаться по улицам и до ночи; береги себя и не заходи в темные углы. Негодяй на все способен.
Фанферло вышел, а Вердюре с Проспером принялись за наблюдения.
— Глядите, глядите!.. — сказал Вердюре.
Кламеран вышел из своей засады и направился к перилам моста. Было похоже на то, будто его заинтересовало что-то необыкновенное.
— Ага, — пробормотал Вердюре. — Он заметил нашего агента!
Беспокойство Кламерана стало заметным. Он сделал несколько шагов, точно бы для того, чтобы перейти через мост, но потом раздумал и направился к улице Сен-Жан.
— Клюет! — радостно воскликнул Вердюре.
Но в это время раздался стук в дверь. Проспер и Вердюре встрепенулись. Это вошла Нина Жипси, или, что то же, Пальмира Шокарель.
Бедная Нина! Каждый день, пока она была на службе у Мадлены, оставлял печать на ее очаровательной головке. Бедная Жипси! Она, такая живая, такая веселая, такая подвижная, теперь изгибалась под гнетом горя, которое пудами навалилось на нее. После необыкновенного счастья она была унижена до нищеты.
Проспер воображал, что при виде его, все еще преданная ему, она бросится ему от радости на шею и заключит его в свои объятия. Но он ошибся. Жипси едва узнала его. Она боязливо раскланялась с ним, точно с чужим. Все свое внимание она сосредоточила на Вердюре. Она смотрела на него теми боязливыми и в то же время любящими глазами, какими глядит бедное животное, когда с ним сурово обращается человек.
Он же, наоборот, относился к ней по-отечески, с нежной привязанностью.
— Ну-с, дорогое дитя, — обратился он к ней, — какие новости вы принесли? Бывает ли у вас Кламеран?
— С тех самых пор как объявлено об их свадьбе, — отвечала Жипси, — он бывает у нас каждый вечер, и его принимает барышня. Он ухаживает за ней.
Это сообщение перевернуло вверх дном все мысли Проспера.
— Как? — воскликнул он в гневе. — Этот негодяй маркиз Кламеран, этот бесчестный вор, этот убийца — и вдруг принят у Фовелей и ухаживает за Мадленой!.. Что же вы мне говорили, милостивый государь, каких еще надежд мне от вас ожидать?
Повелительным жестом Вердюре прервал эти обвинения.
— Довольно! — резко сказал он. — Если вы не способны сами себя спасти, то не мешайте действовать тем, кто работает за вас.
И, дав этот урок, он ласково обратился к Жипси.
— Что вы узнали, дорогое дитя? — спросил он.
— Ничего положительного, сударь; к несчастью, ничего такого, на что вы могли бы опереться. Поверьте мне, я сожалею об этом.
— Но ведь вы же мне телеграфировали, что случилось нечто важное.
Жипси безнадежно махнула рукой.
— Я подозревала кое-что, сударь, а что — я не могу ни выяснить, ни определить. Весьма возможно, что это было одно только глупое предчувствие, которое из пустяков сделало нечто экстраординарное. Мне кажется, что в дом пробралось такое несчастье, что надо ожидать катастрофы. От госпожи Фовель нельзя узнать ровно ничего: она стала телом без души. Но, кажется, она начала остерегаться своей племянницы и избегает ее.
— А господин Фовель?
— Ясно, что его постигло какое-то несчастье, даю в этом руку на отсечение. Со вчерашнего дня он стал совсем другим человеком. Он ходит, ходит, ни на минуту не присядет, точно сумасшедший. Даже голос его изменился. В глазах появляется какое-то странное выражение, какое-то неопределенное и вместе с тем страшное, всякий раз, как он взглянет на жену. Вчера вечером, как только приехал Кламеран, он тотчас же вышел, сказав, что ему надо работать.
— А дамы вчера выходили?
— Да, они вчера гуляли.
— Что делал без них господин Фовель?
— Он остался один; дамы увозили с собой и меня.
— Ну, конечно! — воскликнул Вердюре. — Он встал и нашел улики относительно анонимного письма. Ах, Проспер, несчастный вы человек! Какое зло нам причинило ваше анонимное письмо!
Слова Вердюре сразу просветили Жипси.
— Теперь я понимаю! — воскликнула она. — Господин Фовель уже знает все!
— То есть он думает, что знает все, — сказал Вердюре. — Но это «все» еще страшнее, чем то, что в действительности произошло.
— Тогда я понимаю его приказание, которое подслушал Кавальон.
— Какое приказание?
— Кавальон нечаянно подслушал, как господин Фовель приказывал своему лакею под страхом немедленного расчета все письма, которые только будут приходить в их дом, кому бы они ни были адресованы, приносить прежде всех к нему.
— Когда он это приказал?
— Вчера после полудня.
— Вот то, чего я так опасался! — воскликнул Вердюре. — Теперь ясно, что вступает в это дело и он и что он хоть и скрывает это, а, наверное, будет мстить. Успеем ли мы вовремя предупредить его намерения? Возможно ли еще обставить дело так, чтобы он поверил, что это анонимное письмо — одна только сплошная ложь, и больше ничего?
Он помолчал немного. Хотя и извинительная, но все же глупость Проспера испортила все его дело. Теперь от него требовалось быстрое и крайнее средство.
— Мерси за ваши сообщения, дорогое дитя, — сказал он наконец. — Теперь мне надо подумать, потому что бездействие было бы сейчас крайне опасно. Отправляйтесь поскорее домой. Старайтесь, чтобы господин Фовель не узнал, что вы тоже состоите с нами в заговоре. Поэтому побольше благоразумия, не упускайте из виду ни одного, даже самого незначительного, факта, ни единого слова.
— А Кальдас? — спросила боязливо Жипси.
За пятнадцать дней уже в третий раз Проспер слышал это имя. Он рылся в своей памяти, перебирал всех, кого знал и даже кого позабыл совсем, и ему казалось, что он замешан в какую-то тяжкую интригу. Но в какую?
Сам Вердюре, этот невозмутимый господин, и тот при этом имени вздрогнул, но вовремя спохватился.
— Я обещал вам найти его, — отвечал он. — И я сдержу свое обещание… До свидания!
Был уже полдень, и Вердюре захотел есть. Он окликнул Александру, и эта добродетельная содержательница номеров «Архистратига» накрыла у окна столик, за который и уселись Проспер и его покровитель.
Глава XXIII
Как легко было предположить и как и догадывался Вердюре, эффект от анонимного письма был самый тяжелый.
Было утро. Андре Фовель сошел к себе в кабинет и принялся за ежедневную корреспонденцию. Он распечатал уже с дюжину пакетов и прочитал их, как вдруг роковое письмо подвернулось ему под руку.
Сам почерк бросился ему в глаза.
Очевидно, это было подметное письмо. Его положение миллионера не раз ставило его в необходимость получать анонимные просьбы и даже оскорбления, но это письмо поразило его своею особенностью, и — было бы странным отрицать предчувствие, — даже сердце его забилось.
Дрожавшей рукой, в твердой уверенности, что должно случиться какое-то несчастье, он сломал печать, развернул лист дешевенькой бумаги и стал читать:
«Милостивый государь» и т. д. и т. д.
Точно молния поразила его.
Как! Его жена обманывала его, и притом из всех людей выбрала именно этого подлеца, который завладел всеми ее драгоценностями и заставил ее сделаться его сообщницей в этой краже!..
Фовель был так поражен, точно его неожиданно ударили обухом по голове. Все его мысли смешались, точно осенние листья под ураганом.
Ему показалось, что сразу наступили сумерки и что какое-то мертвенное оцепенение вдруг парализовало весь его ум.
— Какой позор! — воскликнул он. — Какая мерзость!..
И, скомкав проклятое письмо, он бросил его в камин, в котором уже погас огонь.
— Не желаю о нем думать! — пробормотал он. — Только загрязнишь этой гадостью свою душу…
И, облокотившись на бюро, он стал думать, напрасно стараясь возвратить себе прежнее спокойствие и ясность души.
— А что, если это правда?
И он стиснул от злости зубы.
— Только бы узнать, кто это писал, — проговорил он. — Попадись-ка он мне!..
Он встал, подошел к камину и взял из него роковое письмо. Он расправил его, развернул и положил перед собою на бюро.
«Это, наверное, написал кто-нибудь из приказчиков, — подумал он, — кто-нибудь, обойденный мною в прибавке или в личном расположении».
И он мысленно перебрал всех своих приказчиков, но ни один их них не был способен на такую низкую месть.
Тогда ему пришло на ум поглядеть на почтовый штемпель. Он разыскал конверт и оглядел его.
«Улица Кардинала Лемуана» стояло на штемпеле.
Но и эта подробность ему ничего не открыла.
Не обращать внимания на это письмо, бросить его в огонь, сжечь… Но огонь уничтожит эту бумагу, а вместо нее все-таки останется сомнение, которое подобно самому тонкому яду проникнет до глубины души, осквернит ее и нарушит даже самую святую, самую твердую веру.
И на душе навсегда останется осадок.
Заподозренная жена, хотя бы даже и несправедливо, — уже не жена. Ей уже не будешь верить как самому себе. И Фовель почувствовал, что доверие его к жене, такое твердое всего только несколько минут тому назад, поколебалось.
— Нет! — воскликнул он. — Я больше не могу выносить этой пытки? Пойду и покажу это письмо жене!
Он было поднялся, но страшная мысль, более жгучая, чем раскаленное железо, пригвоздила его к креслу.
— Но правда ли это? — проговорил он. — А что, если меня низко надувают? Сказав обо всем жене, я дам ей возможность принять свои меры, я лишу себя последнего средства напасть на следы и узнать всю правду.
И случилось именно так, как предполагал Вердюре. «Если Фовель, — сказал он, — не уступит первому моменту, если он подумает, то у нас еще остается время».
И после долгих и мучительных размышлений банкир решил, что он будет наблюдать за женой.
Ведь к его услугам такое простое средство убедиться в истине! Ему пишут, что бриллианты его жены снесены в ломбард. Стоит только убедиться в справедливости этого сообщения. Если письмо лжет в этом пункте, то, значит, оно лжет и во всем остальном. А что, если все это окажется правдой?…
Позвали завтракать. За столом он употребил все свои усилия, чтобы не затевать об этом разговора с женой. Он много болтал, рассказывал разные истории, стараясь этим отвлечь от нее свое внимание. Но и во время разговора его не оставляла мысль тайком порыться в ящиках у жены. Эта мысль так овладела им, что он не мог удержаться и спросил ее, думает ли она сегодня куда-нибудь уезжать?
— Да, — отвечала она. — Погода плохая, но нам с Мадленой необходимо отправиться по делам.
— В котором часу?
— Сейчас же после завтрака.
Он глубоко вздохнул; точно тяжесть свалилась у него с души.
Завтрак окончился, он закурил сигару, но уже не оставался более в столовой, как обыкновенно, а под предлогом работы ушел к себе в кабинет.
Через полчаса, которые показались ему целой вечностью, донесся до него стук кареты, поданной к крыльцу. Вот вышли госпожа Фовель и Мадлена и укатили.
И не в состоянии более сдерживать себя, он бросился в комнату жены и открыл ящик, в котором хранились ее драгоценности.
Многих футляров недоставало вовсе, многие оказались пусты.
Анонимное письмо говорило правду.
— Нет, — забормотал он, — нет, это невозможно!
Несомненно, госпожа Фовель стала класть свои драгоценности в какое-нибудь другое место, быть может, она отдала их переделать или поправить?
И тут ему пришел на ум бал у Жандидье. Суетный, он спросил у своей жены:
— Почему ты не надела бриллианты?
Она весело отвечала:
— Для чего? Они уже известны всем. Напротив, без них я буду еще заметнее. Наконец, они не идут к этому костюму…
Да, она сказала это ему тогда, нисколько не смутившись, даже не покраснев, без малейшей дрожи в голосе. Какое бесстыдство! Какая испорченность скрывается под этой личиной невинности, которую она корчит уже двадцать лет их совместной жизни! Но вдруг ему засветился луч надежды.
— Быть может, госпожа Фовель стала держать свои бриллианты в комнате у Мадлены?
Не рассуждая о том, как некрасивы его поиски, он побежал в комнату молодой девушки и там, как и у своей жены, принялся за обшаривания, позабыв о том уважении, которое требовало к себе это святилище девушки.
Но он не нашел там бриллиантов госпожи Фовель. Оказалось, что и футляры Мадлены были тоже пусты. Значит, и она отдала свои драгоценности, значит, и ей известен позор их дома, значит, и она тоже сообщница.
Этот последний удар добил Фовеля.
— Они обе условились обманывать меня, — проговорил он. — Они обе в заговоре!..
И в бессилии он опустился в кресло. Крупные, безмолвные слезы скатились у него по щекам, и глубокий вздох вырвался у него из груди.
Валентина, эта чистая молодая девушка, когда-то так любившая его, которой он принес в жертву все свое богатство, которая становилась ему дороже с каждым годом их брака, эта несравненная с виду жена — и вдруг предала его!..
Она его обманула… она… мать его детей!
Его детей!.. Какая горькая насмешка! Да его ли они дети?
Но он понимал, что одного указания на отсутствие бриллиантов еще мало, что он не может еще полагаться на свое личное чувство. К счастью, у него могут быть еще другие доказательства!
И он позвал к себе лакея и приказал ему подавать все приходящие письма только ему одному. Затем он дал нотариусу в Сен-Реми срочную депешу, в которой просил его сообщить ему самые подробные сведения о семье Лагоров вообще и о Рауле в частности.
Скоро на эту депешу пришел из Сен-Реми следующий ответ:
«Семья Лагоров, как уже сообщалось об этом и господину Вердюре, находится в настоящее время в крайней нужде. О господине Рауле неизвестно ровно ничего, так как у госпожи Лагор от ее законного брака имеются только дочери… и т. д. и т. д.».
Это сообщение стало последней каплей для Фовеля.
— Несчастная! — воскликнул он, сгорая от злобы и душевных мук. — Несчастная! Чтобы свободно видеться со своим любовником, чтобы всегда иметь его при себе, ты осмелилась ввести его в мой дом под именем племянника, которого никогда и не существовало на свете!
Смерть! Только смертью и можно платить за такие обиды! Но боязнь, как бы его личное чувство не взяло над ним верх, дала ему возможность вовремя сдержать себя, и он решил притворяться.
— Буду их тоже обманывать, как и они меня, — проговорил он с чувством удовлетворения.
Вечер прошел как и всегда. За обедом Фовель шутил. И только в девятом часу, когда к ним пришел Кламеран, он ушел к себе, боясь, что не совладает с собой, и не выходил уже до ночи.
Наутро между писем, поданных ему лакеем, он нашел одно со штемпелем «Везине». С большими предосторожностями он распечатал его и прочитал:
«Дорогая тетя! Очень необходимо видеть тебя сегодня, и я тебя поджидаю. При свидании я сообщу тебе, почему не могу приехать к тебе лично.
Твой Рауль».
— Влопались! — воскликнул Фовель, задрожав от радости.
И он достал из ящика бюро револьвер и стал репетировать поединок.
Но он думал, что он один, а тем временем нашелся свидетель каждого его малейшего движения. Возвратившись из номеров «Архистратига», Нина Жипси прильнула глазом к замочной скважине и по его жестам догадалась, в чем дело.
Положив револьвер на камин, Фовель занялся приведением письма в первоначальный вид. Окончив это дело, он вышел к швейцару и передал ему это письмо, чтобы жена не догадалась, что послание Рауля прошло через его руки.
Пока он выходил, Жипси вошла в его кабинет и, предчувствуя опасность, подбежала к камину и разрядила револьвер.
«Так-то лучше, — подумала она. — Теперь надо послать Кавальона за господином Вердюре и предупредить его обо всем, — время еще есть.»
Она сошла вниз и послала молодого приказчика к Александре.
Часом позже госпожа Фовель оделась, приказала подать себе карету и куда-то уехала.
А господин Фовель, который еще заранее послал за извозчиком, помчался вслед за нею.
«Боже мой!.. — подумала Нина. — Если господин Вердюре не поспеет вовремя, то госпожа Фовель и Рауль погибли».
Глава XXIV
В тот день, когда маркиз Кламеран понял, что между ним и Мадленой существует единственное препятствие — это Рауль Лагор, он решил устранить это препятствие.
На другой же день он принял к этому меры. И когда Рауль, возвращаясь в полночь к себе в Везине, шел пешком от станции железной дороги, на него напали какие-то три человека, которые настойчиво хотели посмотреть, который час на его часах.
Несмотря на свое слабое телосложение, Рауль со страшной силой отбросил своих врагов, сильно поранив себе левую руку. Другого вреда он от них не потерпел.
Двумя днями позже в кафе, которое он часто посещал, какой-то высокий господин, совершенно ему незнакомый, стал к нему придираться без всяких поводов и кончил тем, что с вызовом бросил ему свою визитную карточку, сказав, что готов к его услугам и может дать ему удовлетворение когда и где угодно.
Узнав от госпожи Фовель, что Мадлена поставила Кламерану условия, он понял, какой громадный интерес имел маркиз в том, чтобы отделаться от него, не впутывая в дело юстицию. И чувство гнева обуяло его, но к этому чувству присоединился еще и весьма естественный страх за себя. Он видел, что его жизнь, которой угрожают преступники более смелые, чем сам Кламеран, находится на волоске.
Два раза ему повезло, в третий уже можно было ждать роковой развязки.
Зная своего соучастника, он стал видеть вокруг себя одни только козни. Смерть вставала перед ним во всех ее формах. Он одинаково боялся и выходить и оставаться дома. Он боялся яда так же, как и оружия.
В каждом блюде, как бы изысканно оно ему ни подавалось, он видел один только стрихнин.
Продолжать так жить было невозможно, и из желания мстить столько же, сколько и из желания жить, он решил принять свои меры.
— Лучше убить его, чем быть убитым им, — рассудил он.
И он счел самым подходящим способом разрушить комбинации Кламерана и помешать его женитьбе. При этом он был искренне убежден, что, приняв сторону Мадлены и ее тетки, он вырвет их из рук Кламерана.
Ввиду этого-то решения, которое он так долго обдумывал, он и написал госпоже Фовель письмо, приглашая ее к себе.
Бедная женщина не замедлила явиться. Она приехала в Везине к назначенному часу, дрожа при одной только мысли о новых требованиях и угрозах.
Но она обманулась.
— Я заставлял тебя так страдать, мама, — заговорил он своим льстивым голосом, — я раскаиваюсь в этом, выслушай меня…
Но он не мог далее говорить. Дверь с шумом отворилась, и он с ужасом отступил назад.
С револьвером в руках на пороге появился сам господин Фовель.
Он был страшно бледен.
Крики его жены и Рауля не могли его удержать, и он отвечал с тем нервным смехом, которым смеются несчастные, когда их оставляет рассудок.
— А, вы не ожидали меня? — воскликнул он. — Вы думали, что мое дурацкое доверие позволит вам вечно оставаться безнаказанными?
Рауль загородил собой госпожу Фовель и стал ждать первого выстрела.
— Поверьте, дядюшка… — начал он.
— Довольно! — закричал на него господин Фовель. — Довольно этой лжи и позора! Бросьте эту отвратительную комедию, вы меня больше уж не обманете ею.
— Клянусь вам…
— Не трудитесь отрицать! Разве вы не видите, что я знаю все — понимаете ли? — абсолютно все! Я знаю, что бриллианты моей жены снесены в ссудную кассу, и знаю, кем именно! Мне известно также, кто совершил кражу и за кого невинный Проспер был арестован и отсидел в тюрьме!
Пораженная этими словами, госпожа Фовель упала на колени.
Наконец-то настал этот день, которого она так боялась! Напрасно в течение стольких лет она громоздила ложь на ложь; напрасно она отдала свою жизнь и жертвовала своими близкими: все открылось!
И она поняла, что настал час расплаты. Вся в слезах, умоляюще сложив руки, она заговорила:
— Пощади, Андре; заклинаю тебя, прости!
При звуках этого нежного голоса банкир задрожал и взволновался до глубины души.
Этот ее голос вызвал в нем целый ряд воспоминаний о тех часах счастья, которыми он был обязан своей жене за эти двадцать лет. Она была владычицей его воли и одним взглядом могла сделать его счастливым или несчастным.
Все прошедшее вдруг воскресло перед ним при этих словах. В этой несчастной, распростершейся у его ног женщине он узнал ту горячо любимую Валентину, которую встретил когда-то, как мечту, в поэтическом, заросшем парке Вербери. Он видел в ней любящую и преданную жену первых лет, ту самую, которая чуть не заплатила своею жизнью за рождение Люсьена.
И при воспоминании о прежнем счастье, которого уже не будет никогда, его сердце замерло от горя, душа его наполнилась умилением, и с его губ уже готово было сорваться прощение.
— Несчастная! — бормотал он. — Несчастная! Что я тебе сделал? Я сильно любил тебя и слишком показывал тебе это. Это утомило тебя, даже самое счастье наскучило тебе. Неужели прискучили тебе любовь, счастье и радости семейного очага? Утомившись тем уважением, которым ты была окружена и которого заслуживала вполне, ты захотела рискнуть своей честью, нашей честью и бросить вызов всему свету. В какую пропасть ты падаешь, Валентина! И если тебя не могла удержать от нее моя привязанность, то подумала ли ты хоть о наших детях?
Фовель говорил это медленно, с тяжкими усилиями, точно каждое слово душило ему горло.
Рауль, слушавший его с глубоким вниманием, понял, что если банкиру и было известно многое, то он знал еще далеко не все. Он догадался, что это было одно только простое недоразумение, которое и следовало разъяснить.
— Милостивый государь… — начал он. — Прошу вас, выслушайте меня…
Но одного только его голоса было достаточно, чтобы нарушить мечты Фовеля. Гнев вспыхнул в нем с еще большей силой. Угроза засветилась в его глазах.
— Молчать! — закричал он на Рауля. — Молчать!
Наступило продолжительное молчание, прерываемое только рыданиями госпожи Фовель.
— Я пришел сюда, — сказал банкир, — с твердым намерением захватить вас врасплох и убить вас обоих. Я застал вас, но… у меня не хватает сил… Я не могу убить безоружного человека.
Рауль хотел ему что-то сказать.
— Не мешайте мне говорить! — перебил его Фовель. — Ваша жизнь в моих руках. Закон оправдывает месть оскорбленного мужа. Но я не желаю пользоваться этой льготой свода законов. Вон там, на камине, я вижу такой же точно револьвер, как и у меня. Берите его и защищайтесь…
— Никогда!
— Защищайтесь же! — крикнул банкир, взведя курок. — Защищайтесь, говорю я вам!..
Видя направленное на него дуло пистолета, Рауль взял с камина револьвер.
— Станьте в том углу, — продолжал банкир, — а я стану в этом. Сейчас должны бить ваши часы. Как только они зазвонят, с первым же ударом мы должны сойтись.
И они стали так, как приказал Фовель, не произнося более ни слова. Госпожа Фовель больше не могла выносить этой ужасной сцены.
Она видела, что ее сын и муж должны убить друг друга на ее же глазах, и это было выше ее сил.
Ужас овладел ею, и она бросилась между ними, широко расставив руки, точно желая этим задержать движение пуль.
— Ради бога, Андре, — обратилась она со слезами на глазах к мужу. — Дай мне рассказать тебе все. Не убивай его!
Этот материнский вопль он принял за крик влюбленной женщины, защищающей своего любовника.
С неслыханной жестокостью он схватил свою жену за руку и отбросил ее в сторону.
— Прочь!.. — воскликнул он.
Но она не послушалась его и, бросившись к Раулю, обхватила его руками за шею и сказала:
— Это меня следует убить, меня одну, потому что я одна виновата во всем.
Кровь бросилась Фовелю в лицо, он прицелился в эту ненавистную группу и спустил курок.
Но ни Рауль, ни госпожа Фовель не повалились. Тогда он выстрелил в них во второй и в третий раз…
И он взвел уже курок в четвертый раз, как в комнату вдруг вбежал какой-то высокий господин, который вырвал из рук Фовеля револьвер, усадил силою банкира на диван и бросился к госпоже Фовель.
Это был Вердюре, предупрежденный Кавальоном обо всем, но еще не знавший, что Жипси разрядила револьвер Фовеля.
— Слава богу! — воскликнул он. — Ее не тронули.
Но в это время встал банкир.
— Оставьте мня, — сказал он, отмахиваясь от него. — Я хочу мстить!..
Вердюре крепко схватил его за руки и близко заглянул ему в глаза, точно стараясь этим придать больший авторитет своим словам.
— Благодарите Бога, — сказал он ему, — что он избавил вас от тяжкого преступления! Анонимное письмо обо всем вам налгало!
Фовель не ожидал увидеть этого человека. Ему было положительно все равно, кто он такой и откуда он получил свои сведения. Но для банкира было важно только одно, это то, что анонимное письмо было ложью.
— Моя жена сама признала себя виновной! — пробормотал он.
— Да, она виновна, — отвечал Вердюре, — но не в том, в чем вы ее обвиняете. Знаете ли вы, кто этот человек, которого вы хотели убить?
— Ее любовник!
— Нет… это ее сын!
Присутствие этого неведомого господина, которому было известно все, смутило Рауля еще больше, чем угрозы Фовеля. Он собрался с силами и сказал:
— Да, это правда!
Банкир, казалось, сходил с ума. Его глаза переходили с Вердюре на Рауля и с Рауля на жену, которая была угнетена еще более, чем преступник, приговоренный к смерти.
— Это невозможно! — восклицал он. — Представьте мне доказательства!
— Доказательства у вас в руках, — отвечал Вердюре. — Но извольте! Слушайте!
И быстро, с удивительной способностью излагать, он набросал всю ту драму, о которой уже знает читатель.
Конечно, истина была ужасна для Фовеля, но какова бы она ни была, он еще любил свою жену. Неужели же он не может простить ей эту стародавнюю ошибку, искупленную ею жизнью, полной благородства и преданности?
Уже несколько минут прошло, как Вердюре окончил свой рассказ, а банкир все еще молчал.
В эти двое суток на него свалилась целая лавина событий, тяжкая сцена, которую ему пришлось только что испытать, удручала его и лишала его всякой способности рассуждать.
Бросаемая как щепа по капризу волн, его воля вся зависела от событий.
Если его сердце советовало ему все позабыть и простить, то его оскорбленная любовь взывала к мести.
Не будь здесь Рауля, этого негодяя, который был живым доказательством давнишнего греха, он не замедлил бы согласиться. Гастон Кламеран умер, и ему оставалось бы открыть свои объятия жене и сказать ей:
«Ты пожертвовала собою для спасения моего честного имени, — пусть это послужит тебе одним только тяжким сном, который исчезает при блеске ясного дня!»
Но тут стоял Рауль.
— И это твой сын, — обратился он к жене, — этот человек, который обобрал тебя и ограбил меня!
Госпожа Фовель от волнения не отвечала ни слова. За нее ответил Вердюре.
— О, — воскликнул он. — Ваша жена скажет вам, что этот господин действительно сын Гастона Кламерана, она и сама верит в это, сама убеждена в этом, только…
— Ну?
— Он назвался ее сыном только для того, чтобы легче обобрать ее. Он обманул ее.
В этот момент Рауль вдруг ловко очутился у двери. Увидев, что на него не смотрят, он бросился было бежать. Но Вердюре, предвидевший этот маневр, в мгновение ока схватил Рауля за шиворот и остановил его в ту самую минуту, когда тот уже готов был скрыться…
— Куда это мы так спешим, молодой человек? — спросил Вердюре, выводя его на середину комнаты. — Значит, вам не нравится наша компания? Это невежливо! Прежде, чем удалиться, черт возьми, вы хоть бы объяснились!
Насмешливый тон Вердюре, его шутливый смех сразу просветили Рауля. В ужасе он отступил назад и прошептал:
— Паяц!
— Совершенно верно! — отвечал Вердюре. — Совершенно верно! Вы меня узнали? В таком случае позвольте рекомендоваться. Я тот самый паяц, который был на балу у Жандидье. Не верите?
И он отвернул рукав у сюртука и протянул ему руку.
— Если вы еще не совсем убеждены, — продолжал он, — то взгляните вот на этот рубец: он еще свеж. Не знаете ли вы того подлеца, который в одну прекрасную ночь, когда я проходил по улице Бурдалу, бросился на меня с ножом и хватил меня по руке? А? Вы не отрицаете?… Спасибо и на этом! В таком случае будьте добры рассказать нам вашу историю…
Но на Рауля напал такой страх, что у него перехватило горло и он не мог произнести ни единого слова.
— Вы молчите? — спросил Вердюре. — Вы так скромны? Браво!.. Скромность говорит о таланте, и на самом деле для ваших лет вы такой талантливый подлец, что вам все до сих пор удавалось!
Фовель слушал, но все еще не понимал всего.
— До какого позора мы дожили! — воскликнул он.
— Успокойтесь, милостивый государь, — отвечал ему Вердюре, сделавшись снова серьезным. — Вот полная история Рауля. Расставшись с Мигонной, от которой Кламеран узнал о… о несчастьях Валентины Вербери, сей достойный муж, то есть маркиз, тотчас же отправился в Лондон. Имея в руках кое-какие сведения, он скоро отыскал там ту почтенную фермершу, которой графиня отдала на воспитание сына Гастона. Но здесь его ожидало разочарование. Ему сообщили, что ребенок, окрещенный под именем Рауля Вильсона, умер на восемнадцатом месяце от рождения от крупа.
— Кто это сказал? — воскликнул Рауль.
— Сказали — и вся недолга, молодой человек, — отвечал Вердюре. — И не только сказали, но даже и написали. Вы думаете, что я болтаю вздор?
И он вытащил из кармана разные казенные бумаги с печатями и положил их на стол.
— Вот, — продолжал он, — показания фермерши, вот — ее мужа и четырех свидетелей, а вот выписка из метрических книг. А вот, наконец, и удостоверение французского посольства, что все эти документы настоящие. Довольны ли вы, прекрасный молодой человек, удовлетворены ли?
— Но тогда как же?… — спросил банкир.
— Тогда, — отвечал Вердюре, — Кламеран понял, что его первая попытка оказалась без успеха. Что оставалось делать? Но ведь подлецы изобретательны! Из всех своих знакомых бандитов — а их у него множество — он выбрал именно этого, которого вы видите перед собой.
Госпожа Фовель имела очень жалкий вид, но между тем в ней зарождалась надежда. Ее беспокойство вот уже столько времени было так велико, что она отказывалась видеть в истине хотя какое-нибудь спасение.
— Это возможно! — бормотала она. — Это возможно!
— Вы желаете доказательств? — обратился Вердюре к Раулю с насмешливой почтительностью. — К вашим услугам, сеньор. Только сию минуту я приехал сюда от своего приятеля Пало, который прибыл только что из Лондона с массой новостей. Вот что он мне рассказал. Можете возражать на это сколько вам угодно! В сорок седьмом году лорд Мюррей держал у себя жокея по имени Спенсер, к которому относился чрезвычайно нежно. На скачках в Энсоме этот искусный жокей упал так несчастливо, что отдал Богу душу. В отчаянии лорд Мюррей, не имевший вовсе детей, объявил, что берет себе на воспитание его сына, которому было тогда всего только четыре года. Лорд сдержал свое слово. Джеймс Спенсер воспитывался как наследник знатного вельможи. Но когда он вырос, в один прекрасный день лорд узнал, что его приемный сын подделал на векселе его подпись; лорд возмутился этим и прогнал этого голубчика вон. С тех пор целые четыре года Джеймс Спенсер жил в Лондоне игрою и разными проделками, пока не встретил Кламерана, который предложил ему двадцать пять тысяч франков за то, чтобы он разыграл роль сынка в известной вам комедии.
Даже Рауль уже не мог владеть собой.
— Вы агент тайной полиции? — спросил он.
Вердюре улыбнулся.
— Я друг Проспера, — отвечал он. — И судя по тому, как вы себя поведете, так поступлю и я.
— Чего же вы от меня хотите?
— Где украденные вами триста пятьдесят тысяч франков?
Молодой бандит помедлил.
— Здесь! — ответил он наконец.
— Отлично! Это сознание послужит вам на пользу. Я это знал и знаю также, что они лежат именно здесь, в этом несгораемом шкафу. Давайте-ка их сюда!
Рауль понял, что шутки плохи. Он подбежал к шкафу и достал оттуда несколько пачек банковых билетов и целую кипу расписок из ломбарда.
— Превосходно! — сказал Вердюре. — Отлично: что хорошо, то хорошо!
Рауль в это время высчитал момент. Тихо, притаив дыхание, он подкрался к двери, быстро отворил ее и тотчас же скрылся, заперев ее за собой.
— Он убегает! — воскликнул Фовель.
— Ну, конечно! — ответил Вердюре, не поворачивая даже головы. — Я так и предполагал.
— Как же так?…
— А вы разве хотите все это растрезвонить? Уж ограничьтесь, пожалуйста, только тем, что вам придется быть свидетелем перед исправительной полицией, которая будет разбирать то, жертвой чего стала ваша жена.
— О милостивый государь!..
— Предоставьте этому негодяю убегать. Вот вам ваши триста пятьдесят тысяч франков, я сосчитал их, они все налицо. Вот вам расписки от заложенных им вещей. Будем считать, что мы удовлетворены. Правда, он унес с собой еще пятьдесят тысяч, но это тем лучше. Эта сумма понадобится ему для того, чтобы удрать за границу, и мы уже больше никогда не услышим о нем.
Выражение крайней благодарности засветилось в глазах у Фовеля. Он схватил за руки Вердюре, почти поднес их к своим губам и взволнованным голосом сказал:
— Как мне благодарить вас, милостивый государь?… Чем отплатить вам за ту громадную услугу, которую вы мне оказали?…
Вердюре подумал.
— Я попрошу у вас только одной милости, — отвечал он.
— Милости, вы!.. От меня? Говорите же, говорите! И я, и мое состояние к вашим услугам!
— Я друг Проспера. Прошу вас, помогите мне реабилитировать его. Вы столько можете сделать для него!.. Он любит Мадлену…
— Мадлена будет его женой, — перебил его Фовель, — даю вам в этом слово. Да, я реабилитирую его, и с таким треском, что ни одна душа не осмелится упрекнуть его в моей роковой ошибке!
Вердюре подошел к углу и взял оттуда свою палку и шляпу с таким видом, точно был просто в гостях.
— Простите, я вам надоедаю, — сказал он, — но госпожа Фовель…
— Андре!.. — проговорила бедная женщина. — Андре!..
Банкир помедлил несколько секунд, а потом, решившись, бросился к жене и сжал ее в своих объятиях.
— Нет, — сказал он, — не могу более бороться с сердцем! Валентина, я не прощаю тебя, нет; я забываю, забываю обо всем…
Вердюре более ничего не оставалось делать в Везине.
Не простившись с банкиром, он незаметно вышел, нанял карету и приказал кучеру везти его в Париж, в гостиницу «Лувр», и как можно скорее.
Беспокойство его угнетало. С Раулем дело было улажено. Теперь уже он должен быть за тридевять земель. Но можно ли Кламерана притянуть к тому наказанию, которого он так заслуживал? Очевидно, нет. Как предать его суду, чтобы в то же время не скомпрометировать госпожу Фовель?
«Есть только один повод, — думал дорогой Вердюре, — это отравление в Олороне. Стоит только пошевелить немножко общественное мнение, раздуть слухи — и дело в шляпе. Но для этого необходимо время, а Кламеран не такой дурак, чтобы ожидать, когда его схватят».
И Вердюре стал уже отчаиваться в своем умении, когда карета остановилась у гостиницы «Лувр». Наступали сумерки.
У крыльца и у аркад гостиницы толпилось множество людей и, несмотря на просьбы полицейских разойтись, разговаривали о каком-то важном происшествии.
— Что случилось? — спросил Вердюре у одного из зевак.
— Неслыханное дело, сударь, — отвечал за него другой. — Он вылез из слухового окна, почти совсем голый. Его хотели схватить, но не тут-то было!.. С ловкостью обезьяны или сомнамбулы он бросился на крышу, крича, что его хотят зарезать.
Вердюре с трудом пробрался во двор гостиницы.
Здесь, у парадного крыльца, стояли Фанферло и с ним трое каких-то других мужчин с особенным выражением лиц.
— В чем дело? — спросил Вердюре.
Все четверо поклонились.
— Патрон!.. — сказали они.
— Да говорите же, в чем дело? — крикнул Вердюре.
— А в том дело, патрон, — отвечал Фанферло с грустью, — в том дело, что сорвалось! В первый раз в жизни я напал на действительно настоящее дело, и вдруг — паф! — полное сыскное банкротство!
— Значит, это касается Кламерана?
— Да, его… Узнав сегодня утром меня, этот плут вдруг навострил лыжи и, как заяц, пустился бежать во весь дух; я подумал, что он этаким манером самое меньшее добежит до Иври. Но не тут-то было! Дойдя до бульвара Эколь, он вдруг что-то сообразил и побежал сюда. Весьма возможно, что он вернулся сюда за деньгами. Но тут его ожидали трое наших товарищей. Это было для него как удар молотом по башке. Он понял, что пришел ему конец, и рехнулся.
— Но где же он?
— Должно быть, в участке; я видел, как городовые связали его и посадили в карету.
— Тогда идем!..
Приехав на место, Вердюре и Фанферло нашли Кламерана в отдельной камере, предназначенной для буйных. На нем был надет смирительный халат, и он сражался с доктором и тремя служителями, которые хотели влить ему в рот какое-то лекарство.
— Караул! — кричал он. — Ко мне! Помогите!.. Разве вы не видите? Ко мне подходит брат, он хочет меня отравить!..
Вердюре попросил врача объяснить ему, в чем дело.
— Этот несчастный сошел с ума, — ответил доктор. — Он помешался на том, что его хотят отравить, не желает ничего ни пить, ни есть… и, по всей вероятности, умрет с голоду, предварительно испытав все муки от отравления.
Вердюре содрогнулся и вышел в участок.
— Госпожа Фовель спасена, — проговорил он. — Сам Бог наказал Кламерана.
— А я-то, я! — вздыхал Фанферло. — Остался ни в сих, ни в оных! Какая неприятность!..
— Это правда, — отвечал Вердюре. — Дело номер сто тринадцать так и не выйдет из канцелярии на свет божий. Но утешься. В конце этого месяца я пошлю тебя с письмом к одному из моих друзей, и все то, что ты потерял на славе, ты выручишь на презренном металле.
Глава XXV
Четыре дня спустя, утром, Лекок — официальный Лекок, тот самый, каким его знали в качестве начальника сыскной полиции, — прохаживался по своему кабинету, то и дело посматривая на часы.
Наконец, в определенный час, верный Жануль ввел к нему Нину и Проспера Бертоми.
— Ах, — воскликнул Лекок, — вы влюбленные и вдруг так точны! Это хорошо!
— Мы не влюбленные, — отвечала Жипси, — и только по особому приказу господина Вердюре мы опять вместе. Он назначил нам свидание именно здесь, у вас.
— Очень приятно!.. — сказал знаменитый сыщик. — В таком случае потрудитесь подождать здесь несколько секунд. Я пойду его позову.
С четверть часа Нина и Проспер сидели вдвоем одни и не обмолвились ни единым словом.
Наконец дверь отворилась и вошел Вердюре.
Нина и Проспер хотели броситься к нему, но он взглядом, которому нельзя было не повиноваться, приказал им оставаться на местах.
— Вы пришли сюда, чтобы узнать, кто я такой, — сказал он строгим тоном. — Я вам это обещал, и я сдержу свое слово, чего бы это для меня сейчас ни стоило. Слушайте же. Мой самый лучший друг — это Кальдас. Целых восемнадцать месяцев этот друг был счастливейшим из людей. Полюбив одну девушку, он жил только ею и для нее, и, глупенький, он воображал себе, что и она его тоже любит.
— Да! — воскликнула Жипси. — Да, и она его любила!..
— Пусть будет так. Она его любила так сильно, что в один прекрасный вечер убежала с другим. Кальдас хотел себя убить. Потом, раздумав, он решил жить и мстить.
— Ну и что же?… — с беспокойством проговорил Проспер.
— А то, что Кальдас отомстил уже за себя, но совсем по-иному. В глазах той женщины, которая бросила его, он показал свое высшее превосходство над тем другим. Слабый, робкий, не зная, что делать, этот другой стоял уже на краю пропасти, готовый упасть в нее, и мощная рука Кальдаса его удержала. Эта женщина — вы, Нина. Этот обольститель — вы, Проспер. А Кальдас — это…
Быстрым движением руки он сорвал с себя парик, бакены и предстал перед ними тем Лекоком, каким его никто никогда не знал: настоящим, обыкновенным смертным.
— Кальдас!.. — воскликнула Нина.
— Нет, не Кальдас и не Вердюре, а Лекок, агент тайной полиции.
Произошло маленькое замешательство, после которого Лекок обратился к Просперу Бертоми.
— Не мне одному вы обязаны своим спасением, — сказал он. — Женщина, решившая довериться мне, во многом мне помогла. Эта женщина — Мадлена. Только благодаря ей я поклялся, что господин Фовель никогда не узнает ни о чем… Ваше же письмо испортило мне все дело. Не моя в этом вина…
И он уже хотел удалиться в свою комнату, но Нина загородила ему путь.
— Кальдас! — воскликнула она. — Клянусь тебе, я так несчастна! Если бы ты только знал… пожалей… прости!
От Лекока Проспер ушел один.
Пятнадцатого числа того же месяца в церкви Нотр-Дам-Делорет произошло венчание Проспера Бертоми с девицей Мадленой Фовель.
Банкирский дом по-прежнему помещается на улице Прованс, но только Фовель, задумав переехать на жительство в усадьбу, счел необходимым переменить на нем вывеску, которая гласит теперь так:
«Проспер Бертоми и К о»