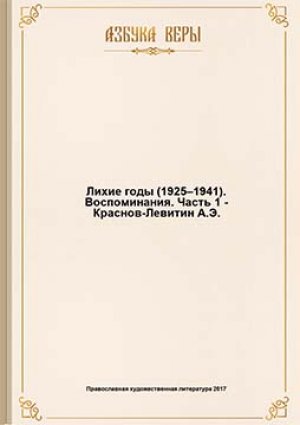
К читателю
У меня в памяти сохранился рассказ отца о Баку, где он был мировым судьей в дореволюционное время. Живет на окраине старушка-азербайджанка. Безграмотная, полунищая. И вдруг забил на огороде нефтяной фонтан. Миллионы. Начинаются тяжбы: дальние родственники, неизвестно откуда взявшиеся, претендуют на недавно еще заброшенный клочок земли…
Таким заглохшим, поросшим бурьяном, огромным куском земли была еще недавно необъятная Россия.
Как говорит Валентин Алмазов, один из героев Тарсиса, «…даже в княжестве Монако масштаб жизни обширнее, чем в наглухо закрытом концентрационном лагере, где некогда жила, неистово буйствовала, верила, раскаивалась и снова буйствовала, бунтовала Святая Русь».
И вот, неожиданно в 60-е годы забил фонтан.
В литературе. Паустовский, Солженицын, Синявский, блестящая фаланга самиздатчиков.
В политике. Бунтующая молодежь. Смог. Демонстрации, Митинги. Процессы. Буковский. Галансков. И наконец, демократическое движение. Сахаров. Григоренко. Инициативная группа.
Каким образом? Откуда?
И так же, как нефтяной фонтан, забивший на участке безграмотной азербайджанки, был неожиданностью лишь для нее самой, а опытный геолог мог бы, исследуя почву, определить залежи нефти, так и ослепительный взрыв русской общественной мысли был неожиданностью лишь для поверхностного наблюдателя.
Предлагаемые воспоминания показывают, как и в 30-е годы не прекращались искания: политические, религиозные, эстетические. Молодые люди, болевшие в то время болезнями России, были предшественниками Галансковых и Буковских.
Русский театр, которому в предлагаемых воспоминаниях посвящено много страниц, показывал, что не оскудела и в то время талантами Русь.
И, наконец, — церковь. Многим казалось тогда, что русской церкви нет, что религия на Руси умерла. Но не оскудела и в то время на Руси «божественная Благодать, немощная врачующая, оскудевающих восполняющая». Божественная Благодать проявлялась во многих людях, являвшихся предтечами отца Димитрия Дудко, отца Александра Меня, отца Глеба Якунина и многих, многих других, работающих в русской церкви сейчас, и тех, которые еще грядут.
Мы, жившие и работавшие в 30-е годы, также имели предшественников. Среди окружающей тьмы нам светила ярким светом великая русская литература, и в первую очередь — величайший русский гуманист Лев Николаевич Толстой. Поэтому свои воспоминания мы заканчиваем главами, посвященными Толстому.
Как известно, автор отнюдь не принадлежит к «толстовцам»: я являюсь (и всегда был) православным христианином. Поэтому я отнюдь не принимаю всех идей Толстого. Однако и споря с Толстым, и критикуя Толстого, я не могу не испытывать животворного влияния этого солнца земли русской. Солнца, которое согревало нас в темные годы и оживляло в нас светлые надежды.
И наконец, эти воспоминания посвящены тем, кто начинает свой путь сейчас, кто будет жить после нас.
Привет им, призванным возродить Святую Русь. Сделать из нее цветущий сад.
Кланяюсь им земно и говорю с глубокой верой: «Благословен Ваш путь на Святую Русь! Благословен грядый во Имя Господне!»
17-го июля 1976 г.
А. Краснов-Левитин
За дело
Что ж, пора приниматься за дело
За старинное дело свое…
А. Блок.
За дело. За старинное дело. А дело у меня всегда было одно: думать. Думал всю жизнь.
А говорить и писать не удавалось.
То есть и говорил, и писал — и всегда было мучительное чувство: не то и не о том.
Постараюсь написать хоть сейчас — без всяких украшений, без всякой лжи…
Несколько лет назад я вдруг вздумал писать завещание. Мысль странная, если учесть, что все мое имущество состояло из комнаты в 14 метров (зато собственная, в деревянном доме, под Москвой!) и домашнего скарба. Начал торжественно, величаво. Потом вкралась фельетонная нота. И на третьей странице заметил, что я пишу самую обыкновенную статью. Хоть сейчас — в самиздат!
Тогда я понял, что серьезные жанры не для меня, разорвал исписанные листки и больше за завещание не принимался.
Чтоб отрезать себе теперь всякую возможность фельетона, я принял дерзкое решение — поставить на первой странице слова «Лихие годы». Уж это одно обязывает меня быть серьезным.
В марте 1968 года я, в числе 12 авторов, подписал петицию Международному Совещанию коммунистических партий в Будапеште. За границей начался шум. Откликнулось и советское радио, направленное на Запад. Сначала прошлись по поводу Литвинова и Якира (их отцы, мол, занимали в СССР очень важные места, а им таких никогда не занять, потому они и злобствуют), потом принялись за меня. И здесь произошло чудо: советская пропаганда неожиданно нашла четкую и точную, а главное, правдивую формулу: «Он вдвойне изгой — и в советском обществе, и в церкви».
Великолепно сказано! Я изгой.
Я нигде и никогда не чувствовал себя по-настоящему своим. Не чувствую и сейчас. Конечно, и эту мою книгу не примут ни те, ни другие — ни правые, ни левые; ни советы, ни Запад; ни верующие, ни атеисты; ни русские, ни евреи.
Но, может быть, потому она и нужна.
Родословная
Я невольно улыбаюсь, представляя себе своих предков. Вот едет по Москве, в середине XIX века, архиерей, — а на улице около Борисоглебского подворья, где принимали на ночлег евреев, не имеющих права жительства, — худенький еврейчик в лапсердаке, с пейсами, с козлиной бородкой. Вижу его как живого. Вот стоит он на углу, засмотрелся на карету, в глубине которой виден черный клобук с алмазным крестом и окладистая борода владыки. И оба они мои прадеды: один — двоюродный дед матери, преосвященный Анатолий, архиепископ Могилевский (в миру Августин Васильевич Мартыновский), а другой — родной мой прадед, Менахем Мендель Лившиц из Чечерска, бабушкин отец.
Трудно вообразить столь разных людей, а вот чувствую их обоих и обоих люблю.
Хорошо все-таки, что существуют на свете смешанные браки. Благодаря им рушатся неприступные стены, так старательно воздвигавшиеся людьми в течение тысячелетий. А прадед мой Менахем Мендель из Чечерска был действительно мне сродни не только по плоти, но и по духу. Странный был человек с детства. В юности читал дни и ночи талмудическую мудрость, сидел в синагоге от зари до заката, потом перешел к хасидам. Увлекался ими. Заговорили о нем, как о будущем цадике. Но родители решили женить. Жена оказалась энергичная, умелая, бойкая — быстро взяла власть над мужем. Открыла лавку — мелочную торговлю. Прадед ничего не умел: ни торговать, ни хозяйство вести. Задумчивый, мечтательный — весь город говорил о нем, как о «мишигине», и никто не верил, что он может быть на что-нибудь способен.
Городок был своеобразный. Чечерск Могилевской губернии. Находился он на территории имения графов Чернышевых-Кругликовых. Имение у них было огромное и неразделяемое — майорат. Сначала на их землях стояло село; затем начались ежегодные ярмарки, затем постоянный базар. Со всех концов потекли сюда евреи, поляки; в середине прошлого века это был уже город с 5-ю тысячами населения, с двумя церквами, с костелом, с несколькими синагогами. Графы считались хозяевами земли; город платил им аренду. Но не нравилось графам местечко.
Пришел раз в город один из братьев Чернышевых-Кругликовых, человек необыкновенной силы, но психически ненормальный, к тому же запойный пьяница. И начал крушить местечко, срывать крыши с домов, разорять лавки, корчмы. В городе — паника. «Сумасшедший, сумасшедший», — кричали, разбегаясь, евреи. Насилу успокоили «дикого барина».
И еще в городе были две достопримечательности: два юродивых. Один, русский, всегда ходил в тулупе, с бородой поверх тулупа, а у рта всегда держал платочек. Часто он лежал целыми часами против церкви, посреди улицы. А другой юродивый, еврейский, — прадед. Суетливый, растерянный, все у него невпопад, но вечно задумчив, — и вечно в книгах; знаток талмуда и хасидской мудрости. Над ним смеялись, но его и уважали, считали знатоком Священного Писания.
Прабабка Сара Фейга (урожденная Гранат — дальняя родственница издателя Энциклопедии) превратила его в приказчика, заставляла сидеть в лавке, а однажды послала в Москву по торговым делам. Здесь он и остановился в Борисоглебском подворье, около Варварки, и здесь его настигла страшная судьба.
Я не знаю, видел ли он там архиерея в карете (моего прадеда). Очевидно — нет, это моя фантазия. Но зато увидел там другого человека, вроде Чернышева-Кругликова, — психически ненормального. Не понравилось ему что-то в моем прадеде — и он тут же на месте стрельнул в него в упор из револьвера. Что именно не понравилось? Прадед был человек скромный, смиренный, но, как все люди не от мира сего, независимый. Видимо, ответил барину что-то резкое, как не надлежит отвечать бесправному еврею. Так и погиб в 1861 году мой прадед, оставив жену и двоих детей. До самой смерти моя бабушка призывала его имя, веруя в святость его молитв пред Престолом Божиим, как невинно пострадавшего. Верую в это и я.
В Чечерске осуждали прабабку: послала блаженного в Москву, на смерть. Но прабабка не была такая женщина, чтоб смущаться. Поехала в Москву, выяснила, как было дело. Барина посадили в сумасшедший дом, а родственники обязались платить пенсию осиротевшим детям до самого совершеннолетия. Затем вернулась, быстро вышла замуж вторично (на этот раз — за тертого калача, ловкого коммерсанта Боруха Певзнера), народила кучу детей, всем дала образование, всех вывела в люди — и сама умерла богатой купчихой. Смотрит на меня сейчас с фотографии столетней давности. Ей уже здесь лет 70. Простое, грубое, умное лицо. Платье с раструбами. Но глаза печальные, задумчивые, как бы стремящиеся разгадать странную тайну жизни.
У моей прабабки было шестеро детей — и как же отличались дети Менахема Менделя от всех остальных. Четверо Певзнеров — уравновешенные, спокойные люди. Мужчины — посредственности, сестры — умницы, но не выходящие за рамки своей среды. Зато первые двое — со странностями. Сын Копел (в семье его звали по-русски — Колей) — какой-то местечковый декадент. Вечно плакал, тосковал, томился. Вставал по ночам и начинал кричать, биться головой об стенку, так что никто не мог его успокоить. Послала его прабабка вместо со своей старшей дочерью лечиться в Кенигсберг, не помогло. Приступы отчаяния, безудержной тоски продолжались. И однажды во время такого приступа он умер. Врачи констатировали разрыв сердца.
Лет через шестьдесят после этого, когда мне было 22 года, мы с отцом приехали в Москву. Отец повел меня к своему дяде Льву Борисовичу, жившему в Просвирном переулке. Открыл Лев Борисович дверь, увидел меня и как-то странно на меня посмотрел. Когда я вошел, он меня обнял и сказал со слезами на глазах: «До чего ж ты похож на Копеля». Рассказали об этом бабушке, но она умиляться не стала, а, взглянув на меня, сказала: «Еще бы, он же был тоже сумасшедший»[1].
Но бабушка сама резко отличалась от всех своих родственников: от своего отца она унаследовала одухотворенность, пытливость, любовь к чтению. Только читала она не Талмуд, а Канта, и увлекалась не цадиками, а Львом Николаевичем Толстым. От матери ей достались энергия, практическая сметка, живой, быстрый ум. И уж не знаю, от кого, — золотое сердце, умение растворяться в другом, совершенно забывая о себе, каким обладают, кажется, только женщины. В то же время была она вспыльчива, резка на язык, но и трогательно нежна. Звали ее Лия, в детстве — Лиечка, а впоследствии носила она русифицированное имя Леонида Михайловна.
Лиечка получила образование в пансионе, в имении тех же графов Чернышевых-Кругликовых. Учила ее мадам Сомова, женщина хорошего дворянского рода, посвятившая себя просвещению народа. И вот, растет девочка. И проводит целые дни в огромной библиотеке графского дома. Читает, читает без разбора все, что попадет под руку. Шли уже семидесятые годы. И сюда, в Чечерск, доносились отзвуки того движения, которое было в столицах. Сюда его принесли семинаристы, сыновья священника Лепешинского. С ними Лиечка дружила, и от них она узнавала о народниках, о Чернышевском и Добролюбове, у них она получала книги Белинского. Здесь пристрастилась к философии. Многое ей нравилось, но не могло наполнить сердце. Не в пример поповичу Лепешинскому, она не стала ни атеисткой, ни материалисткой. С детства любила молиться, находила сладость в молитве и, что удивительно в девушке, изучила древнееврейский язык. Споря с Лепешинскими, она стала интересоваться философией и не испугалась даже Канта; внимательно прочла «Критику чистого разума». Уже позже, в 80-е годы когда она была замужем, ее покорил яснополянский граф, страстной почитательницей которого она осталась на всю жизнь и преклонение перед которым она передала и мне.
Когда ей исполнилось 16 лет, мать пыталась выдать ее замуж (так полагалось!); жених прислал в подарок часы, но уроки семинаристов не прошли даром. Она сказала матери твердое «нет» и отослала жениху его подарок. Зато помогала по дому, возилась с детьми, ездила в Москву. И не хотела выходить замуж.
Но не так-то просто было бороться со старой, властной еврейской купчихой Сарой Фейгой. Однажды поехала старая Сара на ярмарку, в Полтаву. И вдруг Лиечка получает сразу две телеграммы. «Поздравляю с помолвкой. Мать». «Обнимаю дорогую невесту. Левитин». Обе телеграммы как громом поразили девушку. Какой Левитин? Что за Левитин? Но крепка была властная рука матери. И через месяц бабушка уже ехала после свадьбы со своим мужем, Ильёй Израилевичем Левитиным, в Полтавскую губернию.
Было это в 1878 году, когда ей было 22 года, а муж ее был старше ровно на 20 лет, и было ему 42. Проездом, в Полтаве, он купил ей альбом — свой первый свадебный подарок, роскошный, в красном сафьяновом переплете. Бабушке запомнилось на всю жизнь, как лежал альбом на столе в гостинице, музыкальная машинка играла менуэт, а дед, довольный, ходил вокруг стола.
Сейчас этот альбом лежит у меня на столе, в Люцерне. И я иногда, оставшись один, завожу механизм и слушаю нежные, грустные звуки. И мне всегда вспоминается «Эолова арфа».
Если бабушка была мечтательницей и толстовкой, то мой дед уж во всяком случае не был ни мечтателем, ни толстовцем. Крепкий, здоровый мужчина, с великолепными курчавыми волосами и бородкой, он напоминал помещика. Он фактически им и был. Более того — держал в руках всю губернию. Он был арендатором поместий. Согласно законам Российской империи, еврей не мог ни владеть землей, ни арендовать землю. Но ведь на то и существуют законы, чтоб их обходить. Спокон века Левитины арендовали поместья. Делалось это так. Помещику нужны деньги — едут к Левитину. Тот дает деньги и приезжает в его имение. Помещик оформляет его управляющим и уезжает из имения на 15–20 лет. Все это никак не оформлялось; все держалось на честном слове. И за сотню лет, в течение которых мои предки занимались арендой земли, не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь их обманул.
Между тем, проведя всю свою жизнь в деревне, дед полностью усвоил манеры хорошего помещика. Дед был любим крестьянами. Любили его за сердечность, за доброту, за веселый нрав. Дружил он и с сельскими батюшками, которые были завсегдатаями в его доме. Но вере своей не изменял. На еврейскую пасху и в осенние праздники устраивал в своем доме «минин» и сам исполнял роль кантора. (Он хорошо знал службу и обладал хорошим голосом). Молясь, приходил в экстаз. Бабушка говорила: «Я его всегда боялась, когда он молился!» Помимо положенных молений, любил он молиться в поле, в лесу, под открытым небом. Что не мешало ему обрушиваться на Бога с матерной бранью, когда дождь грозил испортить урожай.
Бабушка свято чтила его память, но, как я догадывался по скупым намекам, никогда его не любила. Что не мешало ей быть ему преданнейшей женой. А когда он заболел нашей проклятой наследственной болезнью (раком), она 3 года буквально не отходила от него и горько оплакивала его смерть. Не любя его как мужа, она, видимо, была привязана к нему, как к другу.
Но всю свою нежность она перенесла на своего единственного сына, моего отца Эммануила Ильича Левитина.
С отцом у меня были сложные отношения. Мы и любили друг друга, и в то же время я не помню, чтоб мы когда-нибудь не находились в состоянии скрытого конфликта. Лет 10 назад, у себя, в Новокузминках, под Москвой, я пошел с ведрами за водой. И вдруг почувствовал давно уже не испытанное смущение и неловкость. И только в следующий момент догадался, в чем дело: из-за угла показался человек, несколько похожий на моего, тогда уже давно умершего, отца.
И в то же время отец испытывал ко мне нежность необыкновенную, и в то же время мы были друзьями — до сих пор не проходит дня, чтоб я не вспоминал его резкие, меткие сентенции.
Как-то в лагере я встретил старика, который окончил лубенскую гимназию. Я стал ему рассказывать о гимназии такие подробности, так точно называл учителей и даже имена сторожей, что он вытаращил глаза от изумления. «Откуда Вы это знаете? Вы же не могли там учиться. Вас и на свете тогда не было». «Там учился мой отец». «Как же Вы должны были быть дружны с отцом, если он все Вам так подробно рассказывал».
Я действительно знаю биографию отца, как свою собственную, вплоть до самых мелких интимных деталей.
Отец родился в городе Кременчуге, в рождественский сочельник, 24 декабря 1881 года. Это было время, когда могущество деда достигло апогея. Он владел имениями в Кременчугском, Градижском и Лубенском уездах Полтавской губернии. Что касается Полтавского уезда, то там арендовали имения мой прадед и брат деда. Левитины держали в своих руках большое количество земельных угодий, среди них имения генералов Тучкова и Белявцева. Предводитель дворянства Агранович был в долгу как в шелку у деда, а полтавский губернатор, приезжая в Кременчуг, останавливался у бабушки, потому что это был лучший дом в городе.
Главной резиденцией Левитиных было село Благодировка, где они жили в большом помещичьем доме. Там и проходило детство отца. Дико избалованный матерью, окруженный раболепными слугами, отец уже тогда обнаруживал необузданный нрав и невероятную вспыльчивость. С 8-и лет он увлекался лошадьми: несмотря на категорические запреты деда, он вечно угонял лошадей; 12-и лет он уже был великолепным наездником. Когда пришел гимназический возраст, бабушка переехала с сыном в город Лубны, где отец поступил в гимназию.
Между тем дела деда пошли хуже. Он вошел в компанию с евреем Голосовкером (задумали строить завод) — и тот его ободрал как липку. Горячий, властный, по-детски простодушный, Илья Израилевич привык вести дела на честность — без векселей. Бедняге пришлось много и упорно трудиться, чтоб сохранить хоть часть имения. Жил он в имении один, без жены, которая находилась в Лубнах, при сыне. Да и сын не радовал. Избалованный, ленивый, он упорно не хотел учиться, вечно получал двойки, оставался на второй год. А с 16-и лет начались романы — уродился он на редкость красивым. Все лубенские гимназистки были от него без ума. И он дарил их своей благосклонностью.
Редкий приезд деда в Лубны обходился без скандалов. Оба вспыльчивые, легко впадающие в ярость, отец с сыном наскакивали друг на друга. Бабушка с плачем бросалась между ними. И только ее вмешательство украшало бурные страсти. Впоследствии, узнав, будучи студентом в Киеве, о смерти Ильи Израилевича, отец только пожал плечами и выругался, а приехав в Лубны, рыдал как безумный на могиле деда и всю жизнь, каждый день, утром и вечером, подолгу молился об упокоении его души. В этом весь отец — порывистый, страстный, экспансивный, не знающий ни в чем удержу.
Но вот приблизился для отца момент совершеннолетия, и встало сразу два вопроса: служба в армии и поступление в университет. Что касается службы в армии, то отец мог бы иметь льготу, т. к. дед имел право по закону оставить одного из сыновей для прокормления. У деда был старший сын от первого брака, который воспитывался у родных своей матери. Дед его не любил и хотел оставить моего отца, к которому он тоже был очень суров, но, видимо, в глубине души питал отцовское чувство. Отцу тоже страсть как не хотелось идти в армию. Но тут вмешалась мать. «За счет другого мой сын не будет пользоваться никакими льготами: он будет служить в армии, хотя, вообще говоря, всякая военная служба безнравственна», — сказала поклонница Л. Н. Толстого. И мужчины склонились перед ее решением: от армии был освобожден старший сын.
Отец отбывал военную службу вольноопределяющимся в кавалерийском полку, и уж тут-то он поскакал на лошадях. Сложнее было дело с поступлением в университет. Согласно закону, евреи могли поступать в университет по так называемой «процентной норме» — т. е. те, у кого был аттестат с пятерками. Отцу пришлось расплачиваться и за детскую лень, и за прогулы, и за романы с гимназистками — аттестат пестрел тройками. Об университете не могло быть и речи. Бабушка тщетно искала протекции — заручалась письмами от фрейлины княжны Мещерской, от других знатных особ. Все было напрасно.
И вот тут товарищи отца по гимназии подсказали самый простой выход — креститься.
Сказано — сделано. Отец поехал с письмом от Аграновича (предводителя) в его имение, к священнику. Крещение произошло быстро, на курьерских. Отыскали какого-то мужичка с именем «Илья», чтоб не менять отчества. Отцу предложили выбирать имя: он выбрал имя «Мануил», опять-таки, чтоб не менять своего имени «Эммануил». Крестной матерью была жена священника.
Между тем, бабушке рассказали, что сынок поехал креститься. Она потребовала лошадей и как безумная поскакала в имение Аграновича. Ей рисовался позор: сын отрекается от своего народа, из материальных соображений изменяет вере отцов. Кроме того, зная порывистый характер отца, она почему-то вообразила, что он может после крещения прийти в ужас от того, что он сделал, и наложить на себя руки. Примчавшись в село, она молнией влетела в дом священника.
«Где он? Где мой сын?» «Его нет!» — ответил батюшка. «Все кончено: он кончил жизнь самоубийством», — вспыхнула в голове бабушки догадка. «Да будет кровь его на Вас!» — крикнула она. «Что Вы, что Вы, мадам, какая кровь! Ваш сын спокойно и весело поехал домой», — успокаивал ее священник.
«Единственный раз в жизни я ходила, опустив голову, и боялась людям смотреть в глаза, — когда твой отец крестился», — рассказывала впоследствии бабушка.
Дед отнесся к этому событию неожиданно спокойно. «Будь ты хоть чертом, только будь человеком», — сказал суровый старик, потрепав сына по плечу, и ушел к себе в кабинет.
Через месяц отец приехал в свои родные Лубны в великолепно сшитом студенческом мундире на белой подкладке, с лихо подкрученными усами и с присущей ему надменной осанкой.
Прошлым летом, покидая Россию, я решил посетить Киев — здесь я хотел прежде всего посмотреть все те места, где бывал отец. Вместе с Верочкой Лашковой мы пришли к университету, но в университет нас не пустили — он был закрыт по случаю каникул. Верочка предложила зайти в библиотеку. Я ответил: «Нет, в библиотеку не надо: туда отец не ходил. Пройдемся лучше по Крещатику, где он бегал за девчонками».
Отец был известен в университете как беззаботный весельчак и завзятый Дон-Жуан. Но, когда надо, работать умел: за месяц до экзаменов запирался в своей комнате — и сдавал все экзамены на «5». Он уже тогда поставил себе четкую и ясную цель и часто ставил мне себя в пример. «Я решил стать судьей — и стал», говорил он мне. «Но почему же такая незначительная цель в жизни?» — спрашивал я. — «Ну, Наполеон уже в это время был, — отвечал отец, — хватит его одного, второго не надо».
Мой отец является примером того, как плохо, когда люди с юности ставят себе ограниченные цели. Человек блестящих способностей и острого ума, он всегда довольствовался малым. «Я знаменитость в общежактовском масштабе, — шутил он, — вот и ты такой будешь». Зато всегда был независим, ни перед кем никогда не унижался и держал себя так, что всем нравился, и все держались с ним почтительно и даже робко. А я с детства привык считать его великим человеком и очень удивился, когда, став взрослым, убедился в том, что никаким великим человеком он никогда не был.
По своим взглядам отец был поклонником крепкого русского государства и твердой власти — монархистом и ярым противником какого бы то ни было либерализма. Это очень шло к его властной эгоцентричной натуре. Ни в каких студенческих беспорядках мой отец никогда не участвовал и был близок к Голубеву, руководителю монархической студенческой организации «Союз Двуглавого Орла». (Лет через 50 сыновья двух приятелей встретились: я был в то время церковным писателем, а сын Голубева — много старше, чем я, по возрасту — носил весьма известное имя — преосвященный Ермоген, архиепископ Калужский). Впрочем, дружба была чисто личной: ни в какие организации отец никогда не входил и никаких комплотов ни с кем не признавал. Вся его привязанность, все лирическое, что было в его натуре, — все сосредотачивалось на одной личности: на личности Николая II. Его любил он нежной любовью, мало понятной современному человеку. Свой кумир он увидел, когда ему было 30 лет, в 1911 году.
В это время отец уже давно окончил университет и был старшим кандидатом на судебные должности, конкретно же — секретарем при Председателе Киевской Судебной Палаты Василии Ивановиче Болдыреве. Это было жарким летом. В Киев приехал императорский двор. Отец сказал своему шефу: «Василий Иванович! Я бы так хотел видеть государя». «Так это же очень просто: на завтра я имею 2 билета на концерт, в „Шато де флер“ (увеселительный сад). Жена не пойдет — пойдемте вместе. Только достаньте себе парадный мундир».
Весь вечер, на протяжении четырех часов, отец не сводил глаз с царской ложи, в которой сидел император с дочерью Ольгой. Вместе с ними был мальчик в офицерском мундире — будущий болгарский царь Борис. Первое впечатление — разочарование: полковник в мундире, подпоясанном ремнем, с мятой фуражкой в руках, с всклокоченной бородой, более длинной, чем на портретах. Далее царь произвел чарующее впечатление на своего поклонника простотой, обаятельной улыбкой, и даже тем, как, опершись на край ложи, он слушал музыку. Собственно, и все так слушают музыку, но что поделаешь с верноподданным. В антракте, в стороне от ложи, собралась группа сановников: Столыпин, Коковцев и другие. Они о чем-то оживленно беседовали.
А на другой день в Оперном театре грянул выстрел, выстрел в Столыпина, которого отец обожал не меньше, чем царя. Стрелявший — адвокат Багров — был товарищем отца по университету.
Я помню, в 1921 году, когда мне было 6 лет, я стоял около отца, когда он пилил дрова с каким-то мужичком. Отец был в хорошем настроении, разговорился с рабочим, и все говорили они о Николае II, причем все время в разговор вплеталась фраза: «Дурак, погубил себя и нас». Когда мы шли домой, я спросил отца: «А почему ты ругаешь царя — ты же его любишь?» Отец ответил: «Ну так что ж, я и тебя ругаю, но из этого не следует, что не люблю». Затем, когда мне было 15 лет, мы с отцом обозревали в Царском и в Петергофе все дворцы, где жила царская семья. Отец был настроен довольно скептически; критиковал обстановку, потом сказал приятелю: «Но, конечно, что бы мы ни говорили, — царь для нас всегда остается царем. Мы никогда не сможем от этого отделаться. (Кивок головой в мою сторону.) Вот этот уже, может быть, отделается». И наконец, за час перед смертью, в 1955 году, с уже замутненным сознанием, отец потянулся за маленьким зеркальцем и несколько раз его поцеловал. «Зачем ты целуешь зеркало?» — спросила его жена. «Это зеркало Николая II», — ответил отец. (Зеркальце это было выпущено в 1913 году — к 300-летию Дома Романовых, на оборотной стороне стояла юбилейная дата и царский вензель.) Так перед смертью простился отец с тем, что было ему наиболее дорого — со старым русским государством. Быть может, он прощался при этом и со своей далекой, далекой, невозвратной молодостью…
Евреев отец не любил, как и все ренегаты. Они его раздражали тем, что он вынужденно был связан с ними. О своем еврейском происхождении упоминать избегал, как обычно не упоминают о неприличной болезни. Но мать свою обожал, не расставался с ней ни на минуту, часто ссорился, и когда она умерла, чуть не сошел с ума от горя и исполнял все еврейские похоронные обряды. О евреях всегда говорил плохо, и только когда Гитлер пришел к власти, к своим антисемитским афоризмам прибавлял: «Но из этого, конечно, не следует, что их надо убивать». Став юношей, я специально, чтоб подразнить отца, всегда бравировал нашим еврейским происхождением и говорил: «Мы евреи». На что следовала реплика: «Болван, какой ты еврей? Ты так себе, ни еврей, ни русский, — ни то, ни се, — ни в городе Богдан, ни в селе Селифан».
Своему крещению он не придавал никакого значения: никогда не ходил в церковь, одинаково не любил ни священников, ни раввинов. Они почему-то у него всегда ассоциировались с похоронами. «Не люблю этих людей, которые над мертвецами поют», — говорил отец. В Бога, однако, верил. Каждое утро и каждый вечер минут десять лежал на спине с закрытыми глазами и что-то шептал — молился. Мог начать молиться в самом неожиданном месте: посреди улицы, в театре. Вдруг останавливался и закрывал глаза. Боже сохрани побеспокоить его в этот момент или показать, что понимаешь, чем он занят. Страшно рассердится и покроет хорошей русской бранью, к которой имел особое пристрастие с детских лет, проведенных в деревне. Про свою веру говорил: «Я не знаю, может быть, ничего нет, но без Бога я не могу. Он (кивок в мою сторону) верит в Бога конкретного — Иисуса Христа. Я верю в Бога абстрактного; не знаю, какой Он, но Он есть». Ближе всего он, видимо, был к Вольтеру, к Л. Н. Толстому. Но отец не любил никаких теорий, не хотел ничего формулировать. Он просто верил и молился какому-то своему «неведомому Богу».
И еще у него было одно пристрастие: любил он театр, ходил в театр почти ежедневно. Актерскую игру понимал тонко, ловил мельчайшие нюансы и почти никогда не бывал доволен. Недовольство выражалось всегда в форме, соответствующей его характеру. В 20-ые годы, когда мать была актрисой, спрашивает у нее подруга Маруся Гурвич (молодая актриса): «Что это у Вашего мужа — тик? когда я на него ни посмотрю — всегда лицо у него перекошено гримасой». Мать отцу: «Ты хоть не садись в первый ряд: неудобно.» Отец: «Неужели можно смотреть такое дерьмо, как твоя Маруся, и не гримасничать?» И тут же отчеканил один из своих четких, оскорбительных афоризмом: «Сцена — не хедер: пусть учится говорить по-русски».
Работником был исключительно хорошим: все делал быстро, с увлечением, решал сложнейшие дела мгновенно, четко и в полном соответствии с законом. На этом основывалась его глубокая дружба с В. И. Болдыревым — председателем Киевской Судебной Палаты. Дружба, изобилующая анекдотами.
Приезжают они в Харьков, едут на извозчике по главной улице. Объявление: «Портной Исаак Ааронович Левитин». Василий Иванович: «Это не Ваш родственник?» В воскресение отец говорит: «Василий Иванович! Идемте.» «Да куда?» «Идемте, идемте, дело есть». Идут. Василий Иванович: «Да куда Вы меня ведете?» Наконец привел: на окраине города деревянная избушка и надпись: «Сапожник Василий Иванович Болдырев». «Это не Ваш родственник, Василий Иванович?»
Последний раз он видел Болдырева в 1914 году, перед войной. Отец уже давно вышел из его подчинения, женился, приехал в Кисловодск в качестве молодожена. Узнал, что здесь лечится его бывший начальник. Пришел к нему. В это время Болдырев прославился на весь мир, так как председательствовал на знаменитом процессе Бейлиса. Молодого судью, своего бывшего секретаря, он принял в интимной обстановке, лежа на диване, в то время как массажист растирал его щетками. Сразу же оба юриста начали говорить о знаменитом процессе. Болдырев рассказывал долго и обстоятельно. Между тем, массажист, закончив свое дело, ушел. Тогда Болдырев обронил замечание: «Вот говорю при нем, а, может быть, он жид.» Отец несколько поперхнулся, а Болдырев продолжал свой рассказ, так и не заметив всей пикантности своего замечания.
В 1912 году отец получил назначение мировым судьей г. Баку. Он был единственным мировым судьей в городе. Кроме того, ему была подсудна вся территория теперешней Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР. На этой территории дела разбирали его помощники, которых у него было 12. Судья был несменяем: отстранить его от должности мог только Сенат за уголовное преступление. Подчинен он был председателю Окружного Суда, которым в то время был Митрофан Михайлович Кудрявцев — крайний реакционер, известный своей строгостью. Суда присяжных на Кавказе не было, существовал только коронный суд, поэтому все приговоры отец выносил единолично «по указу Его Императорского Величества». Мировому судье были подсудны дела о кражах (не со взломом), об оскорблениях, нанесении побоев, изнасиловании, а также дела «об оскорблении Величества». На Кавказе санкции были более суровые, чем в России, поэтому мировой судья мог налагать наказание — содержание в арестантских ротах до полутора лет (в России — до полугода). Кроме того, мировому судье были подвластны все дела, связанные с тяжбами (в Баку, в связи с вечными спорами о нефтяных участках, иногда приходилось разбирать дела на миллионные суммы).
Эммануил Ильич был судья строгий и даже жестокий; никому не давал потачки. Ворье перед ним трепетало. Однако справедливость была его лозунгом. «Невинного нельзя наказать, виновного нельзя отпустить» — такова презумпция. Его предшественник, Петров, был осужден за крупные взятки к 4 годам каторжных работ. Это было единственным случаем среди судейских за 50 лет, предшествовавших революции. Взяточничество совершенно отсутствовало в тогдашнем, пореформенном, суде. Отец без ужаса не мог слышать о взятке. В его глазах взятка была самым ужасным преступлением — хуже грабежа и убийства. Судья Левитин придерживался линии Кудрявцева: никаких послаблений никому и нигде. Но, со свойственной ему непоследовательностью, с Кудрявцевым вскоре разругался вдрызг, так что даже на улице ему не кланялся, а дружил с местным либералом, кадетом, членом Окружного Суда Вячеславом Николаевичем Клементьевым. В его доме отец был частым гостем. Там он познакомился с его свояченницей, приехавшей гостить к сестре из Тифлиса, Надеждой Викторовной Мартыновской, своей будущей женой и моей матерью.
Здесь начинается новая глава — новая линия моей семейной хроники. Самым ранним моим родоначальником, который известен мне по этой линии, является сельский униатский священник из Каменец-Подольской губернии, отец Василий Мартыновский — мой прапрадед. В 1788 году, после раздела Польши и присоединения униатов к православию (причем в качестве апостола православия выступала Екатерина II, будучи, таким образом, предшественницей Николая I и Сталина), отец Василий также присоединился к Православной Церкви. В 1790 году у него родился сын, названный Августином, впоследствии известный иерарх и церковный писатель. С гипотетической его встречи с моим другим прадедом, Менахемом Менделем, начинаются эти изыскания в моей родословной.
Августин Васильевич шел путем своего отца: окончил Каменец-Подольскую Духовную Семинарию, женился и, как его отец, вскоре стал сельским священником. Однако не повезло молодому батюшке: вскоре умерла его жена, и он осужден был на всю жизнь оставаться бобылем. Отец Августин, однако, не опустился, не запил, не стал искать утешений, недозволенных канонами. Помогла ему в этом любовь к литературе. Еще на семинарской скамье отец Августин усиленно читал самых разнообразных авторов, считался знатоком латыни и сам писал стихи. Оставшись один, он стал усиленно заниматься литературой, богословием, историей. В 1820 году он поступил в Киевскую Духовную Академию, а в 1822 году окончил ее со званием магистра. В 1821 году принял монашество с именем «Анатолий». Его магистерская диссертация о католической церкви была впоследствии переработана им в книгу, которую он издал под псевдонимом «Авдий Востоков». Эта книга, изданная в Петербурге в 40-ых годах, долго была единственным серьезным трудом о католичестве на русском языке.
Несколько лет назад мне нужно было писать для Московской Академии работу о католичестве. Достал я в Исторической Библиотеке книгу прадеда и удивился: до чего много там собрано материала и каким живым языком все изложено.
Оставшись при Киевской Духовной Академии, иеромонах (впоследствии архимандрит) Анатолий пишет свой сборник «Вера, Надежда и Любовь», игравший в Духовных Семинариях роль популярнейшего руководства по нравственному богословию. Интересно, что в качестве приложения фигурировали стихи прадеда, написанные легким языком, с хорошими, звучными рифмами.
Однако, согласно установкам русской православной церкви, всякий ученый монах считается кандидатом в епископы. В 1840 году — пятидесяти лет от роду — архимандрит Анатолий был действительно рукоположен во епископа Екатеринбургского. Однако южанину, украинцу, был не по душе суровый уральский город. Он завязал переписку со своими друзьями — митрополитом Киевским Филаретом Амфитеатровым и прославленным витией, архиепископом Херсонским Иннокентием, где умолял перевести его куда-нибудь на юг. Через год удалось добиться его перевода в Воронеж, в качестве епископа Острожского (викария Воронежской епархии), а в 1844 году он стал епископом Могилевским и Гомельским — архиереем той самой епархии, на территории которой находился Чечерск — город, где проживали мои еврейские предки. Служба шла успешно: добродушный, обладающий чувством юмора, святитель пользовался любовью духовенства. Большое внимание уделял бурсе, причем свел к минимуму порку, которая процветала тогда во всех духовных учебных заведениях. Среди местной интеллигенции пользовался известностью как проповедник, проповеди его были изданы в 5 томах, в 1844–53 годах.
Владыка был умеренным либералом: он вводил улучшения в епархии, открывал приходские школы, избегая при этом ссориться с начальством, но в Петербурге на него поглядывали косо, и он получил архиепископство только в 1853 году, пробыв архиереем 13 лет (обычно архиепископство давалось через 10 лет после архиерейской хиротонии). В 1860 году у владыки очень обострились отношения с обер-прокурором, и он ушел на покой, проведя последние 12 лет своей жизни в одном из молдавских монастырей, оставив хорошую память у своих подчиненных и след в дореволюционных энциклопедических словарях, а также в Биографическом словаре знаменитых русских деятелей, где его жизнеописание излагается наиболее подробно. Умер он в 1872 году, дожив до 82 лет, насыщенный днями, мирной, спокойной смертью.
У преосвященного был брат, намного моложе его, которому он покровительствовал и которого воспитывал; брата звали Антонием и родился он в 1800 году. Воспитанник Каменец-подольской семинарии, отец Антоний занял приход брата в Каменец-Подольской епархии, 20-и лет от роду, когда отец Августин уехал учиться в Киевскую Академию. Отец Антоний Мартыновский никогда не выезжал из Каменец-Подольской епархии — жил тихой мирной жизнью и умер в сане протоиерея в 70-х годах. У него было 3-ое детей: старший Василий, строгий аскет, рано принявший монашество и умерший иеромонахом Киево-Печерской лавры в сравнительно молодом возрасте; дочь Анастасия Антоновна, вышедшая замуж за акцизного чиновника, и младший — Виктор Антонович — мой Дед.
Дед начал карьеру, как и его предки, в Каменец-Подольской Духовной Семинарии. Мягкий, вдумчивый юноша, он считался кандидатом в ученые монахи: все считали, что он пойдет по стопам своего дяди, архиепископа. И тот считал его будущим иерархом. Киевская Духовная Академия гостеприимно распахивала перед ним свои двери. Все дело испортил, однако, Белинский. Увлекшись его статьями в «Современнике», молодой семинарист перешел от него к Гегелю и Фейербаху. Вскоре один из его товарищей побывал в Петербурге и привез оттуда «Колокол». Перейдя в последний класс Семинарии, на каникулах, Виктор Мартыновский поехал в Петербург. И сразу познакомился с Добролюбовым. Тот принял его по-братски, поставил четверть водки; начались расспросы о Семинарии, об учителях, об экзаменах. Воспоминания о товарищах, о семинарских порядках, о порках, полученных в свое время обоими в изобилии. Два бурсака очень быстро нашли общий язык. Неизвестно, о чем еще говорили Добролюбов и Мартыновский, только по приезде в Каменец-Подольск Виктор Антонович категорически заявил отцу, что в Академию он не пойдет и от сана отказывается, а вместо этого поедет в Петербург, поступать в Филологический Институт. Мягкий и сговорчивый отец Антоний сначала очень удивился, но довольно быстро дал свое согласие. В 1860 году молодой попович прибыл в Петербург и преобразился в студента-филолога. Вскоре умер его друг, А. Н. Добролюбов, однако благоговение к нему и к Чернышевскому дед сохранил до конца жизни.
Через 4 года — опять стремительный скачок: он получил назначение на Кавказ, в Тифлис. Для жителя патриархального Каменец-Подольска это звучало, как Камчатка или Сандвичевы острова. Но делать нечего: назначили — надо ехать. И вот, в 1865 году в Тифлисе появляется новый житель: молодой близорукий, начинающий лысеть учитель словесности с русой бородкой. Виктор Антонович принялся за дело со всем пылом народника: он и уроки давал, и устраивал библиотеку, и в городской Думе работал, и прогимназию устраивал. Усердие было оценено — молодой учитель сделал блестящую карьеру: уже под сорок лет он был директором 1-ой Тифлисской гимназии и действительным статским советником. Еще раньше он женился на молодой учительнице, красивой, аккуратной, сдержанной девушке из хорошего дворянского рода Мосаловых.
Мосаловы — старинный род, ведущий свое начало с 12 века. Однако к середине 19 века Мосаловы разорились. И Федору Федоровичу Мосалову, капитану армии, действующей на Кавказе, пришлось жить на скромное офицерское жалование. «Родов дряхлеющих потомок, И по несчастью не один», потомок древних бояр оставил трех дочерей после своей смерти без всяких средств к существованию. И всем троим барышням, Елене, Евфросинии и Евгении, пришлось идти работать учительницами. Одна из них, Евфросиния Федоровна Мосалова, моя бабушка, покорила сердце молодого директора гимназии. Начался роман, роман, который в наше прозаическое время кажется таким наивным, таким неправдоподобным, таким трогательным.
Директор и учительница увлекались Бетховеном, Шопеном, Листом. Они часто оставались в гимназии, чтобы играть на рояле в четыре руки. Во время одного из таких свиданий за роялем Виктор Антонович (в то время, когда разыгрывался какой-то наиболее трудный пассаж) наклонился к уху Евфросиний Федоровны и шепнул: «Будьте моей женой!» Молодая учительница густо покраснела и продолжала играть, хотя руки ее дрожали. Продолжал играть и дед. Как обычно, они закончили музыку. Прощаясь, дед сказал: «Я понимаю, Вам надо подумать». И они простились.
Подумать действительно было о чем. С одной стороны, полная бесперспективность: три сестры бесприданницы и брат офицер, живущий, как и отец, на жалование. Симпатия к талантливому, одинокому педагогу, такому серьезному, такому вдумчивому, с таким хорошим, открытым лицом. С другой стороны — попович. Что сказал бы покойный отец, что сказала бы покойная мать, которая считала, что недворянина неудобно принимать в доме и сажать за стол. Особенно восстала против этого Евгения Федоровна — девица смелая, надменная, резкая на язык. «Но ведь он действительный статский, — значит все-таки дворянин», — робко заметила бабушка. «Удовольствие: Мосалова станет колокольной дворянкой», — заметила тетя Женя.
Так или иначе, в следующий раз, когда директор и учительница играли Шопена, Виктор Антонович спросил между двумя тактами: «Подумали?» И она, низко склонившись над роялем, прошептала: «Я согласна!» Виктор Антонович поцеловал ей руку, а затем некоторое время они продолжали играть Шопена.
Женившись, Виктор Антонович увлекся большим трудом, благодаря которому его имя стало известно в самых отдаленных уголках России, а его четыре дочери стали богатейшими невестами на Кавказе. В своей практической работе дед натолкнулся на очень большую трудность. Почти совершенно невозможно было так называемых инородцев, грузин, армян, азербайджанцев, научить правильно ставить ударения. Как бывший семинарист, он, видимо, помнил, что в славянских книгах над каждым словом стоит ударение. Почему бы не сделать этого и на русском языке? И дед составил огромную хрестоматию в трех томах под названием «Русские писатели». Здесь представлена вся русская литература от «Слова о полку Игореве» до Тургенева и Л. Н. Толстого. С хорошими педагогическими комментариями. И над каждым словом — ударение. А таких слов было, очевидно, около сотни тысяч. Ему удалось добиться утверждения этой хрестоматии как официального учебного пособия во всех областях, где живут так называемые «инородцы»: на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, в Царстве Польском, в Великом Княжестве Финляндском, в Средней Азии и в Сибири. Книга эта выдержала 11 изданий; по ней учились русскому языку миллионы людей. Где-то в Тифлисе штудировал эту книгу угрюмый семинарист Джугашвили; в Херсоне по этой книге учился русскому языку курчавый, говорливый гимназист Лева Бронштейн. На Волыни эту книгу закупал для Духовной семинарии архиепископ Антоний Храповицкий, в кадетских корпусах по ней учились будущие офицеры Белой Армии; в Тифлисе эта книга, подобно Юпитеру, превратилась в золотой дождь.
Евфросиния Федоровна стала жить так, как ее предки жили в лучшие времена рода Мосаловых. На главной улице в Тифлисе был выстроен великолепный особняк, про который острили: вот дом, выстроенный за счет русских писателей. Все четыре дочери Виктора Антоновича вышли замуж богатыми невестами. Но он ни о чем не знал: он умер 55-и лет от роду, в 1893 году, когда было лишь приступлено к 1-му изданию его книги.
Он до конца жизни пользовался огромным уважением со стороны как начальства, так и общества. Но никогда не отступал от идеалов своей юности. Как-то раз 1-ую Тифлисскую гимназию посетил наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков в сопровождении попечителя учебного округа. В тот же вечер квартиру директора посетил курьер (телефонов тогда на Кавказе еще не было). «Попечитель просить Ваше Превосходительство ровно в 11 часов быть у него». Пришел. Попечитель принял деда, по обыкновению, любезно. Рассыпался в комплиментах: наместник очень доволен — ему все очень понравилось. Дед слушает и думает: «Что-то не то: не для этого же он меня вызвал». Но вот аудиенция окончена: Виктор Антонович встает. Попечитель (смущенно, опустив глаза): «Виктор Антонович! У Вас там висят портреты Белинского, Некрасова и Чернышевского с Добролюбовым.
Наместник Вас просит портрет Чернышевского снять. Неудобно: все-таки государственный преступник». (Интересно, что сказали бы сейчас директору советской школы-десятилетки, если бы он вздумал повесить в школе портрет, допустим, Солженицына.)
Дом на Великокняжеской в Тифлисе был построен через несколько лет после смерти деда. Припомнили мне этот домик через 60 с лишним лет в журнале «Наука и религия». Из этого журнала я узнал, что «религия для меня лишь орудие мести за бабушкин домик». В своем ответе я сделал невинное лицо и спросил: «Что Вы? Какой домик: мой дед был приказчиком». При этом я умолчал о многом: и о том, что приказчик был много богаче тех, кто его у себя оформлял, ну и, конечно, о бабушкином домике. А «домик»-то действительно был, и не домик, а дом — с швейцарами, с лакеями, с горничными. И одна из первых фраз, которые я помню: «Большевики украли у баби домик». Но, между нами говоря, я думаю, что, если бы «домика» и не было, моя религиозность не была бы меньшей…
Из четырех дочек самая балованная была последняя, Надежда, — моя мать. Она училась в Тифлисском Институте благородных девиц имени Императора Александра I, который окончила с золотой медалью. Это был период наивысшего расцвета семьи Мартыновских. В последнем классе бабушка захотела, чтоб Надя жила дома. Разрешили из внимания к заслугам покойного отца, но с условием, чтоб на улицу она выходила лишь в сопровождении лакея. Словом, аристократизм был в полном ходу. Подводила лишь наружность. Надежда Викторовна имела широкое, простое русское лицо и скорее напоминала деревенскую поповну, чем благородную институтку. С детства (с 6 лет) она мечтала быть актрисой и разыгрывала спектакли в гостиной, разговаривая с воображаемыми персонажами. В более старшем возрасте участвовала в любительских спектаклях.
18-и лет, по окончании Института, поехала в Баку, к старшей замужней сестре, и здесь увидела мирового судью из евреев — писаного красавца. И влюбилась безумно, до одури — как могла влюбляться только одна она. Я помню в детстве 3 толстые тетради, обернутые в черные сафьяновые переплеты, — дневники матери, которые она вела в 1912–14 годах. Все эти тетради наполнены отцом. Такую влюбленность я видел в жизни еще только один раз: когда мать через много лет влюбилась в другого… Но это было только через 17 лет.
Отец, конечно, сразу заметил влюбленную девушку. И задумался. Ему уже было тогда 32 года, и он все еще не был женат. Когда-то в Киеве он чуть-чуть не стал миллионером: был женихом Насти Дыбенко (дочери известного киевского купца), но ничего лучшего не нашел, как в самый неподходящий момент поссориться со своей будущей тещей. Произошел грандиозный скандал, в результате которого отец хлопнул дверью и сказал, что ноги его не будет в этом доме. И из-за чего же все это? Всего лишь — из-за веера. Из-за того, что миллионерша сделала замечание Насте — зачем она перебирает веер, а отец находился в этот день в дурном настроении.
А теперь пора было жениться. Девушка хорошая и из порядочной семьи. Но, с другой стороны, особой влюбленности отец не чувствовал. Раздумывал 2 года. Наконец, 14 мая 1914 года, в Баку, в Морском соборе, происходило венчание: Надежда Викторовна стала женой Эммануила Ильича Левитина, а еще через год, 8 сентября 1915 года (по старому стилю) у Левитиных родился сын Анатолий, пишущий эти строки.
Я рассказал о многих людях, из которых сейчас никого уже не осталось в живых. Для чего и зачем?
Уже неоднократно указывали, что нельзя судить об истории по великим людям. Не они, а простецы, вступающие друг с другом в бесчисленные сцепления, определяют жизнь. Все, о чем здесь говорилось, и есть жизнь — жизнь Россия на стыке двух веков, накануне великих потрясений, перевернувших Россию и угрожающих сейчас перевернуть мир.
Когда мои родители после свадьбы совершили свадебное путешествие в Финляндию (на Иматру) и остановились в самой фешенебельной гостинице, ночью поднялся дикий скандал — молодожены заспорили о Государственной Думе. Отец стоял за монархический принцип, мать, либералка, была горой за Думу.
Так и сейчас в бесчисленных русских семействах миллионы людей рождаются, влюбляются, умирают и, между прочим, занимаются мировыми вопросами. И над всеми ними стоит с занесенным мечом неумолимая историческая судьба. А они, перед этим нависшим ударом, стоят беззащитные и жалкие, не зная и не понимая этого, как не знали и не понимали мои родители того, что их ждет, вступая в брак в мае 1914 года.
Утро туманное, утро седое…
Итак, я родился 8 (по новому стилю 21) сентября 1915 года в городе Баку, в доме своих родителей, на Телефонной улице (ныне улица 28-го апреля).
17 (30) сентября, в день именин моей матери, должны были состояться крестины. Крестили меня дома; крестить должен был священник, который у отца на суде приводил свидетелей к присяге. Приходом же его была тюремная церковь. Таким образом, метрическая запись о моем крещении находится в книге тюремной церкви города Баку. Суеверный человек в этом увидел бы плохое предзнаменование и прибавил бы, что предзнаменование сбылось.
Крестины мои ознаменовались очередным скандалом. Сразу после моего появления на свет было решено, что я буду носить имя «Виктор», в честь деда. Леонида Михайловна, мать отца, написала письмо, что она хотела бы, чтоб новорожденный носил имя «Илья», но что она полностью уступает желанию матери. На крестины прибыла из Тифлиса бабушка Евфросиния Федоровна (моя крестная мать); крестным отцом должен был быть Клементьев. В самый последний момент, когда в гостиной уже стояла купель, а священник был в епитрахили, отец вдруг заявил, что он не хочет, чтоб его сын носил имя «Виктор». «Почему я каждый раз, когда вижу сына, должен вспоминать покойника, которого я не знал?» Тут же начался скандал. Бабушка заявила, что она немедленно уедет и крестить не будет. Отец упорно стоял на своем. Мать раздраженно говорила: «Делайте, как хотите!» Положение спас Клементьев. Он нашел приемлемый компромисс. Он предложил имя «Анатолий», в честь известного родственника-архиерея, память которого бабушка глубоко чтила. Отец, хотя это тоже было имя покойника, которого он не знал, согласился. Имя «Анатолий» ему понравилось. Таким образом, я был назван в святом крещении Анатолием в память своего знаменитого предка и в честь преподобного Анатолия Киево-Печерского, который прославляется церковью 3 (16) июля и мощи которого почивают в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры.
Тотчас после крещения бабушка обратилась к моим родителям со сногсшибательным предложением: отдать новорожденного ей на воспитание, так как все дочери вышли замуж, а она тоскует одна в своем огромном доме. Отец согласился: как все упрямые и экспансивные люди, он был упрям временами и в то же время легко уступал, когда на него влияли. А к этому времени он находился полностью под влиянием матери, которую после брака полюбил нежнейшею любовью. Мать же была за то, чтоб ребенка отдать бабушке. Проводив тещу с сыном в Тифлис, отец тут же об этом пожалел; вернувшись домой, плакал. Расчувствовалась и мать, но было уже поздно.
Я поселился с бабушкой в ее доме. Бабушка и выкормила меня рожком. Родители часто приезжали в Тифлис. Во время одного из таких приездов отец сводил меня в фотографию, оставив на память мне фотокарточку, которая лежит у меня сейчас на столе.
Между тем в это время шла кровопролитная война, но в тылу она мало была заметна: ни один товар не подорожал ни на копейку, а на Кавказе мобилизация проходила лишь частично. За все расплачивался по обыкновению русский мужик. Но газеты выходили с белыми пятнами — «цензура»; однако и до Баку долетали зловещие слухи о Распутине. Министерская чехарда происходила у всех на глазах: какие-то никому не известные люди типа Штюрмера выплывали на поверхность. На фронте поражения следовали за поражениями. Это заставляло задумываться даже такого рьяного монархиста, как мой отец. Он все больше сближался с кадетом Клементьевым. Все более внимательно прислушивался к словам жены, которая тосковала, томилась, говорила о наступающей грозе…
Гроза действительно разразилась в феврале 1917 года.
В Баку появились красные банты, опустел губернаторский дом. Кудрявцев (председатель Окружного Суда) должен был созвать митинг. Перед этим он говорил отцу: «У меня подушка нагрелась под головой. Я воспитан на 12 томах законов Российской Империи. Укажите мне здесь, что председатель Окружного Суда обязан созывать какие-то митинги».
Митинг все-таки собрать пришлось. Правда, проводил его Кудрявцев очень своеобразно. Он произнес следующую речь:
«Господа! Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович изволил отречься от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Его Императорское Величество Государь Император Михаил Александрович отрекся в пользу Учредительного Собрания». В это время с шумом ворвались адвокаты: «Какой же у вас революционный митинг, если вы сидите под царскими портретами!» Тут же начали снимать царские портреты. Кудрявцев ушел. Ушел и отец… У себя, однако, в мировом суде, он не позволял снимать портреты: «Да это моя личная комната. Какое вам дело?» Портреты, конечно, все-таки сняли, но на отца начали коситься. Тем более, что благодаря своему характеру он умудрился восстановить против себя бесчисленное количество людей, хотя никому никакого особого зла не сделал. Адвокаты его ненавидели за резко пренебрежительный тон. Журналисты за то, что он бесцеремонно выгонял их, когда они с целью судебного репортажа заходили в мировой суд. Бакинские нефтяники — за его абсолютную неподкупность. Комиссар Временного Правительства (бывший адвокат) — за то, что он перешел ему дорогу у женщин. Его 12 помощников тоже были не в восторге от его суровой требовательности.
Кончилось тем, что Клементьев пришел к отцу и сказал: «Уезжайте! Решено Вас снять с должности как активного контрреволюционера». «Как снять? Судья несменяем!» «Там же сидят теперь не старые сенаторы. К тому же Вас вышлют из Баку. Уезжайте!» «Я и сам чувствую, что уезжать надо. Мне с ними не договориться». На другой день отец уехал в Москву.
Тут начинается новый период в жизни отца — период странствий. Когда пришла советская власть, отец долго не хотел идти на советскую работу. Но голод — не тетка. К тому же — жена, избалованная, беспомощная, не умеющая даже поставить самовар: стала ставить самовар и влила воду в трубу. Что делать? Надо ее кормить. Волей неволей пошел на работу. Выбрал самое беспартийное учреждение — ВСНХ, Высший Совет Народного Хозяйства. Инспектором. Ездить и организовывать хозяйство. Начались его поездки по Руси.
Много было всего. В частности, дважды отец был накануне смерти. И оба раза спасла его мать, что давало ей повод во время семейных ссор кричать: «Если ты живешь, так только благодаря мне!»
Первый раз это было в Саратове. Поехал туда отец на ревизию, конечно, с женой, с которой он не разлучался ни на одну минуту. И остановились они у «тети Жени». У той самой Евгении Федоровны, которая так горячо возражала против выхода замуж старшей сестры за поповича. Сама она вышла замуж за Карабашева — адъютанта Великого Князя Михаила Александровича. Адъютант сделал блестящую карьеру и заканчивал ее в чине генерал-лейтенанта, командующего Саратовским военным округом, когда разразилась революция. Теперь Карабашевы вместе с дочерью Ирой жили в трех комнатах своей бывшей квартиры, а остальную половину занимали латыши-чекисты. Остановившись у Карабашевых, отец не нашел ничего лучшего, как затеять тут же ссору с одним из латышей-чекистов.
«Ну как такой дурак мог быть судьей?» — говорил по этому поводу Карабашев. А отец был совсем не дурак (во всяком случае, намного умнее Карабашева), но вот была в нем какая-то своеобразная удаль. «Плевать мне на все и на всех». Через несколько дней пришли отца арестовывать. Мать бросилась к нему на шею и заявила: «Папочка! Я пойду за тобой». «Что ты, что ты, Надя?» «Нет, я пойду!» И пошла. По дороге отцу удалось ее уговорить вернуться домой, но тут чекисты ее не пустили. «Нет уж, теперь пойдемте!» И привели их в страшную саратовскую чрезвычайку. Посадили его вместе с офицерами. Каждую ночь скрежетали запоры и кого-то уводили на расстрел.
Три месяца продолжалось это заключение, и каждую ночь отец ожидал расстрела. Эти страшные три месяца оставили неизгладимый след в душе отца: ненавидя большевиков лютой ненавистью, он никогда ни с кем, кроме матери, жены, сына и еще 2–3 приятелей, не говорил о политике. Не миновать бы и отцу той нее участи, если бы не мать. Мать скоро выпустили. Она побежала к управляющему ВСНХ саратовской области, непосредственному начальнику отца. «Что Вы, что Вы, — с ужасом сказал он, — это страшный человек. Он шпион». Действительно, латыши подали на отца донос, что он «шпион Скоропадского».
Между тем, мать набрела в местной газете на речь какого-то местного «вождя», председателя губкома. К сожалению, позабыл его фамилию. Это был партийный интеллигент из старых революционеров. Подбегает она к губкому. Стоит у губкома вереница дам, все жены арестованных. Ждут высочайшего выхода. Вот он вышел. Они к нему. «Товарищ, товарищ!» Не обращая на них никакого внимания, он — к извозчику (автомобилей в провинции не было). Важно садится в правительственный фаэтон.
И вдруг мать точно осенило. Прыг к нему в фаэтон, на свободное место. Дамы онемели от изумления. А начальник, улыбаясь, сказал кучеру: «Поехали!» «Ну, в чем дело, мадам?» — вежливо обратился он к матери. «Товарищ, я читала Вашу речь в газете. Я уверена, что Вы не дадите расстрелять совершенно невинного человека». «Конечно, конечно», — сказал начальник. Тут мать рассказала ему всю историю отца. Вздорность доноса была слишком очевидна. Единственное, что было против отца, — это его звание царского мирового судьи. На этот счет начальник успокоил Надежду Викторовну: «Конечно, конечно, не все же они были такие реакционеры». Рассказывая эту историю, мать никогда не забывала не без юмора прибавить: «Я, конечно, не сказала, что этот был именно такой!»
Так доехали они до какого-то клуба, где «товарищу» надо было выступать. На прощание он сказал матери: «Ну хорошо, проверю: если это все так, как Вы говорите, Ваш муж будет выпущен». На другой день отца выпустили. Пришел он к Карабашевым. Матери нет дома. «Где она?» «В церкви». Отец пошел в церковь. Здесь у иконы Божией Матери читали акафист. Среди молящихся стояла мать. «Надя!» — громко сказал отец. Она увидела его и тут же бросилась ему на шею. Священник укоризненно обернулся, богомолки заворчали. Из оклада смотрела печально и нежно Божия Матерь.
Второй раз матери пришлось спасать отца уже от белых. Это было в Тамбове. Поехал отец в командировку опять вместе с матерью. И попали они в рейд Мамонтова. С утра отец пошел смотреть город, занятый белыми, а мать осталась в гостинице. Через некоторое время раздался стук. В комнату ворвалось несколько офицеров, полупьяных (сразу видно — из фельдфебелей). Они начали грубо требовать у матери каких-то вещей. Но не на такую напали. С барским высокомерием (его матери было всегда не занимать стать) она приказала им удалиться и позвать начальника. Сразу сбавив тон, офицеры удалились, а через некоторое время явился их начальник, гвардейский ротмистр из Петербурга. Мать на хорошем французском языке объяснила ему, кто она такая. Стали находить общих знакомых. Гвардеец поцеловал у матери ручку и приказал никому к ней не входить.
Не успел он уйти, мать слышит взволнованный голос отца. Оказывается, его задержали при входе в гостиницу. Кожаная куртка, кожаные брюки, заправленные в сапоги, в сочетании с еврейской наружностью навели охрану на определенные размышления. «Кто такой?» Отец предъявил документ. «Инструктор ВСНХ». «А, комиссар? На фонарь». Это была весьма реальная угроза. Пройдя от главной площади, отец видел длинную улицу, на которой на каждом фонаре висело по человеку. Хорошо, что мать вовремя услышала голос отца. Она выбежала в вестибюль с отчаянным криком: «Это же мой муж — мировой судья!» На крик вышли офицеры. Отец был спасен.
В то время, когда мои родители странствовали таким образом по России, с их сыном тоже происходили знаменательные метаморфозы. Лишившись после Октябрьской революции дома и всех капиталов, хранящихся в банке, бабушка переехала вместе с внуком в Баку, к дочери Татьяне Викторовне. Не раз она у нее гостила. Только теперь она приехала не в качестве богатой, одарившей зятя приданым, тещи, которая оказывает величайшую честь своим посещением, а в качестве бесприютной скиталицы, без всяких средств к жизни, с малолетним внуком на руках. Кавказ был от остальной России отрезан, никакой связи не было, и никто не знал, где мои родители и живы ли они. Клементьев — джентльмен — принял нас с отменной учтивостью. В это время в Баку было муссаватистское правительство, и он в качестве известного либерального деятеля продолжал играть роль, представляя интересы русского населения.
Мы поселились на Торговой улице, в доме Тагиева. Здесь начинаются мои первые воспоминания. Строй жизни оставался прежний: огромная квартира, прислуга; у меня была даже бонна. Помню свою комнату, оклеенную красными обоями, большую галерею, которая имеется во всех бакинских квартирах. Помню комнату бабушки и кухню.
И с первых же дней вплелась в жизнь политика. Одно из первых воспоминаний — англичане в Баку. Помню их на Приморском бульваре, около Каспия, — высокие, рослые рыжие парни в коротких брюках и носках, с голыми коленями. Помню и шотландцев в клетчатых юбочках. Вероятно, ребенка поразила необычная внешность — оттого запомнил. И наконец, помню страшную ночь — наступление красных на Баку. Помню бомбардировку, от которой дрожали все окна. Мне тогда было четыре года.
Когда красные заняли город — сразу все перевернулось: в нашу квартиру въехала рабочая семья, поселилась в моей комнате, я перешел к бабушке. С въехавшими жильцами были вежливы: называли их то соседями, то квартирантами. Между собой говорили: «Какие они грязные». После этого я решил, что пора мне выступить на общественную арену. Став в галерее, в позе оратора, в тот момент, когда дверь в «красную комнату» была открыта и вся семья сидела за столом, я воскликнул с необыкновенной экспрессией: «Тьфу на вас! Какие вы грязные!» В ответ послышался возмущенный ропот всей семьи, причем все время слышалось слово «буржуи». Я впервые тогда услышал это слово. Вышла бабушка: «Это же ребенок!» В ответ послышалось замечание: «Ребенок сам никогда не будет говорить, если не услышит!» Когда сказали Клементьеву, он покачал головой: «Да, сынок своего папаши». Отец имел среди родных и знакомых прочную репутацию «короля бестактности». Таким образом, первое мое выступление на общественной арене было отнюдь не демократическим.
Тем не менее уже в то время я окунулся в демократию: моим лучшим другом была кухарка Ариша. С ней мы гуляли. И самое захватывающее впечатление — посещение казармы, где жил солдат Вася. Мы пришли туда днем. Никого, кроме Васи, в казарме не было. На каменном полу была расстелена постель. Здесь спал солдат Вася. То, что он спит на полу, мне показалось захватывающе интересным. Еще было интереснее, когда Вася меня взял к себе на плечи и бегал со мной по казарме. Но потом я очутился на лестнице: ни Ариши, ни Васи — никого. Стою и смотрю в окно. В окне двор. Одному немного жутко, но все же интересно. Потом выходит Ариша, раскрасневшаяся, улыбающаяся, за ней солдат Вася. Он нас провожает до дверей. По дороге Ариша мне говорит со смущенным видом: «Не говори бабушке, что были в гостях у солдата Васи». Но разве утерпишь. Первым делом к бабушке, как мы были в казарме, у солдата Васи, который спит на полу, и как это интересно. Бабушка на кухню: «Куда это Вы водили ребенка?» Ариша в слезах. Опять все ссорятся. А я в полном недоумении: почему и зачем, когда так все хорошо и интересно.
И первые воспоминания о церкви. Когда мне было 5 лет, накануне моего дня рождения, следовательно, 20 сентября 1920 года, повела меня бабушка в церковь. Был канун Рождества Богородицы, служилась всенощная. Бабушка повела меня на клирос, в открытую южную дверь виден был алтарь, хорошо помню запрестольный крест. Это был Русский собор, в центре Баку, от которого теперь не осталось следа. Великолепный собор. Помню его как сейчас. Его золотые маковки, кресты, прикованные золочеными цепями к куполу. (В Баку очень сильные ветры.) Церковь меня уже тогда поразила, захватила.
Другое посещение церкви было раньше, в страстную субботу. Мы с бабушкой пошли святить куличи. Это была церковь Технологического Училища. В храме почти не было икон, над свечным ящиком — огромный портрет в золоченой раме. Бабушка сказала: «Это основатель училища». Я помню, как вышел священник из алтаря святить куличи. За ним шли два мальчика в стихарях. Я спросил бабушку: «Кто это?» Она ответила: «Это мальчики, которые помогают священнику». У ребенка неожиданная реакция: «А что если они ему не будут помогать?» «Тогда священник обидится».
Помню появление из Тифлиса тети Нины с моим двоюродным братом Сережей. Помню момент встречи в передней, когда тетя в пальто целовалась с матерью и с сестрой, а Сережа (на год меня старше) стоял, улыбаясь, с корзиночкой винограда в руке.
Я, конечно, не знал, что этот приезд означает решительный поворот в моей судьбе.
Когда восстановлена была связь с Россией, выяснилось, что мои родители живы, здоровы и находятся в Петрограде. Адрес их, однако, был неизвестен. Да если бы и был известен, от этого было бы нисколько не легче: почта не работала, письма не доходили. Между тем тетя Нина также узнала, что муж ее (инженер-путеец) находится в Петрограде и живет в их старой дореволюционной петербургской квартире.
Прошло три месяца, и в ноябре 1920 года я вместе с тетей Ниной и Сережей отправился в Питер. Между тем в Баку обстановка была также напряженной. В городе свирепствовал тиф, он косил людей, и много наших знакомых умерло от тифа. Мать моего товарища Жени Соколова, веселая, красивая женщина, теперь приходила одетая в траурное платье. И вместе с бабушкой они о чем-то разговаривали и плакали. Женя не утратил своей веселости; но однажды во время игры в прятки, когда мы с ним спрятались в чулане, он мне сказал: «А моего папу расстреляли». Его отец, бывший прокурор города Баку, действительно был расстрелян новой властью. Как-то так случилось, что жена его пришла в тюрьму с передачей, тюремные сторожа ее пропустили, и она видела, как мужа вели на расстрел. И он ее заметил и загадочно показал себе на голову. Долго рассуждали о том, что означал этот жест: желал ли он дать понять, что разум у него под впечатлением всего пережитого помутился, или то, что он сложит голову в этой старой тюрьме, куда он столько раз приезжал в качестве прокурора… Бог весть! Никто никогда этого не узнает.
В конце ноября мы двинулись в путь. Чего-чего только не было с нами. Под Ростовом наш поезд обстреливали, и мы ночью лежали на полу. В Ростове-на-Дону жили у каких-то греков, знакомых тетки. В Москве ночевали на вокзале вповалку. И помню, как нам передавали огромный медный чайник, говорили: «Сюда, сюда, здесь дети». И запомнил я заботливые, нежные руки тетки.
Нина Викторовна Мартыновская (тетя Нина) — единственная из сестер получила высшее образование. Она поехала по окончании гимназии в Женеву. Здесь она окончила медицинский факультет. Вернувшись на Кавказ, она, однако, врачом не работала, а сразу вышла замуж за армянина (Клементьев острил по этому поводу: Мартыновские — это не семья, а какая-то интернационалка) — инженера и уехала с ним в Петербург. Благодаря ее приданому (каждая из сестер имела 100 тысяч в банке и 40 тысяч годового дохода), жить было можно в Питере очень неплохо. Война почему-то тоже разлучила ее с мужем, и теперь она возвращалась в Петроград. В пути я привык к тете Нине и ни за что не хотел с ней расставаться.
Мы прибыли в Петроград в последних числах декабря 1920 года. Стоял страшный мороз, все улицы были завалены сугробами. Холодный питерский ветер пронизывал нас, одетых по-кавказски в легкие пальтишки. Транспорта не было, и мы отправились пешком, через весь город, к тетке, на Петроградскую сторону, в конец Большого проспекта. Сережа ныл; я не плакал, а шагал бодро и весело: видимо, уже тогда во мне сказалась любовь ко всяким приключениям и авантюрам. Наконец, пришли в квартиру. Послали к Романовым (старшая сестра, Валентина Викторовна, была замужем за полковником Романовым), попросили известить моих родителей. А мы с Сережей в это время беззаботно играли в жмурки…
Отец, между тем, сделал блестящую карьеру: выполнив несколько личных поручений Рыкова (тогдашнего председателя ВСНХ), он стал близким к нему человеком. Интересно, что отец, бывая у Рыкова, не делал тайны из того, что он отнюдь не является поклонником советской власти. Однако Алексей Иванович был либералом: «К чему Вы это мне говорите? Как будто это и так не ясно. Но какое это имеет значение? Нам нужны энергичные люди: надо поднимать страну!» Энергии у отца было действительно не занимать стать. Он был прирожденный организатор: сам работал (горы сворачивал) и умел заставить работать всех вокруг себя. Крикливый, вспыльчивый, подвижный, высокого роста, красивый мужчина, он всем импонировал, всюду пробивал себе дорогу, всех себе подчинял Осенью 1920 года он получил лестное назначение — уполномоченным ВСНХ Петроградского округа. Прибыв в Питер, Эммануил Ильич тотчас обосновался на Васильевском острове, на Тучковой набережной, рядом с Советом Народного Хозяйства. Сюда он вызвал и свою мать, которую волны гражданской войны отнесли в город Белебей Уфимской губернии. В общем отец чувствовал себя неплохо:
«Что делать, — говорил он, — не могу же я идти служить Императору, если, к сожалению, его нет».
Что касается моей матери, Надежды Викторовны, то она была на верху блаженства: наконец ей удалось осуществить мечту своей жизни — она стала актрисой. Поступила она в Передвижной Общедоступный Театр Гайдебурова и Скарской. Этот театр представлял собою столь оригинальное (почти уникальное) явление в истории русской культуры, что я нахожу нужным рассказать о нем подробнее.
Сейчас я думаю о том, как в нескольких словах определить этот театр. Пожалуй, наиболее точное определение будет «романтически-богоискательский».
Он возник в 1906 году, в эпоху светлых надежд, великих начинаний, возникавшего религиозного возрождения. У его колыбели стояли люди с очень необычной судьбой.
Все, кто интересовался биографией Веры Федоровны Комиссаржевской, помнят тот печальный эпизод в жизни великой артистки, который и побудил ее пойти на сцену. Однажды она застала свою сестру-девушку в объятиях мужа, графа Муравьева. Результатом был разрыв ее с мужем, официальный развод, причем вину она брала на себя, чтобы дать возможность сестре «покрыть грех» и выйти замуж, — и появление ее в театре. Все биографы Комиссаржевской всегда ищут в этом эпизоде истоков ее творчества, в центре которого находился образ оскорбленной женщины.
Сестрой Веры Федоровны, сыгравшей такую роль в ее жизни, была Надежда Федоровна Скарская — основательница и руководительница Передвижного Театра. Надежда Федоровна — писаная красавица (такой она оставалась даже в глубокой старости) — вскоре после злополучного эпизода вышла замуж за графа Муравьева. Но не принесло ей счастье это замужество. Муравьев оказался садистом, самодуром, деспотом. Ночью, вместе с годовалым сыном, она бежала из его имения в Петербург, где ее сестра в это время была уже знаменитой актрисой. К сестре она, однако, обращаться не стала, а остановилась у знакомых и написала матери. Вскоре был оформлен развод с графом: это не составило особых трудностей, т. к. прелюбодеяние мужа не оставляло сомнений. Он окружил себя в присутствии жены гаремом из разгульных крестьянок и французских шансонеток и нисколько этого не скрывал.
Вскоре Надежда Федоровна вышла замуж за студента Петербургского Университета Павла Павловича Гайдебурова. Гайдебуров принадлежал к верхам Петербургской интеллигенции: его отец, Павел Александрович Гайдебуров, был в течение 20 лет редактором популярнейшей петербургской газеты «Неделя» и имел широкие связи в литературных кругах. Павел Павлович с юности имел пристрастие к театру. Женившись на Надежде Федоровне, он часто выступал вместе со своей женой в любительских спектаклях. Но супруги мечтали о большем. Они мечтали организовать театр, состоящий из интеллигентных актеров, энтузиастов, который должен был быть храмом — никаких аплодисментов, никаких вызовов актеров, никаких выходов под занавес. Театр должен был ездить по всей стране, заглядывать в самые глухие уголки и всюду нести чистое, высокое искусство.
Гайдебуров был вдохновенным мечтателем, он умел зажигать людей, и тонким, вдумчивым режиссером. Что касается Надежды Федоровны, то она была властной, волевой натурой, блестящей актрисой, необыкновенно честолюбивой и, возможно, руководствовалась подсознательным соперничеством со своей знаменитой сестрой.
Все эти мечты, вероятно, так бы и остались мечтами, если бы Гайдебурову не удалось заинтересовать своим проектом известную меценатку графиню Панину. Она охотно ссудила супругов деньгами, приискала им помещение, помогла сформировать труппу. В 1906 году, в маленьком зале, на Бассейной улице, открылся новый театр.
Первый спектакль — «Свыше нашей силы». Этот спектакль сразу привлек всеобщее внимание, возбудил бурную полемику и не сходил со сцены в течение 20 лет, до 1926 года. Я видел его ребенком три раза и до сих пор помню его до мельчайших подробностей. Пьеса принадлежит известному тогда норвежскому драматургу Бьернсону. Пьесы я не читал и не знаю, как это у Бьернсона, а в Передвижном театре это было так.
Раздвигается занавес, зеленый, с эмблемой Передвижного Театра — таинственной птицей Гриф, и на сцене — дом норвежского сельского священника, пастора Санга. В глубоком кресле — стареющая женщина со следами былой красоты, фру Санг — жена пастора, Надежда Федоровна Скарская. Ее муж — Павел Павлович Гайдебуров — играл пастора, почти без грима. Собственно говоря, играл он самого себя. Близорукий, растерянный, преображающийся под влиянием вдохновения, это был мечтатель, человек не от мира сего. Жена больна: у нее парализованы ноги. Весь спектакль она в кресле — верх трудности для актрисы; играть она может только мимикой и скупым жестом (движением рук).
Пастор весь поглощен одной мыслью. Мыслью о том, возможно ли чудо. Это человек, которого съела идея. И прежде всего его угнетает сознание: его жена страдает — и он, служитель Христа, ничем не может ей помочь. Эти два образа в центре спектакля, но все это обрамлено рамой быта: у пастора двое детей, прислуга, прихожане, норвежские крестьяне.
Второй акт — престольный праздник в деревне. Приезжает епископ и 12 окрестных пасторов. Приготовление к завтраку. Говорят о том, что пастор Санг произнес в церкви проповедь — проповедь о чуде. Необыкновенную проповедь. Он утверждает, что чудеса возможны и теперь. Но вот входит епископ. Хозяйка в кресле его приветствует. Завтрак. За завтраком начинается разговор о проповеди Санга, о чуде. Епископ и старшие пасторы отделываются корректными, уклончивыми замечаниями. Но вот встает молодой священник. Он произносит пламенную речь. «Все дело в том, что христианство всегда боялось подняться во весь рост, потому что тогда все двери сорвались бы с петель. С моей точки зрения, христианство есть непрерывное, не прекращающееся чудо, или его нет вовсе…» Кончил. Неловкое молчание. Оно прерывается сухим замечанием епископа: «Вы, верно, нездоровы сегодня, пастор». Гости прощаются и разъезжаются. Супруги остаются вдвоем. Пастор Санг говорит жене проникновенно и нежно, что завтра с утра он пойдет в церковь и принесет ей оттуда чудо — исцеление. Занавес.
И, наконец, третий акт. Пастор в церкви. Недоумение домашних, напряженное ожидание жены. Церковь в горах. Вдруг вбегают с вестью: снежная лавина с горы движется на церковь. Пастор погиб: он один в церкви. И никто не решится пойти предупредить его. Через минуту лавина обрушится на церковь и погребет под собой деревянное здание и молящегося там в одиночестве пастора. Ужас на сцене, непередаваемый ужас жены, сидящей в креслах. Волна ужаса передается в зрительный зал; у всех взволнованные лица. И вдруг вздох облегчения. В окно увидели, что лавина неожиданно изменила направление, — пастор спасен. Вздох облегчения, радость на всех лицах. И опять ожидание, скупые реплики фру Санг. И вдруг известие: пастор вышел из церкви. Пастор направляется к дому. Дети бегут ему навстречу.
И финал. Входит пастор. Молча. Лицо преображенное, помолодевшее, радостное: он делает несколько шагов в направление жены. И протягивает к ней руку. И жена вдруг встает и идет к нему. В полном молчании они застывают в объятиях. Все стоят как громом пораженные. И вдруг радость сменяется смущением на лице пастора, и он говорит свою единственную в этом акте реплику: «Не может быть! Или… или…»
Но смущенное выражение на лицах супругов сменяется умиротворенным, они закрывают глаза и медленно, не выпуская друг друга из объятий, опускаются на пол. «Они умерли», — истошный крик дочери. Занавес медленно задвигается. Молча расходятся зрители, взволнованные, умиленные, недоумевающие. На стенах надписи: «Аплодисменты строго запрещены».
Спектакль, как я уже упоминал, возбудил бурные споры. Гайдебуров собрал все противоречивые отклики и издал их отдельным сборником. Так возникли «Записки Передвижного Театра», издававшиеся до 1923 года. Собственно говоря, все были согласны в том, что «Свыше нашей силы» — замечательный спектакль и исполнение ролей супругов Сангов Гайдебуровым и Скарской — шедевр актерской игры. Вера Федоровна Комиссаржевская посетила спектакль и затем пришла за кулисы, увидев сестру впервые после злополучного эпизода, со слезами заключила ее в свои объятия — чудо на сцене родило чудо в жизни: забвение тяжкой женской обиды.
Все споры вращались вокруг вопроса о том, произошло ли чудо. Если чудо произошло, то как объяснить смерть супругов Санг. Если чуда не было, то почему фру Санг поднялась с кресла и пошла к мужу. Материалисты давали плоские объяснения, говоря о гипнозе, нервном напряжении и т. д. Другой рецензент, признаваясь в своем атеизме, говорил о жажде веры, которая пробудилась в нем под влиянием спектакля. Наиболее интересна статья В. А. Свенцицкого, известного религиозного мыслителя, впоследствии священника. Статья озаглавлена «Чудо в театре». В. А. Свенцицкий стоит на той точке зрения, что чудо произошло. Смерть супругов он объясняет библейскими словами: «Лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». (Исх.33, 20). «Да и как могли бы после пережитого вернуться супруги Санг к жизни, к быту, к житейской прозе!» — восклицает он. Об актерах Передвижного Театра он говорит, как о рабах Божиих, которые служат Богу. О спектакле — как о мистерии. Именно так понимал спектакль и сам Гайдебуров, который был религиозным человеком.
Впоследствии Передвижной Театр поставил множество пьес: «Брандт» Ибсена, «Гамлет» Шекспира, «Вишневый сад» Чехова, «Антигону» Софокла, но ни разу ему не удалось возвыситься до таких вершин, каких он достиг в своем первом спектакле. «Свыше нашей силы» так и остался высшей точкой в его творчестве. Но так или иначе, этот спектакль сделал передвижников популярными среди петербургской интеллигенции. Близки к этому театру были А. А. Блок, Вячеслав Иванов, известный театрал князь Волконский, пьесу которого «Император-узник» (об Иване Антоновиче) ставил театр. Ставил он и «Балаганчик» Блока (уже после того, как спектакль провалился в театре Комиссаржевской).
Последним знаменательным явлением в жизни театра являлось празднование столетнего юбилея со дня рождения знаменитого петербургского актера Мартынова в 1915 году. К этому дню передвижники поставили «Женитьбу» Гоголя, причем сам Гайдебуров играл Подколесина, роль, первым прославленным исполнителем которой был Мартынов. Фигура Мартынова была избрана не случайно. Мартынов был актером, органически сочетавшим мастерство с вдохновением. Мартынов был актер-гуманист, певец маленького человека. Очень своеобразно он играл Подколесина. Подколесин для него был разновидностью Акакия Акакиевича. Его нерешительность — это, как сказали бы теперь, от комплекса неполноценности, от забитости, от отсутствия веры в себя.
Передвижной Театр хотел быть тоже защитником «маленьких» людей — униженных и оскорбленных. Он хотел оставаться театром вдохновения, верным заветам великих русских романтических актеров 19 века типа Мочалова. И здесь начинается спор передвижников со Станиславским. Гайдебуров называл «мхатовцев» «нашими двоюродными братьями». Как и они, он был против рутины, против штампов, против поверхностного каботенства. «Но у них, — говорил он, — все идет от рацио, от ума, у них все засушивается и черствеет; у нас все идет от „нутра“, от вдохновения, от сердца, от порыва». Станиславский муштровал актеров, учил их и был прежде всего педагогом. Гайдебуров вдохновлял актеров, зажигал их и потом предоставлял им полную свободу — он совершенно не был педагогом, и его ученики (сужу по своей матери) совершенно не владели навыками актерской игры.
Тем не менее опыт Гайдебурова должен быть учтен, когда наступит час возрождения русского театра. Во многом он оказался прав: ничто не принесло такого вреда русскому театру, как система Станиславского с ее педантизмом, поверхностным психологизмом, обожествлением ансамбля. Начав с борьбы против рутины, система Станиславского сама стала величайшей рутиной, и недаром она так нравилось Сталину. Этот человек, представлявший собою своеобразнейший гибрид Малюты Скуратова с бюрократом, помешанный на готовых рецептах, окончательных, безапелляционных истинах, уцепился за самое слабое, что было в системе Станиславского, — за ее педантизм, претензию выразить актерскую игру (самую иррациональную стихию, которая есть в жизни) в готовых, четко классифицированных категориях; как прав был Гайдебуров, когда восставал против этого[2].
П. П. Гайдебуров был уверен в том, что он говорит новое слово в театральном искусстве. В этом были уверены и его последователи. После революции в его театр хлынула молодежь. Для нее он организовал так называемую Палестру. В Палестре работали энтузиасты, так как ни одной копейки им не платили. Мальчики и девочки, приехавшие из провинции, днем чистили трамвайные пути, нанимались дворниками и рассыльными, чтобы во второй половине дня бежать в Палестру, слушать вдохновенные речи великого мечтателя.
В этот театр поступила и моя мать. Так как она перед этим уже год работала в Москве, в Показательном Театре, под руководством Степуна, ее взяли в театр, минуя Палестру, и сразу дали ей роль — роль Труды в пьесе «Зимний сон» какого-то датского драматурга. Она играла дочь лесничего. Приехал путник и пленил ее сердце. Тетка заметила, все рассказала отцу, путник уехал, Труда повесилась. Эту роль мать играла хорошо, с большим чувством и проникновенностью.
Потом начались актерские обиды — Гайдебуров и Скарская ролей не давали, обходили, затирали.
В 1925 году театр закрыли. Печальна была участь Павла Павловича. Он руководил самодеятельностью, ставил спектакли по клубам. Затем одно время был режиссером в Большом Драматическом Театре. Поставил там «Вишневый сад», сыграл Уриэля Акосту. Последний раз я видел его в 1940 году, в Институте театра и музыки на Исакиевской площади, где я был тогда аспирантом. Он делал доклад о «самодеятельности» (о рабочих театральных кружках). Внешность осталась та же: вышитая ермолка на лысой голове, лорнет. Но Боже, что такое он говорил: какая смесь подхалимства, затрепанных советских штампов, казенных формул. Его слушали только из вежливости, пряча зевоту в платки. Не верилось, что это тот самый человек, который вдохновлял, увлекал, перед которым преклонялись, которого боготворили.
Да, советский режим — великий гаситель, умеет он задувать огонь в людях.
И еще несколько слов о конце Гайдебурова и Скарской. Последние годы они провели в «Убежище артистов» или, как оно сейчас называется, в Доме ветеранов сцены. Это учреждение было в свое время основано Марией Гавриловной Савиной и сохранилось до наших дней. Бог дал обоим супругам долгую жизнь. Надежда Федоровна дожила до 92 лет и умерла в 1959 году. Похоронена она в Александро-Невской лавре, в Некрополе, рядом со своей сестрой, В. Ф. Комиссаржевской, в жизни которой она сыграла такую большую роль. Павел Павлович пережил ее на 2 года. Он умер тоже в 90 с лишним лет, завещав похоронить его рядом со своей женой и другом. Это завещание выполнено не было. Так как «Некрополь» — кладбище правительственное, то потребовалась санкция Козлова, знаменитого казнокрада, являвшегося тогда первым секретарем ленинградского обкома. Тот отказал. Бывший ученик Гайдебурова, известный актер Александр Александрович Брянцев, лично пошел к нему: просил, молил. Ничего не помогло. «Мы его не знаем», — был ответ самодовольного бюрократа[3].
Незадолго до смерти Гайдебурову и Скарской удалось выпустить воспоминания о их молодости. Кастрированные, обесцвеченные цензурой, они не представляют никакого интереса и никакой ценности. Пусть эта заметка напомнит о двух ярких людях и о главном деле их жизни.
В декабре 1920 года мать упивалась своей актерской деятельностью, а отец был целиком захвачен обоснованием в Петрограде. Можно себе представить, как они были приятно поражены, когда в одно прекрасное утро послышался стук в дверь, в комнату вошел Володя Романов (мой двоюродный брат, 14-летний парень) и сообщил им без всяких предисловий радостную новость: приехал Толя, идите за ним к «тете Нине». Родители онемели. «Что мы будем с ним делать?» — была первая мысль, мелькнувшая у них в головах. За три года скитаний и необычных приключений они попросту забыли, что где-то там у них есть сын. Но делать нечего. Пришлось идти на Петроградскую сторону.
В памяти всплывает картина. Мы с Сережей играем в его комнате, в так называемой «детской»; входят какие-то два незнакомых человека и бросаются целовать Сережу. Отчетливо помню свою мысль: «Вот и хорошо: они заберут Сережу, а я останусь здесь». (О том, что должны прийти родители, я знал и ждал этого со страхом.) Но тут вошла тетя Нина и, указав на меня, сказала: «Толя вот».
Вечер прошел благополучно: пришли Романовы, пришла тетя Женя (она тоже переехала, овдовев, вместе с дочерью Ирой в Питер). Я думал, что обо мне забудут. Детская память сохранила мельчайшие детали. Как сейчас помню бантик на шее мамы, помню, что угощали нас лепешками и говорили, что в них слишком много соды. И наконец, гости собрались уходить.
Наступил страшный момент: мне надо идти с родителями. Помню охватившее меня ощущение ужаса. Я стою в передней, лицом к стенке, горько плачу и говорю своим родителям: «Не хочу, не хочу вас, я к Нине хочу». Вокруг стоят, меня уговаривают. Наконец отцу все это надоело. Он надел нагольный тулуп, в котором тогда ходил, схватил меня грубым, мужским рывком на руки и, сказав «до свидания, как-нибудь сладим», вышел на лестницу. Я продолжал плакать. Отец дал мне крепкую затрещину и, взяв на руки, понес по снежной улице.
Идти было далеко, на Васильевский остров, километров пять. Помню ругающегося отца, длинную улицу; себя на руках отца. Пришли в холодную, нетопленную комнату. Я на диване, на руках у матери. Я плачу. Мать тоже плачет и явно не знает, что со мной делать (ни она, ни отец никогда детей вблизи не видели). В руках у меня пирог с капустой; дала мне его хозяйка квартиры Анна Григорьевна. Наконец составили два больших кресла. Уложили. На другой день пришла другая бабушка, Леонида Михайловна, жившая в том же доме, снимавшая комнату в другой квартире. Помню, как она вошла в желтом коротком пальто и спросила нарочито веселым тоном: «Кто это?» И я бодро ответил: «Это я!»
Так началась моя новая жизнь. Бабушка взяла меня под свою эгиду. Мыла, одевала, обувала, всем командовала. Отец достал по ордеру белое длинное меховое пальто. Увидев меня в нем, черного, смуглого, мать сказала: «Муха в молоке». Бабушка тут же начала заботиться и о моем просвещении. Первое место, куда она меня повела, был музей Л. Н. Толстого, который помещался тогда на Большом проспекте Василевского острова. Помню ее слова: «Помни, что первый раз ты услышал о Толстом от бабушки». Помню, с каким благоговением она показывала мне фаэтон, в котором ездил Лев Николаевич. Помню фотографию офицера с хмурым лицом (Толстой в молодости). И двух старых людей (мужа и жену), сидящих в благодушных позах у стола, уставленного фруктами. Взирая на эту картину, бабушка благоговейно произнесла: «Лев Николаевич и Софья Андреевна». Бабушка водила меня смотреть Казанский собор и тоже сказала: «Не забывай, что бабушка тебе впервые показала Казанский собор». К бабушке я быстро привык, полюбил ее и не ставил ее ни в грош.
К несчастью, отец тоже считал себя обязанным руководить моим воспитанием. Между тем, не было человека, менее способного воспитывать детей, чем отец. Одно из самых ужасных воспоминаний — как он учил меня грамоте. Учил он меня по азбуке, которую где-то достал. При первых же ошибках отец начинал терять терпение, закусывал губы (это всегда у него было признаком раздражения), через некоторое время сквозь стиснутые зубы начинала слышаться ругань (без нее отец вообще не в силах был обойтись). Еще момент — отец переходит на крик: «Идиот, болван, выродок!» Прибегает взволнованная бабушка и быстро уводит меня от разъяренного отца.
Мать была ласкова, но я ее почти не видел: днем она на репетиции, вечером на спектакле. Придет, приласкает — и тут же начинает рассказывать отцу про театральные дела. И он ей про свои служебные дела. Мать выслушивала с рассеянным видом и тут же изрекала свои решения. Надо сказать, что отец находился целиком под ее влиянием и слушал ее как ребенок.
Первое время отец меня не любил. И, будучи человеком на редкость искренним и простодушным, не умеющим ничего держать в себе, свою антипатию выражал вполне открыто, нимало не стесняясь. Потом вдруг воспылал ко мне нежностью необыкновенной и (со свойственной ему особенностью все доводить до крайности) буквально не спускал меня с колен, ласкал и целовал и баловал до сумасшествия. Однажды врач заявил, что у меня начинается туберкулез. Отец его тут же выгнал: «Вы ничего не понимаете, у моего сына не может быть туберкулеза!» Врач, уходя, сказал: «Вы отец, глупо влюбленный в своего ребенка». Надо сказать, что отец все-таки оказался прав: дожив до 60 лет, никаким туберкулезом я никогда не болел.
Впрочем, «влюбленность» отца была весьма относительной: пока не разозлится. А разозлится — опять начинаются словечки «идиот, болван, урод». А иногда звучали и весьма увесистые пощечины. И при этом отец еще любил спрашивать: «Любишь ты меня или нет?» Я отвечал «да», но только из вежливости. Помню, однако, на страстной неделе, когда красили яйца и ставили куличи, родители, спросив меня, «Любишь ли ты палу?» при этом присовокупили: «Сегодня страстная пятница, врать нельзя, грех». И я, побоявшись греха, сказал откровенно: «Нет».
Вскоре начался НЭП, и все изменилось как по мановению волшебной палочки. Всюду и везде магазины, пирожные, булочки, шоколад. Мы переехали в великолепную квартиру в том же доме, из шести высоких, огромных комнат (сейчас там 5 семей). У меня появилась большая комната из 20 метров — детская. В одной из комнат была канцелярия: там сидело 3 канцеляриста — подчиненные отца, которые говорили со мной подчеркнуто ласково, поэтому я любил ходить в канцеларию, пока нет отца. Отец, застав меня там, тотчас прогонял: «Пошел вон. Мы тут четверо дураков. Еще тебя, пятого, не хватало!»
Вечерами отца никогда не бывало: он или был в театре, или в других местах. О том, где еще бывает отец, я был прекрасно осведомлен уже в 6–7 лет. Отец был заботливым семьянином; трезвым, работящим человеком, никогда не пил и не курил. Но его страстная, порывистая натура проявлялась в другом. Во-первых, отец был страстным картежником. В то время крупная игра шла на Владимирской, в клубе. Отец играл азартно и почти всегда проигрывал: слишком зарывался, быстро терял самообладание и спускал все до копейки. Был случай, когда он поехал в Москву и проиграл буквально все, что у него было: пришлось продать карманные золотые часы, чтобы вернуться в Питер. Помню однажды вечером приходит отец ко мне в комнату и, поцеловав меня, говорит: «Толик, ты еще маленький и на тебе нет грехов: тебя Бог услышит. Скажи, идти мне сегодня играть или нет?» Я сказал: «Нет». «А завтра?» Мне стало жалко папу: уж больно ему хотелось идти играть, и я сказал: «Завтра иди». Пошел на другой день и проигрался. «Это не мой сын!» — таков был категорический приговор отца.
И еще одна страсть владела всю жизнь отцом — женщины. Все знали подруг отца; знала о них и мать (он сам ей о них рассказывал), но с обычным своим высокомерием молчала. Делать сцены, ревновать — это было не в ее характере.
Эпоха НЭПа — эпоха крайнего разделения. «Какой раскол в стране», — писал в это время Есенин. Раскол был и в нашей семье. Сразу после переезда на новую квартиру произошла ссора между матерью и бабушкой. После этого семья разделилась на две половины. Разделилась и квартира. Половина бабушки: ее комната и моя. Половина родительская: спальня и столовая. Бабушка никогда туда не входила: обед и чай ей подавали в ее комнату. Нейтральная комната — гостиная. Бабушка выходила к гостям, вела общий разговор, но никогда обе хозяйки друг к другу не обращались — подчеркнуто друг друга не замечали. Дело тут было не только в обычной ссоре невестки с свекровью. Трудно было себе представить столь разных людей, как мать и бабушка.
Мать культивировала аристократический стиль, была поклонницей хороших манер, такта, но внутренней культуры у нее не было: постоянно в разговорах с отцом называла бабушку «жидовка». Иногда, но время ссоры, и отцу кричала «жид». Помню, много лет спустя я как-то спросил у матери: «Как же ты, такая либералка, отцу во время ссоры кричала „жид“»? Мать ответила: «Разве в эти моменты об этом думают? Думают только об одном: как бы побольнее уязвить».
Первое время у матери сохранялись некоторые зачатки религиозности: она и меня научила некоторым молитвам и иногда заходила в Казанский собор, ставила свечку Казанской Божией Матери. Отец — по настроению. Молился каждый день. Иногда кощунствовал. Был страшно суеверен: встречая священника на улице (тогда они ходили в рясах), всегда плевался; произнеся в пылу раздражения какую-нибудь кощунственную фразу, тут же пугался — закрывал глаза и молил Бога о прощении. Сам над собой подтрунивал: «Конечно, я мещанин и трус; верю в Бога, как все мещане, на всякий случай. Но греха я все-таки боюсь, очень боюсь». Читал запоем. Классиков русских знал наизусть, любил Достоевского.
Я был религиозен с тех пор, как себя помню. Это тем более странно, что в общем я был паршивый мальчишка: озорной, ленивый, с зачатками подлости — бабушке грубил, потому что знал — за это ничего не будет. От отца перенял привычку ругаться — это мне казалось признаком мужественности (впрочем, смысла ругательств не понимал лет до 15). Я, однако, видел, что отец никогда не ругается при женщинах; я поэтому также никогда не ругался при девчонках; зато с мальчишками отводил душу. И несмотря на это — судорожная, порывистая религиозность: всему я предпочитал церковь. Я мог стоять длиннейшие богослужения — по два-три-четыре часа. Про церкви, про священников, про праздники я мог говорить дни и ночи. Более того, мои постоянные игры — в церковь. На материнской половине это воспринималось как юродство, дефективность, хотя развит я был не по летам. Помню шутливую реплику мамы (отцу): «Он мой сын, поэтому он умен, но он и твой сын, поэтому он сумасшедший». Отец приходил в ужас от моей религиозности. Ему казалось, что это признак психической неполноценности, быть может, безумия. Гораздо лучше меня понимала бабушка: она с интересом слушала мои бесконечные рассказы о церквах, о священниках. Любила, когда я, имитируя священников, говорил проповеди. Сначала со снисходительным видом, потом лицо ее начинало подозрительно подергиваться. Она говорила: «Хватит, дурак». Еще минута — и по лицу ее начинали струиться слезы. Так бывало в трогательных местах, когда я рассказывал о страданиях Христа. Особенно действовал на нее один текст, который я знал с семи лет наизусть, услышав его в страстной четверг: «Стояла при кресте Иисусове Матерь Его». Тут она сразу начинала плакать.
Бабушка была демократов и оставалась верна учению Льва Толстого. Воспитанность, такт она отвергала принципиально: «Это делает людей фальшивыми и двуличными. Это неискренность и неестественность». (Реплика мамаши отцу по этому поводу: «Она изуродовала тебя, изуродует и его»). В отношении режима дня бабушка также держалась толстовских правил: «К чему тут все эти обеды, завтраки, ужины. Есть надо тогда, когда хочется. Самая лучшая пища — черный хлеб с луком, с чесноком. Это едят простые люди и потому здоровы». (Реплика мамаши: «Ну, конечно, она думает, что если она может есть черный хлеб с луком, то она Толстой»). Буквально всякому, кто бы ни пришел — дворнику, дровосеку, любому она говорила: «Садитесь». Если отказывался, следовала реплика: «Пока Вы не сядете, я с Вами говорить не буду. Сама я стоять не могу. Извините, у меня больные ноги». (Реплика мамаши: «Ну, конечно, она уже сказала ему „Садиитеесь“», — передразнивая еврейский акцент).
Бабушка в какой-то мере принимала советский режим: он казался ей осуществлением идей Л. Н. Толстого — о всеобщем равенстве, об отмене всяких привилегий, хотя и не одобряла, конечно, никогда никаких зверств. Мне очень запомнилось 1 мая 1921 года. Бабушка повела меня на демонстрацию. Помню Зимний Дворец, весь облупленный, — оборванные, полуголодные люди стояли вокруг; какая-то девчонка вдруг сказала: «Говорят, из окна Николай II сейчас смотрел». Бабушка ответила: «Глупости!» Потом маршировали солдаты, одетые кто во что. Бабушку поразило, что у каждого полка перчатки одного цвета: серые, черные, коричневые. «Это уже начинается форма». Увидев красивый красный бантик, я попросил бабушку купить. Поколебалась, но купила. Пришли домой. Отец встретил нас с насупленным видом: «Зачем ты отравляешь ребенку душу этой дрянью?» Бабушка робко сказала: «Покажи папе твой бантик». Я вынул бантик из кармана и показал. Боже! Что сделалось с отцом. Вырвав у меня из рук бантик, отец яростно топтал его ногами, так что от него осталась одна труха. А затем, хлопнув дверью, вышел из комнаты.
И второй эпизод. В зимний вечер мы сидим с бабушкой у жарко натопленной печки. Бабушка мне что-то рассказывает. В это время вбегает отец, радостно возбужденный, хватает меня за руки, начинает плясать со мной по комнате. «Толя, танцуй! Главный подлец, бандит сдох — Ленин!» Бабушка: «Ты с ума сошел. Прислуга услышит. И Толя завтра во дворе всем разболтает, как ты с ним танцевал». Отец несколько осекся и сказал мне: «Смотри ни с кем об этом не говори!» И вышел из комнаты.
Я говорил о двух мирах в нашей квартире. Но был еще и «третий мир» — прислуга Поля и отцовский рассыльный Сергей. Здесь выступает на сцену новый персонаж, один из самых близких мне людей — Пелагея Афанасьевна Погожева. Наконец в мои воспоминания входит крестьянка, человек из народа, в ее лице сам русский народ.
Пелагея Погожева родилась 5 мая 1894 года в селе Махровка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Погожевы — бедная крестьянская семья. Там было четверо сыновей и четыре дочери. Два старших сына женились, обзавелись семьями. Дочерей тоже удалось пристроить. Но Поля — лишний рот. Приданого нет, перспектив никаких. Решили послать в город. Мать рыдала, говорила: «Погибла девчонка, в бардак попадет». Отец заметил: «Не реви. Пошлем не просто так, а к тетке». И послали Полю в Финляндию, под Терриоки, в туберкулезный санаторий, где тетка была кастеляншей. Поля была девушкой на побегушках: и полы мыла, и белье помогала стирать, и больным услуживала. Но вскоре разразилась война. Больных стало меньше. Санаторий закрыли. Кем только ни была после этого Поля. И почтальоншей, и официанткой в студенческой столовой. Наконец после революции уехала в деревню, похоронила родителей, умерших от тифа, сама переболела сыпняком и вернулась в Питер, опять к тетке. Тетка шила мне лифчики и рубашки и порекомендовала нам свою племянницу в прислуги (тогда еще не было деликатного термина «домработница»). Помню ее, когда она пришла в первый раз. Невысокого роста девушка с красным, как будто обваренным, лицом, с карими хорошими глазами. Она поздоровалась, мать вежливо спросила: «Как Вас зовут?» Она ответила: «Поля».
С этого дня начинается глубокая, большая дружба с Полей, которая длилась 44 года, до самой ее смерти. Наши отношения были отношениями двух детей, потому что она, несмотря на свои 30 лет, была большой ребенок. Мы вместе гуляли, ходили по церквам; я говорил ей все домашние секреты. Рассказывал ей буквально все. У Поли я находил полное сочувствие моим церковным интересам. Мы с ней ходили по всем храмам Питера, без конца обсуждали иереев. Поля хорошо знала службу. Знала она и жития святых. От нее я узнал житие преподобной Марии Египетской, Алексия человека Божия и великомученика Пантелеймона. Она же ввела меня в круг своих подруг: хороших, большей частью неграмотных девушек, которые жили в прислугах. Эти тоже говорили о храмах, о священниках, а отцовский рассыльный Сергей прислуживал в церкви. Я льнул к этой среде и был там вполне своим человеком. С бабушкой Поля сблизилась тоже очень скоро. Бабушка рассказывала ей часами о своей жизни, писала ей письма в деревню; относилась к ней, как к дочери.
Таким образом, в семье составился триумвират: бабушка, Поля и я. На другом фланге была мать. С бабушкой она находилась в резко враждебных отношениях, с Полей была вежлива, даже любезна, но держалась на далекой дистанции, говорила ей «Вы» и ни в какие личные разговоры не вступала. Со мной мать всегда говорила также начальническим тоном; видимо, так, как классные дамы говорили с институтками. Отец держался в центре. С бабушкой вечно ругался (поссориться с отцом было вообще невозможно: он через пять минут начинал разговаривать, как ни в чем не бывало, и искренно не понимал, отчего дуются — перед этим он мог наговорить оскорбительнейших вещей). С Полей он быстро нашел общий язык, вечно балагурил с ней и смеялся. Иногда дико на нее орал, так же, как и на бабушку и на меня, но она на него не обижалась; огрызалась и знала, что через пять минут все забудет и сам вместе со мной придет на кухню самовар ставить. Вообще у отца было в характере что-то очень близкое к русскому мужичку, крикливому, быстрому на руку и в то же время простодушному.
Так прошли первые 10 лет моей жизни. В школу меня отец не пускал: «Не хочу, чтоб он учился в хамской школе». Ходила ко мне учительница Екатерина Михайловна — религиозная, добрая женщина из Рыбинска. Хорошая женщина. Лет 7 назад я нарочно поехал в Рыбинск, о котором она мне столько рассказывала и к которому привила мне любовь, чтоб посмотреть на этот город и отслужить в местном храме о ней панихиду. Отец и с ней разругался. Однажды она заметила отцу, что я мальчик с большими странностями. Приняв это за личную обиду, отец тут же ляпнул: «Сами Вы сумасшедшая». Тогда она собрала свои книги и ушла. Я остался без учительницы. Да и отец начинал понимать, что школы не миновать.
10-и лет от роду, в 1925 году, я впервые пошел в школу.
И еще об одном человеке, который явился мне в моем детстве, я должен рассказать.
У нас в семье всегда невидимо присутствовал Лев Толстой. В нашем доме была атмосфера влюбленности в яснополянского старца. О нем говорили как о современнике; спорили, осуждали, ругали — но обожали. Бабушка видела в нем пророка; для нее он был образцом человека. Ее привлекал моралист Толстой. Религиозный мыслитель заслонял для нее художника. Отец ругательски ругал Толстого за его «юродство» и все-таки обожал, знал его почти наизусть, возвращался к нему снова и снова. Мог говорить о нем часами.
Мать никогда не расставалась с одной книгой. Отец, завидев эту книгу у нее в руках, сразу бросал ироническое замечание: «А! Вот только Вронского что-то у тебя не видно». Эта книга была «Анна Каренина».
Под впечатлением всех этих разговоров я тоже обожал Толстого, еще не прочтя ни одной его строчки. Но в то же время знал, что он отлучен от церкви, что он враг церкви. Все церковные люди, начиная от Екатерины Михайловны и кончая Сережей-рассыльным, говорили о нем с ужасом. Во мне возникало противоречивое чувство к яснополянскому старцу: обожание и отталкивание. И никогда я не мот разобраться до конца в этом чувстве.
Постараюсь хоть сейчас[4].
Отрочество. Церковь
Помню, после войны была пьеса Гросмана «Надо ли верить пифагорейцам?» Я не верю. А мог бы поверить. В моей жизни особую роль играли все годы, кончающиеся на «5» и на «0». И страшной катастрофой обозначались все годы, оканчивающиеся на девятку.
Во всяком случае, 1925 год — первый переломный год в моей жизни. В этом году я пошел в школу — в 3 класс. В этом мне пришлось отчитываться через 50 лет, в полиции города Люцерна, когда мне надо было заполнять анкету по поводу предоставления мне убежища. Местный чиновник никак не мог понять, почему я пошел в школу в 10 лет и сразу в 3 класс. Пришлось сказать правду: отец не хотел пускать в советскую школу.
В школе я действительно был белой вороной. В классе из сорока человек я был единственный, у которого в школьном журнале, в графе «Социальное положение родителей» стояло «служащие». Все остальные были дети рабочих. Весь околоток знал моих родителей, нашу квартиру, наш образ жизни; поэтому, когда учительница громила мировую буржуазию, все взоры обращались на меня, и я невольно краснел, чувствуя себя ответственным за грехи мировой буржуазии. Когда же учительница говорила, что теперь у нас буржуев нет, — ее перебивали десятки детских голосов: «А Толя Левитин?» Учительница тактично делала паузу и продолжала свое объяснение. И только в четвертом классе учитель географии, усмехнувшись, сказал: «Ну какой же Толя Левитин буржуй? Он анархист». «А что такое анархист?» — загалдела ребятня. «Анархист — это такой человек, который не признает никаких законов и правил». «Верно! Верно!» — послышались голоса. После этого звание буржуя отпало: за мной укрепилась репутация анархиста.
Я и действительно был анархистом: приходил, когда хотел, уходил, когда хотел. Учителям не дерзил, но вел себя так, как будто их не было вовсе. Впрочем, все было бы, вероятно, иначе, если бы в 1925 году не произошло еще одно событие: в этом году мой отец переехал в Москву, а я остался на полной воле — на попечении бабушки и Поли.
Было это так. Отец занимал должность, которую беспартийному никак занимать не полагалось: должность уполномоченного ВСНХ по северо-западному округу. До 1924 года это сходило, т. к. добрейший Алексей Иванович Рыков не придавал этому никакого значения. Но в 1924 году, видимо, решили отца убрать. Прежде всего нагрянула ревизия — из 3 человек: два — беспартийных; один, суровый, во френче, — коммунист. Неделя ревизии врезалась мне в память, как страшно веселое время: каждый день обеды, гости. Для ревизоров закатывали лукулловы пиры. Но всем в доме было не очень весело. Как только ревизоры уходили, веселые улыбки исчезали, за столом начинались взволнованные обсуждения. Отчетливо помню последний день ревизии. Последний обед. Прощание в передней. Захлопнулась дверь. Воцарилась мертвая тишина. Ее прервал мой дядя Гермоген Гермогенович Романов, работавший у отца заведующим канцелярией. «Уполномоченный сел», — сказал он с насмешливой улыбочкой. И в этой улыбочке сразу проскользнуло все накопившееся недоброжелательство к отцу, зависть, месть за бесконечные унижения. Отец в ответ только хмуро махнул рукой. Через несколько дней отцу было предложено уйти по собственному желанию. Впоследствии, когда он оформлял пенсию, он был в затруднительном положении: все его характеристики за период с 1917 г. по 1924 г. были подписаны «врагами народа» — или Рыковым, или Пятаковым.
И отец стал безработным. Первое время все было по-старому: дачи, гости, обеды. Отец жил старыми запасами, потом стал продавать вещи: золотые часы, портсигары. А перспектив не было. Об ответственных должностях не могло быть теперь для беспартийного и речи. От юридической работы отец отвык. Правда, он официально числился на бирже труда безработным, где получал пособие — 25 рублей в месяц. (Этого вряд ли хватало матери на флакон духов).
Помню, был я с отцом на бирже труда: она тогда помещалась на Петроградской стороне, в башнеобразном здании, на Ситном рынке. Отцу выдали пособие и сунули какой-то талон. «А это что?» — спросил отец. «А Вы имеете право на ежедневный бесплатный обед». Отец с улыбкой взял талон, и мы с ним пошли в столовую. В огромном зале стояли столики, покрытые белыми скатертями. На столах — нарезанный черный хлеб. Отец угощал меня черным хлебом, намазанным горчицей. С тех пор на всю жизнь это стало моим любимым лакомством.
Все это было очень мило, но отец через полтора года убедился, что еще немного — и, пожалуй, придется есть эти обеды не с веселой иронической усмешкой, а всерьез. И уехал в Москву искать работу. Там он действительно быстро устроился: стал юрисконсультом спиртоводочного завода.
И началась наша раздельная жизнь. В течение 3-х лет отец жил один в Москве, бывая в Питере лишь наездами, и лишь на лето мы переезжали к нему в Москву. Мать с этого времени совершенно перестала обращать на меня внимание. Она жила на своей половине; рано утром уходила, поздно вечером возвращалась домой. Я не видел ее по целым неделям. Я был исключительно на попечении бабушки и Поли, которые ни в чем мне не мешали. Бабушка — самый близкий мне человек — была, по существу, моим товарищем: я ей рассказывал обо всем, делился с ней всеми моими мыслями и в то же время абсолютно с ней не считался. Поля была мне таким же задушевным товарищем.
Таким образом, в 10 лет я начал свою самостоятельную жизнь. Первым делом я окунулся в церковь. Через короткое время я стал своим человеком в духовной среде и знал всю церковную ситуацию, как профессиональный церковник.
А церковь в это время переживала самый трудный, но и захватывающе интересный период своей истории. И я наблюдал этот период своими мальчишескими зоркими глазенками, и остался он у меня в памяти на всю жизнь. Это было время, когда церковь была расколота, рвалась на куски. В то время в Питере были открыты почти все церкви, которые были до революции, кроме домовых церквей, а также дворцовых церквей и храмов, непосредственно связанных с императорской фамилией. И поделены были эти храмы между различными церковными течениями, которых насчитывалось тогда в Питере — 5. И я побывал во всех этих храмах по много раз.
Перечислю сейчас их. Надо же, чтобы знал их будущий историк церкви. Итак, храмы Петрограда, открытые в 20-е годы:
1. Казанский собор. (Обновленческий.) Закрыт в апреле 1932 г.
2. Исакиевский собор. (Обновленческий.) Закрыт в июне 1928 г.
3. Храм Воскресения-на-крови. (С 1928 г. иосифлянский.) Закрыт в 1932 г.
4. Храм Великомученицы Екатерины на Васильевском острове. (Обновленческий.) Закрыт в 1935 г.
5. Андреевский собор. (Обновленческий.) Закрыт в 1938 г.
6. Благовещенская церковь на Васильевском острове. (Обновленческая.) Закрыта в 1936 г.
7. Смоленское кладбище (3 храма.) (Обновленческие.) Последний храм закрыт в 1939 г.
8. Киевское подворье. (Православное.) Закрыто в 1937 г.
9. Церковь Милующей Божией Матери в Гавани. (Православная.) Закрыта в 1932 г.
10. Троицкая церковь в Гавани. (Обновленческая.) Закрыта в 1932 г.
11. Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне. (До 1926 г. — в ведении группы «Живая Церковь». С сентября 1927 г. до сего дня православный.) Не закрывался.
12. Введенская церковь на Петроградской стороне. (Обновленческая.) Снесена в 1932 г.
13. Матвеевская церковь. (Обновленческая.) Снесена в 1932 г.
14. Спасо-Колтовская церковь. (Православная.) Снесена в 1932 г.
15. Церковь св. Иоанна Милостивого. (С 1926 г. принадлежала к группе «Живая Церковь».) Закрыта в 1932 г.
16. Церковь Алексия человека Божия. (С 1927 г. — обновленческая.) Закрыта в 1932 г.
Иоанновский монастырь с могилой Иоанна Кронштадтского. Закрыт в 1923 г.
Покровское женское подворье на Петроградской стороне. Закрыто в 1923 г.
Собор Петропавловской крепости с могилами императоров. Закрыт в 1917 г.
17. Троицкая церковь на Петроградской стороне. Самый древний храм Петрограда. Сгорела в 1916 г. В 1924 г. выстроена вновь. (Православная.) Снесена в 1936 г.
18. Церковь Николы Трунилы на Петроградской стороне. (Православная.) Снесена в 1932 г.
19. Церковь Спаса на Бочаровской улице. Выборгская сторона. (Православная.) Снесена в 1932 г.
20. Сампсониевский храм. (Православный.) Закрыт в 1934 г.
21. Церковь Петра и Павла в Лесном. (Православная.) Закрыта в 1932 г.
22. Тихвинская церковь в Лесном. (Православная.) Снесена в 1932 г. При ней — небольшая деревянная церковь. (С 1928 г. по 1939 г. иосифлянская; в 1939 г. перешла в ведение патриархии.) Там же часовня — подворье женского монастыря в Лесном. (Православная.) Закрыта в 1929 г.
23. Церковь Зачатия св. Иоанна Крестителя на Каменном острове. (Православная.) Закрыта в 1935 г.
24. Благовещенская церковь за Николаевским мостом. (Обновленческая.) Снесена в 1929 г.
25. Церковь Спас-на-водах. В память Цусимской катастрофы. (Православная до 1927 г. С 1928 г. по 1931 г. — «непоминающие» — духовенство не принадлежало ни к какой юрисдикции. В 1931 г. присоединилась к Ленинградской епархии.) В 1932 г. снесена.
26. Николо-Богоявленский Морской собор. (Православный.) Не закрывался.
27. Русско-Эстонская церковь священномученика Исидора Юрьевского. (Православная.) Закрыта в 1937 г.
28. Покровская церковь в Коломне. (Православная.) Снесена в 1932 г.
29. Михайло-Архангельская церковь в Коломне. (Православная. С 1928 г. нижний храм — иосифлянский.) Храм снесен в 1932 г.
30. Вознесенский собор. (Обновленческий.) Снесен в 1935 г.
31. Спасо-Сенновский собор. (Обновленческий.) Закрыт в 1938 г., снесен в 1961 г.
32. Троицкий собор на Измайловском проспекте. (Православный.) Закрыт в 1938 г.
33. Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. (Обновленческий.) Закрыт в 1932 г.
34. Путиловская церковь. У Путиловского завода. (Обновленческая.) Закрыта в 1928 г.
35. Церковь на Красненьком кладбище. (Обновленческая.) Закрыта в 1932 г.
36. Введенская церковь у Царскосельского вокзала. (Обновленческая.) Снесена в 1932 г.
37. Церковь св. мученика Мирония. (Православная.) Закрыта в 1930 г.
38. Собор Владимирской Божией Матери. (Православный.) Закрыт в 1932 г.
39. Коневское подворье. (Православное.) Закрыто в 1932 г.
40. Александро-Свирское подворье. (Обновленческое.) Закрыто в 1932 г.
41. Ново-Афонское подворье, на Забалканском. (Православное.) Закрыто в 1930 г.
42. Преображенский собор на Литейном проспекте. (До 1926 г. — Союз Церковного Возрождения. 1926–1934 гг. — православный. С 1934 г. по 1944 г. — обновленческий, с 1944 г. в ведении патриархии.) Не закрывался.
43. Церковь Великомученика Пантелеймона. (Обновленческая). Закрыта в 1936 г.
44. Церковь Скорбящей Божией Матери на Фурштадтской улице. (Обновленческая.) Закрыта в 1932 г.
45. Церковь Скорбящей Божией Матери на Лахтинской. (Православная.) Закрыта в 1928 г.
46. Сергиевский собор на Литейном. (Православный.) Снесен в 1932 г.
47. Захарие-Елизаветинский храм. (Обновленческий. Колыбель обновленчества. Место служения священника Введенского.) Закрыт в 1937 г., снесен в 1948 г.
48. Церковь св. Николая на Захарьевской. (Единоверческая православная.) Закрыта в 1930 г.
49. Собор св. Николая на Николаевской. (Единоверческий; с 1928 г. — иосифлянский.) Закрыт в 1932 г.
50. Новодевичий монастырь. (Православный.) Собор монастыря закрыт в 1932 г., последняя небольшая церковь — в 1937 г.
51. Леушинское женское подворье. (Православное.) Закрыто в 1932 г.
52. Успенское женское подворье. На Бассейной улице. (Православное.) Закрыто в 1932 г.
53. Знаменская церковь. (Православная.) Снесена в 1938 г.
54. Храм св. Иоанна Предтечи на Лиговке. (Православный.) Закрыт в 1937 г.
55. Волкове кладбище. 3 храма — православные. Два храма закрыты в 1937 г., небольшая церковь св. Иова Многострадального сохранилась.
56. Митрофаниевское кладбище. (Обновленческое.) Все храмы закрыты в 1932 г.
57. Богословское кладбище. (Обновленческое.) Храмы закрыты в 1932 г.
58. Храм Рождества Христова на Рождественской. (Православный.) Снесен в 1932 г.
59. Старо-Афонское подворье. (Православное.) Храм закрыт в 1933 г.
60. Федоровское подворье. (Православное.) Закрыто в 1932 г.
61. Храм Божией Матери Скоропослушницы на Песках. (Православный.) Снесен в 1932 г.
62. Александро-Невская лавра. 10 храмов. (До 1926 г. — наполовину обновленческая. С 1926 по 1928 г. — православная. С 1928 по 1931 г. — наполовину иосифлянская. С 1931 по 1936 г. — патриаршая.) В 1933 г. все храмы, кроме Духовской церкви, закрыты. В 1937 г. закрыта Духовская церковь. Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, закрытый в 1933 г., вновь возобновлен и отдан в руки церкви в 1958 г.
63. Церковь Адриана и Наталии на Рождественском проспекте. (Обновленческая.) Закрыта в 1929 г.
64. Церковь Всех Скорбящих Радости на Стеклянном заводе. (Обновленческая.) Церковь снесена в 1932 г., часовня закрыта в 1938 г.
65. Смоленская церковь в селе Смоленском. (Православная.) Снесена в 1932 г.
66. Церковь Михаила Архангела в селе Смоленском. (Православная.) Снесена в 1932 г.
67. Никифоровское подворье в селе Смоленском. (Православное.) Подворье Геннадие-Никифоровского монастыря. Закрыто в 1929 г.
68. Церковь Святой Троицы «Кулич и Пасха». (Православная.) Была закрыта в период с 1935 г. по 1945 г. В данное время открыта.
69. Церковь прел. Серафима Саровского в селе Смоленском. (Православная.) Снесена в 1932 г.
70. Преображенское кладбище. (Православное.) Церковь снесена в 1932 г.
71. Духовской собор на Большой Охте. (Православный.) Снесен в 1932 г.
72. Грузинское подворье на Охте. (Православное.) Снесено в 1935 г.
73. Церковь Марии Магдалины. (Православная.) Снесена в 1932 г.
74. Киновий. Филиал Александро-Невской лавры. Церковь Всех Святых. (Православная.) Снесена в 1932 г.
75. Святой Великомученицы Екатерины на Екатерингофском проспекте. (Обновленческая.) Закрыта в 1930 г.
76. Церковь великомученицы царицы Александры на Лермонтовском. (Православная.) Снесена в 1932 г.
77. Церковь в Убежище артистов, Преображения Господня. (С 1928 г. по 1931 г. — иосифлянская.) Закрыта в 1932 г.
78. Стрельнинская церковь. (Православная, с 1928 г. иосифлянская.) Снесена в 1932 г.
79. Церковь Святой Троицы на Стремянной. (Обновленческая.) Закрыта в 1936 г.
80. Часовня Спасителя в домике Петра Великого. (Обновленческая.) Закрыта в 1930 г.
81. Часовня Спасского монастыря у Гостиного Двора. (Принадлежала группе «Живая Церковь».) Снесена в 1932 г.
82. Часовня блаженной Ксении на Смоленском кладбище. (Обновленческая.) Закрыта в 1936 г., вновь открыта в 1946 г., закрыта в 1960 г.
83. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице. (Православная.) Закрыта в 1932 г.
84. Пекинское подворье. Церковь Рождества Христова. (Православная.) Закрыта в 1932 г.
85. Церковь и часовня Преподобномученицы Параскевы Пятницы на Пороховых. (Обновленческие.) Закрыты после хулиганской антирелигиозной кампании в 1929 г.
86. Церковь св. Пророка Илии на Пороховых. (Обновленческая.) Закрыта в 1937 г.
87. Серафимовское кладбище в Новой Деревне. (До 1936 г. церковь находилась в ведении группы «Живая Церковь». С 1936 г. по 1944 г. — обновленческая. С 1944 г. — в ведении патриархии.) Не закрывалась.
88. Церковь Бориса и Глеба на Калашниковой набережной. (Православная.) Закрыта в 1934 г.
89. Часовня Валаамского подворья, на 21 линии Васильевского острова. (Православная.) Закрыта в 1932 г.
90. Часовня Валаамского подворья на Калашниковой набережной. (Православная.) Закрыта в 1932 г.
91. Богоявленская церковь на Гутуевском острове. (Православная.) Снесена в 1932 г.
92. Преображенская церковь за Московскими воротами. (Православная.) Снесена в 1932 г.
93. Церковь св. Апостола Иоанна Богослова на Ивановской улице. (Обновленческая.) Закрыта в 1926 г.
94. Троице-Сергиево подворье на Фонтанке. (Православное.) Закрыто в 1923 г.
95. Церковь св. Богоприимца Симеона и пророчицы Анны. (Православная.) Закрыта в 1937 г.
96. Часовня Черемнецкого монастыря на Моховой улице. (Православная.) Закрыта в 1931 г.
Итак, в Питере (в 20-е годы) насчитывалось 96 храмов. Из них 32 храма принадлежали к обновленческому течению или к различным связанным с ним группировкам, а 5 храмов принадлежали к крайне правому иосифлянскому течению. Кроме того, до 1930 г. под Петергофом была открыта Троице-Сергиева Пустынь. (Последний храм был закрыт в 1932 г.) Очень большое количество верующих совершало паломничества в Макарьеву Пустынь под Любанью (120 км от Питера), которая была открыта также до 1932 г.
Я не прошу извинения у читателя за то, что утомил его списком питерских церквей. Из этих 96 храмов сейчас цело только 7. 89 церквей закрыты, снесены, поруганы, истоптаны.
89 кровоточащих ран.
И сейчас, через 50 лет, они не зажили и не заживут никогда.
Наша приходская церковь — церковь св. Великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова, ныне Съездовская улица. Церковь типично петербургская — больше нигде в России нет таких церквей. Огромное здание, напоминающее полигон, вымощенное каменными плитами, подобно панели. Три алтаря: главный алтарь — Великомученицы Екатерины, и два придела: Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. На куполе ангел с крестом. Там я бывал на заутрене, на Пасху. Мои родители, хоть и мало верующие люди, Пасху праздновали, как полагается. Тут и куличи, и крашеные яйца, и сырные пасхи, и разговены. К заутрене ходили всегда (обедню не стояли). В 1921 г. меня к заутрене не взяли, — и я в темной комнате лишь слышал пасхальный звон. Зато в 1922 г. я ходил вместе с родителями к заутрене. Отец поставил меня на подоконник, и я видел службу. С этого года я ходил с отцом и с Полей к заутрене каждый год (мать потом уже не ходила).
Судьба нашего Екатерининского прихода — судьба всей русской церкви. Еще в 1922 году, когда я там был первый раз, я запомнил открытые царские двери и запрестольный образ итальянской работы. Победно и радостно смотрит Спаситель с пасхальной хоругвью в правой руке. И служит священник, чем-то похожий на Него. Отец Михаил Яворский. Тонкое интеллигентное лицо, все светящееся на пасхальной заутрене светлой радостью. Длинные черные волосы. Лицо, окаймленное темно-коричневой бородкой. Примечательна биография этого человека.
Он родился в 1885 г. в Нижнем Новгороде, в семье священника. Окончил местную Духовную Семинарию первым по списку. В 1905 г. поступил в Петербургскую Духовную Академию. На последнем курсе женился на дочери известного дореволюционного церковного деятеля, настоятеля Казанского собора, протоиерея о. Философа Орнатского — Вере. Как говорят, Вера Орнатская испытывала некоторые колебания — выходить замуж за будущего священника или нет. Один известный тогда в России схимник посоветовал выходить. И она вышла. Бедная, бедная Вера Философовна! Жалеть ли тебя или молиться тебе сейчас, когда ты там, со своим мучеником-мужем.
Отец Михаил, рукоположенный в 1910 году, был почти сразу назначен настоятелем церкви Великомученицы Екатерины. Темпераментный проповедник, широко образованный, много читавший — как любили его прихожане: любили его и интеллигенты, любили его еще больше простые люди.
Один мой друг говорил когда-то: «Обидно, что, когда талантливый, образованный человек идет в религию, ему скучно заниматься приходской работой: он пишет статьи, читает лекции — и все ложится на плечи простого, малограмотного попика. А что он может? Только одно: покрыть епитрахилью и сказать: „Прощаю и разрешаю“».
Так бывает. Но не всегда. И лучшим примером может служить отец Михаил Яворский. Он принял на свои плечи всю тяжесть приходской работы: он был постоянным гостем дворницких, чердаков, подвалов. Он был другом старых бабушек, торговавших семечками, приятелем сторожей, прислуги, чернорабочих — этот красивый, стройный батюшка с академическим значком, с тонким лицом интеллектуала. И простые люди его боготворили. Он был человек огромной убежденности и необыкновенной смелости.
1918 год нанес первый удар: во время красного террора был расстрелян его тесть, протоиерей о. Философ Орнатский. Но трагическая участь тестя не испугала отца Михаила: он проповедовал так же пламенно, как в дореволюционное время: он призывал народ к стойкости, к защите заветных святынь.
Особенно прославила его речь в Александро-Невской лавре в 1922 году. Только что был расстрелян митрополит Вениамин. Из лавры изымались мощи святого князя Александра Невского. Испуганная, дрожащая братия лавры смиренно молчала. Народ безмолвствовал. И тут поднял свой голос настоятель Екатерининского храма. Обращаясь к народу, он сказал: «Своими руками, своими руками отдаете вы святыню ваших предков. И на вас падет ответ за поругание святыни». Эта речь откликнулась в сердцах питерцев: через 20 лет многие вспоминали ее.
С начала раскола отец Михаил занял четкую и ясную линию: неизменно он поминал арестованного Патриарха Тихона. Для всех было ясно, что, пока он настоятель, Екатерининский храм остается тихоновским. Между тем, на Васильевском острове начиналось брожение. На сторону обновленцев перешел настоятель соседнего Андреевского собора, протоиерей Николай Платонов, — один из самых талантливых и самых плохих людей из всех, кого мне пришлось встретить в жизни. Я о нем уже писал. Придется писать и еще, ибо он играл большую роль в жизни церковного Питера и в моей жизни. Умный и энергичный политик, о. Николай Платонов быстро перевел в обновленчество все храмы на Васильевском острове. Понимал он, однако, что пока о. Михаил на своем посту, храм Великомученицы Екатерины — неприступная крепость. И вот он решил действовать обходным маневром: он привлек на свою сторону некоего Балашова — торговца, являвшегося церковным старостой. Неоднократно он бывал у него в гостях: обещал, что в случае перехода храма в обновленческие руки Балашов останется полновластным хозяином всех церковных средств; тонко намекал, что только войдя в контакт с властью, он сможет искупить свое купечество (правда, третья гильдия, но все-таки купец). Наконец, отец Николай Платонов доказывал, что только благодаря обновленчеству Церковь может сохраниться в советском государстве. Как бы то ни было, через месяц Балашов был ярым сторонником обновленчества. После этого Платонов принялся за обработку отца Никифора — второго нашего батюшки. Холодный и чопорный чиновник в рясе (с солидной лысиной и с аккуратно раздвоенной седой бородой), живший по одной лестнице с отцом Михаилом (по 1-ой линии, площадкой выше), о. Никифор внимательно слушал о. Николая. Здесь Платонов пугал призраком красного террора. Это не были пустые слова: тон газет в это время становился все более и более зловещим — и угроза физического истребления духовенства была вполне реальна. «Единственное спасение — надо показать, что не всякий, кто носит рясу, враг советской власти», — говорили сторонники обновленчества. Говорил это, несомненно, и Николай Платонов отцу Никифору. Вскоре о. Никифор присоединился к расколу, перестал поминать Патриарха и объявил себя обновленцем. Никакого труда не составляло переманить на сторону обновленцев и мальчишку-диакона.
Отец Михаил оказался в кольце. И все-таки не сдавался. Опираясь на народ, он полгода служил в храме. «Сегодня служит отец Михаил», — разносился слух по приходу. И сразу храм становился полон, как на Пасху. «Сегодня отца Михаила не будет», — говорили прихожанки. И храм мгновенно пустел: точно все прихожане умерли. И лишь через полгода в Екатерининский храм назначили нового настоятеля: отца Виктора (из закрытой Елисеевской домовой церкви) — старичка, носившего крест на красной анненской ленте.
Уважая его возраст, от эксцессов, обычных в то время в храмах при переходе в обновленчество, воздержались, но ходить перестали. Служба после этого долгие годы шла в холодном и пустом храме.
Отец Михаил служил по квартирам. В то время на бульваре по Среднему проспекту можно было видеть десятки собравшихся простых женщин — баб в платочках. «Что это народ собрался?» — спрашивал кто-нибудь. «Отец Михаил сейчас выйдет: он в этом доме сегодня молебен служил». И действительно, через 15–20 минут появлялся отец Михаил в белой рясе, всегда без шляпы, с развевающимися волосами, веселый и оживленный. Прихожане бросались к нему под благословение. Но всем было ясно, что долго так продолжаться не может.
В 1924 году отец Михаил был арестован и сослан на Соловки на 3 года. Вера Философовна осталась одна с пятью детьми на руках.
Он благополучно отбыл ссылку и вернулся в 1927 году. Жить в Петрограде ему не позволили. Жил он в Любани (120 км от Питера). Появлялся лишь изредка в Киевском подворье, куда ходила и его жена с детьми. Это была в то время единственная необновленческая церковь на Васильевском острове.
Последний раз я его видел на Успение в 1929 году, в алтаре Киевского подворья. Был престольный праздник. Литургию совершал преосвященный Николай, епископ Петергофский (впоследствии прославленный митрополит). Я стоял в алтаре, и недалеко от меня, у жертвенника, стоял в епитрахили отец Михаил. Он молился. Я никогда, ни до, ни после, не видел такой молитвы. Он несколько постарел, волосы стали длиннее, они теперь падали ему на спину. А лицо… нет, такое лицо я видел только на иконах; там, где изображают Христа, молящегося в Гефсимании. И оно врезалось мне на всю жизнь. Вижу его как сейчас. А описать не могу: не хватает слов, не хватает красок.
Через полгода отец Михаил был арестован и осужден на 10 лет лагерей. Тогда (в 1930 году) это была редкость: обычно давали 3 года.
Очень много лет спустя я узнал кое-какие подробности о его пребывании в заключении. Отец Михаил был заключен в лагерь на Беломорско-Балтийском канале (печально знаменитый ББК). «Он был как ребенок; только молился: во всем полагался на Бога», — вспоминает один московский священник, который был с ним в заключении (и ныне здравствующий). Изредка приезжал к нему старший сын. Матушку не пускали, т. к. формально она была с ним в разводе.
От этого священника я узнал о следующем эпизоде. В 1934 году наступила Пасха. Перед этим побывал у отца Михаила сын. И привез ему творог, яйца, куличик, чтоб разговеться. Под Пасху собрались в комнатке у дневального: два священника, четверо верующих стариков. Отец Михаил шепотком служил заутреню, а потом поставили на стол куличик, творог, яйца. Отец Михаил благословил трапезу. И в это самое время ворвались надзиратели (кто-то «стукнул»). Как звери набросились они прежде всего на кулич, яйца и пасху. Приказав священникам и верующим старичкам следовать за собой, на их глазах все это бросили в уборную, а затем всех отвели в карцер. Все были в унынии и смущении. Только отец Михаил своим прекрасным голосом пел пасхальные песнопения. На другой день радио ББК передало сообщение о поповско-кулацкой провокации. Ожидали второго срока. Но обошлось.
А за отцом Михаилом после этого задергивается темная завеса. Никому в точности неизвестна его судьба. Несомненно одно: он не пережил 1937-го года. Умер ли он от пули или от голода, никто не знает.
А в это время семья отца Михаила терпела невыносимые бедствия. В 1930 году, чтоб избегнуть высылки и восстановиться в избирательных правах, Вере Философовне пришлось фиктивно развестись с мужем. Семье это мало помогло. Ребят не принимали в институты, им приходилось работать на производстве, и оттуда их гнали. Старые прихожане частью вымерли, частью разъехались в разные места. На квартире Вера Философовна принимать кого-либо боялась: соседи следили, и ее уже несколько раз предупреждали, чтоб она не делала сборищ. Назначали ей свидания старые друзья в магазине. Там можно было перекинуться с ней несколькими словами, ненароком и деликатно сунуть ей в авоську несколько рублей. Она улыбалась, а слезы стояли в ее все еще прекрасных глазах.
Она умерла во время блокады. О судьбе детей ничего не знаю. Но где бы они ни были, они могут гордиться своими родителями. Это были светлые люди. Те самые праведники, без которых, по словам писателя, не стоит земля наша.
А в храме св. Екатерины до 1935 года шла служба. Отец Виктор, сменивший отца Михаила в 1923 г., умер через год. Отец Никифор покаялся и впоследствии разделил участь отца Михаила — тоже погиб в лагерях. В храме служили серые люди, чередовались настоятели: отец Николай, отец Василий. Служили по несколько лет. Приходили и уходили, не оставив по себе никакой памяти. Вторым священником был отец Григорий Нименский, простой, добродушный человек, говоривший с волжским оканьем, глубокий провинциал с кругозором сельского учителя или фельдшера. На этом сером фоне мелькнула в 30-е годы довольно своеобразная фигура последнего настоятеля, отца Федора. Этот говорил народным говором, явно подделываясь под прихожан. Особенного влияния он не имел, но власти всполошились. В 1935 году и он получил 10 лет лагерей; в декабре 1935 года, перед престольным праздником 7-го декабря, храм был закрыт.
Сейчас там помещается фабрика. Помню, в 1936 году, когда храм был уже закрыт, мне удалось проникнуть туда через боковые двери. Боже! Что я увидел: иконы, поваленные навзничь; гулким эхом раздавались под куполом грубые голоса. Эхо разносило чью-то перебранку. Царские двери были сорваны и брошены на солее, но запрестольный образ все еще висел на стене, и через отверстие, там, где были царские двери, все также победно и радостно смотрел Спаситель с пасхальной хоругвью в правой руке.
В остальных приходах было примерно так же. Всюду был популярный батюшка-исповедник, сгинувший в лагерях. Всюду были свои ловкие и умные священники, приспосабливающиеся к советской власти. Всюду были корыстные и продажные люди, пригревшиеся у церковного ящика. И всюду было много глубоко верующих людей, искавших благодати и радости духовной в молитве.
В это время шепотом молились по храмам об убиенном митрополите Вениамине, вздыхали о заключенных священниках, поминали недавно скончавшегося Патриарха Тихона.
И все-таки, все-таки, когда меня спрашивают о том, как я себе представляю идеальную церковную общину, я всегда вспоминаю Питер 20-х годов.
Только недавно закрылись Петроградская Духовная Академия и Семинария; закрылись все церковные журналы, издательства, богословские и философские общества. И все профессора, магистры, кандидаты богословия, церковные писатели — все хлынули на приходы. Стали невозможны диссертации, богословские труды, статьи, монографии — единственное, что осталось, — церковная кафедра.
Она была в то время еще относительно свободной: проповедь не запрещалась, если не было непосредственных политических призывов. В то же время священник освободился от стеснительной опеки церковной власти: никаких конспектов, никакого контроля, никаких отчетов — архиереям было не до того. Проповедь в это время стала подлинно творческой.
Тогда еще не было принципа принудительной регистрации священнослужителей, поэтому в Питере, как и в Москве, в это время было много заштатных архиереев и иереев. Приехал из провинции, договорился с настоятелем — и служи себе. Церковная смута способствовала оживлению церковной проповеди, т. к. в связи с расколом возникло множество вопросов; богословских, социальных, канонических. И все они освещались с церковной кафедры.
Входили в обычай тематические беседы: по средам и пятницам, после вечерни, читались акафисты, а после акафиста предлагалась «беседа» — собственно не беседа, а богословская лекция, продолжение предыдущей. В некоторых храмах даже устанавливались скамейки для слушателей.
Но для того, чтобы все стало ясно, давайте посетим питерский храм 20-ых годов. Ровно в 6 часов вечера раздается колокольный звон. У храма собирается народ. У церковных дверей — нищие. Присмотримся к ним. Первый, кого вы увидите, — священник в рясе и с наперсным крестом. С чашечкой в руке. Это батюшка из закрытого домашнего храма. Среди просящих милостыню особенно много бывших полковых священников. Помню одного такого батюшку с наперсным крестом на георгиевской ленте. Он просил спокойно, с достоинством; последний раз видел его около лавры, в престольный праздник, 12 сентября 1929 г. Он стоял около ворот и повторял: «Святой Александр Невский, моли Бога о нас».
Помню другого батюшку, с седой бородой. Этот — шутник и балагур. В Преображенском храме на Литейном, на престольный праздник, стоит мой седовласый иерей и просит. Вдруг подбегает какая-то запыхавшаяся дамочка: «Какой архиерей сегодня служит? Не знаете ли, какой архиерей?» Батюшка (спокойно, деловито): «Херувим!» Дамочка: «Как? Как? А из какой он епархии?» Батюшка (так же спокойно, размеренно): «Владыка Херувим. Он, говорят, очень красивый, потому его зовут Херувим». Дамочка (поняв и обидясь):
«Нельзя так говорить, батюшка». Отходит. Батюшка: «Вместо того, чтобы мне копеечку дать, она мне нотацию прочла».
Особенно колоритны были флотские иеромонахи: в клобуках, но в коротких рясах, они просили энергично, требовательно, без всякого заискивания.
Среди нищих можно было увидеть пожилую даму (большей частью из купчих), опрятно, но бедно одетую.
Но самое тяжелое впечатление на меня производили бывшие офицеры, раненые, контуженные, в кителях со споротыми погонами, они протягивали руку с мучительным стыдом, с искаженным выражением в лице.
Помню одного такого офицера, контуженного, подергивающегося тиком, в форменной фуражке, рыжеватого; он просил у Киевского подворья. Я с ним часто и подолгу разговаривал. Помню его фразу: «Лучше бы я за веру, царя и отечество голову сложил, чем такой срам терпеть».
И наряду с этим — профессиональные нищие и нищенки: говорливые, веселые, обменивающиеся новостями. Это свой круг, и разговоры у них свои, профессиональные: у такого-то лавочника кормят под праздники; на Волковом кладбище вчера были большие похороны; вспоминают, где они в последний раз виделись, перемывают косточки знакомым. Я невольно вспоминал разговоры театральных дам у нас дома: в общем разница не такая большая, только вместо похорон — премьеры, вместо щей у лавочника — юбилейные обеды и ужины у Кюба, и такое же перемывание косточек, только имена другие: актеры, драматурги, режиссеры.
Но вот входим в храм. Храм давно не ремонтированный, с осыпавшейся штукатуркой; старосты еще не приноровились жить по-новому (исключительно на народную копейку, без всяких дотаций). В храме обычно очень холодно: парового отопления тогда еще не было, а натопить огромную каменную махину — дров не хватает. Народ. В основном женщины в платочках, старые и молодые. Среди них мелькают фигуры барынь, в старомодных, но дорогих шубах, в круглых шляпах. Они держатся всегда прямо, стоят не оборачиваясь. Изредка брезгливым тоном делают замечания перешептывающимся бабам. Среди мужчин обязательно вы увидите фигуру, старого офицера, подтянутого, выбритого (не из тех, которые просят милостыню — чертежника, бухгалтера); эти преклоняют одно колено, крестятся узким крестом — чистят пуговицы.
Рабочие в церковь ходили мало. Большей частью мелкий петербургский люд: почтальоны, дворники, сторожа, мелкие служащие. Шли иногда также и интеллигенты — юноши, девушки, читающие, ищущие, спорящие о церковных течениях, впоследствии погибшие почти все в лагерях.
Хочется вспомнить об одном из них.
Костя Сахарнов. Сын морского офицера, погибшего в революцию. Учился вместе со мной в школе, родом из Пскова. Жили страшно бедно: мать (счетовод), тетка, Костя и сестра — красивая, нервная, надменная девушка. Костя, веселый, говорливый, прислуживал в церкви, у Николы Морского. Я никогда не видел человека, столь преданного семейным традициям. Он благоговел перед памятью отца, у него не было никаких сомнений: он будет морским офицером в русском императорском флоте. В том, что большевики падут в ближайшем будущем, у него не было и тени сомнения. Когда я читал у Д. Панина о культе Белой Армии в семье Сологдина, — я невольно вспомнил Костю. Но жизнь в семье была тяжелая. Мать, очень приноровившаяся к советскому образу жизни, старалась не скучать. В семье были недостатки; мальчик вечно голодный, неодетый, необутый. Тетка ворчливая, всегда недовольная. Домом у него был алтарь. Прислужники — это опять особый мир: мальчишки, как все мальчишки: баловные, веселые, но любящие церковь, преданные ей со всем юношеским жаром.
Печально сложилась судьба Кости. По окончании школы он попал в торговое мореходное училище, плавал на торговых судах (по Волге, Днепру) — за границу его не пускали. Одновременно он был иподиаконом у епископа Сергия Зинкевича (викария Питерской епархии), у которого мы с ним в детстве были посошниками… В 1939 году, во Владимирском соборе, я видел его сестру. Она отвела от меня взгляд, т. к. была одета буквально в лохмотья и не хотела, чтобы я ее узнал. Я все же спросил: «Где Костя?» «В лагере. Переписка запрещена», — сказала она и быстро пошла к дверям. Константин Сахарнов — один из многих.
Таковы прихожане. Перейдем к духовенству. Как я уже сказал, в Питере была церковная смута. Была православная церковь — так ее называло большинство народа. «Тихоновцы» — так ее называли обновленцы. Интеллигент и здесь вывернулся и нашел каучуковый, «нейтральный» термин: староцерковники.
Мои впечатления начинаются с осени 1925 года, когда в управлении петроградской епархии был полный хаос. Власти, чтоб парализовать влияние популярного епископа Мануила, перед тем, как арестовать владыку, выкинули фортель: неожиданно освободили из заключения епископа Ладожского Венедикта (Плотникова), приговоренного к расстрелу вместе с митрополитом Вениамином, но затем помилованного. Расстрел был заменен 10-ю годами заключения со строгой изоляцией. Владыка находился в заключении в «Крестах», и никому в голову не приходило, что он может освободиться через два с половиной года.
Епископ Венедикт вступил в управление епархией. Если власти боялись популярного архиерея во главе Петрограда, они рассчитали правильно: епископ Венедикт не имел никаких данных, которые могли бы импонировать широким массам. В прошлом законоучитель одной из петербургских гимназий, протоиерей о. Василий Плотников после смерти жены принял монашеский постриг и был в 1919 году рукоположен в епископа. Веселый, любящий поболтать за сытным обедом, пропустить одну-две рюмочки, посмеяться и побалагурить, владыка пользовался среди духовенства славой компанейского человека. В народе его, однако, не любили. Он служил без особого подъема, говорил трафаретные, бледные проповеди. После освобождения (т. к. соборы были заняты обновленцами) владыка служил в Николо-Морском соборе, иногда в храме Воскресения-на-крови. Жизнь, всегда любящая парадоксы и неожиданности, и на этот раз выкинула штуку. Именно этот веселый, компанейский, ничем не замечательный с виду человек оказался одним из стойких защитников церкви и умер мучеником.
Вообще, всматриваясь в различные типы церковных деятелей, я как следует оценил мудрость Л. Н. Толстого, который придал Кутузову черты простого русского человека. Как правило, люди внешнего блеска, ораторы, говоруны, позеры, оказываются слабыми и жалкими в критические моменты, а простые, веселые люди иной раз обнаруживают стойкость беспримерную. Такими простыми людьми были и Патриарх Тихон, и митрополит Крутицкий Петр. К таким людям относился и епископ Венедикт. С самого начала он занял абсолютно непримиримую позицию по отношению к обновленцам. Прежде всего он издал приказ, согласно которому храм, переходящий из обновленчества, должен был освящаться, как вновь отстроенный. Престол выносился из алтаря. Все священные сосуды также. Затем совершался архиереем чин великого освящения: заново омывали престол, мазали его миром, а потом освящали весь храм от алтаря до паперти. Это должно было внушить народу, что обновленчество хуже любого раскола, хуже любой ереси — оно, как язычество, оскверняет храм. Затем при покаянии обновленческих священнослужителей была принята особая формула: священника после публичного покаяния заставляли читать «Символ веры», как еретика.
Волна фанатизма прокатилась по Питеру. Интеллигенты недоумевали. Я присутствовал при таком переосвящении храма в 1927 году, когда Князь-Владимирский собор, в котором я молился всего полгода назад, заново освящался весь: все три придела освящались заново, отдельно все три престола. Я был поражен, однако дух фанатизма действовал и на меня. Стоя в алтаре, я заметил обновленческого диакона. Я почувствовал себя так, как будто обвалился потолок. Подбежав к стоящему рядом священнику, я в ужасе воскликнул: «Батюшка, батюшка! Пришел обновленец!» Священник мягко улыбнулся: «Он покаявшийся». А стоявший рядом интеллигент стал мне выговаривать: «Ну что ж такое, разве он не человек?» И я с удивлением посмотрел на этого верующего, который выразил такую парадоксальную мысль, что обновленец тоже человек.
Положение епископа Венедикта не было вполне прочным. Наряду с ним действовал ряд фактически независимых от него епископов, а вскоре его правление окончилось так же внезапно, как и началось: весной 1926 года епископ был арестован. Петроградская епархия оказалась опять без руля и без ветрил.
Я видел епископа Венедикта только несколько раз. Он запомнился мне как благодушный, рыжеватый, с сильной проседью, улыбающийся епископ. В моих воспоминаниях, как и в истории церковного Питера, он только эпизодическая фигура. Все же помянем и его добрым словом. Он был честным, преданным долгу, простым русским человеком; это он подтвердил своей последующей судьбой. Будучи сослан на Соловки, епископ провел там три года. В 1929 году, вернувшись, он получил назначение в Вологодскую епархию. Вологжане его любили, и очень долго впоследствии память о нем сохранялась среди местного духовенства. В 1933 году владыку назначили архиепископом Новгородским и Старорусским. Здесь его застал 1937 год.
В 1937 году имя архиепископа Венедикта Плотникова замелькало в газетах: в «Ленинградской правде», в газетах Вологды и Пскова. В газетах Новгорода о нем писали как об отъявленном «враге народа», который в течение 20 лет ни на минуту не прекращал борьбу с советской властью. Имя владыки без конца склоняли антирелигиозные агитаторы, о нем говорили по радио. Видимо, Заковский (ленинградский наместник Ежова) решил воспользоваться им в карьеристских целях. Не приходится говорить, что все было наглой ложью. Никогда с советской властью архиепископ не боролся, хотя, конечно, и не питал к ней особо неясных чувств. Он был совершенно аполитичным человеком и ни в какие политические дела не вмешивался. Однако и не шел ни на какие компромиссы с совестью; был отцом и защитником вверенного ему духовенства и верующих; отцом мягким, добродушным, но призывающим к стойкости, преданности церкви. Именно поэтому он после зверских пыток был расстрелян в подвалах МГБ осенью 1937 года, в Ленинграде, куда его привезли из Новгорода.
В 1925 году вернулся в Питер из Семипалатинска, где он был в ссылке, епископ Алексий Симанский, с именем которого связана целая эпоха в истории русской церкви, — будущий Патриарх Московский и всея Руси. Тогда я впервые его увидел.
В свое время мне приходилось много писать о патриархе (и в хвалебном, и в отрицательном жанре). Постараюсь сейчас объективно передать свои впечатления о нем.
В переписке Николая II и Александры Федоровны упоминается имя молодого епископа Тихвинского Алексия. Императрица, посетившая Тихвин, замечает: «Очень изящен молодой епископ Алексий (бывший лицеист)».
При рукоположении молодого Алексия Симанского во епископа (26 мая 1913 г.) также подчеркивалось его аристократическое происхождение. В этот день в официозном органе Синода, газете «Колокол», появилась передовая статья, принадлежащая шурину владыки, известному церковному писателю Евг. Поселянину (Погожеву), в которой он приветствовал в лице молодого епископа архиерея-дворянина. Это казалось ему знамением времени (как раз угадал). «Архиерею-аристократу, — писал он, — легче договориться с губернатором, чем сыну дьячка».
Семья Симанских, записанная в Бархатных книгах Москвы, действительно была всегда близка к придворным сферам. Еще Екатериной II был обласкан адмирал Симанский. Дед будущего Патриарха, сенатор Симанский, друг Каткова, был близок к Александру II и Александру III. И наконец, отец будущего Патриарха, Владимир Андреевич Симанский, камергер двора Его Величества, занимал важный пост: он был заместителем («товарищем», как тогда называлось) знаменитого обер-прокурора Синода Саблера. Владимира Андреевича я видел много раз: он уцелел после революции (умер только в 1929 г.) и жил на покое, на Большой Дворянской улице. Высокий, важный старик, очень красивый, с белыми волнистыми волосами, всегда чисто выбритый, он появлялся часто в Троицкой церкви, где служил его сын. Он стоял всегда у двери, статный, стройный, в белом камергерском мундире. Жена его умерла еще в 1920 году, и он жил вдвоем с сыном. Помню, как владыка однажды, улыбаясь, рассказывал епископу Николаю (я в это время, будучи прислужником, стоял с дорожным посохом в руках, чтобы подать разоблачившемуся архиерею, и ожидал, когда владыки окончат разговор): «Вчера отец поздно пришел. Я отпустил прислугу и оставил ему ужин в термосе. Сегодня встаю — ужин не тронут. Спрашиваю: почему ж ты не ужинал? Отвечает: Но мне же никто не подал»…
Сам владыка также казался сошедшим со старинного портрета. С черными как смоль, вьющимися волосами и с такой же бородкой. Из-под воротника шелковой рясы всегда виднелся крахмальный воротник белоснежной чистоты. Говорил он особенно, по-гвардейски: букву «е» он выговаривал как «э», букву «р» слегка картавил, букву «и» произносил протяжно, как французы. Мне запомнилась на всю жизнь интонация, с которой он служил. Оглядывая надменно, отчужденным взором свою паству. Народ, на который барство тогда еще производило сильное впечатление, его уважал. Я, однако, не назвал бы владыку типичным барином. Настоящего барина Питер увидел на митрополичьей кафедре несколько позже (об этом речь впереди). У владыки Алексия не хватало барской непринужденности, размашистости, простоты в обращении. «Настоящий барин, — говорила мне как-то одна дама, знающая в этом толк, — никогда не станет подчеркивать свое барство, это и так все знают». Епископ (в будущем Патриарх) всегда именно подчеркивал свое барство; говорил свысока, держался холодно, высокомерно, недоступно. Скорее это был высокопоставленный чиновник — губернатор или министр.
Его проповеди мне всегда напоминали речь губернатора при открытии нового моста: строго официально, логично, ровно, никогда ни одной задушевной нотки, никакого повышения голоса, никакой лирики: «Мы собрались сюда, дабы почтить память святого (имя рек) и чтобы вознести наши молитвы к Богу», — и дальше следовал краткий очерк жизни святого, напоминающий формулярный список. Первый раз я видел его под праздник Святителя Николая — 22 мая 1927 года, в Николо-Богоявленском соборе, на верхнем этаже, в Богоявленском храме, владыка совершал всенощную.
Обычно же он служил в небольшом Троицком храме. Этот храм, построенный Петром I и сгоревший в 1915 г., реставрировался с большой любовью настоятелем, отцом Николаем. Все восстанавливалось так, как было при Петре. Приглашали лучших специалистов, подбирали редкие иконы. Денег не было, народ нес по копеечкам. И восстановили древний памятник во всей его чарующей красоте. Восстановили в 1925 году, а в 1936 году он был варварски снесен, неизвестно зачем и почему.
Иногда владыка служил в будние дни без диакона. Тогда он оставлял иераршую, аристократическую важность; служба его становилась более теплой, одухотворенной. Официально владыка не имел в это время канонического отношения к Петроградской епархии. После возвращения из ссылки патриарший местоблюститель назначил его епископом Хутынским, управляющим Новгородской епархией. В Новгород его, однако, власти не пустили. Он жил в неопределенном положении в Питере. Здесь его хорошо знали. Все помнили его сначала старшим викарием митрополита Вениамина, потом управляющим Петроградской епархией. К нему ходили за инструкциями, за советом, за благословением. Таким образом, на Петроградской стороне[5] образовался еще один центр наряду с епископом Венедиктом. Были и еще подобные центры.
Почти одновременно с епископом Алексием вернулся из зырянской ссылки епископ Петергофский Николай (Ярушевич), получивший впоследствии широкую международную известность в качестве митрополита Крутицкого, — один из умнейших и талантливейших церковных деятелей за последние полвека.
1922 год (раскол церкви) застал его только что рукоположенным 30-летним епископом (наместником Александро-Невской лавры). Уже тогда епископ Николай проявил себя как искусный дипломат и вдумчивый, изобретательный политик. Во время ожесточенной церковной смуты, когда церковь представляла собой клубок яростно вцепившихся друг в друга тихоновцев и обновленцев, он осторожно и умело нащупывает «третий путь»: получает согласие властей на создание «петроградской автокефалии». Это не тихоновцы и не обновленцы. С одной стороны, автокефалия заявляет о своей лояльности по отношению к советской власти (это никого ни к чему не обязывает: ведь лояльным — добросовестным — христианин должен быть решительно ко всем), заявляет, что она не имеет ничего общего ни с какими контрреволюционными церковными вождями (это можно понять как намек на арестованного патриарха, а можно и ровно никак не понять); — с другой стороны, автокефалия не может признать живоцерковного Высшего Церковного управления, как неканонического.
Автокефалия возглавлялась двумя епископами, Алексием и Николаем, однако главную роль здесь играл епископ Николай. Петроградская автокефалия существовала год. После ареста епископа Алексия владыка Николай еще несколько месяцев оставался на свободе, а затем был сослан в Зырянский край, где работал радистом-метеорологом (тогда это была редкая специальность).
Вернувшись в Питер в начале 1926 года, он столкнулся с новой ситуацией. Во главе Александро-Невской лавры стоял епископ Григорий Лебедев, назначенный еще в 1924 году Патриархом Тихоном. Епископ Николай поселился в Петергофе (Красный проспект 40) и служил в местном соборе Петра и Павла. Впрочем, он часто появлялся у нас на Васильевском острове, где жили его родители, и служил по приглашению в разных храмах.
Отец преосвященного, протоиерей Дорофей Ярушевич, бывший законоучитель одной из гимназий на Васильевском острове, теперь служил в Киевском подворье. Владыка был трогательно привязан к отцу. Между тем, трудно было себе представить двух более противоположных людей. Отец Дорофей — суровый, прямой человек, с седой всклокоченной бородой, в синих очках, служил отрывисто, совершенно не заботясь о внешнем благолепии. Держался независимо, говорил резко. Владыка скорее напоминал свою мать, Екатерину Ивановну, женщину когда-то очень красивую, элегантную и елейную (сразу чувствовалась дочь священника и воспитанница Епархиального Училища). Что касается епископа, то первое впечатление от него у всех было совершенно обворожительное. Светлые русые волосы, падающие с двух сторон, как на иконе Нерукотворного Спаса, такая же светлая борода. Белое лицо, голубые глаза. У него была своеобразная манера служить — мягкая, лирическая, голос музыкальный, напевный, грудной. Епископ Николай славился как проповедник: до 14-и лет я был без ума от его проповедей, ходил за ним по всем приходам, где только он служил. Слушал его с пристальным вниманием, многие его проповеди записывал. В 15–16 лет они меня уже не трогали. После 17-и лет — не производили никакого впечатления. Однажды на службу епископа Николая пошел мой отец. Послушал. Сказал на мои восторженные панегирики: «Брось! Обыкновенный елейный священник, каких было тысячи». Другой человек, глубокий богослов и тонкий психолог, заметил: «Его проповеди мне всегда напоминают фотографию морского пейзажа: луна, небо, море — все очень лирично, красиво и донельзя приторно». Действительно, проповеди епископа построены были так, чтобы никого не задеть, никому не сказать ничего неприятного. Они могли быть сказаны одинаково и в 1925, и в 1825, и 1725 годах. Мы не будем их пересказывать, потому что они были изданы (в тот момент, когда он был в фаворе) в 4-х томах.
Но подождите: через 30 лет архиерей заговорит по-другому. В самый разгар хрущевских гонений, перед своей отставкой, он выскажет безбожникам все. В ярких, темпераментных, насыщенных проповедях он выплеснет всю клокочущую, годами накоплявшуюся, долго сдерживаемую ярость — а пока… Пока он говорил хорошо отделанные по форме, очень традиционные, очень нейтральные, очень умеренные проповеди.
Владыка Николай по натуре не был мистиком; углубленные религиозные переживания ему не были свойственны? Однако он был пастырем. Насколько владыка Алексий был холоден, далек от народа, барственно недоступен, настолько сын священника был приветлив, обходителен, ласков. «Дорогой, дорогая», — «С праздником, милый», — «До свидания, дорогие братья и сестры».
Два столь различные человека, как епископы Алексий и Николай, конечно, не могли нравиться друг другу и по-настоящему любить друг друга: они и не любили, а последние годы буквально не переваривали друг друга. И прошли весь жизненный путь вместе, не расставаясь ни на миг, на протяжении 40 лет. И вошли в историю церкви рядом: невозможно писать об одном и не говорить о другом.
Если народ уважал епископа Алексия, то епископа Николая буквально обожал: толпы поклонниц (реже поклонников, ваш покорнейший слуга в том числе) ходили за ним из храма в храм, ловили каждое слово, упивались его красноречием, восхищались его добротой, ласковостью, любезностью. Впрочем, люди, знающие его ближе, сталкивающиеся с ним по делам, восхищались им уже гораздо меньше. Они знали, что с каким бы делом вы к нему ни обратились, он пообещает все на свете, расцелует, обнимет и… попросит прийти недели через три. Недели через три повторится та же история: вас попросят зайти через месяц. Потом еще через месяц… и, как в периодической дроби, до бесконечности. Что было удивительно у владыки — это необыкновенное умение держать себя в руках. Ласковость и теплота обходились ему нелегко, потому что по характеру он был отнюдь не ласковый человек. Но культура, долголетняя тренировка сдерживали раздражительность. Иногда вдруг сорвется в алтаре резкое «дурак!» на иподиакона, и тут же усилие (на лице видна игра мускулов) и опять спокойствие, умиление, ангельская безмятежность. Было в нем много человеческих, хороших черт. Прежде всего, необычайная привязанность к родным. Будучи в зырянской ссылке, он попал, при всей его осторожности, под суд за то, что, получив письмо о болезни отца, дал радиограмму с запросом о его здоровье. Я присутствовал на похоронах отца Дорофея Ярушевича, умершего 22 сентября 1930 года, в Киевском Подворье. Владыка буквально исходил слезами; рыдания не давали ему служить; с предсмертной болезнью Екатерины Ивановны (его матери), умершей в 1939 году, связана страшная обида, нанесенная ему Патриархом Алексием, — обида, которая никогда не заживала, которая отравила навсегда их отношения. Об этом пойдет речь впереди.
Уже в те годы епископ Николай, так же, как и епископ Алексий, вел переговоры с представителями власти. Это они подготовляли знаменитую Декларацию митрополита Сергия 18 мая 1927 года. Причем первенствующая роль принадлежала епископу Николаю: очень умно, очень осторожно, оставаясь в тени, он расчищал путь компромиссу.
И тем не менее епископ Николай (дипломат и политик) был безусловно честным человеком. В этом я убедился много позже, когда в 30-е годы, будучи уже студентом, разлетелся к владыке (в Петергоф) с просьбой благословить студенческую тайную организацию. Владыка промолчал, затем взглянул в окно и сказал: «Опять проливной дождь, у Вас есть зонтик, Анатолий Эммануилович?» «Нет», — оторопев от неожиданности вопроса, ответил я. «Ну, возьмите мой. Елена Васильевна, (это прислуга), дайте Анатолию Эммануиловичу зонтик!» Когда же я отказался от зонтика, владыка меня благословил и, как обычно, со мной поцеловался. Одного его слова было достаточно, чтоб погубить меня и ряд людей. Это слово сказано не было. Он оказался порядочным человеком.
Свой некролог о нем, получивший в свое время широкое распространение в церковном самиздате и напечатанный за рубежом, я заканчиваю словами: «Владыко, до свидания, дорогой!» Не за горами уже теперь это свидание, а пока мне еще много писать о нем.
Помимо трех епископов, упомянутых выше, в Питере в это время служили следующие архиереи: Иннокентий Кронштадтский (Благовещенский), арестован и сослан на Соловки вместе с епископом Венедиктом в 1926 году; епископ Николай Сестрорецкий, арестован в 1926 году; епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев), наместник Александро-Невской лавры, (уехал из Питера в июле 1928 года, будучи назначен епископом Феодосийским); еписком Гдовский Димитрий (Любимов), служил в Покровской церкви на Покровском рынке (ныне площадь Тургенева), впоследствии инициатор и главный вождь иосифлянского движения, арестован в 1931 году; епископ Нарвский Сергий (Дружинин), служил в храме Воскресения-на-крови, впоследствии деятель иосифлянского движения, арестован в 1931 году; архиепископ Гавриил (Воеводин), пребывал на покое, служил в Федоровском подворье, арестован в 1932 году; епископ Стефан (Вех), пребывал на покое, арестован в 1929 году; епископ Аркадий (Остальский), служил в Киевском подворье в 1928–29 годах; кроме того, в Любани служил епископ Колпинский Серафим (арестован в 1930 году); а в Макарьевой пустыни проживал на покое архиепископ Макарий, арестованный в 1932 году.
В октябре 1927 года был рукоположен епископ Детскосельский (впоследствии Лодейнопольский) Сергий (Зинкевич), арестован в 1934 г.
Таким образом, в промежуток между 1925–29 гг. на территории Питерской епархии служило 14 епископов. Если учесть, что с 1 декабря 1925 года, после ареста патриаршего местоблюстителя Петра Крутицкого, центральной церковной власти до мая 1927 года фактически не было, что в Питере также отсутствовал митрополит, а у каждого епископа была самостоятельная позиция в церковной ситуации, то не трудно представить себе ту невероятную путаницу, которая существовала в Питерской епархии. Эта путаница усиливалась еще тем, что каждый из епископов имел своих приверженцев как среди духовенства, так и среди верующих; каждый имел свое окружение, фанатичных почитателей, неистовых кликуш, которые относились с дикой нетерпимостью ко всем, кто почему-либо и в чем бы то ни было не соглашался с «нашим владыкой». Питерская епархия была зеркалом русской церкви, ибо и по всей Руси происходило нечто подобное.
После ареста митрополита Петра возник еще новый раскол — «григорианский». Церковную власть оспаривали друг у друга митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) и Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Екатеринбургским Григорием (Яцковским). Вскоре, однако, выяснилось, что огромное большинство верующих идет за митрополитом Сергием. Тогда (осенью 1926 г.) митрополит Сергий был арестован. На короткое время во главе церкви очутился архиепископ Ростовский Иосиф (Петровых), арестованный через два месяца. После этого верховная церковная власть неожиданно перешла к простому викарному архиерею Ярославской епархии: Угличскому епископу Серафиму (Самойловичу). Власть его была чисто номинальной: никто о нем ничего не знал и никто к нему никогда ни за чем не обращался.
Для иллюстрации церковной неразберихи приведем следующее документальное свидетельство. Вот перед нами «Протоколы епархиального съезда Семипалатинской области». (Семипалатинск, 1926 г.) Открывая съезд, один из протоиереев (епископа в этот момент в городе не было) докладывает, что руководящая группа духовенства разыскивала, у кого теперь находится церковная власть (sic!). С этой целью священники обратились с запросом к бывшему епископу Бийскому Иннокентию, проживающему на покое в Николо-Угрешском монастыре, под Москвой. Епископ Иннокентий ответил, что он обращался по этому вопросу к епископу Серпуховскому Алексию (Готовцеву), который сообщил, что церковная власть находится у епископа Угличского Серафима. Таким образом, целая епархия разыскивает церковную власть, точно иголку в стоге сена. Ясно — власти в русской церкви фактически не было.
Это факт, который следует учесть церковному историку при оценке Декларации митрополита Сергия и тех побудительных причин, которые заставили его в мае 1927 года пойти на «легализацию». Но мы сейчас пишем не историю, а воспоминания. Вернемся опять в Питер.
Попробуем вкратце охарактеризовать позицию различных епископов. Епископы Венедикт Ладожский, Иннокентий Кронштадтский и Николай Сестрорецкий занимали резко отрицательную позицию по отношению к обновленцам и считали необходимым отстаивать независимость церкви. Не исключая при этом возможности соглашения с властью на основе сохранения хотя бы относительной независимости церкви.
О епископе Венедикте мы уже говорили. Епископ Иннокентий (Благовещенский) — личность несомненно более крупная и более популярная, чем епископ Венедикт. Интеллигентный, начитанный, владыка был хорошим проповедником и пастырем, человеком мягким и общительным, но твердой воли и огромной убежденности. Его перу принадлежат все воззвания, исходившие от митрополита Вениамина и направленные против Живой Церкви. В 1925 году он, вместе с епископом Венедиктом, был освобожден из тюрьмы, вместе с ним руководил епархией, а потом, в 1926 году, вместе с ним был снова арестован. Он служил в храме Воскресения-на-крови, любил также домашние богослужения. Владыка Иннокентий был представителем ученого монашества, питомцем Петербургской Духовной Академии. Видимо, он был богословом по призванию, педагогом, исследователем. И даже в это время он находил возможность вести преподавательскую деятельность. В селе Смоленском, — там, где сейчас высится здание Мелькомбината им. Кирова, — была избушка на курьих ножках. В этом деревянном домике жила семья, близкая владыке. Старший сын Коля был его иподиаконом. Здесь, в чистенькой светелке, убранной по-мещански, с белыми занавесочками на окнах, с многочисленными цветами в горшочках, с канарейкой в клетке, владыка иногда совершал литургию. Из шкафа вынимали священные сосуды, на столе, поверх белой скатерти, расстилался антиминс. Владыка надевал епитрахиль и омофор поверх монашеской мантии, Коля и его мама подпевали. На литургии присутствовало человек 10 молодежи. Мой приятель (о. Матфей из лавры, о нем речь впереди) приводил меня туда два-три раза. После литургии подавали чай. Владыка садился на диван. Взрослые усаживались на стулья, мальчишки, в том числе и я, — прямо на пол. Владыка начинал беседу. Любимая тема — история церкви.
Здесь я впервые услышал о вселенских соборах, о борьбе с Арием, о христологических спорах. С арестом владыки в 1926 году беседы, разумеется, прервались, но и то, что я успел услышать, не пропало для меня даром. Я начал усиленно рыться в энциклопедии (издат. «Просвещение»), которая у нас была, и уже тогда составил себе некоторое понятие об истории вселенской церкви.
А владыка пошел своим крестным путем. После заключения и ссылки, он в 1933 году был назначен епископом Орловским. Здесь его настиг 1937 год. Так же, как о епископе Венедикте, о нем писали в газетах и антирелигиозных брошюрах. Газета «Безбожник» сочинила идиотскую повесть о том, что, якобы, он основал в Орле «контрреволюционную организацию». Затем слух о нем замолк. Черная завеса опустилась над его памятью. Можно предполагать, он был расстрелян летом 1937 года в знаменитом Орловском централе.
Примечательной личностью был также и третий член этой троицы — епископ Сестрорецкий Николай. Протоиерей Свято-Духовского собора на Охте, он был пострижен Патриархом Тихоном в монашество и рукоположен во епископа Сестрорецкого в 1924 году, после ареста епископа Мануила. Епископ Николай отличался молитвенным настроением, был человеком мистического склада, благотворителем, скромным, тихим. Арестованный в 1926 году, он на короткое время возвратился в Питер в 1930, поселился у дочери на Охте. Свято-Духовский собор в это время был уже закрыт. Не имея возможности служить, так как власти не давали ему обязательную в то время регистрацию, епископ ежедневно посещал Грузинское подворье (небольшую церковь, еще остававшуюся на Охте).
Он ежедневно причащался Святых Тайн, всегда пребывая в глубоком молитвенном созерцании. В сентябре 1932 года (при паспортизации) епископу отказали в ленинградском паспорте; ему пришлось уехать в Нижегородскую область. В 1937 году и его следы исчезают…
Одним из самых популярных тогда в Питере епископов был владыка Григорий Лебедев. Он был прислан к нам из Москвы от Патриарха Тихона в начале 1925 года. В нем все импонировало. Стоит он передо мной как живой и сейчас: пенсне, высокий рост, каштановые волосы… Он служил эмоционально, с порывом, четко и ясно произносил молитвы. Своим внешним видом и манерой служить несколько напоминал отца Михаила Яворского. И проповеди его были необычайно смелы. Помню, например, его проповедь на тему «Поддельный рай». Он произнес ее в прощенное воскресенье, в лаврском соборе, в 1926 г. «Люди всегда стремятся к раю, к единению с Богом, к блаженству. Это свойство, заложенное в них Творцом, — это и есть Образ и Подобие Божие. Но настоящего рая достигнуть трудно; для этого нужна непрестанная работа над собой, надо очищать себя от грехов, от пороков, надо бороться с греховными мыслями, с чувствами. И вот — уловка сатаны: этот рай можно, оказывается, достичь легко и просто: надо лишь несколько иначе распределить доходы, сделать всех сытыми — и наступит земной рай. Это попытка заменить трудное легким, духовное плотским, подлинное бутафорским. Но, как всякое картонное сооружение, бутафорский рай рассыпается от малейшего толчка, разлетается от порыва ветра. Таким порывом ветра является человеческая злоба, страсти, честолюбие. При одном их порыве все рассыплется в прах, рухнут картонные стены, и останется одна лишь тьма. Будем же искать истинный, подлинный рай, и для этого очистим сейчас, в наступающем посту, наши сердца и чувства, да узрим Христа, воскресшего из мертвых. Аминь».
Принципиальная линия епископа Григория резко отличалась от линии епископов Алексия и Николая. Если епископы Алексий и Николай были сторонниками компромисса с властью и воссоздания духовного центра, то епископ Григорий был сторонником децентрализации. Он считал, что в советских условиях возможен лишь церковный плюрализм. Рассредоточенная церковь, состоящая из автокефальных епархий, лучше сможет противостоять натиску безбожников, хотя бы потому, что приручить несколько сот епископов гораздо труднее, чем одного, стоящего во главе церкви. Эту теорию епископ очень умело применял на практике: пользуясь древним правом ставропигии, которую имели лавры, владыка никому не подчинялся и поминал лишь патриаршего местоблюстителя митрополита Петра. Его единомышленники были состоявшие на покое, но служившие в Питере архиепископ Гавриил (Воеводин) и епископ Стефан (Бех).
Когда в 1927 г. была восстановлена центральная церковная власть, во главе с митрополитом Сергием, а в Питер был назначен митрополит Серафим, решено было в первую очередь избавиться от епископа Григория. В 1928 г. епископ был назначен в Крым, в город Феодосию. В Феодосию, однако, владыка не поехал, а, подав на покой, проживал в Кашине (своем родном городе). Туда к нему ездили его сторонники.
Арестованный в 1932 г., епископ Григорий отбыл 10 лет заключения и был одним из немногих, кто уцелел во время ежовщины. После войны он вновь поселился в Кашине и здесь, насколько я знаю, поддерживал связи с катакомбной церковью. Умер он в 1948 году.
Таков, в общих чертах, был питерский епископат, когда начались события 1927 года. События, которые определили то положение, в котором находится русская православная церковь до сего дня.
1927 год. Переворот митрополита Сергия
1927 год в истории русской церкви, год появления знаменитой Декларации митрополита Сергия, — то же, что 1917 в истории России. Это поворотный пункт. До сих пор вся жизнь церкви протекает под знаком этого года. В Питере он проходил особенно остро, поэтому его я выделяю в отдельную главу.
Но прежде всего несколько слов о себе. В этом году мне исполнилось 12 лет. Когда мне было 8, бабушка, вспылив, про меня говорила: «Это дрянь малая». В 1927 году «дрянь малая» стал большой дрянью. В преддверии 12 лет резко обострились все присущие мне черты характера: почти патологическая вспыльчивость, резко выраженный эгоцентризм. Анархизм, присущий мне от природы, выразился в полном нежелании подчиняться какой-нибудь дисциплине: в школе я бывал лишь редким гостем.
Тогда у меня были две страсти: чтение и церковь. Читал я в течение двух лет трех авторов. «Бесы» Достоевского (прочел 15 раз, так что мог пересказать всю книгу близко к тексту), «Графиню Монсоро» А. Дюма-отца (прочел не менее 20 раз) и полное собрание сочинений Д. Л. Мордовцева, ныне забытого исторического романиста. Впоследствии я всегда рекомендовал ученикам читать исторические романы. Я до сих пор считаю, что это лучший метод изучения истории. Благодаря Дюма, последние Валуа, Генрих 4 и Людовики — для меня старые знакомые. Чтение исторических романов — это единственный способ наполнить схему жизнью, перенести ученика в отдаленную эпоху. Учебники и учителя здесь бессильны.
Не могу точно определить, что меня влекло к Достоевскому. Я его читал обычно поздно вечером, несмотря на гнев бабушки, которая требовала, чтоб я ложился спать. Как сейчас помню: 12 часов, все спят, напряженная тишина, «бессмысленный и желтый свет» лампы — и Достоевский. Все это сливается в ощущение напряженности, тревоги, кошмара…
Выше я упоминал о Толстом. Но вся моя жизнь — это спор Толстого с Достоевским. В юности, в середине жизни, побеждал Достоевский. Теперь, в старости, ближе Толстой. Хочется ясности, цельности, полноты…
А в воротах старец с серебряной бородой.
Но главное содержание жизни — церковь. Сейчас, вспоминая себя в то время, я вижу, что я был более церковен, чем религиозен. Архиерейские служения, церковное благолепие — все это меня чаровало. Я был в детстве фанатиком-обрядовером. Благодаря хорошей памяти, я уже тогда знал службу наизусть; знал наизусть даже некоторые акафисты (любимый мною акафист Иисусу Сладчайшему и наш питерский акафист Божией Матери «Отрада», составленный кем-то в двадцатые годы. Он читался в Новодевичьем монастыре). Плохо лишь дело было с пением: медведь на ухо наступил. Самое любимое — быть в стихаре около архиерея, с посохом, на виду у всей церкви. Все посты, все обряды соблюдал до мелочи, что не мешало мне грубить и огорчать бабушку и ругаться среди мальчишек как последний извозчик. Себя в будущем я видел архиереем, митрополитом, а пока проповедовал бабушке и Поле и читал им богословские лекции.
Церковные дела меня увлекали больше всего, а потому уже тогда я знал все сложные перипетии церковной жизни. Буду продолжать свой рассказ о них.
Осенью 1926 года совершилось знаменательное событие: впервые после расстрела митрополита Вениамина питерцы увидели белый клобук. Наконец был назначен в Петроград митрополит. Это был во всех отношениях выдающийся человек, вошедший в историю русской церкви: Иосиф Петровых. Ему тогда было не больше 50 лет. Высокого роста, борода лопатой, рыжеватая, с сединой. Настоящая русская борода — не то что у наших архиереев-академиков, которые носили элегантно подстриженные французские бородки. Крестится истово, кладет во время ектеньи поясные поклоны; в лице суровость и сосредоточенность. Таким предстал владыка-митрополит перед питерцами в то единственное богослужение, которое ему удалось совершить в соборе Александро-Невской лавры 12 сентября 1926 года.
За плечами митрополита был долгий путь. Сибиряк по происхождению, из крестьян (брат его служил в Питере бухгалтером), владыка с детства ходил по монастырям, затем окончил семинарию и академию. Он постригся, как все архиереи, на 3-ем курсе, но по типу резко отличался от тогдашнего ученого монашества, зараженного (впрочем, не только тогда) духом церковного карьеризма. Строгий монах, аскет, он был воспитан на «Добротолюбии», которое было его любимой книгой. Даже в то бурное время непрестанно перечитывал он по-гречески писания Св. Симеона Нового Богослова. Лично знал и был близок в свое время к отцу Иоанну Кронштадтскому. Будучи иеромонахом, вошел в круг Великой Княгини Елизаветы Федоровны, святой женщины, явившей в романовской династии пример высокой духовности, которая, несомненно, должна быть со временем канонизирована. Был близок также к Патриарху Тихону, когда тот был еще архиепископом Ярославским. При преемнике архиепископа Тихона на ярославской кафедре, архиепископе Агафангеле, был рукоположен во епископа Ростовского, викария Ярославской епархии. В Ростове он провел все бурное революционное время. Во время раскола был главным советником митрополита Агафангела, а после его ссылки стал управлять Ярославской епархией. Патриарх Тихон после своего освобождения возвел его в сан архиепископа. После ареста митрополита Петра (в декабре 1925 года), во время возникшей затем смуты, он выступил как решительный противник инспирированного властью Высшего Церковного Совета во главе с архиепископом Григорием и энергично поддержал законного заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия. Между тем, митрополиту Сергию власти предложили «легализацию», т. е. попросту подчинение церкви государству[6]. После отказа митрополита Сергия от легализации он был арестован, и на короткое время высшая церковная власть перешла в руки архиепископа Иосифа. И ему была предложена «легализация». Но архиепископ даже говорить на эту тему не захотел, после чего также был арестован, успев передать свою власть единственному близкому к нему архиерею, Угличскому епископу Серафиму (Самойловичу). Осенью 1926 года митрополит Сергий и архиепископ Иосиф были освобождены, и архиепископ Иосиф был назначен митрополитом Сергием к нам в Питер с титулом митрополита Ленинградского. Когда митрополит Иосиф ехал к нам в Питер, ему многое было невдомек. Между прочим то, что соглашение между митрополитом Сергием и Тучковым (членом коллегии ОГПУ, ведающим церковными делами) о легализации уже достигнуто и лишь решено его на некоторое время держать в тайне. После своей первой и, как оказалось, единственной службы в лавре, митрополит Иосиф поехал проститься со своей ростово-ярославской паствой. Однако по дороге, будучи в Москве, он получил приглашение к Тучкову на Лубянку. Тучков счел нужным позондировать, как относится к «легализации» митрополит Иосиф — второе, после митрополита Сергия, лицо в русской православной церкви. Результатом этого «зондажа» было то, что митрополит Иосиф, приехав в Ростов Ярославский для прощания со своей паствой, получил уведомление, что ему выезд из Ростова воспрещен. Причина была ясна: Тучков прекрасно понимал, что для проведения в жизнь «легализации» необходимо, чтоб во главе Питера (важнейшего после Москвы церковного центра) стоял сторонник «нового курса» церковной политики. В управление Петроградской епархией вступил епископ Петергофский Николай, убежденный сторонник «легализации», тесно связанный с епископом Алексием, а через него — с митрополитом Сергием.
В церквах поминались имена Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра и митрополита Иосифа, но для всех было ясно, что ни первый, ни второй уже никогда к кормилу церковного управления не вернутся. Власть, однако, наученная горьким опытом полного провала обновленчества, действовала осторожно. Формально все оставалось по-старому. Однако весной 1927 года начали появляться первые тревожные симптомы: в апреле 1927 года произошло сразу несколько событий: были одновременно арестованы епископ Григорий (Лебедев) и его единомышленник архиепископ Гавриил (Воеводин). Епископ Николай был официально утвержден управляющим Ленинградской епархией, а епископ Алексий неожиданно уехал в Москву.
Все эти три события, совершенно между собой как будто не связанные, имели, как оказалось потом, очень близкое друг к другу отношение. В мае 1927 г. в Москве собралась сессия вновь учрежденного Синода во главе с митрополитом Сергием, принявшая знаменитую Декларацию, которая до сего времени служит основополагающим документом в отношениях церкви и государства в СССР. Напомним основные положения этой декларации. 8 архиереев во главе с митрополитом Сергием заявляют о своей полной лояльности по отношению к советской власти, обращаясь к ней, они говорят: «Ваши радости есть наши радости, ваши скорби есть наши скорби». В то же время они отмежевываются от заграничных иерархов и требуют от них подписки о лояльности по отношению к советской власти. Главное, однако, было не в декларации, главное было в том, что митрополит Сергий согласился на принцип «легализации»: регистрации органами власти всех священнослужителей. Официально священнослужители до 1943 года регистрировались церковным столом при местном городском Совете (на самом же деле все священнослужители фактически утверждались ОГПУ — Объединенным Государственно-Политическим Управлением), причем церковными делами ведал Тучков, умный, хитрый и изворотливый старый чекист. Епископ Алексий (Симанский) и поехал (держа это от всех в глубокой тайне) на сессию Синода. Епископ Николай был перед этим официально утвержден управляющим епархией. В этой связи понятен арест епископа Григория и архиепископа Гавриила — двух заведомых противников «легализации» (особенно опасен был популярный и талантливый епископ Григорий). Надо сказать, что все эти события происходили в атмосфере необычайной таинственности: Декларация митрополита Сергия и его Синода была опубликована в советской печати лишь через три месяца: 19 августа 1927 года, а официально доведена до сведения верующих лишь в сентябре 1927 г., когда она читалась с амвонов по церквам.
Сейчас, конечно, не вызывает никаких сомнений причина этой отсрочки: Тучков хотел поставить церковь перед совершившимся фактом, он согласился на опубликование Декларации только тогда, когда она была проведена в жизнь: все неугодные архиереи были сняты со своих епархий и заменены сторонниками «нового курса».
Одним из первых был отставлен митрополит Иосиф. В июне 1927 года последовал указ о его переводе на Одесскую кафедру. Во всех храмах Петроградской епархии поминалось теперь имя епископа Николая. Все прошло тихо и спокойно. Не раздавалось никаких протестов. Осенью 1927 г., в сентябре, для того, чтоб окончательно закрепить Петроградскую епархию за сторонниками «нового курса», был рукоположен новый епископ — Сергий (Зинкевич).
Всех, однако, поражало одно странное обстоятельство: с епископом Николаем служил лишь один епископ Сергий. Все остальные епископы отказывались с ним служить. Это было странно и непонятно и показывало, что не все благополучно в «королевстве Датском». Наконец, в конце октября произошло первое большое событие, говорящее о новом курсе. Власти разрешили открытие епархиального совета. Открытие епархиального совета было задумано как грандиозное церковное торжество, которое должно было показать верующим, что в церковь пришла новая эра.
В храме Воскресения-на-крови (временном кафедральном соборе Питерской епархии) были назначены литургия и молебен. По храмам было объявлено, что литургию совершит собор всех питерских епископов во главе с преосвященным Николаем, епископом Петергофским, и в сослужении всего питерского духовенства. После литургии должен был быть совершен молебен. Каково же было всеобщее изумление, когда на литургию приехал лишь один епископ Сергий. Епископ Николай вышел только на молебен. Все остальные епископы опять отсутствовали. Правда, на молебен собралось большое количество духовенства, однако не все, а едва ли десятая часть — человек 30. Епископ Николай произнес перед молебном длинную речь; начав с того, что епархиальный совет Ленинградской епархии соберет воедино все духовные силы города, покончит с расколом, будет бороться с обновленчеством, сектантством, атеизмом, объединит достойнейших пастырей города, епископ затем заявил, что всему этому мы обязаны власти. Поэтому мы должны отплатить советской власти полной лояльностью и нелицемерной преданностью. В конце речи епископ преподнес сенсационное известие: митрополит Сергий (заместитель патриаршего местоблюстителя) сам берет на себя управление нашей епархией и 6-го декабря (в праздник св. Александра Невского) прибудет в Питер и совершит литургию в Александро-Невской лавре. Далее последовал восторженный панегирик митрополиту Сергию. Епископ напомнил, что еще и 1917 г. Сергий Страгородский был одним из кандидатов в митрополиты Петроградские, что еще раньше он был в Питере викарным епископом, часто служил в питерских храмах и многие помнят его вдохновенные проповеди. (Надо сказать, что, глубокий богослов и замечательный церковный писатель, митрополит Сергий был никуда не годным проповедником, и не только не говорил «вдохновенные» проповеди, но двух слов не мог связать). Речь епископа заканчивалась словами: «И сегодня же мною будет отдано распоряжение, чтоб вместо моего имени, как имени временно управляющего Ленинградской епархией, возносилось бы имя господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Сергия».
Епархиальный совет открылся в Новодевичьем монастыре (около Московских ворот), в игуменских покоях, председателем был избран протоиерей отец Леонид Богоявленский (бывший настоятель Исакиевского собора, в то время настоятель Троицкого собора на Измайловском проспекте). В работе епархиального совета участвовало несколько протоиереев и только два епископа. Ни один из питерских епископов, кроме Николая и Сергия, в епархиальный совет так и не вступил.
1927 г. ознаменовался еще одним событием: 1-го декабря был открыт богословский институт, это действительно была сенсация — первое православное богословское учебное заведение на территории СССР с 1919 года. Правда, в Москве и Ленинграде функционировали обновленческие академии и институт, но не было института православного. Отец Николай Чуков стал ректором. В институте занятия происходили исключительно в вечернее время; преподавали питерские протоиереи; учащимися были молодые священники и диаконы. Увы! Институт просуществовал немного более года. В январе 1929 года он был закрыт. Конец ноября ознаменовался еще одним радостным событием, — были освобождены из заключения архиепископ Гавриил и епископ Григорий.
Но вот наступил декабрь — месяц, когда ожидали приезда митрополита Сергия. 5 декабря митрополит должен был днем совершить молебен в храме Воскресения-на-крови; там должно было состояться представление митрополиту питерского духовенства. А всенощную и обедню он должен был совершать в лавре. Уже в два часа дня, за час до начала молебна, я был около храма Воскресения-на-крови. Подойдя к храму, я нашел кучку народа, недоуменно перешептывающуюся; никого из духовенства не было, а двери храма были заперты. Оказывается, митрополит в Питер по неизвестным причинам не приехал. В лавре нас ожидал новый сюрприз: всенощную совершал епископ Николай с двумя Сергиями (престарелым епископом Нарвским Сергием и нашим молодым епископом Детскосельским). Ни епископ Григорий, только что вышедший из заключения, и никто другой из епископов, стоявших в алтаре, не облачились и не служили. Надо сказать, что два праздника Александра Невского (12 сентября — перенесение мощей св. князя из Владимира в Питер, и 6 декабря — день кончины святого) празднуются в Питере особенно торжественно. Для нас, верующих, наш город является не городом Петра I и не городом Ленина, а городом Александра Невского, одержавшего на этом месте победу над шведами. Несметные толпы молящихся в этот день заполняют лавру. В то время обычно в богослужении участвовали все епископы и более сотни священников. Невыход епископов из алтаря в такой день был явной демонстрацией, нежеланием служить вместе с епископом Николаем. (В алтаре находились епископы Гавриил, Григорий, Димитрий, Серафим, Стефан).
Но во время богослужения молящиеся были поражены еще одной невероятной особенностью: в то время как епископ Николай во время литургии поминал митрополита Петра и митрополита Сергия (на великом входе и после «Достойно»), архидиакон поминал лишь одного митрополита Петра. После молебна многолетие было провозглашено также одному лишь митрополиту Петру. Случайностью это быть не могло. Диакон действовал по приказу епископа Григория. Для всех стало ясно, — назревает новый раскол. Так, в смятении и смутном беспокойстве, заканчивался для верующих питерцев знаменательный в церковной жизни 1927 год.
Мемуарист только рассказывает, оценивает историк. До сих пор говорил мемуарист. Что скажет историк?
Многое из рассказанного выше совершенно непонятно: непонятно, зачем понадобилось властям выпускать на волю епископа Григория (Лебедева) и архиепископа Гавриила (Воеводина), двух явных противников митрополита Сергия и легализации, как раз в тот момент, когда решалась судьба нового курса церковной политики. Совершенно непонятно, почему власть воспрепятствовала приезду в Питер митрополита Сергия, хотя вступление в управление Петроградской епархией было безусловно согласовано с ГПУ. Все становится, однако, совершенно ясным, если принять во внимание, что ГПУ вело по отношению к церкви двойную политику и играло с ней как кошка с мышью. Опираясь на митрополита Сергия, ГПУ в то же время не желало его усиливать, оно хотело превратить его в такую же марионетку, как обновленческий синод, и потому науськивало на него недовольных «новым курсом». В конечном итоге эта политика удалась, но в данный момент ГПУ переиграло. Оно не учитывало того, что возникнет иосифлянское движение фанатиков-энтузиастов, в результате чего разразится так называемый «правый раскол».
Он разразился в 1928 г. О нем пойдет речь в следующей главе.
1928 год. Иосифлянский раскол. Митрополит Серафим Чичагов
В 1928 году я знал девушку Олю, которая жила на Васильевском острове. Простая русская девушка, с лицом в веснушках, с пухом на щеках, веселая и говорливая. Дочь завхоза из Академии художеств. Она вместе с двумя подругами была постоянной прихожанкой Киевского подворья. По воскресеньям мы всегда возвращались от обедни вместе: мальчишки и девчонки (она была старше меня — ей было в ту пору 18 лет). Потом она исчезла, в 1928 году я увидел ее в храме Воскресения-на-крови (самом центре подготовлявшегося раскола). Она молилась со слезами на глазах, стоя на коленях у колонны, близ дверей. При выходе из храма я к ней подошел. Мы вышли вместе. Не утерпев, я спросил: «Оля, о чем Вы молились сегодня так горячо, на коленях?» Просто и без запинки она ответила: «Я молилась о том, чтобы умереть мученицей». Мы шли по набережной Екатерининского канала (сейчас канал Грибоедова). Дул сильный питерский ветер, солнце светило, мы шли к Невскому на трамвай. Ясная улыбка освещала ее полудетское, в веснушках, лицо. Неожиданно я сказал: «Олечка, Вас солнце любит!» «Любит, — сказала она, — это мне папа всегда говорил». (Это о веснушках)…
Господь услышал ее молитву: она вышла замуж за иосифлянского псаломщика, красивого, с сумасшедшими, одержимыми глазами. Когда его арестовали, ее выслали в Боровичи. В 1935 году, на страстной, умер ее отец. Не выдержала — приехала в страстную пятницу проститься с умершим. Донесли соседи. Ее арестовали. Дали ей за незаконный приезд 5 лет лагерей. Там, в лагерях, застал ее 37-ой. Все попытки узнать о ее судьбе оказались тщетными.
Я рассказал историю Оли, потому что именно на таких людей опиралось иосифлянское движение, официально оформившееся в Питере 19 января 1928 г. Рассказывая в предыдущей главе о служивших в Питере епископах, я сознательно умолчал о двоих: о епископе Гдовском Димитрии (Любимове) и о епископе Нарвском Сергии (Дружинине). О них пойдет речь сейчас, потому что они возглавили иосифлянский раскол. Биография их такова.
Епископ Димитрий в течение очень долгого времени был священником Покровской церкви в Коломне, на Покровском рынке (ныне площадь Тургенева). До революции он был энергичным, деятельным пастырем, одним из руководителей общества трезвости. В 1914 г. его постигло первое серьезное испытание: его единственная дочь, учившаяся в немецкой школе, «Annenschule», вышла замуж за немецкого офицера и уехала с ним в Германию, а через несколько месяцев разразилась война. Отец с дочерью были разлучены навсегда. После революции, в голодные годы, от тифа умерла его жена. Отец Димитрий стал еще духовнее, еще преданнее Богу, еще молитвеннее. Во время обновленческого раскола он хранил непоколебимую преданность церкви.
Надо сказать, что Покровский храм имел особое значение в духовной жизни Питера. Причт этого храма отличался просвещенностью и энергией. Настоятелем был известный питерский протоиерей о. Василий Акимов — магистр богословия, окончивший, кроме Духовной Академии, университет. В прошлом — законоучитель созданной Победоносцевым образцовой Свято-Владимирской Духовной гимназии на Забалканском проспекте, пользовавшийся любовью своих учениц. Великолепный администратор и народный деятель. Вторым священником был популярнейший питерский протоиерей отец Николай Чепурин, высококультурный человек, биолог, получивший образование в Оксфорде, впоследствии окончивший Духовную Академию. Отец. Димитрий был третий священник этого храма. Окончив в свое время Петербургскую Академию по 1-ому разряду, о. Димитрий был, пожалуй, популярен еще более, чем два его сослужителя, благодаря своей молитвенной ревности. В 1926 году митрополит Сергий постриг его в монахи (за ним сохранилось, по его просьбе, прежнее имя, только покровителем его стал вместо святителя Димитрия Ростовского великомученик Димитрий Солунский) и рукоположил во епископа Гдовского. Он служил по-прежнему в Покровском храме.
Одновременно с ним был рукоположен престарелый инок, о. Сергий Дружинин. Отец Сергий был из неученых монахов: в молодости служил вагоновожатым на конке, а потом на трамвае. Затем постригся в Троице-Сергиевой пустыни, заслужил всеобщее уважение своей строгой монашеской жизнью. В 1925 году его, уже тяжело больного старца (он был болен водянкой), митрополит Сергий также рукополагает во епископа Нарвского. Такое обилие рукоположений объясняется желанием сохранить иерархию несмотря на непрерывные аресты архиереев.
Так или иначе, митрополит Сергий совершил ошибку, избрав этих двух епископов, ибо именно они стали главными противниками сергиевской политики в Петрограде. На протяжении всего 1927 года они непрерывно сносились с митрополитом Иосифом, проживавшим в монастыре под Ростовом Ярославским, и ждали лишь указания от него, чтоб открыто выступить против митрополита Сергия. Такой сигнал был дан в конце декабря 1927 года. И вот, на Рождество 1928 года, епископы Димитрий и Сергий, совершив праздничную литургию в храме Воскресения-на-крови, по приглашению своего сторонника, настоятеля о. Василия Верюжского, помянули вновь митрополита Иосифа как митрополита Ленинградского. После литургии епископ Димитрий, обратясь к народу, сказал, что он не признает смещения митрополита Иосифа, т. к. оно сделано под давлением гражданской власти, и считает владыку Иосифа единственным законным митрополитом Ленинградским. Через несколько дней оба епископа получили из Москвы телеграфное распоряжение от митрополита Сергия, смещающее их с кафедр и запрещающее (впредь до покаяния) священнослужение.
19 января 1928 года — день официального основания так называемого иосифлянского движения, от которого берет свое начало и так называемая истинно-православная, катакомбная церковь в СССР. В этот день — в праздник Богоявления — оба епископа, совершив литургию и водоосвящение в соборе Воскресения-на-крови, огласили воззвание, в котором заявляли, что считают митрополита Сергия узурпатором церковной власти, отметают все его распоряжения и акты, от него исходящие (в первую очередь Декларацию от 18 мая 1927 г. о лояльности по отношению к советской власти), никаких регистраций духовенства не признают, с духовенством, подведомственным митрополиту Сергию, порывают всякое молитвенное общение и единственным законным иерархом в Питере считают митрополита Иосифа, согласно назначению которого временно управляющим Петроградской епархией становится епископ Димитрий. Одновременно в Николо-Морском соборе епископы Николай и Сергий огласили воззвание митрополита Сергия, налагавшее запрещение на мятежных епископов и всех тех, кто будет с ними поддерживать какое-либо молитвенное общение. Раскол стал фактом.
Иосифлянский раскол, как его называли противники, иосифлянское движение, как его более деликатно называли нейтрально настроенные люди, древне-православная или истинноправославная церковь, как называли себя они сами, был во всех отношениях своеобразнейшим явлением, заслуживающим пристального внимания не только историка церкви, но и любого «советолога», желающего разобраться в жизни советской России 20-ых — 30-ых годов. Прежде всего дадим некоторые пояснения всему, сказанному выше. Почему иосифлянское движение оформилось лишь в январе 1928 года, а не в начале 1927 года, когда был смещен с ленинградской кафедры митрополит Иосиф? Дело в том, что будущие деятели иосифлянского движения и сам митрополит Иосиф ожидали возвращения из ссылки митрополита Агафангела (Преображенского).
Как известно, Патриарх Тихон незадолго до смерти составил завещание, согласно которому патриаршее местоблюстительство (для всех было ясно, что созвать собор для избрания нового патриарха власть не позволит) должно было перейти в случае смерти Святейшего к митрополиту Казанскому Кириллу. В случае, если митрополит Кирилл не сможет осуществить своей власти, высшая власть в русской православной церкви переходит к митрополиту Агафангелу, и лишь в качестве третьего кандидата был назван митрополит Петр Крутицкий. Ввиду того, что в момент смерти Патриарха владыки Кирилл и Агафангел были в ссылке (первый — в Коми-Зырянском крае, второй — в Пермской области), 60 епископов, собравшихся на похороны Патриарха, призвали на патриаршее местоблюстительство митрополита Петра, который правил церковью до 1 декабря 1925 года, когда был также арестован и сослан на остров Хе, на реке Енисее, и после этого лишь номинально находился во главе русской церкви. Но в конце 1927 года истекал 5-летний срок ссылки митрополита Агафангела, который имел больше прав на возглавление русской церкви, чем митрополит Петр и митрополит Сергий. Поэтому митрополит Иосиф и его сторонники с нетерпением ожидали его возвращения. Действительно, в 1927 году, еще находясь в Перми, митрополит Агафангел обратился с письмом к митрополиту Сергию, в котором заявлял о своих правах на местоблюстительство. Митрополит Сергий, однако, отказался передать ему власть. По возвращении митрополита в Ярославль, митрополитами Агафангелом, Иосифом и викарными епископами Серафимом и Иерофеем был подписан документ о непризнании Сергия и его Синода. Авторы этого документа несомненно рассчитывали, что им удастся увлечь за собой всю русскую православную церковь. Этого, однако, не произошло. Тучков не дремал. За митрополитами Агафангелом и Иосифом последовала лишь Ярославская епархия, епископ Алексий Буй (в Воронеже) и епископ Яранский Виктор (в Вятке). В это же время сторонники митрополита Иосифа в Питере заявили о своем разрыве с митрополитом Сергием. Надо сказать, что иосифлянство оказалось самой сильной группой в антисергианском движении. В Ярославской епархии оно полностью исчезло уже в 1929 году, после смерти митрополита Агафангела. В Вятской области оно также продержалось лишь несколько лет и лишь в самых глухих углах. В Ленинграде оно сохранилось вплоть до самой войны и, уйдя в подполье, породило так называемую катакомбную церковь, существующую в СССР до сего дня. Что из себя представляло иосифлянское движение в дни своего расцвета?
Главным его центром был величественный храм Воскресения Христова, на канале Грибоедова, или, как его называли, храм Спаса-на-крови. Храм этот был заложен в 1881 году на том месте, где был убит народовольцами император Александр II. Строился он в течение 25 лет, причем каждая русская губерния вносила в строительство храма свою лепту: гранит, мрамор, драгоценные камни. Весь храм внутри и снаружи был украшен мозаикой. Невысокий, одноярусный иконостас греческого типа открывал вид на внутренность алтаря. Вместо запрестольного образа красовалось мозаичное изображение Тайной Вечери дивной красоты, Христос и апостолы были изображены в человеческий рост. Около западной стены, противоположной алтарю, высился балдахин из черного мрамора, который осенял кусок петербургской мостовой — место, где был убит император. Храм был однопрестольный (ранние обедни служились в небольшом храме — типа капеллы — рядом с собором). Из всех питерских храмов этот был самый красивый. По сравнению с Казанским и Исакиевским соборами, он имел преимущество более пропорциональных форм. В Казанском и Исакиевском соборах, ввиду их громадных масштабов, совершенно пропадала красота богослужения: молящиеся видели лишь маленькие фигурки, одетые в парчу, суетящиеся на амвоне, причем слов, произносимых священнослужителями, никто не слышал. Храм Спаса-на-крови, наоборот, обладал прекрасной акустикой: каждое слово было слышно.
Настоятель этого храма, отец Василий Верюжский, — энергичный, глубоко верующий человек — открыл двери алтаря для всех священнослужителей, порвавших с митрополитом Сергием. Здесь служили монахи и священники со всех концов России, никакой регистрации у властей никто не спрашивал и мнением ГПУ никто не интересовался. Очень часто здесь служили епископ Димитрий и епископ Сергий. Храм всегда был переполнен. Пел хор под управлением Рождественского — лучший хор Питера. Во время богослужения произносились вдохновенные проповеди. Идеологи иосифлянского движения обычно сравнивали своих вождей с Григорием Богословом, который лишь один сохранял верность православию на Востоке в конце IV века, во время арианской смуты. Были популярны также сравнения с преп. Феодором Студитом и Максимом Исповедником, которые в одиночестве противостояли иконоборческим императорам.
Еще более экстатические речи произносились в Стрельне, где во главе храма стоял популярный в народе священник отец Измаил, известный у противников иосифлянства под именем «стрельненский фанатик». Отец Измаил, высокий, с длинными волосами, падающими с двух сторон до поясницы и во время проповеди развевающимися во все стороны, истошным голосом поносил «сергиевскую церковь», называя ее «вавилонской блудницей», а служение сергиевцев и обновленцев, между которыми он не делал никакой разницы, называл служением сатане.
В Лесном к иосифлянскому движению присоединился небольшой храм Тихвинской Божией Матери. Здесь приход разделился; большой каменный храм признал митрополита Сергия.
Сторонники митрополита Иосифа во главе с настоятелем, отцом Александром Советовым, обосновались в маленьком храме, где совершались богослужения в зимнее время.
Четвертый храм, присоединившийся к иосифлянству, был нижний храм Михаило-Архангельской церкви в Коломне. Этот великолепный храм имел в подвальном этаже Христорождественскую церковь, построенную по образу храма в Вифлееме в Яслях. Здесь-то и обосновались иосифляне во главе со священником о. Филофеем Поляковым, тогда как причт верхнего большого храма, во главе с настоятелем, отцом Михаилом Чельцовым, признал митрополита Сергия. Отец Филофей, однако, резко отличался от других иосифлянских священнослужителей, фанатичных, но искренних людей. Манерный, изнеженный, самовлюбленный, он впоследствии оказался троянским конем, засланным ГПУ в иосифлянское движение, в нужный момент перебежал к сергиевцам и занял одно из руководящих мест в Питерской епархии, которое сохранял вплоть до своей смерти в 1958 году.
Иосифлянской была также небольшая церковь Преображения Господня на Петровском острове (в Убежище престарелых артистов). Старые актрисы, являвшиеся прихожанами этого храма, оказались наиболее ортодоксальными.
Таким образом, официально к иосифлянам присоединилось пять приходов. Впоследствии, в 1929 году, к ним присоединилась также часть братии Александро-Невской лавры. В то время, однако, Александро-Невская лавра во главе с епископом Григорием держала «нейтралитет»: здесь не поминали Сергия, не подчинялись епископу Николаю, но и не присоединились к иосифлянскому движению. Такую же позицию занял архиепископ Гавриил. Нейтральным был также храм Спаса-на-водах во главе с настоятелем, отцом Владимиром.
Вскоре определились основные отличительные черты иосифлянского движения: прежде всего здесь не поминали властей. В храмах, признавших митрополита Сергия, была такая формула поминовения на великой ектеньи: «О богохранимей стране нашей и о властех ея, о еже мирное и безмятежное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, Господу помолимся». В храмах иосифлянских произносилась другая формула: «О богохранимей стране Российстей и о спасении ея Господу помолимся». Далее. Иосифлянские епископы и священники принципиально отказывались от регистрации и от каких бы то ни было сношений с властью.
Епископы и образованные священники (типа о. Василия Верюжского) обычно ссылались на закон об отделении церкви от государства. Однако менее ученые представители иосифлянства оперировали совсем другими аргументами, заимствованными из арсенала Союза русского народа. Меня сразу оттолкнула от иосифлянского движения явно черносотенная идеология, к которой я и тогда питал непреодолимое отвращение. Зоологический антисемитизм, ссылки на «Протоколы сионских мудрецов» и даже на дело Бейлиса (не говоря уже о монархических идеях) были той питательной средой, в которой развивалось иосифлянство. Хотя в то же время стремление к мученичеству, беззаветная преданность своим идеям, экстатическая религиозность внушали невольное уважение.
ГПУ было в первый момент, видимо, озадачено: за последние 5 лет оно отвыкло от такого открытого и бесстрашного протеста. Во всяком случае в течение двух лет репрессий не последовало. Здесь, видимо, опять помог горький опыт обновленчества: ГПУ опасалось скомпрометировать митрополита Сергия, обрушившись репрессиями на его противников; в результате народ мог бы отшатнуться от сергиевского духовенства как от агентов ГПУ.
Между тем, к весне 1928 года положение сторонников митрополита Сергия в Питере стало совершенно отчаянным; епископы Николай и Сергий оставались в полном одиночестве, кафедральный собор (Спаса-на-крови) от них отошел, в лавру их служить не пускали. Ни один епископ с ними не служил. В прощенное воскресенье и в неделю православия совершались традиционные богослужения в Троицком соборе на Измайловском проспекте. Обычно эти богослужения (вечерня в прощенное воскресенье и литургия с чином православия в первое воскресенье великого поста) собирали все городское духовенство. На этот раз присутствовало не более десяти батюшек. Огромный, облицованный мрамором бывший собор Измайловского гвардейского полка, в котором когда-то венчался Достоевский, был наполовину пуст. И вот, на второй седмице великого поста церковный Питер облетела странная весть, которую церковные люди передавали друг другу с недоуменным пожиманием плеч, веря и не веря. В Питер был назначен митрополит, и им оказался не кто иной, как знаменитый монархист, в прошлом один из крупнейших деятелей Союза русского народа, митрополит Серафим Чичагов. Известие было поистине удивительное.
Митрополит Серафим был личностью яркой и широко известной в старой России. Представитель аристократии, внук знаменитого деятеля 1812 года адмирала Чичагова, митрополит Серафим носил в миру имя Леонид. Родившись в 1853 году, Леонид Чичагов окончил Пажеский Корпус (самое привилегированное аристократическое учебное заведение из всех существовавших в России). По окончании Пажеского Корпуса и Артиллерийской академии, Леонид Чичагов зачисляется в Преображенский Лейб-гвардии Его Величества полк. В 1877–78 годы поручик Чичагов, участвуя в русско-турецкой войне, совершает при осаде Плевны чудеса храбрости, распорядительности, сам Скобелев отмечает его имя в приказе по армии. Главнокомандующий армией, Великий Князь Николай Николаевич старший, возлагает на него георгиевский крест. Уже в 1887 году, когда Леониду Чичагову было 34 года, мы видим его в чине гвардейского полковника. Полковник Чичагов, однако, не был узким человеком. Способности его были многосторонни: в это время он издает на французском языке, которым владеет в совершенстве, монографию в трех томах, посвященную памяти своего знаменитого деда. В то же время он увлекается медициной (и является сторонником модного тогда метода гидропатии), а также живописью. В Москве, в храме Ильи Пророка в Обыденном переулке, до сих пор можно видеть великолепный образ: Христос в белом хитоне — его работы.
Полковник Чичагов с детства отличался необыкновенной религиозностью, чему в немалой степени способствовало раннее сиротство: он еще в детстве потерял сразу обоих родителей и, как он сам рассказывал, привык искать утешение в религии. Будучи полковником гвардейского Преображенского полка (он ведал артиллерийской частью), Леонид Чичагов был старостой Преображенского собора на Литейном проспекте и вкладывал в церковное хозяйство немалые средства. К 1890 году относится его знакомство с о. Иоанном Кронштадтским, у которого он становится близким человеком. В 1894 году Леонид Чичагов совершает невероятное сальто-мортале: подает в отставку и объявляет о своем желании стать священником. Это произвело настоящий шок у его близких, в том числе у его жены-аристократки. «Вы думаете, легко было моей жене, когда о. Иоанн Кронштадтский ей сказал: Ваш муж должен быть священником», — вспоминал через много лет митрополит Серафим. Полковник Чичагов осуществляет свое намерение: он переезжает с семьей в Москву и вскоре становится священником наиболее аристократического прихода — церкви Румянцевского музея, того самого храма, который сейчас превращен в одно из помещений библиотеки им. Ленина. Через несколько лет о. Леонида постигает новое несчастье — умирает его жена, и священник Чичагов принимает монашество с именем Серафим, в честь глубоко им чтимого, тогда еще не канонизированного преп. Серафима Саровского. Будучи возведен в архимандриты, о. Серафим сразу же получает назначение, соответствующее его прежнему званию, его назначают настоятелем Суздальского Спасо-Евфимьевского монастыря — знаменитого монастыря-тюрьмы. Тут сразу проявляются специфические черты отца Серафима: барская размашистость, кипучая энергия и барская снисходительность. Он был строгим и вместе с тем добрым начальником. Когда в монастырь привезли священника о. Герасима Цветкова, заключенного за обличение Синода в неправославии, отец Серафим его встретил во дворе монастыря со словами: «А! Ты все пела — это дело: Так пойди-ка…» — и он ткнул пальцем в направлении тюрьмы. В то же время улучшил содержание узников, освободил и постриг в монахи Василия Рахова (архангельского мещанина — богоискателя) и ходатайствовал почти за всех арестованных. Благодаря его хлопотам вскоре тюрьма опустела, в ней не осталось ни одного заключенного.
В это же время архимандрит Серафим принимается за хлопоты о канонизации преп. Серафима Саровского. Используя свои связи в придворных кругах, отец Серафим сумел найти дорогу к императору Николаю II и после двух лет усиленных хлопот, сломив упорное сопротивление некоторых членов Синода, архимандрит добивается канонизации. Инициаторами прославления преп. Серафима следует считать двух человек: митрополита Антония (Вадковского) и архимандрита Серафима (Чичагова). Он же является автором службы преп. Серафиму и автором работы «Описание Дивеевского монастыря».
Тогда же, в связи с началом Русско-японской войны, начинается патриотическая деятельность о. Серафима: он пишет статьи, в которых предсказывает скорую победу, формирует санитарные поезда, собирает пожертвования. С. Ю. Витте в своих мемуарах бросает горький упрек в адрес о. Серафима, обвиняя его в карьеризме. Это вряд ли вполне справедливо: о. Серафим был безусловно искренним русским патриотом и монархистом; это видно из того, что он остался верным своим убеждениям и в 30-е годы на кафедре митрополита Ленинградского и своих убеждений нисколько не скрывал, но честолюбие было, вероятно, свойственно его сангвинической, энергичной натуре.
В начале 1905 года его рукополагают в Московском Успенском соборе во епископа Кутаисского. Новый епископ, едва появившись в Грузии, сталкивается с грозной ситуацией: революция всколыхнула грузинский национализм, и епископ со всей присущей ему энергией принимается за борьбу с революционным движением и грузинским национализмом.
В это же время епископ отдает свое имя вновь основанному Союзу русского народа и приобретает славу одного из известнейших черносотенцев. Результатом было покушение на епископа, и лишь благодаря счастливой случайности он остался жив. Но это не испугало героя Плевны: епископ не прекращает своей деятельности. В 1907 году он получает назначение епископом Кишеневским, в 1909 году — епископом Орловским, а в 1912 году — архиепископом Тверским и Кашинским. И всюду одно и то же: порядок, дисциплина, военная строгость и барская милость. Связи с Царским Селом продолжаются. Во время войны он знакомится с Распутиным. В журнале «Былое» были напечатаны секретные донесения полиции о беседах архиепископа Серафима со знаменитым «старцем». Из них видно, что архиепископ и здесь не уронил себя: он говорил с сибирским мужичком барственно-снисходительным тоном, упрекал его за гонения на епископа Гермогена. «За хулу на епископа Бог не простит», — заметил он.
Наконец, наступил 1917 год. Паства потребовала его немедленной отставки: личность владыки была слишком одиозна. Архиепископ протестовал, но пришлось покориться. Новый Синод, руководимый Львовым, отправляет его на покой. Владыка поселяется в Москве. Будучи членом Собора 1917–18 годов, архиепископ получает назначение митрополитом Варшавским и всея Польши. Но гражданская война и отделение Польши помешали ему отправиться к месту его нового служения. Он живет в Москве, служит в храме «Троица в листах» на Сухаревском рынке, сближается с архиепископом Феодором (бывшим ректором Московской Духовной Академии) и входит в группу епископов Даниловского монастыря, представлявшую собой оппозицию справа Патриарху Тихону. Покойный преподаватель Московской Академии, Сергей Александрович Волков, мне рассказывал, как в 1920 году митрополит разговаривал с ним в алтаре Пятницкой церкви, находящейся около лавры (лавра и академия были уже закрыты). Епископ Иларион спросил у Сергея Александровича: «О чем Вы с ним разговаривали?» «Осуждал Святейшего за излишнюю мягкость по отношению к советской власти». «А, он думает, что он все еще в Суздальском Спасо-Евфимьевском монастыре?»
В 1922 году, после ареста патриарха, митрополит был также арестован и приговорен к 4 годам заключения. До 1928 года он проживал на Соловках, а затем вернулся в Москву. В 1927 году он признал власть митрополита Сергия и его Синода. Человек порядка, привыкший мыслить в категориях строгой иерархии, он считал восстановление централизованной власти наиболее важным делом. По отношению к власти митрополит придерживался принципа: «dura lex, sed lex».
Этот-то человек был назначен к нам в Питер весной 1928 года для борьбы с иосифлянским расколом. Тучков, видимо, при этом вспомнил поговорку: «клин клином вышибай». Он прибыл к нам в Питер на 2-ой неделе великого поста и совершил свою первую литургию в третье воскресенье четыредесятницы в Преображенском храме на Литейном, где когда-то был старостой. Резиденция нового митрополита была в Новодевичьем монастыре, в бывших игуменских покоях; игуменья перешла в другое помещение.
Вспоминая митрополита Серафима, я ловлю себя на том, что невольно им любуюсь: яркая индивидуальность всегда импонирует. В его лице Питер увидел того настоящего барина, о котором я говорил выше. В нем не было ничего искусственного, натянутого, деланного. Он держал себя естественно и просто. Когда его облачали посреди храма, когда он стоял в полном облачении перед престолом, он держался так, как будто был один в комнате, а не перед несколькими тысячами человек, которые не спускали с него глаз. В его молчаливых, повелительных жестах чувствовалась привычка командовать; служил он негромким старческим голосом, благословлял слабым движением подагрических рук, генеральски, снисходительно шутил с духовенством. «Ты когда это успел, такой молодой, получить палицу?» «Что Вы, Ваше Высокопреосвященство, у меня уже дочь взрослая». «Не верю, не верю, пока не увижу, не поверю». Так же просто он говорил с народом: отчитает, отругает, почему плохо стоят, зачем разговаривают, почему поздно приходят к исповеди; народ смущенно молчит… Потом барски снисходительный жест: «Ну, ладно, давайте помиримся». И начинается проповедь.
На первой литургии ему сослужили епископы Николай, Серафим и Сергий. В проповеди после литургии митрополит говорил о послушании; особо он подчеркивал обет послушания, данный монахами, и делал выпады против тех архиереев, которые производят разброд в церкви, назвав их плохими монахами.
В первую же неделю правления митрополит собрал в Новодевичьем сотню священников. Указав им, что «не их дело церковная политика и не им осуждать архиереев», он начал их отчитывать за непорядки, которые успел подметить за одну литургию. Прежде всего, он категорически запретил исповедь во время литургии; затем он запретил общую исповедь. Подметил нарушения церковного устава, заявил, что за небрежность в служении будет беспощадно карать. Началось наведение порядков: епископ Григорий, оставшийся на своей старой позиции, был по настоянию митрополита смещен и переведен в Феодосию. Митрополит с торжеством въехал в лавру. Никто не посмел возражать. Половина братии, правда, перешла к иосифлянам, но собор и основные храмы остались в ведении митрополита. Затем был переведен в Елец епископ Колпинский Серафим. Оставались только два викарных епископа, Николай и Сергий. Впоследствии был рукоположен также епископ Амвросий (Либин) — новый наместник лавры. Таким образом, был восстановлен четкий иерархический централизм: митрополит и три викарных епископа, беспрекословно ему подчиняющиеся. Сам митрополит первое время служил каждое воскресенье в одном из питерских храмов с особым торжеством: тучный, с красным полным лицом, окаймленным седой бородой, он страдал одышкой, с трудом передвигался, но все-таки выстаивал длиннейшие богослужения. Я благодарен владыке за то, что он открыл для меня сущность литургии. После служения он всегда разъяснял смысл пресуществления. В кратких, но сильных словах разъяснял, как сильна молитва после пресуществления даров: «Дух Святой, — говорил владыка, — пресуществляет на Престоле Дары, но Он сходит и на каждого из вас, обновляет ваши духовные, умственные силы, всякая молитва, если она приносится от всего сердца, будет исполнена». И когда митрополит после благословения Даров преклонял колени, припав лицом к Престолу, вся церковь падала ниц.
Ни одна мелочь не укрывалась от его взгляда: «Что с Вами, дитя мое, почему Вы такой бледный? — спросил владыка у меня летом после литургии. — Вы чем-то больны?» Действительно, через два дня я слег: у меня оказался паратиф.
По пятницам в Знаменской церкви, у Московского вокзала, митрополит читал акафист преп. Серафиму. Читал наизусть, а после акафиста беседовал с народом. В одну из таких бесед он подробно рассказал историю прославления преп. Серафима, причем всячески подчеркивал роль императора Николая II. О иосифлянах митрополит говорил довольно снисходительно; однако обновленцев бичевал с фанатичной резкостью. Но изумительнее всего его полумонархические проповеди. В этом отношении он превосходил даже иосифлян. Помню его проповедь 10 августа 1930 года в храме Смоленской Божией Матери в рабочем районе, в селе Смоленском, в день престольного праздника. Митрополит говорил об особой милости Божией Матери к Земле Русской. Эта любовь явилась в многочисленных иконах Божией Матери на Святой Руси. Но росли наши грехи и беззакония и… здесь рывок вперед, взмах руки, старческий голос крепнет: «И Божия Матерь отступила от нас, и скрылись святые чудотворные иконы Царицы Небесной. И пока не будет знамения от святой иконы Божией Матери, не поверю, что мы прощены. Но я верю, что такое время будет и мы до него доживем».
…1930 год, начало пятилетки, колхозный переворот, разгар борьбы против «классовых врагов»… А герой Плевны и в старости остался верен себе.
Интересна богословская концепция престарелого митрополита: мир был сотворен Богом для того, чтобы человек служил Ему, но человек восстал против Бога и борется с Ним. Бог все дал людям, но человек отверг Его дары. Митрополит вспоминал икону во Владимирском соборе в Киеве: распятие, а наверху Бог Отец показывает на него руками: «Я все вам дал, больше ничего не могу дать». Когда окончательно выяснится, что мир не может служить Богу, мир погибнет, и будет новое небо и новая земля.
Митрополит постоянно говорил о Божией Матери, указывал на образ преп. Серафима, отстаивал идею русской святости, идею русского народа богоносца. Народ богоносец должен пройти через горнило испытаний, чтобы, очистившись в нем, явить миру чистое золото веры Христовой.
Проповедуя все это с высоты митрополичьей кафедры, митрополит Серафим управлял епархией твердой, властной рукой. Епископ Николай (в недавнем прошлом крупнейший церковный деятель) сошел на роль простого викарного епископа. Отцы Николай Чуков, Леонид Богоявленский и другие крупные деятели также сошли на роль обыкновенных протопопов.
Митрополит приехал к нам 75-летним старцем, уехал от нас в 80 лет. Тяжело больной, страдающий гипертонией, подагрой, склерозом, митрополит, однако, не утратил ни ясности мысли, ни глубокой преданности своим убеждениям, но у всякого есть своя ахиллесова пята. Нашлась она и у старца-митрополита.
Сразу после приезда в Питер в окружении митрополита появился нахальный, дегенеративный мальчишка N сначала в качестве иподиакона, а потом келейника. Митрополит, одинокий, старый человек, привязался к нему, как к сыну. Истоки этой привязанности те же, что и у Патриарха Алексия к семье Остаповых; подобные факты я видел почти у всех старых одиноких людей, какое бы положение они ни занимали. Печально, однако, что N оказался проходимцем.
Постриженный митрополитом в монашество, рукоположенный им в священника, иеромонах N стал делать блестящую карьеру. Уже в 22 года он был архимандритом. В 1932 году ему исполнилось 24 года, пришла пора идти на военную службу. В то время служители культа (лишенцы) призывались в тыловое ополчение на 4 года (фактически это были каторжные работы).
И вот, за три дня до призыва, N загадочно исчез. Митрополит послал его с деньгами к схимнику Серафиму, живущему под Питером, в Поповке. Впоследствии выяснилось, что N кроме этих денег, захватил у митрополита ряд дорогих вещей и довольно большие средства. С этими деньгами шалый мальчишка-архимандрит уехал в Москву. Между тем наступил срок призыва в армию. Представители военкомата явились к больному тогда митрополиту. Митрополит должен был ответить, что он не знает, где его духовный сын. Через несколько дней N был задержан в Москве и осужден (за уклонение от призыва) к 10 годам лагерей и больше не вернулся на волю никогда.
Эта беда обрушилась на митрополита совершенно неожиданно: зоркий и проницательный во всех других случаях, он не разгадал проходимца. Удар подкосил старика. Едва оправившись от болезни, он служил 4 декабря 1932 г. литургию в Преображенском соборе, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. «Я потерял единственного сына; не знаю, как буду без него работать», — сказал митрополит верующим после обедни.
Похождения N не только причинили боль старцу: близость к митрополиту авантюриста скомпрометировала его в глазах многих; этим не преминули воспользоваться все враги митрополита, и безбожники, и обновленцы. Сейчас, когда злополучный N уже давно закончил свою короткую и бурную жизнь, так и не выйдя из лагеря, не будем его осуждать, как не осуждал его и митрополит. Расскажем вместо этого о конце митрополита.
В 1933 году, когда власти лелеяли план быстрого уничтожения церкви в СССР, митрополит Серафим стал для них помехой. 14 октября 1933 г. митрополит Серафим Указом послушного ГПУ Синода был отправлен на покой. 24 октября он совершил свою последнюю службу в том же Спасо-Преображенском соборе и вечером выехал в Москву. На другой день прибыл в Питер новый митрополит — будущий патриарх Алексий Симанский.
А митрополит Серафим поселился вместе с дочерью на даче, в Малаховке, под Москвой. Ирония судьбы — один из крупнейших деятелей Союза русского народа владел дачей на паритетных началах с евреем: половина дачи — митрополита, другая половина — еврейской семьи.
В 1937 году восьмидесятипятилетний старец был арестован: ввиду того, что он был тяжело болен, его вынесли на носилках.
Через несколько месяцев он умер в тюремной больнице, на Лубянке. Так закончил свою деятельность своеобразный талантливый русский архиерей, с которым связана целая эпоха в истории русской церкви и в истории Питерской епархии.
Обновленчество
До сих пор я не сказал ни одного слова об обновленчестве. Между тем, 1925–30 гг. — это разгар обновленческой деятельности в Питере. Питер — обновленческая колыбель, отсюда вышли все главные лидеры обновленцев, и все они не порывали связи с городом. Мало того. Питер — единственный город, в котором обновленчество имело глубокие корни и занимало довольно крепкие позиции.
В свое время я совместно с Вадимом Михайловичем Шавровым опубликовал в самиздате большую работу по истории обновленчества, а также свои воспоминания «Закат обновленчества», относящиеся к 1942–45 гг. Тем не менее об обновленчестве сказано далеко не все.
Кроме нашей с В. М. Шавровым работы, в СССР имеются два исследования, посвященные истории обновленчества: магистерская диссертация покойного архиепископа Сергия (Ларина) и книга казанского антирелигиозника А. Шишкина. К сожалению, обе они не выдерживают никакой, даже самой снисходительной, критики. Архиепископ Сергий поставил перед собою совершенно невыполнимую задачу: доказать, что Патриарх Тихон и все руководимое им духовенство с самого начала стояли на советских позициях. Поэтому история обновленчества под его пером представляет собой совершенно неразрешимую загадку. Какая-то группа духовных авантюристов, невесть откуда взявшаяся, вдруг добилась ареста Патриарха, почти всех архиереев, захватила в свои руки кормило церковного правления и произвела раскол церкви. Не приходится серьезно опровергать эти писания преосвященного, напоминающие сочинение четвероклассника, хотя собранный там документальный материал представляет интерес.
Никак не может претендовать на научность и «творение» Шишкина. Оно отличается всеми пороками вульгарной марксистской историографии: вместо живых людей здесь маски, вместо событий — схема. Для меня это произведение особенно любопытно именно потому, что я всех его героев хорошо знал лично. Прочтя книжку Шишкина, я ощутил в полной мере порочность этого метода, процветающего в России. Введенский, Антонин Грановский, Красницкий, Боярский, такие яркие и такие разные люди, вдруг поблекли, выцвели, стали удивительно похожими друг на друга. Все они — представители буржуазии, приспособляющейся к советской власти, и трудно понять, чем они отличаются друг от друга.
Однако хватит рассуждений — перейдем к воспоминаниям.
До 17 лет я был ярым врагом обновленчества: все церковные авторитеты, начиная от епископов, кончая Полей, утверждали, что обновленцы безблагодатные, еретики и хуже язычников. Я в этом был непоколебимо уверен, и тогда мне еще не приходило в голову, что в 18 лет я сам стану обновленцем. Хотя они и безблагодатные и еретики и хуже язычников, но запрещенный плод сладок: что греха таить, я иногда заглядывал в обновленческие храмы.
Что же я там видел? Прежде всего должен сказать, что нет ничего более несправедливого, чем огульно считать всех обновленцев предателями, продавшимися, агентами ГПУ. Как правило, это были самые обыкновенные русские священники, случайно попавшие в той сутолоке, которая тогда происходила в церкви, к обновленцам. Я помню, отец вместе со мной как-то зашел в церковь Великомученицы Екатерины, когда там уже были обновленцы; он разговорился со старичком диаконом, и диакон ему сказал: «Это все начальство между собой дерется, мы здесь не при чем».
Что правда, то правда. Большинство священников здесь были совершенно не при чем. Никаких реформ в то время в обновленчестве не было, и большинство священников пошло туда просто потому, что принадлежность к обновленчеству представляла собой своеобразный Habeas corpus act — гарантию от ареста.
В общем священнослужителей-обновленцев можно разделить на 4 группы: первая — самая многочисленная группа — те самые серые батюшки требоисправители, о которых шла речь выше. Вторая — прохвосты, присоединившиеся к обновленчеству в погоне за быстрой карьерой, спешившие воспользоваться «свободой нравов», дозволенной обновленцами. О них епископ Антонин сказал: «Ассенизационная бочка православной церкви». Почти все они были агентами ГПУ. Третья — идейные модернисты, искренно стремившиеся к обновлению церкви. Эти жили впроголодь, ютились в захудалых приходах, теснимые властями и своим духовным начальством и не признанные народом. Они почти все кончили в лагерях. Четвертая — идеологи обновленчества. Блестящие, талантливые, честолюбивые люди, выплывшие на гребне революционной волны. (Так сказать, церковные Бонапарты). Среди них многие (увы!), хотя и не все, также были связаны с ГПУ.
Но прежде чем писать о них, зайдем в обновленческий храм.
6 часов вечера. Суббота или канун праздника. Так же, как и во всех церквах, раздается колокольный звон. На паперти, однако, почти не видно нищих: нет смысла сюда идти, здесь народа мало. Входим в храм. Охватывает тягостное чувство. Огромное, холодное помещение. И пустое. Десятка два прихожан сиротливо жмутся к алтарю. На паникадилах всего несколько свечей. И на этом унылом фоне странно выглядят яркие облачения, митра на голове священника, протодиакон в камилавке. Уж очень щедро было обновленческое начальство на награды.
Другая картина там, где служили корифеи, знаменитые проповедники: Введенский, Боярский, Платонов. Здесь храм переполнен народом, и в основном дамы в шляпах, девушки, интеллигенты профессорского вида, студенческая молодежь…
Присмотримся и мы к корифеям.
В противоположность православной (староцерковной) епархии, находившейся до весны 1928 г. в состоянии разброда, обновленческая ленинградская епархия имела строго централизованное управление. Во главе епархии с 1925 г. стоял высокопреосвященный Вениамин, митрополит Ленинградской и Северо-Западной области. (В миру Василий Антонович Муратовский). Старый архиерей, он был рукоположен 25 октября 1897 г. в соборе Александро-Невской лавры, ровно через шесть дней после того, как в том же самом храме был рукоположен во епископа тридцатидвухлетний архимандрит Тихон (будущий Патриарх).
Отличительной чертой митрополита Вениамина (Муратовского), которому в 1925 г. было 72 года, являлась (на всех этапах его долгой жизни) почти детская безмятежность, а между тем жизнь его отнюдь не была тихой и спокойной.
Родившись в семье священника в городе Казани, Василий Муратовский по окончании семинарии пошел по стезям своих предков и стал священником одного из казанских храмов.
Однако вскоре умерла его жена, оставив у него на руках четырехлетнего сына. В судьбе несчастного вдовца принял участие архиепископ Казанский Палладий (Раев), сам незадолго перед этим овдовевший. Он порекомендовал ему поступить в Казанскую Духовную Академию, обеспечив стипендию, достаточную, чтоб прокормить сына. В это же время началась его дружба с другим (впоследствии знаменитым) земляком: Александром Васильевичем Вадковским, будущим прославленным митрополитом Петербургским Антонием, одной из самых светлых личностей в истории русской церкви, к большому для нас всех несчастью умершим в 1912 г. (до русской смуты).
Еще в Казани завязывается своеобразная дружба трех вдовцов: архиепископа Палладия, профессора А. В. Вадковского (вскоре также принявшего монашество) и священника о. Василия Муратовского, вскоре постриженного в монахи с именем Вениамин. Впоследствии постоянно, и в проповедях, и в частных беседах, (несмотря на свою староцерковность я вскоре был представлен старцу — «наш пострел везде поспел»), митрополит возвращался к этим друзьям своей молодости и всегда говорил о них в тоне самого глубокого уважения.
Но вот происходит неожиданная перемена: казанцы делают блестящую карьеру. Антоний Вадковский становится ректором Петербургской Духовной Академии в сане епископа Выборгского и всея Финляндии, а архиепископ Палладий (после смерти митрополита Исидора в 1892 г.) становится митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, первенствующим членом Святейшего Синода. Еще 2 года — и в Петербург перебирается третий, самый молодой из друзей, — архимандрит Вениамин Муратовский. Он получает назначение настоятелем Иоанно-Богословского Черемнецкого монастыря под городом Лугой. В 1897 г. он был рукоположен во епископа Ямбургского, викария Петербургской епархии. Эту должность он сохранил и при митрополите Антонии (преемнике митрополита Палладия), а в 1908 г. был возведен в сан архиепископа и назначен на Симбирскую кафедру, в цветущий, тихий, дворянский город, известный тогда лишь своими чудесными видами на Волгу и прославившийся через десять лет на весь мир своим знаменитым уроженцем.
Но тогда жизнь там проходила тихо и мирно. Архиепископ Вениамин недаром был учеником митрополитов Палладия и Антония. С митрополитом Палладием его соединяла любовь к церковному благолепию. Владыка любил пышные богослужения (одних облачений у него было 19), а под влиянием митрополита Антония владыка усвоил тот дух мягкого гуманизма и либерализма, который не вычитывается из книг, а является плодом доброго сердца.
И этот-то тихий, мирный человек попал в самый центр революционного водоворота. И сюда, в тихую волжскую заводь, пришла гражданская война. Архиепископ уехал с отступавшей Колчаковской армией. Доехал до Урала. Попал в руки красных. И тут начинается кошмар. То его сажали, то выпускали, то опять сажали и грозили расстрелом. Наконец Патриарх Тихон назначил его в 1920 г. на Рязанскую кафедру, и здесь его застала церковная смута. Мягкий и уступчивый, владыка признал живоцерковное Высшее Церковное Управление. Затем, после выхода из заключения Патриарха Тихона, тотчас перешел к Патриарху. Однако вновь был арестован. Тучков имел с ним «дружеский» разговор, после которого архиепископ был освобожден, вновь признал обновленчество, вошел в обновленческий синод и получил громкий титул митрополита Ленинградского.
В то время, когда я впервые увидел владыку, он был Председателем Священного Синода, т. е. юридическим главой обновленческой церкви. Постоянно он курсировал между Питером и Москвой, очень часто совершал торжественные богослужения в соборах. Ни для кого, однако, не было секретом, что никакого влияния он не имеет. К нему у церковных людей было смешанное чувство уважения и жалости. Первое впечатление — ожившая картина: окладистая, белая, как у деда Мороза, борода, белые, пушистые кудри до плеч, белая, с розоватым отливом, мантия, белый клобук.
До 1925 г. он жил в лавре, в традиционных митрополичьих покоях. Осенью 1925 г. выселили, переехал на Васильевский. Поселился на 9-ой линии, в небольшой частной квартирке. Старая, подслеповатая женщина ему прислуживала. И под пышным облачением, под величественной внешностью, угадывался старый, одинокий, несчастный человек. Вот проходит он по храму в шелковой архиерейской рясе, в белом клобуке. Благословляет. А из-под рясы выглядывает манжет от рубахи не первой свежести, видимо, с оторванной пуговицей, болтающийся вокруг худой, жалкой, старческой руки.
Добродушный, мягкий как ребенок, он иногда прикрикнет на иподиакона, сделает резкое замечание — и на миг проглянет когда-то властный архиерей, но тотчас осядет, сникнет, станет опять мягким и ласковым. «Вот, владыко, мальчик священником хочет быть», — подвела меня к нему одна его знакомая старушка. «Доброе дело, доброе, мальчик», — сказал владыка и погладил меня сморщенной старческой рукой по волосам…
В 1928 г., утомленный бесконечными переездами из Питера в Москву, владыка получил титул митрополита Московского и покинул Питер навсегда.
6 мая 1929 г. он умер под Москвой, на своей даче. Но и со смертью митрополита его мытарства не кончились. Его, как первоиерарха обновленческой церкви, должны были отпевать в храме Христа Спасителя. Но в последний момент власти не разрешили торжественного отпевания (они и мертвецов не оставляли в покое) — повезли его отпевать на Ваганьково кладбище. Здесь, около храма, он был похоронен.
Лет десять назад отыскал его могилу. Деревянный крест, на нем надпись: «Митрополит Вениамин». Каким-то ревнителем православия слово «митрополит» зачеркнуто мазком черной краски и написано сверху: «архиепископ».
Остановимся перед этой скромной могилой. Его судьба и весь его облик очень характерны для русского духовенства и для многих простых русских людей, случайно попавших в революционный водоворот.
И кидает этот водоворот из стороны в сторону, пока не прибьет к тихому берегу, к безвестной могиле.
У митрополита Вениамина было несколько викариев: трое из них — люди, подобные ему, простые, скромные, прибитые революционной волной к обновленческому берегу: Николай Соболев, архиепископ Ладожский, престарелый настоятель Введенской церкви на Петроградской стороне, Михаил Попов, архиепископ Тихвинский, человек высоко образованный, автор многочисленных работ по истории церкви, но сникший после революции, смиренный и незаметный, Макарий Торопов, епископ Петергофский, из сибиряков, тоже скромный, ничем не замечательный, носивший свой совершенно номинальный титул, т. к. в Петергофе у обновленцев не было ни одного приверженца, настоятель Введенской церкви у Царскосельского вокзала.
И наконец, блестящий, талантливый Николай Платонов, носивший тогда титул епископа Гдовского, настоятель Андреевского собора. Это-то и был настоящий хозяин Ленинградской епархии, власть которого, однако, оспаривал протопресвитер о. Александр Боярский. К характеристике этих двух во многих отношениях замечательных людей мы сейчас и перейдем.
С Николаем Федоровичем Платоновым связана целая эпоха моей жизни, вся моя юность прошла вблизи этого человека. В своем очерке «Закат обновленчества», широко распространившемся в церковном самиздате и напечатанном в журнале «Грани» несколько лет назад, я посвятил ему ряд страниц. И все-таки не могу сказать, что он для меня совершенно ясен. Раздумывая о его многообразных перевоплощениях, я никак не могу уяснить, где он был искренен и где он был лжив. И кажется мне, что он и сам этого точно не знал.
Это был, конечно, гениальный актер, эмоциональный, до такой степени входящий в роль, что и сам не мог отделить себя от взятой на себя роли. «Какой великий артист погибает», — с полным правом мог он сказать о себе, умирая от голода в холодной комнате на 3-ей линии Васильевского острова, на квартире у Александры Павловны Тележкиной, с которой его связывали тоже сложные отношения, — в страшную блокадную весну 1942 года.
Расскажем еще раз его биографию.
Он родился 12 марта 1889 г. в Петербурге, в семье художника-богомаза, сына крепостного крестьянина. Учился во Введенской духовной гимназии. Его семья своеобразно сочетала купечески-мещанские традиции с петербургской культурой. Родители были малограмотные. Однако все дети получили образование и все были связаны с церковью. Старшая сестра Николая Федоровича, Александра Федоровна Платонова, начала писать в церковных журналах еще гимназисткой, в начале века, и впоследствии стала (несмотря на свою молодость) известной церковной писательницей. Ее очерки, статья, разбросанные по церковным журналам, выходившим в Петербурге в предреволюционные годы, перечитываешь с живым интересом. Овеянные живым религиозным чувством, они трогают читателя и теперь; а ее очерк об архиепископе Николае Японском, изданный отдельной брошюрой в 1914 г., остается пока лучшей на русском языке биографией знаменитого миссионера. Читая эти очерки, угадываешь ее дальнейшую судьбу. Основные этапы ее жизни: после революции — монахиня Иоанновского монастыря (была пострижена в 1919 г. с именем Анастасия), 1923 г. — разрыв с горячо любимым братом, закрытие монастыря. 1926 г. — она избирается игуменьей общины разогнанного монастыря, которая продолжает свое существование при храме Алексия Человека Божия. Многочисленные аресты, в которых молва обвиняет ее брата. Высылка из Ленинграда в 1929 г., нелегальный приезд в родной город в 1930 г., случайная встреча в трамвае с братом, обмен репликами. «Что ж ты не подходишь, Шура; или брата не узнаешь?» «И ты меня еще спрашиваешь, Коля, ведь папа и мама в могиле переворачиваются. Ты дьяволу служишь». И загадочная реплика в ответ: «Может быть, я сам дьявол и есть!» 30-е годы. Последний арест. Лагерь. 1937 год. Ее следы исчезают.
Брат Николая Федоровича — диакон — тоже погиб в лагерях.
А теперь обратимся к самому герою этих воспоминаний.
Еще в гимназии Николай Федорович проявил себя как талантливый, честолюбивый юноша. По окончании гимназии — Духовная Академия. Решение принять священный сан. Увлечение проповеднической деятельностью. Однако на этом пути вырастает серьезная помеха: природный порок речи — гнусавость и шепелявость. 1914 г. — женитьба на Елизавете Михайловне — прелестной, глубоко религиозной девушке. Окончание Академии. Кандидатская работа о Канте. 17 мая 1914 г. Николай Федорович рукоположен в священники, получает приход — Андреевский собор на Васильевском острове, посреди рынка. Один из самых богатых приходов в Петербурге. И тут начинается цепь перевоплощений.
Сразу после рукоположения — блестящий, шумный успех проповедника. Сразу обнаруживается яркий ораторский темперамент: проповеди пламенные, патетические; порой доходит до истошного крика; мелодраматические эффекты. В то же время пишет статьи в церковные журналы. Все статьи имеют ярко выраженную черносотенную окраску. Словечки: «всемирный еврейский кагал», «спасать русский народ», «жидомасоны».
Но вот происходит революция — и перевоплощение № 1.
Оказывается, наш вития всегда бесконечно любил простой народ, только и делал, что боролся за его свободу. И вот, мы видим его уже деятелем «Партии Народной Свободы». Он выступает кандидатом в Учредительное Собрание от Васильевского острова по списку кадетской партии. Он по-прежнему пишет статьи, но теперь в них мелькают уже другие словечки: «народная свобода», «на пути демократического развития», «недоброе старое царское время» и т. д. На выборах в Учредительное, впрочем, провалился: Васильевский остров, населенный рабочими, послал представителей социалистических партий; новоявленный ревнитель «народной свободы» не подошел.
Октябрьская революция. 1918 год. Приезд в Питер Патриарха Тихона. Литургия в Исакиевском соборе. Проповедь произносит молодой священник Платонов. Он говорил о Патриархе как о путеводном светоче России, он вспоминал о Патриархе Гермогене, Патриархе-Подвижнике и Крестоносце. Он сравнивал торжество в Исакиевском соборе с Входом Господним в Иерусалим. Он говорил о Патриархе, грядущем на вольную страсть. Эхо разносило его сильный, гнусавый голос; тысячи людей, переполнявших огромный собор, были потрясены. Умиленный Патриарх, сняв камилавку с архидиакона, возложил ее на молодого священника, когда он после проповеди вернулся в алтарь, и со слезами на глазах произнес: «Аксиос». «Аксиос, аксиос, аксиос!» — подхватило духовенство. Отец Николай Платонов, возведенный вскоре в протоиереи, стал героем дня и вскоре получил настоятельство в Андреевском соборе.
Летом 1918 года Платонов был арестован. Это было страшно: было время красного террора, на Гороховой 2, в подвалах, расстреливали пачками. Но все хорошо, что хорошо кончается. Через две недели отец Николай возвращается к себе домой. Его деятельность продолжается. В начале церковной смуты Платонов — ярый тихоновец. Он горой за Патриарха, он произносит речи, очень яркие, очень эмоциональные, очень убедительные, в которых защищает Патриарха и громит живоцерковников.
1923 год — арест. Почитатели Платонова его оплакивают, готовятся служить панихиды о мученике за веру. Но опять «все хорошо, что хорошо кончается». Через месяц в его квартире, 6 линия 11, ночью раздается звонок. Дрожащая Елизавета Михайловна открывает дверь и глазам не верит: на пороге стоит ее муж, улыбающийся, веселый. «Выпустили».
И очередное перевоплощение. Платонов — ярый живоцерковник. Он носится как угорелый по Васильевскому острову. В короткий срок он все василеостровские церкви (кроме Киевского подворья — монахи-украинцы проявили чисто хохлацкое упрямство) приводит к Живой Церкви. Андреевский собор становится цитаделью церковного обновления. Каждое воскресение отец Николай Платонов, взойдя на кафедру, произносит проповеди. Он горой за Живую Церковь. Он произносит речи, очень яркие, очень эмоциональные, очень убедительные, в которых защищает Живую Церковь и громит тихоновцев.
Еще 2 года. И вот, 8 ноября 1925 года, в храме св. Великомученицы Екатерины, — архиерейская хиротония. Протоиерея Николая Платонова рукополагают во епископа Гдовского. Это первый женатый епископ у нас в Питере. Я был на его хиротонии. Здесь начинаются мои личные о нем воспоминания.
В 1972 г., в лагере, я видел сон. Мне приснился Платонов. Видел его как живого. Рядом с ним — Елизавета Михайловна и его вторая жена, Мария Александровна. Мария Александровна, показывая на своего мужа, сказала: «Не оскорбляйте его!»
Я не буду оскорблять его. Я знаю, что все эти перевоплощения не давались даром. (А кроме тех, о которых я говорил, их было еще два: отречение от веры и превращение в антирелигиозного пропагандиста в 1938 г. и публичное раскаяние и причащение Святых Тайн перед смертью в 1942 г.) В этих перевоплощениях — боль, мучительный надрыв. И в его пламенных, подчас истерических, сначала обновленческих, а потом и антирелигиозных, речах — желание убедить не столько других, сколько самого себя. И я его любил. Я до сих пор помню его речи, слышанные мною в детстве, и храню их в своем сердце. Они многому меня научили.
Весна 1926 года. Великий пост. В 4-ую неделю Великого поста — пассия. Чтение Евангелия о страданиях Христовых. Верующие с зажженными свечами. После Евангелия — духовный концерт. На кафедру проповедника всходит архиепископ (он получил это звание от обновленческого синода через 3 месяца после епископской хиротонии) Николай Платонов. Говорит о страстях Христовых 2 часа. Речь прерывается песнопениями страстной седмицы в прекрасном исполнении великолепного хора Андреевского собора. Платонов говорит горячо, все более и более возбуждаясь под влиянием собственной речи. И наконец, вершина! Платонов сказал о наших грехах, которыми мы распинаем Господа.
«Но ты мне скажешь, я такой, как все! О, если такой, как все, не надо было приходить Господу! Не надо, не надо было идти на крест!
О, если такой, как все? Зачем было так страдать, так мучиться на кресте?
О, если такой, как все? Излишен крест, излишне распятие, излишен Христос!»
Вся толпа, переполнявшая собор, дрогнула в едином порыве, и сейчас, через 50 лет, я слышу этот голос и вижу искаженное какой-то судорогой лицо проповедника. И мне стало тоже чего-то мучительно стыдно и я дал себе слово никогда не быть, как все.
И это же чувство я испытал через тридцать с лишком лет, когда прочел пастернаковское:
Проповедник и поэт встретились друг с другом. И другая его речь: на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Осенью 1926 года.
Он говорил о мире, потрясенном, смятенном, смутно ожидающем преображения. И опять внезапный порыв: «И уже близок час, когда вслед за Богоматерью все человечество войдет во Святая Святых!»
У великих проповедников бывают вдохновенные порывы, когда происходит полное слияние оратора со слушателями. Когда и оратор, и слушатели совершенно забывают обо всем на свете. Это бывает очень редко, но эти мгновения и у оратора, и у слушателей остаются на всю жизнь. Сейчас я рассказал о двух таких моментах.
И другой человек, во много раз более крупный, чем Платонов, подвизался тогда в обновленческой церкви в Питере. Александр Иванович Боярский.
В противоположность беспринципному, метущемуся, морально растленному Платонову (я обещал его не оскорблять, но при всем желании не могу найти для него другой характеристики, да простит меня Мария Александровна!), Боярский поражал своей цельностью и моральной чистотой. Самая фигура его производила такое впечатление. Высокий, плотный, чернобородый, он крепко держался на ногах, и в облачении, оправдывая свою фамилию, действительно походил на боярина. Но душа у него была отнюдь не боярская.
Если Платонов метался из стороны в сторону, всегда желая «идти в ногу со временем», поспеть за победителями, и в этом метании изломал и погубил себя, то Боярский с самой юности был убежденным христианским социалистом и пронес это знамя до самой своей смерти в тюремной камере, не изменив ему ни разу.
Он родился в 1885 году в семье священника. Еще в Духовной Академии он проявлял интерес к рабочему вопросу. В 1906 году Александр Иванович — студент второго курса Духовной Академии — появился среди рабочих Спасо-Петровской мануфактуры. «В то время, — вспоминал впоследствии Боярский, — в среде петербургской духовной интеллигенции к рабочим относились со страхом: о них говорили как о богохульниках, людях, которые только что живьем не едят попов». Однако с первой же беседы отец Боярский приобретает популярность в рабочей среде. (См. «Вестник труда», Петроград, 12 мая 1918 г., стр. 1, А. И. Боярский, «Среди рабочих»).
По окончании академии Боярский становится священником храма Святителя Николая в Колпине — рабочем поселке под Питером, прилегающем к известному Обуховскому вагоностроительному заводу.
В монографии об Обуховском заводе, вышедшей в 30-е годы под редакцией Горького в серии «История заводов», отмечается, что среди рабочих пользовался особым влиянием «местный поп». Подразумевается Боярский. Авторитет о. Александра был действительно велик. Он замечал каждую мелочь, видел людей насквозь, знал, как и кому помочь. К нему шли все бедняки, пропойцы, люмпены. Поговорит, поругает, а потом придумает практический выход, устроит и поможет. Удивительная черта была в Боярском: естественно и просто говорить обо всем. Вот сидит он в Колпине, в своем кабинете при храме, всякий туда приходит, и со всеми он разговаривает. Большое помещение (бывшая пономарка), стол в углу, скамьи. Посетители приходят, уходят, многие остаются и слушают. Некоторые говорят: «Хочу, отец Александр, сказать два слова наедине». Этих батюшка берет под руку и идет с ними за перегородку. Вот приходит человек в обмотках из армии — молодой, нервный парень, искатель веры — спрашивает о догматах, говорит о Фейербахе, говорит об основании новой религии. Боярский подробно разъясняет, обстоятельно цитирует Фейербаха с таким видом, как будто он весь день только и думал, что о Фейербахе, а затем, обратившись к старушке, которая пришла жаловаться на сына, что он ее обижает, так же толково и просто объясняет, что надо сделать, как держаться с сыном, и обещает прийти и побеседовать, а потом обращается к 12-летнему мальчишке — вашему покорному слуге: «Ну что, орел, где ты теперь прислуживаешь, в монахи идти еще не раздумал?» Я начинаю в ответ обличать обновленчество. Двумя-тремя фразами батюшка кладет меня наповал и завершает беседу репликой: «В монахах тебе не бывать — не того склада, Зосиму (из „Братьев Карамазовых“) из тебя не сделаешь. И с тихоновцами тебе не по пути. Ты родился обновленцем. Вырастешь, к нам придешь».
Что ты скажешь! Как в воду глядел. В Колпино был при храме колпинский «Кружок церковных реформаторов», состоящий из молодежи. Там читались рефераты, спорили о конкретных путях обновления церкви. И когда я прочел постановления 2-го Ватиканского Собора, я сразу услышал знакомые мотивы. Многое я слышал уже из уст отца Александра Боярского.
Отец Александр Боярский занимает в истории русской религиозно-общественной мысли совершенно особое место.
Прежде всего, это глубоко практичный человек. Он не улетает в облака и не увлекается декламацией. В этом отношении огромный интерес представляет его работа «Церковь и демократия (спутник христианина-демократа)», Петроград 1918 год. Здесь выражена программа христианской демократии так ясно и просто, что и в наши дни она может быть принята (с небольшими изменениями) основой для христианско-демократического движения во всем мире. В начале брошюры — принципиальная установка: «Церковь Христова, содержащая всю полноту Христовой вечной истины, не может быть низводима до уровня политической партии» (стр. 17).
Однако церковное сознание имеет свое мнение о насущных вопросах, и это мнение может быть выражено в следующих 13 пунктах.
1. Государственный строй. Соборный (коллективный) разум должен лежать в основе государства; какая бы то ни было единоличная, бесконтрольная власть категорически отвергается.
2. Отрицание наступательной (агрессивной) войны.
3. Отрицание смертной казни.
4. Отрицание сословий.
5. Равноправие женщин.
6. Труд как основа жизни — не должно быть ни одного нетрудящегося человека.
7. Кооперация и капитализм. Автор высказывается за замену капиталистической собственности на орудия производства собственностью кооперативной. Кооперативы должны состоять из рабочих.
8. Богатство и бедность. Боярский великолепно доказывает на основе Священного Писания, что истинный христианин не может быть богатым. Подтверждая это положение евангельскими текстами, А. И. Боярский остроумно замечает, что если какой-нибудь капиталист захочет руководствоваться христианскими нормами в своем хозяйстве, он разорится ровно через два дня.
9. Восьмичасовой рабочий день.
10. Земля объявляется общей собственностью.
11. Одиннадцатый пункт посвящен общей собственности. Здесь отец Боярский высказывается за культивирование и всяческое поощрение общинных форм собственности. В качестве примера приводится община, созданная Иваном Алексеевичем Чуриковым в Вырице под Петроградом[7]. «Общность имущества, — говорит отец Александр, — ценна с христианской точки зрения как выражение духовного единства, как его завершение».
12. Свобода совести.
13. Тринадцатый пункт озаглавлен: «Методы борьбы со злом». Сущность этого пункта может быть выражена тремя словами: «Исключительно мирные методы».
«Такова, — заканчивает отец Александр Боярский свою брошюру, — платформа свободного сына Православной Церкви». (Стр. 32).
В свое время покойный митрополит Николай (Ярушевич) бросил в мой адрес обвинение: «Уж очень он опьянен всеми этими Боярскими и Введенскими». Нет, не опьянен. Пусть кто-нибудь покажет образец такой четкой и ясной программы христианского обновления мира.
Сейчас отдельные экземпляры этой брошюры затеряны в спецхране Библиотеки им. Ленина в Москве и Ленинградской Публичной Библиотеки в Ленинграде. Но да будет первым актом будущей Свободной России перепечатка этой книги. И пусть прочтут ее новые поколения свободных людей во всем мире, пусть скажут словами русского поэта: «И эта книжка небольшая томов премногих тяжелей».
Резкое отличие А. И. Боярского от других обновленческих деятелей — редкая честность и чистота. В своей брошюре он пишет об «исключительно мирных методах». В своей деятельности он руководствуется исключительно христианскими методами.
Чтоб меня опять не обвинили в излишнем пристрастии к этому деятелю, которого я безусловно признаю своим учителем, предоставлю слово другим. Вот перед нами воспоминания Гуровича, защитника митрополита Вениамина во время судебного процесса в Петрограде в 1922 г. На этом процессе Красницкий и другие живоцерковники изощрялись друг перед другом в клевете на митрополита. Даже защитники (кроме Гуровича, присланного из Швейцарии от «Красного Креста») боялись защищать подсудимого. Для всех было ясно: смертный приговор предрешен.
Как держал себя Боярский? Пусть говорит Гурович. «Следующим свидетелем был священник Боярский — умный, образованный, талантливый проповедник. Обвинители были уверены, что он даст показания, убийственные для митрополита. Но он произнес пламенный, художественный по своей форме панегирик в прославление митрополита Вениамина. Злоба разочарованных обвинителей обрушилась на следующего свидетеля». (См. «Вестник РСХД». Август 1927 г. Статья Гуровича «К 5-летию со дня смерти митрополита Вениамина»).
Вот перед нами фундаментальный исторический труд диакона Василия ЧСВ. Автор, очень отрицательно настроенный по отношению к Живой Церкви, дает на основании воспоминаний русской католички, Ю. Н. Данзас, уничтожающую (и не вполне справедливую) характеристику Введенского и других живоцерковников. Он все же, скрепя сердце, вынужден сделать одно исключение: «Он (Введенский) начинает сближаться с Красницким и Альбинским, подчиняет своему влиянию честного и открытого отца Александра Боярского». (См. Диакон Василий ЧСВ, «Леонид Федоров. Жизнь и деятельность». Рим, 1966 г., стр. 437).
Личность Боярского, не любившего аффектации, предопределила его ораторскую манеру. Он избегал пафоса. Беседу вел просто, в тоне бытового разговора, — но это была кажущаяся простота. Постепенно он захватывал слушателя как бы в тенета и начинал говорить все так же просто, не повышая голоса, но с необыкновенной силой, против которой трудно было бороться, которой невозможно было противостоять. О силе убеждения, которой обладал Боярский, свидетельствует случай, о котором я слышал от многих очевидцев. В 1921 г., в Колпине, в день Святителя Николая (19-го декабря), у женщины за ранней обедней украли хлебные карточки на всю семью. Боярский только что совершил раннюю обедню и разоблачался в алтаре. Ему рассказали о краже карточек. И вот, он вышел из алтаря, наполовину разоблачившийся, без фелони, но в стихаре, епитрахили и поручах, и крикнул на весь храм: «Стойте! Слушайте!» А потом стал говорить. Говорил с необыкновенным жаром, но, как обычно, просто и ясно: изобразил горе обокраденной женщины, ужас семьи, оставшейся без хлеба, голодных детей. А потом указал на образ Святителя. Стал говорить о наказании того, кто оскорбил Св. Николая в день его памяти. Привел несколько примеров наказания. А потом произнес: «А теперь пусть тот, кто украл, положит карточки к подножию иконы Николая Чудотворца!» Наступила напряженная тишина. И вдруг… и вдруг поднялась из толпы чья-то рука с карточками… Толпа расступилась перед ним, как перед архиереем. На солею вышел рабочий парнишка и положил к подножию местного образа Святителя Николая карточки…
В конце 20-х годов отец Александр Боярский носил сан протопресвитера. Он был настоятелем одного из самых больших храмов Питера — Спасского собора на Сенном рынке — и одновременно служил в Колпине, в Никольском храме. Он был также председателем обновленческого Епархиального Совета. Но такой человек, конечно, не мог нравиться властям. Недовольство властей подогревал Платонов, который выступал против Боярского где и как только мог. В конце 1928 года Боярский был удален из Ленинграда. Правда, пилюлю позолотили: он был рукоположен во епископа Иваново-Вознесенского и в начале 1934 года был возведен в сан митрополита. Но ГПУ давно уже зарилось на независимого и принципиального человека. Не такие люди были ему нужны. Летом 1934 года Боярский был арестован.
Его судьба так и осталась неизвестной. Был какой-то неясный слух, будто видели его в Ивановской тюрьме, в безумии. Затем наступили годы ежовщины… Следы Александра Боярского пропали.
Во время войны его жена считала мужа живым и надеялась увидеть его. Она его и увидела. В 1962 году, перед смертью, она вдруг вскрикнула: «Саша!» На вопросы близких «Что ты? Что случилось?» она, дрожа всем телом, отвечала: «Саша, отец Александр, сейчас прошел по комнате… Я видела…» Больше Боярского не видел никто и никогда. Этот обновленческий деятель умер исповедником Божиим.
И наконец, Введенский. Его в это время в Ленинграде уже не было: он жил в Москве, где возглавлял обновленческий Синод. В Питере бывал лишь наездами, но все здесь было полно слухами о нем. Его имя я слышал с самого раннего детства. Это был расцвет его славы. О нем слагались легенды. Его имя знала вся Россия. О нем говорили с уважением и недоумением. И даже фанатично настроенные тихоновцы все же восхищались его выступлениями на диспутах. Его появлению в Ленинграде всегда предшествовали плакаты на заборах, на которых аршинными буквами извещалось о диспутах с участием митрополита Александра Введенского; затем в Филармонии, у кассы, выстраивались длиннейшие очереди за билетами. В декабре 1927 года я простоял в такой очереди 5 часов на морозе.
В 1927 г. я впервые увидел этого человека, сыгравшего столь важную роль в моей жизни.
О Введенском я писал уже очень много. Мой очерк «Закат обновленчества», напечатанный в журнале «Грани», посвящен в значительной степени последним дням Введенского.
Очерк вызвал ряд откликов в западной печати. В частности, ему посвятил особую рецензию русский католик, иеромонах Хризостом. Процитировав мои слова о том, что я «хотел рассказать все, что я знаю, но понял, что не могу этого сделать», отец Хризостом, с совсем не монашеским злорадством, замечает: «Можно себе представить, в каком виде предстал бы Введенский, если бы А. Краснов мог рассказать о нем все, что он знает». На это я отвечу вопросом: «А в каком виде мы с Вами предстали бы, если бы кто-нибудь, к нам очень близкий, рассказал о нас все, что знает? Хотели бы Вы этого?» Я бы так не хотел.
Имеется два типа мемуаристов: парадные, официальные мемуаристы, которые все подают в приглаженном, приукрашенном виде. Таковы авторы всех советских военных мемуаров (в том числе и маршал Жуков). Их мемуары, как правило, лишены какой бы то ни было исторической и психологической ценности.
Но есть и другого типа мемуаристы, которые старательно выискивают все мелкие, пошлые черточки у великих людей. Характерным примером такого мемуариста является Авдотья Яковлевна Панаева (гражданская жена Некрасова). Ненавидя Тургенева, она изобразила его в своих мемуарах вполне законченным пошляком, хвастуном, мелким, тщеславным эгоистом. Не упустила ни одного факта, который мог бы очернить Тургенева. Не объяснила она только одного: каким образом могли появиться «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Стихотворения в прозе», изумительные тургеневские повести, которые уже столетие радуют десятки миллионов читателей и будут радовать последующие поколения через много веков после того, как нас уже на этой планете не будет.
Трудность в изображении столь сложной личности, как Александр Иванович Введенский, состоит в том, чтоб, рассказав о его слабостях и пороках, объяснить истоки его чудесного, ни с чем не сравнимого проповеднического дара.
Биография обновленческого митрополита рассказана мной в «Истории обновленчества», частью напечатанной в «Новом Журнале» в Нью-Йорке и в журнале «Возрождение» в Париже. Поэтому не буду подробно ее пересказывать. Напомню лишь основные вехи его блистательной и трудной жизни.
Он родился 12 сентября 1889 г. (по новому стилю) в Витебске, в семье директора местной гимназии. По окончании гимназии поступил в Петербургский Университет, на историко-филологический факультет. Очень религиозный еще в детстве, он, учась в университете, сблизился с кругами богоискательской интеллигенции, в частности, стал близким человеком в доме Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус. В 1911 г. провел анкету среди представителей русской интеллигенции с целью выяснить причины ее неверия. Опросив при помощи газеты «Русское Слово» несколько тысяч человек, опубликовал в журнале «Паломник» статью «Причины неверия русской интеллигенции».
Это первое выступление в печати двадцатидвухлетнего автора уже показывает блестящий талант и в какой-то мере является ключом к его последующей деятельности. Подводя итоги произведенного им опроса, А. И. Введенский приходит к выводу, что есть две основные причины неверия русской интеллигенции: несоответствие религиозного учения науке и «порча церкви» — моральная испорченность духовенства и его реакционность. Уже тогда Введенский ставит перед собой две задачи: научная апологетика христианства и борьба за обновление церкви.
Следующие этапы его жизни: 1912 г. — женитьба на Ольге Федоровне Болдыревой, дочери харьковского предводителя дворянства. 1914 г. — рукоположение в сан священника, служба в качестве полкового священника в армии. 1916 г. — переезд в Петербург, служба в качестве священника в Николаевском Кавалерийском Училище. 1917 г. — после Февральской революции — начало широкой политической деятельности. Сближение с отцом Александром Боярским и с отцом Иоанном Егоровым. Основание Демократического Союза духовенства. Выезд на фронт для агитации за продолжение войны. Участие в «Русском Республиканском Совете» (т. н. «предпарламенте»). Сближение с эсеровской партией.
После Октября — выступления на диспутах, которые в первые же годы революции создали молодому священнику Введенскому громкую славу. Служба в Захариеелизаветинской церкви на Захарьевской улице, личная близость к митрополиту Петроградскому Вениамину (впоследствии расстрелянному). И наконец, 1921 г. Голод в Поволжье. Агитация за сдачу церковных ценностей государству.
В 1922 г. — совместно со священниками Красницким, Белковым, Калиновским он производит церковный переворот (или, как тогда называли, «церковную революцию»). Формирует, после ареста Патриарха Тихона, Высшее Церковное Управление.
Приезд в Петроград. Запрещение в священнослужении, наложенное митрополитом Вениамином. Темная и очень некрасивая роль, граничащая с предательством, при аресте митрополита Вениамина. Попытка выступить на суде в качестве защитника митрополита, ранение в голову камнем, брошенным фанатичкой. Борьба с Красницким. Разрыв с Живой Церковью. Формирование нового церковного течения (Союз Общин Древле-Апостольской Церкви — СОДАЦ).
Руководящая роль на обновленческом Соборе в мае 1923 года. Рукоположение (после принятия постановления о женатом епископате) в сан архиепископа. Выступления на диспутах с Луначарским.
1924 год — после окончательного оформления раскола возведение в сан митрополита, доминирующая роль в обновленческом расколе.
В то время, когда я его увидел, в 1927 году, он носил официальный титул «Митрополит-Апологет, Благовестник Христовой Правды» и занимал должность заместителя Председателя Священного Синода (при номинальном Председателе митрополите Вениамине Муратовском) и ректора Московской обновленческой Академии. Проживал он в Москве; однако в Питере было два храма, находившихся непосредственно в его ведении: Захариеелизаветинская церковь на Захарьевской улице (ныне улица Каляева), где он служил еще священником, и Пантелеймоновская церковь на Пантелеймоновской улице (ныне улица Пестеля). Основная особенность этих храмов — до 1929 г. там служили по новому стилю.
Введенский всегда служил в Захариеелизаветинской церкви 25 марта (в день Благовещения), делая нескромный каламбур из созвучия праздника с его титулом: Митрополит-Благовестник и служит на Благовещение.
24 марта 1927 года я его и увидел во время всенощной. Храм был переполнен народом; вот вышли встречать митрополита: все солидное питерское духовенство. Колокольный звон, возглас диакона.
Показался митрополит. В первый момент я остолбенел от изумления. Представьте себе: белый клобук, мантия, окружение духовенства. И в кадильном дыму, под белым клобуком, — актерски бритое лицо, с огромным, чисто еврейским носом с горбинкой (доставшимся ему от деда — псаломщика из крещеных кантонистов), отвислая нижняя губа. При пении «Достойно» благословил, прошел в алтарь. На праздничной литии я подобрался ближе к кафедре и стоял почти рядом со знаменитостью. Он стоял, закрыв глаза, нижняя челюсть отвисла еще больше, левая рука быстро-быстро, нервно перебирала белые, перламутровые четки.
И наконец, перед выходом на полиелей — проповедь. Впечатление ошеломляющее: человек в митре, в полном архиерейском облачении, говорит жестикулируя, размахивая руками, так что иногда кажется, что у него три руки. И все время слышатся совершенно необычные с церковной кафедры слова: Паскаль, Бергсон, на столбцах «Фигаро». Хотя я и был развит не по летам, но не понял в его проповеди ни одного слова (только запомнил Паскаля, Бергсона и «Фигаро»).
Затем служба продолжалась: каждение резкими порывистыми движениями, Евангелие читал резким, отрывистым тенорком. После всенощной, в белом клобуке и в поддевке, уселся на извозчика. Уехал. Придя домой, я рассказал обо всем бабушке. Та отпечатала: да, умный человек, но аферист.
Второй раз видел его на диспуте. Тут впечатление совсем другое. Без облачения, в рясе, без белого клобука не получалось такой странной дисгармонии. Короткие курчавые волосы, высокий лоб. Впечатление адвоката, профессора.
Сначала говорил Луначарский. Полный, с сильной проседью человек. Заученные интонации привычного оратора. Довольно плоские остроты. Публика слушала его невнимательно, и так было всем известно, что он скажет. Все взоры были устремлены на человека в рясе, сидевшего на эстраде, которого Луначарский называл «Гражданин Введенский». Но вот, после речи Луначарского, председатель провозгласил: «Слово предоставляется оппоненту, гражданину Введенскому». Он вышел на кафедру. Половина зала бурно зааплодировала.
Он начал говорить. Сначала обыкновенные фразы, сказанные в духе светского разговора. Потом он разгорячился, и речь стала нервной, порывистой. Он говорил о гармонии, которая разлита в мире; он сравнивал религию с музыкой, которую отрицать невозможно, потому что ее невозможно понять разумом. Он говорил о любви отца к ребенку (и голос его стал нежным, ласкающим): докажите отцу, что эта любовь не существует. А потом он стал говорить о религиозном чувстве, о слиянии с универсумом, об ощущении, которое врождено, которое пробивает себе дорогу, несмотря на все препятствия. Рассказал о двух девочках из приюта, которые молились по ночам и чувствовали сладость беспримерную, хотя учительница им и говорила, что Бога нет.
Конец: взволнованная речь о религии как синтезе науки, искусства, жажды справедливости. Воодушевление овладело оратором, он ничего не слышал и не видел. Оно передалось в зал. Половина публики повскакала с мест. Луначарский на эстраде, видимо, тоже нервничал, менял места. После окончания — минута тишины. Потом взрыв аплодисментов. Антракт. В антракте сплошной гомон. Спорящие голоса. Взволнованные лица. Звонок. Речи ораторов-безбожников. Их никто не слушает. Но вот на трибуне снова Луначарский. Начал речь признанием: «Я не собираюсь конкурировать с высококвалифицированным религиозным гипнотизером» (крики: «Еще бы!»). Речь в юмористическом тоне, через который, однако, прорывается раздражение. Ссылка на Ленина. Аплодисменты, но холодные, официальные. Конец.
Верующие взволнованы. Выхожу на улицу. Помню обрывки реплик: «…но ведь женатый!» «Ну и пусть! Я ему еще десять приведу! Пусть только проповедует!» Я прихожу домой в совершенно восторженном состоянии. Поля, которая тоже была со мной на диспуте, хотя и не все поняла, но тоже в восторге. Долго не могу заснуть. Все раздается в ушах чудесный тенор великого проповедника. С тех пор я не пропускал ни одного диспута.
Введенский не укладывается ни в какие рамки, ни в какие правила школьной гомилетики. Амплитуда его как оратора поистине беспредельна. Иногда он — лектор. Однажды против него выступало 11 специалистов (это был диспут на тему «Наука и религия»). Он оперировал точными данными из высшей математики, биологии, физики. Оперировал теорией относительности, астрономическими терминами. Его оппоненты возражал ему, заикаясь от волнения, выглядели школьниками. Другой раз перед вами был трибун, Савонарола, который обличал, громил, а потом голос вдруг смягчался, и он, как бы всматриваясь в даль, говорил о весне, приходящей в мир, об обновлении мира тихостью Святого Духа.
А иногда его речь была тихой исповедью, лирическим раздумьем о судьбах мира, о судьбах церкви. Тихая грусть как бы овевала слушателей. И тем неожиданнее был взрыв в конце. Призыв к вере, восторженное исповедание веры в Бога. Особенно впечатляюще он говорил о Христе, о Его любви. Христос — это единственная светящаяся точка в истории, в этом мире, в котором царствует хаос страстей. «Какой ужас, какая гибель в душе без Христа!» — восклицал он, и всех охватывал ужас…
Во всяком случае могу сказать одно: Введенский для меня убил всех проповедников. Все, что я слышал после него, за всю мою долгую жизнь в церкви, казалось мне бледным и жалким, кроме, пожалуй, некоторых проповедей Платонова, который в лучшие свои минуты приближался к Введенскому.
Я тогда был лишь слушателем. Личное знакомство и близкая дружба наступили после. А теперь все-таки попытаюсь дать себе отчет. Кто такой Введенский? Гениальный проповедник? Да! Хороший человек? Вряд ли. Плохой человек? Вряд ли. Прежде всего это человек порыва. Человек необузданных страстей. Поэт и музыкант. С одной стороны — честолюбие, упоение успехом. Любил деньги. Но никогда их не берег. Раздавал направо и налево, так что корыстным человеком назвать его нельзя было. Любил женщин. Это главная его страсть. Но без тени пошлости!
Он увлекался страстно, до безумия, до потери рассудка.
И в то же время в душе у него было много красивых, тонких ощущений: любил музыку (ежедневно по 4, по 5 часов просиживал за роялем. Шопен, Лист, Скрябин — его любимцы), любил природу. И, конечно, был искренно религиозным человеком.
Особенно радостно он переживал Евхаристию: она была для него Пасхой, праздником, прорывом в вечность. Мучительно сознавал свою греховность, каялся публично, называл себя окаянным, грешником. Обращаясь к народу, говорил: «Вместе грешим перед Христом, будем вместе и плакать перед ним!»
А потом наступал какой-то спад; и сразу проступали мелкие, пошленькие черточки в его характере: любовь к сплетням, детское тщеславие и, что хуже всего, трусость.
Трусость в соединении с тщеславием и сделали его приспособленцем, рабом советской власти, которую он ненавидел, но которой все-таки служил…
Последний диспут, на котором я присутствовал, происходил в Филармонии, в январе 1928 г. Это был необычный диспут: диспут между обновленцами и староцерковниками. От обновленцев выступал митрополит Введенский, от староцерковников — бывший ректор Петербургской Духовной Семинарии, в это время настоятель храма Волкова кладбища, прот. Кондратьев.
Сначала говорил Введенский. Первая часть его доклада была посвящена порокам церкви. Он говорил о цезарепапизме, процитировал слова Юстиниана, обращенные к епископам, «бессмертные по цинизму»: «Моя воля — вот ваш канон». Рассказал о том, как в ризнице Пантелеймоновской церкви он нашел старинную икону «Семь Вселенских Соборов». Посредине император Константин, а по бокам семь маленьких кружков — семь Вселенских Соборов. «Древний иконописец здесь графически изобразил значение в церкви императорской власти и вселенских соборов!» Он затем говорил о традиционном консерватизме церкви. Процитировав слова Канта, что «верующие люди всегда идут в арьергарде научных достижений человечества», Введенский с жаром заявлял, что назначение верующих христиан — идти впереди человечества, нести горящий факел мудрости и справедливости среди кромешной тьмы. Он заявил, что церковь не должна быть музеем, где все тщательно запротоколировано, проинвентаризировано и покрыто вековой пылью. «Откройте окна, впустите свежий воздух, пусть ворвется в церковь солнечный свет», — исступленно требовал он.
Затем говорил отец Кондратьев, старик с большой белой бородой. Он весьма ехидно заявил, обращаясь к Введенскому: «Вы не отказались от политики, а переменили политику. Спросите любую из наших женщин, кто вы такие. Она вам ответит кратко: красные попы» (Смех, аплодисменты. Улыбается и Введенский.) «Вы не отказались от подчинения государству, а лишь переменили хозяина». Протоиерей Кондратьев затем процитировал слова епископа Антонина, председателя обновленческого собора: «Собственно говоря, это не был Собор в церковно-каноническом смысле, а просто стачка попов». Наконец, отец Кондратьев огласил сенсационный документ: секретный циркуляр, подписанный Введенским как заместителем председателя Синода, обращенный к епархиальным архиереям, в котором рекомендовалось (в случае необходимости) обращаться к органам власти для принятия административных мер против староцерковников. «Вот Ваш факел, который Вы хотите нести человечеству», — говорил отец Кондратьев, потрясая злополучным циркуляром в старческой руке. Взрыв аплодисментов одной части зала. Обновленцы смущенно молчат, впечатление потрясающее. Слово берет Введенский, который говорит, что он всегда боролся с Красницким и всегда был против административных мер, но впечатление не в его пользу: тут и все его красноречие бессильно.
Затем выступают комсомольцы, сектанты. Наконец, слово предоставляется молодому, энергичному батюшке — отцу Борису (староцерковнику) из храма Бориса и Глеба на Калашниковой набережной. Краткое, но сильное выступление. О Введенском говорит: «Какой оратор, какие знания, какие способности. Но иногда от небольшой ошибки инженера может рухнуть грандиозный мост. Не случилось бы этого с Введенским! Он допустил одну, как будто и неважную, как будто только тактическую, ошибку: пошел на временный союз с безбожниками. И от этой ошибки рухнет все его сооружение». И заключительные слова отца Бориса: «Обновленчество, староцерковничество — это все только эпизоды. Главное в другом: это арена расчищается для последнего смертного боя между вами, безбожниками, и нами, божниками». Гробовая тишина. Все ошеломлены смелостью священника. Председатель диспута встает и с перекошенным от злобы лицом роняет реплику по адресу отца Бориса: «Он уже проиграл этот бой».
Вскоре (через год) отец Борис исчез с нашего горизонта, был сослан в Якутию. Но я часто потом вспоминал его слова о Введенском и о смертном бое между христианами и безбожниками.
Последним выступил Лонгинов, один из самых ярых безбожников, редактор хулиганской газеты «Безбожник у станка», который даже Ярославского считал оппортунистом по отношению к религии. Попович (бывший семинарист), он носил длинную окладистую бороду. На этой почве часто возникали забавные недоразумения, когда он (совместно с Введенским) совершал турне с диспутами по провинции: когда они приезжали в какой-нибудь город, представители Горкома подбегали к Введенскому, одетому в шевиотовый костюм, и жали ему руку, тогда как Лонгинов, стоя в стороне, лукаво улыбался в свою длинную бороду. В вагоне он был очень любезен с Введенским: угощал его то арбузом, то домашним пирогом и даже подносил ему фиалки. Зато на диспутах бывал груб и по-чекистски недоброжелателен.
На этот раз он превзошел самого себя: обрушившись на отца Кондратьева, он заявил, что «напрасно он дергает с таким ехидством Введенского за фалды. Если он переменил политику, то это великолепный комплимент, потому что нет человека в мире, который не занимался бы политикой». Тут же, однако, прибавил, что не верит и обновленцам и не сомневается, что «они продадут нас кому угодно и за что угодно». И закончил свою речь грубой тирадой. «Я сегодня выбивал свои брюки и от них пошло облако пыли. Еще больше пыли пойдет от вас, церковников, когда мы начнем скоро вас как следует бить».
Этим зловещим выступлением безбожника закончился диспут. Интересно, что в 30-е годы «выбиватель пыли» был сам арестован и провел в лагерях 20 лет. Вернулся лишь в 1956 г. немощным старцем. Видимо, палка, которой выбивают пыль, о двух концах.
Я, к сожалению, никогда не видел епископа Антонина, самого крупного и самого замечательного из представителей православного модернизма, т. к. он умер в Москве 14 января 1927 года. Однако со сторонниками этого замечательного человека, которого я также признаю своим учителем, мне приходилось в Питере сталкиваться очень часто. Епископу Антонину в «Истории обновленчества» я посвятил ряд страниц, а 3-ий том, неизвестный на Западе, почти целиком посвящен ему. Здесь вкратце напомню его биографию.
Епископ Антонин был, конечно, самый крупный из вождей обновленчества. Богатырем он был даже физически: высоченного роста (на несколько вершков выше Петра Великого), обладающий великолепным басом, который перекрывал всех протодиаконов, наполняя собой храм Христа Спасителя. Крупным человеком он был и в интеллектуальном и в духовном отношении.
Епископ Антонин (в миру Александр Андреевич Грановский) родился в 1860 г. на Украине, в семье псаломщика. По окончании семинарии много странствовал, изучил в совершенстве восточные языки, занимался археологией, участвовал в раскопках. И только в 27 лет поступил в Киевскую Духовную Академию, которую окончил в 1891 г. первым по списку. На последнем курсе принял монашество с именем Антонин. Тотчас после окончания Академии получил назначение помощником инспектора Киевской Академии. Затем, рассорившись со своим начальством, иеромонах Антонин переехал в Москву в качестве смотрителя (начальника) Донского Духовного Училища. Однако и в Москве не повезло. Причиной для отставки послужил комический инцидент: иеромонах Антонин, тяготясь одиночеством, завел себе друга по своему характеру: выдресировал и приручил медвежонка. На окраине Москвы, около Донского монастыря, часто можно было в 90-е годы видеть экстравагантную фигуру: высоченного, широкого в плечах иеромонаха, рядом с которым шествовал медведь. Однажды, на Пасху, когда полагалось делать визиты начальству, отец Антонин пришел к какому-то важному начальнику и расписался внизу, в книге визитеров: «Иеромонах Антонин с медведем». Результатом была немедленная отставка. Опять вернулся иеромонах в свой родной Киев и получил назначение смотрителем Киево-Подольского Духовного Училища. За это время отец Антонин приобрел себе (благодаря своему несдержанному, порывистому характеру) бесконечное количество врагов, но приобрел и верного друга в лице архиепископа Финляндского Антония (Вадковского).
Когда в 1899 г. архиепископ Антоний получил кафедру митрополита Петербургского и Ладожского, Антонина перевели в Петербург, он был возведен в сан архимандрита и получил важный пост — старшего цензора Петербургского Духовного Цензурного Управления.
Тут оказалось, что Антонин все эти годы занимался не только дрессировкой медведя: в 1902 г. вышла в свет его магистерская диссертация «Книга пророка Варуха. Репродукция». Санкт-Петербург, 1902 г. Эта работа, представленная и блестяще защищенная отцом Антонином в качестве магистерской диссертации на заседании Киевской Духовной Академии 18 декабря 1902 г., выходила далеко за пределы обычных диссертаций. Это труд, почти не имеющий себе равных в русской экзегетике. Как известно, книга пророка Варуха дошла до нас только в греческом переводе. Отец Антонин Грановский задался целью восстановить неизвестный нам еврейский пратекст. Для этого он воспользовался эфиопским, двумя сирскими, древнеармянским текстами. Проанализировав почти каждую фразу в этих текстах, произведя тщательный этимологический и синтаксический анализ, исследователь находит целый ряд гебраизмов: по-эфиопски, мол, так сказать нельзя, по-эфиопски — это звучало бы вот как, это явный перефраз с еврейского. Причем каждое такое замечание подтверждено многочисленными примерами из эфиопской, древнесирской и армянской литературы. В результате сличения текстов появляется древнееврейский текст в конце книги, где книга пророка Варуха приведена целиком на древнееврейском языке. Интересен отзыв знаменитого гебраиста Хвольсона: «Прямо не верится, что этот текст составлен русским иеромонахом в XX веке, а не иудеем, жившим 25 веков назад. Ни одной погрешности, стиль и колорит древнееврейского языка соблюдены блестяще».
28 февраля 1903 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры была совершена хиротония архимандрита Антонина во епископа Нарвского, третьего викария Петербургской епархии. Хиротонию совершали митрополиты Антоний Петербургский, Владимир Московский, а также епископы Владикавказский Владимир, Таврический Николай, Саратовский Иоанн, Тамбовский (будущий Экзарх Грузии) Иннокентий и епископ Ямбургский (будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси) Сергий.
Еще будучи архимандритом, преосвященный Антонин принимал активное участие (наряду с епископом Сергием) в работе Религиозно-философского Общества. Он уже тогда имел репутацию отчаянного либерала. В качестве цензора пропускал самую крамольную литературу, поддерживал связь с либеральной интеллигенцией.
В 1905 г. епископ Антонин служил в Казанском соборе панихиду по жертвам 9-го января; летом 1905 г. опубликовал статью, в которой говорится о дьявольском происхождении самодержавия. А после манифеста 19 октября перестал поминать Николая II самодержавнейшим. В результате с 1906 г. епископ увольняется на покой и проживает со своим медведем в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом. Причем по общему мнению епископ легко отделался благодаря заступничеству митрополита Антония. Что касается обер-прокурора Саблера, то он только разводил руками и острил: «Из пророка Варуха вышла заваруха».
В 1912 г. епископ Антонин на короткое время появился на Владикавказской кафедре; однако через три года и отсюда уволился на покой в Московский Богоявленский монастырь, здесь его и застала революция. Проживая в Богоявленском монастыре (это в Китай-городе), напротив того места, где сейчас станция метро «Площадь Революции», он служил в Заиконоспасском монастыре (через дорогу) — против ГУМа (известного в Москве универсального магазина).
Здесь он начал свою глубокую литургическую реформу. В 1922 г., после церковного переворота, стал во главе Высшего Церковного Управления в сане митрополита Московского. Однако летом 1923 года откололся от обновленцев, сложил с себя звание митрополита и в звании епископа возглавлял основанный им Союз Церковного Возрождения до самой своей смерти от рака мочевого пузыря 14 января 1927 года.
Бывают люди, которые настолько опережают свое время, что так и сходят в могилу, никем не понятые, никем не оцененные. Д. С. Мережковский сказал от имени таких людей:
К таким людям принадлежал и епископ Антонин Грановский. В чем своеобразие этого необычного, несчастного, одаренного человека?
Прежде всего, он с негодованием отверг обновленческую грязь и клеймил позором таких людей, как Красницкий, жестоко бичевал «Сашку Введенского» (как он его не очень почтительно называл) за трусость, за приспособленчество, за личную разгульную жизнь. Обновление церкви надо делать чистыми руками. «Себя прежде обновить надо», — бросил он однажды прямо в лицо Введенскому.
Поэтому епископ Антонин был сторонником монашества и строгого аскетизма. Всякую хулу на идею монашества он провозгласил хулой на Пречистую Матерь Божию, Предтечу и преподобных отцов и матерей.
В то же время, будучи убежденным сторонником христианского социализма, братства людей и уничтожения власти богатых, он энергично протестовал в обращениях на имя правительства против гонений на церковь в выражениях столь резких, каких советское правительство никогда (ни до, ни после Антонина) еще ни от кого не слышало. Мы даже стесняемся здесь их процитировать и отсылаем читателя к нашему 1-му тому, напечатанному в «Новом Журнале», где приведен текст его заявления во ВЦИК (во всяком случае это не для дамских ушей).
В то же время епископ провел (по собственному почину) литургическую реформу. Он стал совершать литургию (как сейчас в католических храмах) посреди храма. Литургию он перевел на русский язык и дополнил ее некоторыми трогательными моментами из древних (коптской и сирской) литургий. Все тайные молитвы он читал вслух. Он ввел общенародное пение, которое должно было заменить наемные хоры. Владыка Антонин провел каноническую реформу, отменив все награды для духовенства: камилавки, набедренники, палицы. Он восстановил древний апостольский обычай выборов епископа и свел к минимуму внешний этикет: отменил ношение митры и саккоса, оставил только отличия епископского сана, имеющие мистическое значение: омофор, панагию и посох.
В то же время, следует сказать, епископ не навязывал никому нового обряда, а лишь настаивал на праве его на существование.
Когда он стоял во главе обновленчества, то обычно по воскресениям служил литургию в Храме Христа Спасителя, с большим торжеством, по старому традициональному архиерейскому обычаю, а по четвергам служил в Заиконоспасском монастыре (по-новому). Строгий аскет, он жил совершенным бессребренником: имел только одну рясу и связку книг. Его монашеская келья была открыта всегда, для всех. И в то же время он не делал никаких уступок в принципиальных вопросах и не постеснялся открыто, во время литургии, бросить в лицо обер-агенту ГПУ Красницкому: «Нет Христа между нами!» И не допустил его к Святой Чаше. Аббат (впоследствии епископ) д'Ербиньи совершенно не понял епископа Антонина и нарисовал в своей книге о поездке в Россию карикатурный его портрет; но другой гость с Запада, немецкий пастор, сказал об Антонине: «Я приехал посмотреть нового Лютера, а увидел нового апостола Павла».
Придя к обновленчеству, я проникся антониновскими идеями и всегда говорил об этом Введенскому, к его немалому раздражению. Но все это я понял позже, а тогда, в 20-е годы, я просто интересовался слухами об экстравагантном епископе. У нас, в Питере, к Союзу Церковного Возрождения принадлежал (с 1924 г. по 1926 г.) Преображенский собор на Литейном. Но крохотная община не могла содержать огромного здания. Собор был вскоре передан староцерковникам. А приверженцы Антонина собирались на Загородном проспекте, в частном помещении, в полуподвальном этаже, где по вечерам совершалась молодым священником, отцом Львом Бунаковым, литургия по антониновскому чину…
Существовала в Питере в эти годы также группа «Живая Церковь», руководимая печально знаменитым В. Д. Красницким.
Владимир Димитриевич Красницкий, так же, как и епископ Антонин, — знаменательная фигура. Он тоже оказался предтечей — предтечей того беспринципного, торгашеского, приспособленческого течения, которое господствует сейчас в нашей многострадальной Русской Православной Церкви. Красницкий — одно из самых зловещих имен в послереволюционной истории русской церкви. И так странно получилось: именно носитель этого имени был со мною на редкость ласков и даже нежен. Так и слышатся мне сейчас его слова: «Толя, почему ты не идешь в алтарь?»
Это был первый священник, который ввел меня 9-и лет в алтарь и дал мне стихарь: у Красницкого я однажды исповедовался. Исповедь происходила после предпричастного стиха, у жертвенника, в Князь-Владимирском соборе, весной 1925 года; отец Владимир сказал: «Сейчас, когда ты еще невинный стоишь в алтаре, молись Богу, о чем хочешь, Господь исполнит все». В алтаре мы были только вдвоем, на престоле стояла Святая Чаша, в красном озарении смотрел написанный на стекле (образ этот цел и сейчас) Христос.
Это были в жизни отца Владимира дни тихие, когда его преследовали неудачи, а карьера шла ко дну.
О нем также много мне приходилось писать, писал я, конечно, в отрицательном плане. Мой друг, Вадим Шавров, как-то привез эти написанные мною страницы в Питер, на Васильевский остров, и прочел их Поле. Поля укоризненно сказала: «Когда-то мы с Толей к нему ходили, а теперь он его поливает». Что делать, говорить правду — тяжелая ноша.
Владимир Димитриевич Красницкий родился в 1880 г., на Украине, и на всю жизнь у него сохранилась типичная для украинца певучая интонация. Он окончил Петербургскую Духовную академию, где учился вместе с будущим митрополитом Вениамином Федченко (известным эмигрантским деятелем), который в своих мемуарах говорит о веселом студенте Володе Красницком. По окончании академии и женитьбе получил место третьего священника в Князь-Владимирском соборе (на Петроградской стороне, у Тучкова моста).
Еще студентом Красницкий был активным деятелем Союза русского народа. Это был черносотенец чистейшей воды: в своей кандидатской работе о социализме он называет социализм еврейской уловкой, а на одном из собраний Петербургского Отделения Союза русского народа он произнес речь, в которой доказывал, что евреи употребляют в мацу христианскую кровь. В соответствии со своими установками, он летом 1917 года, будучи редактором «Петроградских Епархиальных Ведомостей», призывая к продолжению войны до победного конца, заявлял в передовой статье, что «большевиков надо утопить в их собственной крови» (эту фразу ему напомнил на процессе митрополита Вениамина защитник митрополита Гурович). Ловкий карьерист, он, видимо, входил в милость к вновь избранному митрополиту Петроградскому; во всяком случае, его имя фигурирует среди петроградских делегатов, приехавших в 1918 году к Патриарху Тихону в Москву, чтобы просить о присвоении митрополиту древнего почетного титула «Священноархимандрит Свято-Троицкия-Александро-Невския Лавры». (См. «Церковные Ведомости» за 1918 г.).
Во время гражданской войны Красницкий временно отошел в тень: в это время он совмещал священнослужение с работой в качестве бухгалтера в одном из учреждений на Петроградской стороне. Его имя всплывает в 1921 г. в связи с дискуссией об изъятии церковных ценностей и с голодом в Поволжье. Его фамилия стоит рядом с фамилиями А. И. Введенского и А. И. Боярского под знаменитым воззванием петроградской группы духовенства с призывом отдать церковные ценности голодающим, появившимся в «Петроградской Правде» весной 1922 года. Сам А. И. Введенский, однако, отнесся к своему новому другу решительно без всякого энтузиазма: «Хотел бы я знать, — говорил он потом, — откуда взялся этот тип. Никогда ни в одной обновленческой группировке не участвовал, ни с кем из нас никакого дела не имел. И вдруг появляется на каком-то нашем совещании. Он, видите ли, что-то там делает и что-то там тоже подготовляет».
Как бы то ни было, в майском церковном перевороте 1922 года отцу Владимиру принадлежит доминирующая роль. Он входит в состав делегации, пропущенной к заключенному Патриарху на Троицкое Подворье и добивавшейся от него отречения (в состав делегации входили священники: А. Введенский, В. Красницкий, 3. Белков, А. Калиновский и диакон Скобелев); он не только занимает в образовавшемся Высшем Церковном Управлении (наряду с Введенским) пост заместителя председателя ВЦУ, но на короткое время становится форменным церковным диктатором.
Он организует церковную партию «Живая Церковь», которая, по замыслу ее организаторов, должна была быть в таком же отношении к ВЦУ, в каком коммунистическая партия находится по отношению к ВЦИКу. Блестящий администратор, он в короткий срок создает огромную, широко разветвленную организацию, которая действует на всей территории СССР. (Подробно его деятельность в это время освещена в нашей с В. М. Шавровым работе).
Оригинальной чертой В. Д. Красницкого был его ни с чем не сравнимый цинизм: он не только не скрывал того, что является эмиссаром ГПУ, но всячески бравировал этой ролью. «Выслать за контрреволюционную деятельность за пределы епархии», «просить гражданские власти принять меры против контрреволюционной агитации», — эти слова буквально не сходили с уст предприимчивого батюшки. В короткий срок имя его стало наиболее одиозным из имен вождей Живой Церкви. Более того, самый термин «Живая Церковь» стал одиозным, потому что он ассоциировался с именем Красницкого. Особенно скандальным было его выступление на процессе митрополита Вениамина в Петрограде, в июле 1922 года, в качестве свидетеля, где (по словам Гуровича) «каждое слово его накидывало петлю на кого-нибудь из обвиняемых». После того, как митрополита приговорили к расстрелу, Красницкий обессмертил себя неслыханным по цинизму документом: он обратился от имени ВЦУ во ВЦИК с просьбой отсрочить приведение в исполнение смертного приговора, чтоб успеть лишить приговоренных к смерти священного сана. Все содрогнулись от отвращения и ужаса, и все в страхе молчали. Все, кроме одного. Епископ Антонин смело выступил против «нового Иуды», бросил ему в лицо во время литургии в Страстном монастыре: «Нет Христа между нами!» — и отказал в причастии.
Красницкий и здесь потребовал «высылки митрополита за контрреволюционную деятельность в 24 часа из епархии», но коса нашла на камень. ГПУ ему ответило на этот раз отказом: Антонину покровительствовал его старый друг П. Г. Смидович (заместитель председателя ВЦИК) и «сам» Калинин. Красницкий попытался назначать в Московские приходы священников помимо Антонина. Но и здесь осечка. Антонин, обладавший, несмотря на возраст и болезни, огромной физической силой, приходил в церковь и выбрасывал из алтаря за шиворот рясофорных агентов ГПУ.
Красницкий называл его «буйнопомешанным», но принужден был смириться и лишь летом 1923 года наконец отделался от Антонина; ВЦУ решило освободить его от всех занимаемых им постов. Однако в это время произошло неожиданное освобождение из заключения Патриарха. В течение нескольких дней — вся церковь у ног Патриарха Тихона. Живая Церковь развалилась. Тучков, однако, решил спасать положение — реорганизовать обновленчество. Организуется обновленческий Священный Синод. От наиболее скандальных фигур решено отделаться, и в первую очередь — от отца Владимира Красницкого.
«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Красницкий вновь появился в Питере и возвратился в первоначальное состояние священника Князь-Владимирского собора. Но он все еще не сдавался: у него остались сторонники среди питерских священников, у него сохранились связи с Тучковым. И в 1924 г. он выкидывает сногсшибательный фортель: заявляет о своем примирении с Патриархом Тихоном. Патриарх его принял в общение и в принципе благословил его вхождение в будущий Патриарший Синод.
Но слишком велико было возмущение верующих против Красницкого. Слишком одиозно его имя. Патриарх через несколько месяцев аннулировал свою резолюцию. Красницкий снова вернулся в Питер, погрузился в неизвестность, на этот раз уже навсегда.
В эти годы, однако, существовала в Питере самостоятельная группа «Живая Церковь», руководимая Красницким. Сам Красницкий служил в своей старой «вотчине» — Князь-Владимирском соборе. Огромный собор пустовал: количество прихожан никогда не превышало сотню человек. Между тем, собор нуждался в ремонте, крыша протекала, с правой стороны карниз обваливался. Красницкий свел к минимуму расходы, служил один, без диакона; приспособил для богослужений пономарку. В соборе служба была только по праздникам. Ничего не помогало: денег на ремонт не хватало. Однако каждое воскресение и вторник в пономарке расставлялись скамейки. На солее также ставился столик. Красницкий проводил беседы. Говорил он гладко, очень спокойно; темы бесед всегда были интересны: доказательства бытия Божия, догматическое богословие. После беседы можно было задавать вопросы.
Вскоре (осенью 1926 г.) выяснилось, что служить в соборе более невозможно. Собор был закрыт, а вскоре перешел к староцерковникам. Власти, однако, не забыли своего старого фаворита: ему была предоставлена небольшая церковь св. Иоанна Милостивого (бывшая церковь при богадельне) в Геслеровском переулке. Там он и служил до самого ее закрытия в 1932 году.
Главным источником дохода для группы «Живая Церковь» и для Красницкого была Спасская часовня. Расположенная в самом бойком месте города, на Невском проспекте (посредине, между Гостиным Двором и бывшей Городской Думой, в 20-е годы — центральной железнодорожной городской станцией), часовня посещалась бесчисленным количеством людей: всякий верующий всегда забегал в часовню — поставить свечку, помянуть родных, а иногда и заказать молебен, очень мало интересуясь тем, к какому церковному течению она принадлежит. Часовня считалась подворьем Спасской Пустыни (Курской губернии) и обслуживалась четырьмя монахами: иеромонахом Паисием, старичком-иеродиаконом и двумя престарелыми иноками. К «Живой Церкви» они присоединились только для того, чтобы избежать закрытия часовни. Половина дохода шла отцу Красницкому.
Кроме того, группе «Живая Церковь» принадлежала церковь Серафимовского кладбища в Новой Деревне. Это было золотое дно. Когда надо отпевать покойника или служить панихиду на могиле родителей, уж совсем никому нет дела до церковных течений. На Серафимовском кладбище служил старичок-архиепископ Иоанн Альбинский (старый друг Красницкого) и еще двое священников.
30-е годы нанесли, однако, серьезный удар по группе «Живая Церковь». Весной 1932 г. одновременно были закрыты Спасская часовня и церковь Иоанна Милостивого. Архиепископ Иоанн присоединился в 1933 г. к обновленцам. Красницкий остался совершенно один, в кладбищенском храме. Целые дни сидел он с книгой в руках около храма, в ожидании панихид. В это время был арестован его единственный сын — техник на заводе им. Кулакова — за какие-то производственные неполадки. В 1935 г. бывший церковный диктатор поехал в Москву хлопотать о сыне.
Это была его последняя поездка. Весной 1936 года, во время эпидемии гриппа, забытый всеми, Красницкий скончался. Как говорят, перед смертью, причастившись, он молился об умирении и соединении русской церкви.
В 1959 г. я посетил на Серафимовском кладбище его могилу. Он похоронен около входа в церковь. Рядом с ним похоронена его верная прихожанка Елизавета (Лиза), оставшаяся верной своему пастырю до самой его смерти. На могиле сохранилась надпись: «Протопресвитеру Владимиру Димитриевичу Красницкому — стойкому борцу за дело Христа Спасителя».
Второй раз я посетил Серафимовское кладбище в августе 1974 года, перед отъездом из России. Я пришел туда, чтоб проститься с моим верным другом детства Полей (Пелагеей Афанасьевной Погожевой), которая покоится там с 25 мая 1967 года. По пути я зашел на могилу отца Владимира. Прежней надписи уже нет. Написано просто: «Свящ. Владимир Красницкий». Но зато разросся по всей могиле огромный куст белых роз.
И я невольно вспомнил Тургенева. Цветы на могиле Базарова. И заключительные слова чудесного тургеневского романа: «О вечном покое, о вечном примирении говорят они», эти розы.
И еще одно имя хочется мне вспомнить здесь. В мое время, в 20-е годы, весь рабочий Питер ходуном ходил от одного имени — имени «братца» Ивана Чурикова. О нем ничего не знала богоискательская интеллигенция, увлекавшаяся Булгаковым и Бердяевым, Андреем Белым и Блоком, Мережковским и Вячеславом Ивановым. Его имя без скрежета зубовного не могли произносить кондовые церковники. Зато в рабочих кварталах, среди простого люда, у питерских кухарок и прачек, сапожников и дворников, это имя было окружено любовью, лаской, глубоким почитанием.
И даже эпитет «братец Иванушка» звучал как самое интимное, родное, близкое.
И сейчас еще в Питере его, мученика, расстрелянного в 1930 году в подвалах на Гороховой, знают, любят, помнят.
Скажем о нем несколько слов, прежде чем остановиться на «чуриковщине». Иван Алексеевич Чуриков, небогатый купец из города Самары, глубоко религиозный православный человек, был потрясен картиной поголовного пьянства, разврата, нужды, которые царили в приволжском городе. И, почувствовав призвание Божие, начал он проповедовать Слово Божие, насаждать в народе трезвость. Он имел особый благодатный дар, непостижимый и несомненный, исцелять закоренелых пьяниц. Я сам видел десятки пьяниц, которые на всю жизнь переставали пить после получасового разговора с «братцем». И хотя Иван Алексеевич был православным христианином и ни в чем не отступал ни от догматов, ни от канонов, ни от обрядов и обычаев православной церкви, его деятельность привлекла недоброжелательное внимание консистории и епископа Самарского Гурия, человека не злого, но раздражительного и экспансивного. Консистория вынесла постановление — за «восхищение мирянином Чуриковым учительства» сослать его в Суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь на покаяние. Преосвященный Гурий, раздраженный независимостью Чурикова, утвердил это постановление, в чем потом каялся, — и вот, братец Иванушка попадает в тюрьму-монастырь, в Суздаль. Но через год им заинтересовалась Великая Княгиня Елизавета Федоровна, и братец Иванушка, освобожденный из заключения, перенес свою деятельность в Петербург. Митрополит Антоний Вадковский и протоиерей Димитрий Боголюбов помогли ему в его благородном деле.
Обстоятельства переменились, когда в 1912 г., после смерти митрополита Антония, Петербургского кафедру занял митрополит Владимир, суровый, косный, узко консервативный. Он был человеком лично честным, играл благородную роль в дни войны, противодействуя Распутину, и тоже погиб мученической смертью в 1918 г. в Киеве, — но из песни слова не выкинешь — по отношению к Чурикову он был очень несправедлив: запретив без всяких оснований дальнейшую проповедь Чурикова, он отлучил его и всех его последователей от церкви.
Эта несправедливая расправа еще больше сплотила чуриковцев, проповедь Ивана Алексеевича с призывами к обновлению жизни стала более решительной, более вдохновенной, более последовательной. И вот, возникает в Питере великое социальное движение. Несколько десятков человек, сложив свои трудовые деньги, покупают в Вырице, под Питером, участок земли — возникает религиозная коммуна.
Собственно говоря, подобные попытки делались и раньше. В 80-х годах такую общину организовал Николай Неплюев. Однако Неплюев все-таки оставался барином, очень благородным, опростившимся, но все-таки барином, поэтому его начинание так и не вышло за пределы господской филантропии. Такая же неудача постигла и подобные попытки толстовцев, сектантов типа Сютаева и других.
Но то, что не удалось мечтательным барам и народным мечтателям, дало блестящие результаты у православного самарского мужичка. Прежде всего, ему удалось создать крепкое хозяйство. В 1916 г. община приобрела трактор (дело совершенно неслыханное в те времена), а в 1921 г. в Вырице, в суровом питерском климате, в парниках выращивали виноград. И все это на началах полной добровольности, в обстановке огромного религиозно-нравственного подъема, полной трезвости и чистоты. Все здесь было общее, никто ничего не называл своим. Коммуна разрасталась. В 1927 г. она уже насчитывала несколько сот человек, а в Питере у движения «трезвенников» насчитывалось 14 отделений и «чуриковщиной» было охвачено более 10 тысяч человек.
Вырица называлась «Небесным Иерусалимом», и каждый год, на Вознесение, туда собирались тысячи людей. И. А. Чуриков, в белой рубахе, становился за соху — трактор в этот день бездействовал — и делал первую полосу, при этом он запевал сильным голосом песню о винограде Божием, который созревает для жатвы. Тысячи голосов подхватывали эту песню. Так начинались в «Небесном Иерусалиме» полевые работы. Этот день был символичным: для Чурикова работа была теургией, а теургия переходила в работу над переделкой мира.
Чуриков рассматривал будущее мира как братское общественное делание — как «Христов социализм». Свою социальную программу он изложил в своей проповеди в Вербное Воскресение, в 1927 г., на окраине Васильевского острова.
Его приверженцы собрались в тесном деревянном домике, недалеко от Галерной Гавани, — народу было столько, что нечем было дышать. Иван Алексеевич в своей обычной белой рубахе сидел в «красном углу», под иконами. После пения тропаря «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя» начал свою речь «братец Иван». Говорил он приятным баритоном, отчеканивая слова, с характерным волжским оканьем. Начал с критики традиционного религиозного миропонимания, которое рассматривает Бога сидящим в мягких креслах; а Бог живет в душах трудящихся людей, Бог среди бедняков и обездоленных.
Какая-то непонятная волна прошла по народу, слышались рыдания, а проповедник все продолжал говорить о Боге, о Христе. Друге нищих и грешников, Который идет страдать за людей и Который находится тут, среди нас. А потом он затянул чудный церковный гимн на слова пророка Исайи: «С нами Бог!» После этого Чуриков стал говорить о том времени, когда вся Россия покроется религиозными трудовыми братствами, подобными вырицкому, когда исчезнет пьяный разгул, а вместе с ним ненависть и жадность. «Вот мы восходим в новый Христов социализм, как в Иерусалим, — гремел над людьми сильный вдохновенный голос, — в Иерусалим, куда нет входа убийцам, развратникам, насильникам…»
На всю жизнь запомнился мне этот вечер. И не случайно я вспомнил его здесь, сразу после обновленцев. Иногда мне кажется, что именно «братец» Иван Чуриков был представителем подлинного народного религиозного обновления. И что с того, что он ошибся, что вместо «Христова социализма» пришла волна террора, произвола, насилия, — и сам Иван Чуриков в 1930 г. был расстрелян, и погибли его ближайшие сподвижники, и Вырицкая коммуна была разгромлена, объявленная «кулацкой лжекоммуной».
В основном он все-таки не ошибся: нравственное обновление и истинный Христов социализм — будущее человечества.
Я рассказал очень подробно об обновленческом течении во всех его многообразных проявлениях, которые я наблюдал, я изобразил самых различных представителей обновленческого движения (от престарелого митрополита Вениамина Муратовского до Ивана Чурикова). Я никого не идеализирую, я никого не стараюсь охаять. Однако нельзя не задать вопрос: каковы исторические корни этого движения.
Совершенно не верно будет ответить, что это движение состояло исключительно из агентов ГПУ и было инспирировано этим малопочтенным учреждением. Наивность такого объяснения видна хотя бы из того, что обновленческие течения существовали в России не только до существования ГПУ, но и тогда, когда ни о какой революции еще и помину не было. Уже в 60-е годы прошлого века возникают параллельно, и в духовенстве, и в народе, течения, стремящиеся к обновлению церкви. Именно Ф. М. Достоевский бросает крылатую фразу: «паралич церкви». Не кто иной, как В. С. Соловьев, пишет статью «Как обновить наши церковные силы» и другую статью, где ратует за обновление, за освобождение от средневековых подделок. Булгаков, Бердяев, Мережковский, Эри, В. Иванов — для всех них главной заботой было обновление церкви. В начале века на церковном горизонте появляются такие яркие фигуры борцов за обновление, как отец Григорий Петров, архимандрит (впоследствии старообрядческий епископ) Михаил Семенов, епископ Антонин Грановский.
И сектантское движение, широким морем разлившееся по всему лицу Земли Русской в XIX–XX веках, говорило о пробуждении в народе жажды религиозной правды, религиозного обновления. В 20-е годы, в революционную эпоху, эта обновленческая волна поднялась особо высоко и была во всех отношениях многообещающим движением. Но и здесь, как и всюду, русская революция споткнулась о проклятый порог — о гнусное, деспотическое советское государство. И оно, как всё и всегда, опоганило, опаскудило это движение: развратило и запугало его лидеров, а затем физически уничтожило всех искренних людей. Это же пыталось оно сделать и с сектантством. Но здесь дело оказалось значительно более сложным.
20-е годы — годы сектантского расцвета. В это время власти с сектантами заигрывали и лишь в 30-е годы начали планомерную борьбу с ними. Сектантство я знаю мало, т. к. всегда был убежденным церковником. Однако кое-что мне все-таки известно. Постараюсь рассказать о питерском сектантстве 20-х годов то немногое, что мне известно.
В Питере в это время действовали следующие секты: баптисты, возглавлявшиеся Гурием Павловым; Союз евангельских христиан, возглавлявшийся Житковым и Прохановым; адвентисты седьмого дня. На окраине Васильевского острова, на деревянном двухэтажном доме, была дощечка с надписью:
«Церковь святого Иисуса» — это была единственная в России община русских методистов. Где-то в подполье, на Охте, существовал скопческий «корабль», о котором носились смутные слухи, и о котором потом Ленинград узнал по судебному процессу 1928-го года. Наиболее популярные секты — баптисты и евангельские христиане. Они росли в геометрической прогрессии, причем большинство присоединившихся были отщепенцами от православия (в этом — коренное различие между тогдашним и теперешним сектантством; теперь большинство сектантских неофитов приходит от безбожия). В то время между церковью и сектами была резкая полемика, переходившая порой в жгучую ненависть.
Сектанты собирались, как правило, в «кирхах» — немецких лютеранских церквах, которых было в Питере очень много. У нас, на Васильевском острове, на Среднем проспекте, до сих пор высится величественное здание лютеранской церкви св. Михаила, единственное в Питере здание готической архитектуры. Теперь там какая-то фабрика. В то время там по субботам собирались «адвентисты 7-го дня», по воскресеньям, вечером, — баптисты. По четвергам — Союз евангельских христиан. «Хозяева» — лютеране — оставили себе только воскресное утро, когда совершалась протестантская обедня.
В субботу мы часто заходили с отцом (во время служения адвентистов). Много бывало среди них молодежи: молодые рабочие, ремесленники. Очень трогательна была заключительная импровизированная молитва, когда каждый обращался вслух к Христу: «Наш дорогой Иисус Христос!» И дальше излагал своими словами прошение. Хотя я к сектантам относился враждебно, но против воли чувствовал себя растроганным. Отец рассказывал потом насмешливо: «Я ожидал, что вот-вот они скажут: Дорогой Иисус Осипович!» Но лгал: я видел во время этой молитвы у него на глазах слезы.
Собрания баптистов и евангельских христиан отличались большей помпезностью — тут и речи профессиональных проповедников, и орган, и хор. Наибольшее впечатление на меня произвела проповедь руководителя «Союза евангельских христиан» И. С. Проханова. Воспоминанием о ней я и закончу свой безыскусственный рассказ о религиозной жизни Питера в 20-е годы. Прежде всего о Проханове.
Это был талантливый и своеобразный человек. Окончил в свое время Петербургский Технологический Институт. В молодости «ходил по верам». Имел беседу и с Л. Н. Толстым, и с В. С. Соловьевым. В конце концов (в начале века) стал евангельским христианином (русский вариант баптизма, впоследствии вновь объединившийся с классическим баптизмом). Подвергаясь в царское время репрессиям, проявил необыкновенное мужество и стойкость. После революции возглавлял Союз евангельских христиан.
Я услышал его проповедь в следующих обстоятельствах. На Васильевском острове, наряду с лютеранской церковью св. Михаила, о которой шла речь выше, была еще одна «кирха» — св. Екатерины (угол Большого проспекта и 1-ой линии). Весной 1927 г., проходя мимо этого храма, я увидел необыкновенное скопление народа, который валил в широко раскрытые двери храма. Огромная афиша извещала, что по случаю выпуска окончивших курсы проповедников евангельских христиан И. С. Проханов предложит проповедь на тему: «Школа на волнах океана». Заинтригованный необычным названием, я проник в храм и протискался к самой кафедре. На трибуне стоял широкоплечий мужчина с бородой, с суровым умным лицом. Проповедь уже началась. Она продолжалась два часа. Я ее прослушал с напряженным вниманием, и она мне запомнилась на всю жизнь. Речь шла о книге пророка Ионы. Спокойно, без всяких ораторских украшений, Иван Степанович анализировал содержание книги. Очень ярко он изобразил колебания Ионы, его отказ служить Богу. Он знает, что это грех: когда корабельщик ищет, кто именно грешен перед Богом, почему разразилась буря, Иона сразу отвечает: «Выбросьте меня и буря прекратится». Перейдя к актуальной теме, оратор привел примеры из жизни. Он говорил о человеке, который поступил на курсы проповедников, а потом женился — ушел с курсов. «Вот вам Иона!» Он говорил о человеке, которого исключили из профсоюза за принадлежность к секте, и он испугался, перестал ходить в собрание. «Вот вам еще Иона! И много, много среди нас Ион». А затем Иона попадает в чрево китово. И здесь — самый сильный момент проповеди. Проповедник удивительно ярко изобразил переживания Ионы во чреве китове: отчаяние, ужас, и наконец — молитва. Такая молитва, которой никогда он еще не молился; молитва обновляющая, совершающая чудеса. И после этой молитвы Иона обновился: все человеческое, пошлое, мелкое с него сошло, И когда произошло чудо, он стал так проповедовать, как никто и никогда. И по этой проповеди уверовали тысячи человек. И заключение: «Вот мы вас выпускаем, вы прошли школу.
Вы думаете, вы проповедники? Нет, когда вы побываете во чреве китове, когда пройдете школу на волнах океана, вот тогда вы станете проповедниками».
Эти слова мне врезались на всю жизнь. Их правду я ощущаю и теперь. Они оказались в полной мере пророческими. Все новоиспеченные проповедники побывали во «чреве китове», в тюрьмах и лагерях. Предстояло пройти эту школу и мне, тогда 12-летнему мальчишке, любопытному, говорливому, грубому и жестокому по отношению к бабушке и трусливому перед отцом. И тогда меня поразили эти слова и запомнились на всю жизнь. Царство небесное Ивану Степановичу Проханову, скончавшемуся в 1933 г. в Праге, в изгнании.
Москва
До сих пор я писал только о Питере. Но в 20-е годы я часто бывал и в Москве.
Отец работал на Спиртоводочном заводе и жил на противоположном конце Москвы, или, точнее, за Москвой. Там, где теперь остановка метро «Сокол», а тогда это было село Всехсвятское. До Москвы ходил трамвай, или, вернее, два трамвая, т. к. надо было на одном трамвае ехать до Петровско — Разумовского, а там пересаживаться на другой. Для ребят поездка в Москву была событием. До нее надо было добираться часа полтора. «Село Всехсвятское» — это было не просто название; это было самое настоящее село, состоящее исключительно из деревянных домиков, обсаженных садиками. Много рябин. Яблони. Над местностью господствовали два здания: церковь Всех Святых и пожарная каланча. Оба здания сохранились, но теперь, в обрамлении десяти- и пятнадцатиэтажных домов, они кажутся игрушечными. Кроме церкви и каланчи, ничего не осталось от старого Всехсвятского.
Отец жил в деревянном домике, в Изоляторном переулке, снимал комнату в 15 метров. Он иногда брал меня в Москву, а в 1928 году, утомленный вечными жалобами на мою лень и озорство, решил взять меня туда на постоянное жительство. Переехала также и Поля. Так я и прожил в Москве 8 месяцев. Если Питер 20-х годов для меня ассоциировался с церквами, то Москва 20-х годов для меня ассоциируется с театрами. В Москве у меня не было прежней вольницы. По воскресеньям я ходил в нашу Всехсвятскую церковь, а в остальные дни должен был регулярно посещать школу. Но зато отец (страстный театрал) считал своим долгом развлекать сынишку: раз в неделю (в воскресенье вечером) я обязательно бывал с отцом в театре. Таким образом, я за полгода узнал все московские театры как свои пять пальцев. И может быть, самое интересное, что тогда было в Москве, — это театр.
Свою работу о романе Булгакова «Мастер и Маргарита», напечатанную в «Гранях», я начинаю с рассказа о московских театрах 20-х годов. Сейчас опять повторю: кто не жил тогда в Москве, никогда не поймет, что значил для нас всех театр. Дело в том, что театр — это единственный уголок жизни, остававшийся хоть относительно свободным. В этом немалая заслуга А. В. Луначарского. В других областях он вилял и, хотя и делал некоторые поблажки, все-таки проводил политику зажима (ничего не сделаешь: назвался груздем — полезай в кузов). Но театр… театр был его стихией. Старый театрал, лишь случайно не сделавшийся режиссером (помешало увлечение политикой), он тонко чувствовал, любил театр и здесь не признавал никаких стеснений. Не последнюю роль, видимо, играл его брак с Н. А. Розенель, страстно любимой, через которую он был связан и лично с рядом видных режиссеров и актеров. Во всяком случае несомненно одно: до отставки Луначарского (в 1930 г.) театр был оазисом среди пустыни. Русский театр 20-х годов показывает, каким благом является в жизни плюрализм. До 1930 года русский театр был плюралистичен: в нем находили место разные стили, различные художественные идеи. Театры и театрики, театральные студии росли в Москве, как грибы, помещались часто в подвальных помещениях, жались в частных квартирках, — и каждый театр имел свое лицо, свое призвание, свое творческое, неповторимое откровение. В 1930 году самое холодное из чудовищ (по выражению Ницше) — советское государство — накладывает свою омерзительную лапу и на театр. И, как по мановению волшебной палочки, все вдруг бледнеет, тускнеет, гаснет. Все становится неинтересным, ненужным, бессмысленным. Великолепный расцвет театра в России в 20-е годы говорит также о величии русского гения, о том, как многолик и разнообразно талантлив русский народ и какие творческие богатства он явит миру, когда падут обветшалые стены «гнилой тюрьмы» государства.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе.
А пока займемся воспоминаниями о давно прошедших днях. Мы не будем писать о Малом театре, о Художественном о классическом русском балете, обо всем этом уже написаны горы книг. Напишу о той исчезнувшей театральной Москве, о которой теперь мало кто помнит. Первое слово о Мейерхольде. Для меня он в театре то же, что А. И. Введенский на кафедре проповедника. Тот убил для меня на всю жизнь всех проповедников. Этот убил для меня всех режиссеров. Все, что я видел после, представляется мне (в режиссерском плане) ученической мазней. Изумительная сила была в этом человеке. Забегая несколько вперед, расскажу о том, как в 30-е годы Всеволод Эмильевич в Малом Оперном театре (находясь на гастролях в Ленинграде) решил поставить «Пиковую Даму». Так, пустячок, небольшой эксперимент в промежутке между опусами. Всего несколько репетиций. Труппу Малого Оперного я хорошо знал (там работал мой отчим). Труппа состояла из оперных певцов, к каждому из которых применим анекдот:
«Тенору сказали:
— Вы дурак.
— Да, но зато какой голос».
Ни одного мало-мальски приличного актера, никто ходить по сцене не умеет. Побывали в руках у Мейерхольда. Что такое! Никого нельзя узнать. Точно подменили. И ходят, и говорят, и живут в роли. Таков был Мейерхольд. Гениальный режиссер. Правда, он был не только режиссер. Он был прежде всего гениальный актер. Система работы: актеры стоят полукругом. Посередине маэстро. «Вы!» — указательным пальцем тычет в актера (по имени он никогда никого не называл). И он начинает играть. Без костюма, без грима, в своей защитного цвета толстовке и бриджах. С несимпатичным, обросшим седоватой щетиной лицом. И в мгновение ока происходит перевоплощение. Он показывает то Хлестакова, то Анну Андреевну, то даму с камелиями. Актеру остается только подражать. Собственно, в спектакле Мейерхольда все актеры — это сам Мейерхольд, отражающийся в нескольких десятках зеркал. Его индивидуальность на всех и на всем. Первое, что я видел, было «Горе от ума» (или «Горе уму») Грибоедова.
«Горе уму» — это острое, хлесткое название он заимствовал из первоначальных набросков Грибоедова. У Мейерхольда было это так: гаснет свет. Вспыхивают прожекторы, освещают эстраду. На ней кабаре, играет музыка (что-то французское, легкое), столики, за одним столиком молодой человек, дама под вуалью. Кавалер смотрит на часы, с улыбкой показывает циферблат даме. Встают… поворот сцены. Передняя барского дома. Девушка тихо открывает дверь, входит парочка. Горничная (тихо-тихо): «Ах, Софья Павловна! Ах, Алексей Степаныч! Зашла беседа Ваша за ночь!» Таков старт. Любители классики морщатся, многие пожимают плечами, шепот знатоков: «Какая вульгарщина!» «Бедный Грибоедов!» Так, вероятно, и есть. Но все-таки глаз нельзя оторвать. Остальное в том же духе. Софья Павловна (З. Райх) — подтянутая, чопорная, аккуратная, вечно недовольная, но в неожиданной порывистости движений, в резкости, с какой говорит с Чацким, угадывается страстная, чувственная натура. Чацкий — высокий, стройный, часто подходит к роялю, стоящему в углу… все его монологи кончаются нервными, быстрыми аккордами на фортепьяно. Больше всего мне запомнилась сцена сплетни. Через всю сцену — стол. За столом сидят гости. Ужин в доме Фамусова. Во время ужина — разговор о Чацком: от гостя к гостю передается сплетня о его сумасшествии. Чацкий выходит из-за кулис. Идет мимо стола. Все взоры на нем. Фамусов, выйдя из-за стола, подходит к Чацкому: «Ты не в своей тарелке». В этот момент все встают из-за стола, у каждого в руках тарелка. Один Чацкий без тарелки. Все уходят. В полном одиночестве Чацкий произносит свой монолог «миллион терзаний». Интересен был Молчалин: застегнутый на все пуговицы, сдержанный, молчаливый чиновник. И вдруг в последнем акте — неожиданное самораскрытие. В сцене с Лизой — страстный, пылкий мальчик. Помню интонацию в словах: «Жемчужины, растертые в белилах», — здесь звучит подлинная страсть. Забыта всякая осторожность. Это — любовь. Любовь первый раз в жизни. И кто его знает, не звучат ли здесь в перенятых от Мейерхольда интонациях отзвуки той большой страсти, которая настигла великого режиссера впервые в 50 лет — страсти к Зинаиде Райх, которой он тоже отдал «жемчужины, растертые в белилах», — свое творчество, свой театр, всю свою душу.
Самой знаменитой из постановок Мейерхольда считался тогда «Лес» Островского. Это был своеобразный манифест — «революция в театре» — «театральный октябрь». Видел и этот спектакль. Здесь Мейерхольд решил создать народное зрелище. Все построено на буффонаде, на шутовстве. Фантазии режиссера нет конца. Масса выдумок: светящиеся транспаранты с броскими, яркими надписями. «Молится и объегоривает; объегоривает и молится» — это по адресу Семибратова. Гурмыжская — молодая, энергичная, с хлыстом в руках. Помещик, превращенный в священника; объяснение в любви — молодой Семибратов и воспитанница Гурмыжской на гигантских шагах, подвешенных под купол высокого здания. Но лучше всего сцена, когда Несчастливцев требует у Семибратова, чтоб он купил лес у Гурмыжской по божеской цене. Несчастливцев, завывающий как заправский трагик, в шлеме и бутафорских орденах; Аркашка Счастливцев (Игорь Ильинский), который трубит в охотничий рот, потом бьет в литавры. Но и в Семибратове просыпается русская натура, широкая, размашистая, купеческая: «Если так, то знай наших — бери, грабь», — он снимает нагольный полушубок, швыряет на землю, потом снимает сапоги — швыряет в Несчастливцева. Аркашка бьет себя в грудь. Соревнование в благородстве. Все на ходулях. Балаган. Народное зрелище.
Не хватает только одной мелочи: самого народа. Эстеты в восторге. Театральные мальчики и девочки захлебываются от восхищения. А народ — народ безмолвствует; рабочие, случайно сюда попавшие по даровым билетам, которые распространяются по заводам, таращат глаза и решительно ничего не понимают. Смотрят на часы. Скучают. Трагедия Мейерхольда почти та же, что у Маяковского, оба они рвались к народу, а народ их не понимал и не принимал. Не понимают и не принимают и теперь, зато эстеты от них без ума. Народ очень тонко чувствует подделку. Он прекрасно понимает, что и у Мейерхольда, и у Маяковского народность не настоящая, что это только актер, переодевшийся мужичком. «Маяковский, который писал дурные и непонятные стихи», — сказал мне однажды рабочий парнишка с завода «Борец», ученик школы рабочей молодежи. Сейчас здесь, на Западе, у юнцов новая мода: носить щегольские брюки с великолепно сделанными якобы-заплатами на коленях. Вот так и у Маяковского с Мейерхольдом. Искусственные заплаты. Великолепно сделанная имитация балагана. Все великолепие подделки могут оценить лишь эстеты, поэтому именно эстетствующая интеллигенция валом валила на постановки Мейерхольда.
Но Мейерхольд шире Маяковского: он разбивал прокрустово ложе фальшивой народности. И вот в 1926 г. он ставит «Ревизора». «Ревизор» в постановке Мейерхольда — это событие. Прежде всего — это мистическое представление. Глубокое проникновение в самую суть жизни и в какой-то мере воплощение неосуществленного замысла Гоголя — показать «мистический город». Спектакль разбит на сцены. Каждая сцена имеет название, отмеченное в программе. Вот, например, немая сцена: «Овеяна сладчайшею мечтою». Сцена без слов. Анна Андреевна одна, на диванчике, облокотилась на локоть, мечтает. И вдруг из-за занавески выходит офицер — гвардеец, красавец в лосинах, а из-за стола другой офицер, из-под стула, из-под дивана, из-за шкафа, все офицеры, офицеры, и все красавцы-усачи, как на подбор. И все пред ней на одно колено, умоляющим красивым жестом прижимают руки к груди. Но вдруг, вдруг два офицера вынимают пистолеты, стреляются; выстрел — один красиво падает. Анна Андреевна откидывает голову на спинку дивана как бы в обмороке, а оставшийся в живых офицер осыпает ее цветами…
А вот конец спектакля. Последнее действие. Письмо прочитано. Хлестаков разгадан. Городничий (Игорь Ильинский) сходит с ума, он рвется, буйствует, его удерживают несколько дюжих парней и не могут удержать. Несут смирительную рубаху. И тут, со слезами на глазах, повисший на руках санитаров, произносит городничий свой знаменитый монолог: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Он как бы висит над залом, кругом тьма, а на него направлены все прожекторы. Ни одного смешка. Впечатление мрачное и трагическое. В словах городничего — подлинная сила: это обличитель, вдруг понявший смысл жизни. Он понял только теперь, что фитюльку, тряпку принимал за человека, принимал за жизнь. Но уже поздно. Голова свисает, он весь обмяк, его выволакивают во тьму. А потом загорается свет. На сцене страшные восковые куклы. Это и есть заключительная немая сцена.
Мейерхольд тогда был в чести, но уже раздавались первые раскаты грома. Летом 1928 г. уехали за границу три актера: М. А. Чехов, Грановский (директор театра «Габима») и Мейерхольд. В газетах стали открыто писать, что они не вернутся. Театральный сезон в театре Мейерхольда начался первый раз без него. В «Известиях» появилось интервью с Луначарским, где очень прозрачно намекалось, что театр Мейерхольда в ближайшем будущем будет расформирован. И вдруг во всех газетах — телеграмма А. И. Рыкову, тогдашнему председателю Совнаркома: «Умоляю не закрывать театр им. Мейерхольда, сохранить мое творчество. Вернусь в ближайшее время. Народный артист РСФСР Вс. Мейерхольд». И действительно, в октябре 1928 г. вернулся. На свою беду вернулся. Два других актера остались на Западе. Только сейчас из рассказа М. А. Чехова стала известна подоплека этого эпизода. Т. к. воспоминания М. А. Чехова напечатаны лишь в одном американском театральном журнале, и потому мало известны, позволю себе пересказать здесь своими словами его рассказ.
В августе 1928 г. Чехов пришел к Мейерхольду, который занимал в это время номер в одной из гостиниц Берлина, и передал ему предложение Рейнгардта. Рейнгардт предложил Мейерхольду заключить с ним контракт на следующих условиях: Рейнгардт определяет Мейерхольду очень большую сумму, превосходящую жалование самых знаменитых актеров в его театре. В течение двух лет Мейерхольд может вообще ничего не ставить. Потом Рейнгардт предоставляет ему полную свободу ставить что угодно и в каком угодно духе. Не успел Чехов закончить, как вскочила Зинаида Райх: «Михаил Александрович! Вы изменник и подлец! Прошу Вас немедленно покинуть нашу комнату». Чехов смущенно ретировался. Мейерхольд пошел вслед за ним. Они потом долго сидели в вестибюле и беседовали. Беседу начал Чехов:
«Всеволод Эмильевич! Вы понимаете, что Вы там погибнете?» «Понимаю!» «Зачем же Вы туда едете?» «Не могу иначе, Михаил Александрович, не могу. Когда мне было 16 лет, мой отец, фабрикант, публично меня порол в цеху за то, что я распространяю прокламации на его фабрике. Потом всю жизнь я помогал революции. Давал деньги. Кому и на что, я точно не знаю. Но помогал, но давал. И сейчас я не могу. Вы понимаете, не могу изменить своей жизни». «Но ведь Вы же не этого хотели и не этому помогали, тому, что там сейчас есть?» «Не этого. Но все-таки не могу».
Пожав друг другу руки, они расстались навсегда.
По приезде в Москву Мейерхольд поставил «Клопа» Маяковского. Видел я и этот спектакль. Первые два акта — там, где изображается нэповская Москва — были великолепны. Прекрасен был Игорь Ильинский в главной роли. Не преминули два друга (Мейерхольд с Маяковским) уязвить и Луначарского, который терпеть не мог так называемого «левого театра». «В искусстве я — тихоновец», — сказал он как-то в приятельском разговоре во время ужина после диспута А. И. Введенскому.
Во втором акте «Клопа» Игорь Ильинский говорит комсомольцам: Надоели вы мне со своими пошлыми агитками. Вот я спою вам романс.
Общий хохот. Аплодисменты. Но последний акт — коммунизм — был ужасен. Серые стены, напоминающие железобетон. Все в каких-то халатах. И все говорят штампованными фразами. Помню, отец сказал: «Какая ужасная будет жизнь. Вот тоска. Это же не жизнь, а какая-то лаборатория». Мне запомнилась эта фраза и этот последний акт пьесы «Клоп». Здесь сказалось самое ужасное, что есть в советской идеологии: представление о социализме как о стандарте, как о мертвенном единообразии. И даже две столь яркие индивидуальности, как Маяковский и Мейерхольд, не могли преодолеть этой одури. И в этой одури веяло той реакцией 30-х годов, которая погубила и Маяковского, и Мейерхольда, и искусство — главное дело их жизни. Т. к. мне уже, верно, не придется больше говорить о В. Э. Мейерхольде, расскажу про его конец. До 1932 г. Мейерхольд, как единственный тогда крупный театральный деятель-коммунист, продолжал считаться официальным режиссером. Но в 1932 г. наступила катастрофа. Мейерхольд решил поставить комедию (уж не помню фамилию драматурга) «За стеной». В пьесе показывался московский быт начала 30-х годов. Коммунальная квартира. Очереди. Карточки. Бесконечные разговоры о соседе, ответственном работнике, который живет «за стеной». Бесконечные пересуды о пайках, которые он получает, об автомобиле, на котором он ездит. В конце пьесы известие: человек за стеной окончил жизнь самоубийством. Всеобщее ликование. Спектакль обещал быть настолько смешным, что во время репетиции даже маляры, которые работали наверху в люльках, не могли удержаться от смеха. Но вот «просмотр». По традиции на просмотр к Мейерхольду являлось все руководство «партии и правительства» (в том числе Сталин). И вдруг на всем протяжении спектакля — гробовая тишина: ни одного смешка, ни одного хлопка. После спектакля выходит смущенный Мейерхольд. Сталин бросает:
«Ну что ж. Постараемся это забыть!» — и уходит. Оказывается, обитатели Кремля расшифровали «за стеной» как за кремлевской стеной.
С этого времени судьба Мейерхольда была решена. Его гибель была лишь вопросом времени. Впрочем, и без того Сталин мог бы предъявить Мейерхольду немалый счет. Спектакль «Земля дыбом», посвященный «первому красноармейцу Республики Льву Троцкому», хвалебная рецензия Троцкого о спектакле. Но самое главное: в наступающую эпоху становились излишними бунтари типа Мейерхольда и Маяковского. Троцкий в своем некрологе о Маяковском писал: «В сумерках революции гибнет поэт революции Маяковский». Можно перефразировать: «В сумерках революции гибнет актер революции Мейерхольд». А он был актером революции. Не благодаря партбилету (это чепуха!). Он был революционер в искусстве: дерзание, творческий порыв, перевертывание всех столов, разрушение всех правил, все вверх ногами — вот лейтмотив всей жизни Мейерхольда.
Последние годы Мейерхольда были очень трудны. Ни один его спектакль не пропускался на сцену. Был забракован даже юбилейный спектакль к 20-летию Октябрьской революции. Последний спектакль, который ему удалось выпустить, — это «Дама с камелиями» А. Дюма (сына). Спектакль был поставлен в 1933 г. Я видел его весной 1934-го, когда театр приехал на гастроли в Ленинград. Это была лебединая песня. Тот, кто видел этот спектакль, вряд ли его забудет. Здесь Мейерхольд отказался от игры в балаган, от гротеска, от буффонады. Все было поставлено в чисто реалистическом плане. Обстановка, аксессуары — весь стиль 2-ой половины XIX века был воссоздан на сцене. Даже бокалы, которыми чокались актеры, были старинные, хрустальные. Когда Мейерхольду говорили, что в зрительном зале все равно не видно, какие бокалы, он отвечал: «Мне нужно это для актеров. Звон хрустальных бокалов зажигает актеров». Реализм так реализм. По этому спектаклю можно было изучать Францию XIX века. Чего тут только не было: молодые поэты, приехавшие в Париж из провинции, молодые честолюбцы, приехавшие сюда в поисках славы, шансонетки, распевающие песенки Беранже, Бальзак, Золя, Мопассан. Как ему удалось так раздвинуть кулисы пошловатой, слезливой драмы Дюма — это непостижимо. И на этом фоне Зинаида Райх в роли Маргариты Готье. Для театральщиков стало шаблоном говорить о том, что Зинаида Райх — не актриса и что актрисой её сделал Мейерхольд. Зинаида Райх, конечно, актриса. И Мейерхольд её «не сделал», а разбудил в ней актрису. Потому что эта своеобразная, истеричная женщина, травмированная своим первым чудовищным браком (ее первый муж был С. Есенин), нуждалась в особом подходе, в особых методах работы. В Маргарите Готье она была во всяком случае великолепна. За 10 лет, которые я знал ее на сцене, она выросла в большую трагическую актрису. Впрочем, может быть, было и другое: сейчас, когда я вспоминаю Маргариту Готье в исполнении Зинаиды Райх, я задаю себе вопрос: не было ли здесь предчувствия трагедии, наступившей в ее жизни. У больных, истеричных женщин ведь предчувствия особенно сильны. Вспоминаются бессмертные строчки Пастернака:
Когда случилось петь Дездемоне, — А жить так мало оставалось, — Не по любви, своей звезде, она, По иве, иве разрыдалась.
Так и возлюбленная Мейерхольда выразила свое предчувствие смерти в трагическом образе Маргариты Готье. В это время положение Мейерхольда сильно пошатнулось; театральные и журналистские шавки ждали только сигнала, чтобы наброситься на него, а пока попробовали силы в спорах о «Даме с камелиями».
В 1934 г. мы с отцом (мне тогда было уже 18 лет) были на диспуте о пьесе в ленинградском лектории, на Литейном. Последний раз я видел Мейерхольда. Обыкновенно я видел его на сцене, когда он выходил раскланиваться на аплодисменты. Процедура была такая: хлопают зрители, актеры, однако, не раскланиваются, а тоже начинают рукоплескать; наконец, начинает аплодировать и «сама» — Зинаида Райх. Мой отец, который изучил все повадки Мейерхольда, говорил: «Ну, хозяйка захлопала. Сейчас выйдет». Действительно, на сцену выходит сгорбленный, обыкновенно небритый старикан с наружностью завхоза. Близоруко щурится в публику, кланяется, потом, обращаясь к актерам, тоже им аплодирует. Сейчас, на диспуте, он был чисто выбрит и одет в приличный костюм, но вид имел сумрачный, недовольный. С трибуны выступали люди комсомольского типа, критиковали, ругали за «буржуазные вкусы», за сочувствие к «буржуазной кокотке». «Я понимаю, — говорила одна женщина, — если бы это была проститутка вроде Сони Мармеладовой; тогда бы можно было ее пожалеть». Отец, не сдержавшись, дал реплику: «Хватит болтать, скотина». Наконец, на трибуну вышел «сам». Говорил плохо, запинаясь. Бегающие глаза и подергивающиеся плечи изобличали неврастеника. Однако своих оппонентов сразил наповал. Он начал так: «В Париже все типы людей очень ярко выражены. Когда там случается происшествие (он сказал по-французски — accident), например: человек попал под трамвай и ему отрезало ногу, то толпа сразу разделяется на три разных класса: одни суетятся, бегут за полицией, за врачом, стремятся помочь. Другие вынимают платки и начинают соболезновать. Но есть и третья категория, это те, кто стоят, тупо уставившись на валяющегося на мостовой человека и отрезанную ногу. Нам, актерам и режиссерам, тоже приходится иметь дело с такими зрителями. Многие из тех, кто сегодня выступал принадлежат именно к таким зрителям». Негодование выступавших, хохот, аплодисменты. Пуще всех аплодирует отец, кричит: «Довольно, лучше ничего не скажете!».
Через несколько лет наступила настоящая беда. В 1937 г. было опубликовано постановление ЦК о закрытии театра им. Вс. Мейерхольда. Все газеты были переполнены руганью в адрес несчастного режиссера. Все двери закрылись перед ним. Только один человек не побоялся, взял его в свой театр — умирающий Станиславский. Станиславский и Мейерхольд были врагами, они стояли на диаметрально противоположных позициях. Театр Станиславского — театр актера. Театр Мейерхольда — театр режиссера. Но Станиславский был крестным отцом Мейерхольда: в 1898 г. молодой, преуспевающий основатель Художественного театра принял к себе в труппу приехавшего из Сибири немчика и дал ему играть роль Треплева в знаменитой «Чайке». И через 40 лет Мейерхольд опять постучался в те же двери.
Станиславский (это было незадолго до его смерти) устроил его главным режиссером в оперную студию им. Станиславского. (В «Художественный» он его взять не мог; там в это время царил Немирович-Данченко, не упустивший случая лягнуть поверженного Мейерхольда).
И наконец — 1939 г. Арест. Аресту предшествовала речь Мейерхольда, которая только теперь стала известна благодаря «самиздату». Речь смелая. Он бросил сильные, мужественные слова: «Если Вы хотели превратить талантливые, разнообразные театры в серое варево, то Вы достигли этой цели». Речь сопровождалась бурными аплодисментами. А через несколько дней в Ленинграде, в Европейской гостинице, Мейерхольд был арестован. Это был дебют другого режиссера, Л. П. Берии, только что занявшего пост наркома внутренних дел вместо Ежова. Мейерхольд бесследно исчез. Только через много лет стало известно, что он был расстрелян по обвинению в том, что был… японским шпионом. Правда, он в Японии никогда не был, но Третьяков, пьесу которого он ставил, был в Китае, а Китай — это близко от Японии. По логике Берии, это вполне достаточно, чтобы расстрелять человека.
В 1956 г. Эренбург огласил в заседании ВТО последнее слово Мейерхольда на суде. Он держался мужественно и отрекся от всех признаний, сделанных на следствии, т. к. они у него были вырваны под страшными пытками. В заключение он просил, когда придут другие времена, показать текст этой речи его детям.
Зинаида Райх не упоминалась, это показывает, что он узнал о гибели любимой больше всего на свете женщины. А финал Зинаиды Райх был таков: через несколько месяцев после ареста Мейерхольда вся Москва была взволнована ужасной вестью — Зинаида Райх была найдена зверски убитой у себя на квартире в Брюсовском переулке (ныне ул. Неждановой). У нее были выколоты глаза. Признаков ограбления не было. Прошло несколько лет, и вот МГБ «обнаружило» убийц. Открыты убийцы были, якобы, так: в компании артистов и режиссеров известный певец Головин вынул изумительной красоты табакерку. На нее обратили внимание, она стала переходить из рук в руки. Вдруг кто-то узнал: «Да ведь это табакерка Зинаиды Райх!» Головин, несколько смутясь, сказал, что ему подарил эту табакерку сын. Через несколько дней его сын, сам Головин и его престарелый отец были арестованы. Состоялся суд. Сын Головина был приговорен к расстрелу, якобы, за убийство Райх. Головин был приговорен к 10 годам заключения за соучастие, а его престарелый отец к 5 годам. Это не было опубликовано, но вся Москва говорила об этом, и все отдавали должное советскому «правосудию»: и за жену Мейерхольда заступились. И лишь через 11 лет стало известно, что все это — сплошная чепуха. Злополучная табакерка была подарена сыну Головина дочерью Мейерхольда. Когда его арестовали, она всюду ходила и просила ее допросить: ничего не помогало, никто не хотел слушать. Через 11 лет реабилитированы расстрелянный и сам Головин, который был в то время еще жив, его старик отец умер в лагере. Неплохим режиссером оказался Берия. Как говорят актеры, «с выдумкой». Почему, однако, понадобились такие «сложности», почему Берия не мог просто отделаться от Зинаиды Райх, как отделывались от жен других репрессированных: арестовать ее (как жену «врага народа») и расстрелять? Все дело в том, что после ежовщины наступила «оттепель»: Сталин хотел все свалить на Ежова. Берия ходил в «либералах». Начинать свою деятельность с ареста жены артиста не хотелось. Между тем, оставить Зинаиду Райх невредимой было просто немыслимо. Она была не из тех, кого можно заставить молчать, и способна на самый отчаянный шаг. Кроме того — человек широко известный; знали ее и в посольствах, и среди иностранных корреспондентов. Вот и решено было прибегнуть к последнему «резерву» — уголовщине. Так закончилась жизнь Вс. Мейерхольда и его верной подруги Зинаиды Райх.
Раз уж к слову пришлось, так расскажем и о другом эпизоде из истории русского театра, о гибели другой молодой талантливой актрисы, ныне забытой, погибшей в 1923 году. Тем более, что, вероятно, теперь не осталось в живых никого из тех, кто знает об этой страшной истории. В 1920 году на сцене Михайловского театра в Петрограде появилась 19-летняя балерина Лидия Иванова. Несмотря на свою молодость, она пользовалась шумным успехом и считалась серьезной соперницей известной питерской балерины Спесивцевой. Лида Иванова имела очень много поклонников, среди них было много видных людей. Неравнодушны были к ней и «дяди» из ГПУ и, как говорят, сам глава петроградского ГПУ Бакаев. На беду, Лида Иванова была из хорошей русской интеллигентской семьи, в которой были живы патриархальные традиции. Ее отец ходил за ней по пятам; она всюду являлась в сопровождении папы. Тут вмешались закулисные счеты, столь сильные в балете: Лида имела могущественных врагов. И вот однажды, в летний день 1923 г., Лида рассказывает папе, что директор театра пригласил ее покататься на лодке. Будут также солидные люди (из Губкома и из Чека). Что делать? Отказаться — Лида будет выдана на съедение врагам, ее сживут со света, Прощай, карьера! На семейном совете было решено, что Лида поедет покататься на лодке. В 7 часов отец будет ее ждать в вестибюле театра, где должен быть спектакль с ее участием. Приходит отец к 7-и часам, Лиды нет. Ждет, ждет. Нет. Он к директору — тоже нет. Вызывают спешно другую балерину. Ивановой нет.
Проведя ночь в страшном беспокойстве, несчастный отец на другое утро летит в театр к директору: «Где Лида?» Директор отвечает: «Я видел Вас вчера и от Вас спрятался. Должен сказать Вам правду: Лида погибла!» «Как, где, почему?» «Лодка перевернулась, мы выплыли, а Лиду спасти не удалось». В журнале «Жизнь искусства», в петроградской «Красной газете» были напечатаны трогательные некрологи; было объявлено, что тела найти не удалось. Между тем отец после первого порыва отчаяния стал внимательно изучать обстоятельства гибели. Официальный вариант отпал тотчас. В лодке была найдена записная книжка Лиды, что, конечно, было бы невозможно, если бы лодка перевернулась. Далее, на лодочной пристани показали, что в пять часов вечера лодка, на которой находилась Лида, благополучно причалила к лодочной пристани. Из нее вышли четверо мужчин, совершенно сухих. У отца не было сомнений: четверо здоровых мужиков изнасиловали его Лиду, а потом утопили.
Несчастный отец бросался всюду и везде. Требовал расследования. Находились работники из прокуратуры и суда, которые хотели заняться этим делом. Но как только начиналось расследование — телефонный звонок от всемогущего тогда в Питере Зиновьева, и мгновенно дело прекращалось. Наконец наступил 1927 год. Зиновьева в Питере больше нет. Иванов летит к Кирову, добивается приема. Тот очень по-дружески с ним говорил и направил его к заместителю председателя ГПУ Ягоде. Ягода также очень любезен и обещает разобраться. Просит зайти через 3 недели, когда вновь будет в Ленинграде. Заходит. Ягоду как подменили. Не отвечая на поклон и не предлагая сесть, отчеканивает: «Уберите это дело — иначе мы Вас уберем, как полено с дороги». Этим кончается грустная история о Лиде Ивановой. Здесь молва вплетает еще другие имена, разрисовывает эту историю узорами. Но я кладу на уста печать. Я пишу только о том, что мне доподлинно известно.
Всю эту историю я узнал от старого друга, Ираиды Генриховны Вахта, которая в молодости танцевала вместе с Лидой Ивановой и хорошо знала ее отца. Ираида Генриховна умерла 23 марта 1963 г. в городе Самарканде. Один этот факт, относящийся еще к героическому периоду советской власти, для меня говорит гораздо больше, чем все теоретические рассуждения о безнравственности советской системы. Всюду, где нет гласности, где имеется возможность совершать втихомолку темные дела, непременно развиваются зверские инстинкты — рядом с произволом всегда идет преступление.
Другие театральные деятели не гибли физически, как Мейерхольд, их не убивали чекисты под видом бандитов, но судьба их, пожалуй, еще более трагична.
Вот, например, в Москве 20-х годов среди интеллигенции был очень популярен театр «Семперанте». Название означало латинское semper ante — всегда впереди. Основан был этот театр молодым актером Анатолием Владимировичем Быковым (сыном известного московского протоиерея, профессора биологии, принявшего по глубокой вере сан). А. В. Быков в 20-е годы, будучи еще молодым студентом, носился с мыслью создать в Москве театр dell'arte. Надо сказать, что по своему типу Быков походил на итальянского или французского артиста — каботена. Веселый парень, любящий выпить, бродяга по призванию, он был необыкновенно, блестяще талантлив. И талант его был сродни таланту каботенов: он был импровизатор. В мгновение ока мог изменить голос, изобразить что угодно и кого угодно.
Интерес к комедии dell'arte у него возник не случайно. Это увлечение имело место в кругах эстетов еще до революции. Петербургский артист Миклашевский (впоследствии эмигрант) в 1912 году издал специальную книгу о комедии dell'arte, спорную, но интересную. Воплотил эту идею в жизнь Евгений Вахтангов, поставивший накануне своей смерти блестящий спектакль — комедию Гоцци «Принцесса Турандот». Спектакль, о котором написана тьма тьмущая статей, исследований, диссертаций. Вся театральная Москва в 20-е годы посмотрела этот спектакль. Смотрел его и молодой артист А. В. Быков, и ему пришла мысль воплотить комедию dell'arte не в духе музейного спектакля, как у Вахтангова, а на основе современного сюжета. Сказано — сделано. Быков собирает труппу молодежи, такой же богемной, хотя далеко не такой талантливой, как он сам. Дело встало на серьезную почву, когда Быкову удалось заинтересовать этой идеей известную актрису Малого театра Левшину. Правда, трудно сказать, чем увлеклась больше Левшина: новаторской идеей молодого актера или им самим, т. к. через некоторое время она вышла за него замуж, будучи старше его на 20 лет. Двух больших актеров объединяла прежде всего великая театральная идея. Замечательной актрисе (она была исключительно талантливая, если не великая актриса) было тесно в Малом театре, который в это время стал театром эпигонствующим, свято хранящим традиции Ермоловой, но не имеющим и капли ее силы. Благодаря Левшиной удалось выхлопотать у Луначарского разрешение на открытие театра и некоторую дотацию. Был поставлен первый спектакль «Гримасы». Название «Семперанте» замелькало в «Известиях», в объявлениях о спектаклях.
Помню этот спектакль. Пьесы нет, есть лишь сценарий, построенный таким образом, чтобы дать актеру развернуться. Действие происходит в некой небольшой европейской стране, (где-нибудь в Дании или Швеции), но это Европа условная. Сам Быков — типичный русский провинциальный телеграфист. Он немного поет, его снедает жажда славы. У него есть любимая девушка (конечно, Левшина), глубокая провинциалка, сентиментальная, с альбомом, в котором она засушивает фиалку, подаренную кавалером. В этом небольшом провинциальном городишке недавно гастролировала столичная опера. Нашему телеграфисту это окончательно вскружило голову. Он едет в столицу. Но это не бескорыстный мальчик, мечтающий о славе. Это хитрая бестия. Ему удалось перехватить на почте частное письмо примадонны, где она ругает на все корки директора. С этим письмом в кармане он едет в столицу. Столица. В гостях у примадонны. Это опять Левшина, но кто мог бы ее узнать! За полчаса она совершенно преобразилась, ничего общего у этой обворожительной, избалованной женщины, привыкшей к поклонению, с робкой провинциалкой. Говорит с провинциалом свысока, принимает его сначала за какого-то бедного дальнего родственника, потом он начинает ей немного нравиться. Объяснение. Сцена с перехваченным письмом. Возмущена, но наглость молодого парня ее волнует. Говорит с ним кокетливым тоном. Наконец, договорились: она соглашается устроить его хористом. 3-ий акт. Он уже не хорист, ему удалось пробраться с помощью примадонны в хоть и плохонькие, но певцы. Он начинает вести сложную сеть интриг. Вот он у редактора провинциальной газеты. Редактор — пожилая женщина в очках, вся в черном, и это (вы подумайте!) опять Левшина. Он приносит ей рецензию, где ругает премьера — баритона — и восхваляет до небес «скромного и талантливого актера» (самого себя). Гнев, пренебрежение редактора. Он с очаровательной наивностью подносит ей цветок. Гнев, изумление. Потом в ней пробуждается женщина. Первый раз улыбка: «Зачем Вы тратились?» Лед сломан. В конце концов, несколько подправив статью, соглашается ее поместить. Затем целый ряд подобных же интриг. Последний акт. Он вытеснил премьера. Он на верху славы. Он известный певец. Приходит примадонна (он уже давно ее любовник). Он говорит с ней как равный, он говорит с ней как мужчина, в тоне превосходства. Но только примадонна за дверь — является (о ужас!) провинциалка. Та же Левшина. Все такая же белобрысая, робкая, жеманная. Мгновенное смущение. Говорит с ней резко. Она плачет. Поручает слуге проводить ее до извозчика. Занавес. Буффонада? Фарс? Каботинаж? Да, но сколько блеска, таланта, остроумия. Из такого вот каботинажа выросли Мольер и Гольдони, Сервантес и Лопе-де-Вега.
Но печальна была участь русского кандидата в мольеры. Вскоре ему стали навязывать советский репертуар. Стало хуже. Чувствовалось, что играет, давясь от рвоты. Инсценировали плохой роман А. Толстого «Черное золото», потом поставили какую-то пьесу о вредителях. Когда стало невмоготу, начали разъезжать по провинции. Так было до 1933 г. Принесло их играть в Сочи, а там как на беду отдыхали братья Тур (известные советские журналисты). Написали в «Известия» разносную статью. Театр немедленно разогнали. Быков умер перед войной, зимой 1941 г., замерзнув ночью в пьяном виде на одной из московских улиц. А Левшина постучалась опять в двери Малого театра. Приняли из милости (все-таки заслуженная артистка). До самой смерти (в 50-е годы) она заведовала кабинетом истории театра. Таков конец талантливого Быкова и почти гениальной Левшиной. И опять можно повторить уже сказанное мною выше: советская власть — великий гаситель.
Помню, на улице Горького — подвальчик. Там, где когда-то было знаменитое кабаре Балиева. Небольшой зал. Здесь помещается студия Малого театра, состоящая сплошь из молодежи. До чего же она интереснее старика — Малого театра. Я видел у них две пьесы: шекспировскую «Конец — делу венец» (главную роль играла молодая актриса Цветкова). До чего здорово! Как было все живо, остро; молодые актеры упивались пьесой, купались в Шекспире. Цветкова была обворожительна: плутоватая, остроумная, влюбленная, кокетливая — она, правда, больше напоминала француженку XIX века, чем героиню шекспировской сказки. Но это я понимаю теперь, а тогда… тогда я в нее просто влюбился. (Мне ведь было уже 14 лет). Упросил отца пойти опять в студию. На этот раз шла пьеса из советской провинциальной жизни «Шулер». Интересно! Вот, не разучились же тогда писать талантливые пьесы. Пьеса в том же ключе, что «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Приезжает молодой парень, сын царского офицера, из Москвы в провинцию. Из Москвы его выслали за принадлежность к шулерской компании. Отец в негодовании. Всеобщее презрение, но и всеобщий интерес. Это — как булыжник в провинциальное болото. Сенсация. Разносятся слухи. Провинциальная девушка (из «бывших») — «моя» Цветкова. Ей кто-то говорит, что шулер — не шулер, а убийца, и убил он графиню. Необыкновенный интерес. Правда, странно, почему он на свободе. Одна из барышень объясняет: «Не знаете законов. За графиню — полгода условно». И вот появляется «сам», молодой, красивый, хорошо одетый. «Моя» Цветкова (по пьесе она Маша Конская) влюбляется до одури. Впрочем, влюбляются и все другие: сентиментальные девицы, скучающие вдовушки и веселые дамочки. Он — герой дня. Все его окружают. Все хотят знать подробности: где, когда, как совершилось романтическое преступление. Он приоткрывает край завесы над легендой: графиню он удавил «ниткой жемчуга». Это сражает мою Цветкову наповал. Она отвергает двух женихов (отца и сына — лабазников, оба сватаются). Отдает ему руку и сердце. Однако наиболее предприимчивая из вдовушек продолжает его атаковать. (Это Клавдия Половикова, потом артистка Театра Революции, известная больше как теща Симонова — мать Серовой. А жаль, лучше бы знали Симонова как ее зятя, — великолепная артистка, крупнее, чем Симонов как писатель). И вдруг, и вдруг в день свадьбы известие. Он полностью оправдан, реабилитирован. Он рад, он скачет по сцене как мальчик. Он опять поедет в Москву. Будет работать канцеляристом. (Выясняется, что он никогда никем другим не был). Всеобщее разочарование. Невеста ему отказывает. Все женщины от него отворачиваются. Осмеянный, превратившийся в «фитюльку», «тряпку», погружается он в первоначальное ничтожество.
Через 47 лет помню. Неплохая проверка для спектакля и для Натальи Цветковой, сделавшей потом весьма умеренную карьеру и умершей внезапно во сне в 1952 году. Самого главного их спектакля «Кинороман» я не видел, но этот спектакль обратил на Студию всеобщее внимание; о Студии заговорили, пророчили ей блестящее будущее. Но железная завеса «казенного» репертуара 1930 года опустилась и над Студией, шибанула ее по голове и прихлопнула в один момент.
Помню и другую «студию», студию, сделавшую потом блестящую карьеру, студию Завадского. Хорошо она началась. Открылась на Сретенке в двух смежных соединенных квартирках. Сломав все стенки, выкроили зрительный зал. В антракте сидели на местах. Фойе не было. Вместо капельдинеров хранили пальто две молодые актрисы. Студийцы дебютировали в модной тогда пьесе Газенклевера «Деловой человек» (Господин Компас) — из жизни Германии веймарского периода. Одновременно пьеса шла в Малом театре и в Питере, в «Александринке». По общему мнению, победителем вышел Завадский. Помню еще одну пьесу, «Любовью не шутят» Альфреда де Мюссе. Как тонко сделано, какое проникновение в дух дореволюционной Франции (действие происходит в XVII веке). Студия, как и ее основатель, преуспела в жизни. Завадский стал и народным, и орденоносным, — а студия превратилась в официальный театр Моссовета.
Завадский сделал одно большое дело: выдвинул блестящую актрису Марецкую, поставил несколько интересных спектаклей. Но сам театр! Что такое! Видел там в конце 50-х годов «Мадам Сен-жен» Скриба. Какое убожество! Наполеон, превращенный в заурядного итальянского офицерика, мадам Сен-жен, ругающаяся чуть ли не матом и задирающая шлейф на плечо, — примитив, глухая провинция! И это Завадский! Понятно! Нельзя безнаказанно ставить 20 лет Сафроновых и говорить через каждые два слова: «Мы коммунисты!» Искусство мстит за себя.
Я вспомнил здесь о забытых уголках театральной Москвы. О подснежниках, расцветших было и сразу исчезнувших под снегом. Я не говорю о тех, о ком написаны тома, о ком пишут дипломные работы мальчики и девочки в ГИТИСе и в Ленинградском Театральном Институте и о ком защищают диссертации театроведы. И все же сделаю небольшую экскурсию в «большие» театры Москвы.
В своей работе о Булгакове я говорил о великой трагической артистке Алисе Коонен. Алиса Коонен — не просто великая трагическая актриса. Кажется, последняя в России. Это явление уникальное, не укладывающееся ни в какие шаблоны и, конечно, не оцененное современниками. Когда мне говорят о том, что народы, «соединившись в мирную семью», потеряют свою индивидуальность, я всегда вспоминаю Алису Коонен. Когда мне говорят, что интернационализация жизни, космополитизм ведут к стандартам, к упадку культуры, — я опять вспоминаю Коонен. Она жила поистине на стыке разных культур и вобрала в себя все лучшее, что было в мировой культуре. Очень трудно определить ее национальность. Кто она? По происхождению как будто шведка, родившаяся и выросшая в Финляндии. С детства она вобрала в себя русскую культуру. Прославилась в Малом театре. Сама Ермолова (можно ли себе представить что-нибудь более русское, чем Ермолова?), сходя со сцены, публично подарила ей веер и назвала своей преемницей. И в то же время это не русская (вернее, не только русская) актриса. Она была мастером французской классической драмы (Comedie francaise не могла бы, верно, сделать ей ни одного упрека). Она раскрыла нам в Федре красоту Расина, для нас такого далекого и такого непонятного. А на другой день играла американку в пьесе «Машиналь», или ирландскую крестьянку в пьесе «Любовь под вязами», или комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского. Даже эту ходульную советскую пьесу она сумела поднять до уровня Шекспира. И как правильно делал Таиров (ее муж и друг, и тоже большой режиссер), что показывал ее всегда на сером фоне (знаменитые таировские «сукна»). Ей не нужны были декорации, как Анне Карениной не нужно было лиловое платье. Ей не нужно было никаких украшений; ей нужна была только рама.
Наибольшее впечатление на меня произвела «Адриена Лекуврер».
Выше я говорил о «Даме с камелиями» у Мейерхольда (как он сумел раздвинуть рамки банальной мелодрамы Дюма), но нечто подобное сделали и Коонен с Таировым. Кстати сказать, при жизни Таиров и Мейерхольд были врагами (и Мейерхольд вел себя в этой распре отвратительно). Помирим их хоть теперь, после смерти, соединив их имена.
Коонен сделала из мелодрамы Скриба трагедию шекспировского масштаба. Для того, чтобы уяснить себе многообразие таланта Коонен, позволю себе обратить внимание на один момент. В 1-ом акте Адриена Лекуврер — знаменитая французская актриса XVIII века, вдохновившая Скриба на создание драмы, — декламирует в аристократическом салоне монолог Федры (Расина). Сама Коонен играла Федру (я видел ее в этой роли). Ничего похожего. Это Федра, пропущенная через личность Адриены Лекуврер. Адриена в роли Федры. Театр в театре — искусство актера здесь достигает ювелирного, филигранного мастерства. Адриена, как известно, выступает в присутствии соперницы — маркизы и своего любовника. Она говорит о лицемерии знатных дам. Начинает монолог в традициях классицизма. Но вот роль отброшена, как ненужное тряпье. Она бросает в лицо сопернице жгучее оскорбление. В ее голосе слышна такая страсть, такая горечь, такой гнев, что кажется — это уже не обличение соперницы, это обличение высокомерия, чванства, лицемерия этих дворян, которые ее отравят, а потом откажут ей в погребении. Тут звучат раскаты еще далекой, но уже наступающей откуда-то из грядущего революции. И это чувствует соперница. С перекошенным лицом, чувствуя свое унижение перед любовником, она произносит вполголоса: «Какое оскорбление!» И подносит актрисе в мороженом яд. И это понятно. Так и должно быть. Здесь мы воочию убеждаемся в силе гения. Поставьте на место Коонен другую актрису — ничего особенного; так себе, эффектная штучка во французском стиле. Для того, чтобы зритель почувствовал ужас совершившегося, надо, чтобы он поверил, а чтоб поверил — надо его потрясти.
Я пришел на спектакль вместе с отцом, не зная содержания пьесы, (впоследствии, уже взрослым парнем, я видел Коонен в этой роли много раз), и отчетливо помню тревогу, беспокойство за Адриену, когда она произносила монолог. Мне было ясно: такого нельзя простить, нельзя перенести. И, наконец, последний акт. Монолог отравленной Адриены. Она в бреду. Почти полчаса. Обрывки ролей, бред; пугается, видит призраки — грозит, ласкает, любит. Слова пошловатые, но разве в них дело? Я не помню слов, я помню Адриену — Коонен. Слова тут не при чем — это всего лишь аксессуар… Но здесь умолкаю: все равно рассказать невозможно, перо бессильно. Это надо было пережить.
Лебединая песня Коонен — «Мадам Бовари». Пошляки над ней смеялись, говорили: «стара баба-бовариха». Но это закулисная мразь. А что скажу я, зритель? Скажу, что она для меня раскрыла Флобера, — если бы сам он воскрес из мертвых и рассказывал бы мне о своем романе, он, конечно, не смог бы раскрыть и сотой доли того, что мне сказала Коонен. Печален ее конец. Она не бывала на «Архипелаге». Но от этого не легче.
В 1948 г. началась травля Таирова (за «космополитизм»).
Его вышвырнули из театра, из искусства. Он умер в 1952 году затравленный, всеми покинутый, одинокий, больной. Вместе с ним ушла из искусства и Коонен (с кем ей было работать!). Ушла со сцены в цвете сил, исполнив перед уходом завещание Ермоловой, подарив молодой актрисе знаменитый веер. Увы! Она никому не смогла передать своего таланта. И прожила 20 лет, заживо погребенная, лишь изредка выступая в концертах. В 1958 году Романов (директор Киевского Драматического театра) заикнулся было в статье в «Известиях» (это была эпоха «хрущевской весны») о том, что надо вернуть великую актрису на сцену. Отклика не последовало.
Что скажу о ней сейчас, когда путь ее закончен (она умерла в 1973 году)? Белинский говорит, что театр — это школа братства, сотни человек воодушевлены здесь одним чувством, одной волей, единым порывом. Театроведы — богоискатели типа Вячеслава Иванова — называли это «соборным действием». Театр Коонен и Таирова — это вселенское соборное действие, объединяющее все народы, все континенты, все эпохи. Согласимся на этот раз с советскими официальными борзописцами 40-х годов. Они действительно космополиты в самом высоком, в самом лучшем смысле этого слова. Провозвестники грядущей весны, преображения человечества. И лучше всего проводить Коонен из этого мира словами Блока, посвященными другой актрисе:
Театроведческая экскурсия закончена.
Про Рубенса рассказывают, что, когда он был послом в Испании, один из испанских сановников, застав его за мольбертом, почтительно спросил: «Господин министр забавляется живописью?» Последовал ответ: «Вы хотите сказать: художник забавляется дипломатией?» Меня могут спросить: «Церковный писатель забавляется театром?» Отвечу: «Я никогда ничем не забавлялся и забавляться не могу: декадент до глубины души, я ко всему относился всегда с преувеличенной страстностью, с надрывом, граничащим с истерией». В том числе и к театру, который я всегда воспринимал мистически, как таинственное, непонятное, чудесное, как перевоплощение человеческой личности. Впрочем, не я один. И здесь я назову имя, которое странно зазвучит в этом контексте. В те времена в Москве жил известный аскет и духовный подвижник митрополит Трифон (Туркестанов). Это был последний по времени русский старец, общепризнанный всей русской церковью. В миру князь Туркестанов, преосвященный Трифон с ранней юности отличался особым благочестием. Приняв монашество в Троице-Сергиевой лавре, он вскоре достиг высоких иерарших степеней, будучи епископом Можайским (викарием московского митрополита Владимира).
Удалившись на покой после революции, он до 1934 года жил в Москве, непрестанно пребывая в посте и молитве, имея множество духовных детей, напоминая собой по типу святителя Тихона Задонского. Его могила, чтимая до сих пор верующим народом, находится на Лефортовском кладбище. На надгробной доске вычеканены золотыми буквами слова преосвященного: «Любите храм: храм — это небо на земле». А его образ навеки запечатлен на картине П. Корина «Русь уходящая». Странно связать образ старца с театром, а между тем он был не только в молодости театралом, но сохранил любовь к театру и в старости (хотя, разумеется, не ходил в театр). На его долю выпало в 1928 году отпевать М. Н. Ермолову. Отпевание состоялось в известном московском храме Большого Вознесения у Никитских ворот. (В храме, связанном с памятью многих великих русских людей: здесь венчался А. С. Пушкин, здесь последний раз перед отъездом из России выступал Ф. И. Шаляпин, — читал Апостол на свадьбе дочери). Сюда собралась весной 1928 года вся Москва на отпевание Марьи Николаевны Ермоловой. Престарелый митрополит, совершив отпевание, сказал: «Когда я принимал монашество, мне захотелось проститься со всем самым лучшим, самым светлым, самым прекрасным, что я знал в миру, — и я купил билет на Ермолову». (Текст речи митрополита находится в настоящее время в музее им. Бахрушина в Москве).
И в эти годы митрополит пишет свои театральные воспоминания. Эти воспоминания по воле митрополита читались в одном московском доме, где собирались уцелевшие старые москвичи. Воспоминания читала хозяйка дома, а сам митрополит сидел в это время за занавеской, не выходя к гостям. Этот эпизод достаточно ясно показывает, как много значил театр для старой русской интеллигенции; это значение теперь совершенно утеряно, но, быть может, не безвозвратно: я верю, что русское возрождение принесет возрождение и русскому театру.
И еще с одним воспоминанием связана у меня Москва 20-х годов. В 1927 году, во время одного из приездов, мне удалось видеть одного из самых знаменитых своих современников — Л. Д. Троцкого. Было это так.
Осенью 1927 года я приехал из Ленинграда в гости к отцу. Целыми днями шатался по городу. И вот, как-то раз на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина) я заметил странное шествие. Шла огромная толпа молодежи (больше парни с комсомольскими значками, но попадались и девушки), по тротуарам сновали люди с растерянными лицами. Будучи от природы страшно любопытен, я немедленно нырнул в толпу. И стал у всех спрашивать: «Что это за демонстрация?» Какой-то угрюмый парень выругался в ответ и сказал: «Не приставай!» Зато другой, видимо, студент, ответил: «Не демонстрация, это похороны».
Это действительно были похороны Иоффе, одного из известнейших троцкистов, бывшего нашего посла в Берлине, окончившего жизнь самоубийством перед XV съездом партии, в дни полного разгрома оппозиции. Процессия двигалась к Новодевичьему. Протискиваясь вперед, кому-то отдавив ногу, от кого-то получив подзатыльник, я прошел к гробу. За гробом шел высокий, крупный человек в очках, без шапки. Волосы не столь густые, как на портретах. По ним, по знаменитой бородке, по очкам, я узнал его мгновенно: это был Троцкий. В сером пальто, без перчаток, с красными как у гуся руками. (Уже стояли заморозки.) Он шел молчаливый, мрачный, ни на кого не глядя. Но на него смотрели. И как смотрели! Я никогда не видел, чтоб на кого-нибудь смотрели с таким обожанием, с таким восторгом, как на этого человека в сером пальто, похожего по внешности на еврея-аптекаря. Дошли до Новодевичьего. Помню как во сне: раздавались крики «шпик, шпик», и начинали кого-то бить. Какого-то оратора стащили с возвышения. И наконец раздался громкий, властный, отдававшийся эхом во всех углах огромного кладбища, голос. Говорил «сам». Комсомольцы слушали, затаив дыхание, готовые по одному его мановению пойти на смерть. Да впоследствии все и пошли. Я тоже слушал как завороженный. Но вот меня поразила одна фраза знаменитого оратора. Он воскликнул: «Поклянемся же этой могилой и этим гробом, что мы отдадим нашу жизнь… — огромная сила, металл в голосе — и вдруг, — вдруг неожиданно прозаическая концовка, — на борьбу с бюрократией». «Как? Только и всего?» — мелькнуло у меня в голове. И гипноз рассеялся. И я дальше слушал эту речь, в которой потрясающая патетика чередовалась с серыми, привычными газетными фразами. Правда, конец был великолепен: знаменитый оратор бросил в толпу предельно сильную фразу из тех, которые запоминаются на всю жизнь: «Кто хочет уйти в историю без скорбной печати Робеспьера, тому с нами не по пути!» Но я уже освободился от гипноза и мне хотелось спросить: «Но зачем, но почему? Неужели только, чтоб бороться с бюрократией?» И с этим двойственным ощущением я покинул кладбище; оно у меня осталось от Троцкого на всю жизнь.
Хороша была старая Москва! Хороша! В 20-е годы она еще сохранилась: маленькие улочки, переулочки, все церкви были открыты (на каждой улочке их было по две). Несокрушимым белым монолитом, увенчанным золотой шапкой, — храм Христа Спасителя. У входа на Красную площадь, как бы прикорнув к стене, лепилась крохотная часовня Иверской Божьей Матери. С двух сторон ее обхватывали трамвайные пути, и когда проходили с грохотом с обеих сторон два трамвая, в часовне становилось темно и жутко: казалось, какие-то чудовища надвигаются на часовню, но по-прежнему кротко смотрел на тебя озаренный красной лампадой Лик Пречистой Матери Божией. По ночам, возвращаясь из театра, мы с отцом ожидали трамвая на площади около Страстного монастыря. И монастырь, весь розоватый, освещенный луной, опушенный снегом, был красив до неправдоподобия — он казался сказкой. Особенно много старины оставалось в Китай-городе: на каждом шагу церковь, древняя, с позеленевшей крышей, с проросшими на ней деревцами. Колокольный звон стоял над Москвой в субботние вечера, заглушая скрежет трамваев и звуки автомобилей. А на Тверской (тогда еще узкой) по вечерам было весело: светло как днем, празднично одетые люди (нэпманы и нэпманши) шли куда-то гурьбой, выходили из ресторанов, смеялись, радовались чему-то.
С неохотой покинул я Москву в феврале 1929 года. У меня было ощущение, что я ее покидаю навсегда. Так оно и вышло. Летом 1932 года, приехав из Ленинграда, я уже Москвы не застал. Вместо нее был новый город. Та Нью-Москва, некрасивая, прозаичная, серая, которая высится теперь на месте старого, милого русского города.
1929 год
Выше я говорил, что я мог бы поверить пифагорейцам, если бы не был христианином: в своей жизни я ощущал мистику чисел.
Все годы, оканчивающиеся на «9», были кризисными, переломными, иногда катастрофическими в моей жизни. И, прежде всего 1929-й.
В январе ушла из нашей семьи, поссорившись с отцом, Поля. И хотя она жила рядом, поступив в прислуги к соседям, и часто ко мне заходила, я мучительно чувствовал уход из моей жизни близкого человека.
В феврале отец лишился места юрисконсульта Спиртоводочного завода. В результате каких-то сложных закулисных интриг, которые отец называл «тайны мадридского двора», все руководство завода было снято, в том числе и отец. Дальнейшее пребывание в Москве стало бессмысленно; мы переехали обратно в Питер.
Не хотелось мне покидать Москву: за 10 месяцев я уже привык и к городу, и к совместной жизни с отцом, и к еженедельным посещениям театра. И отцу не хотелось ехать — говорил: «Чувствую что-то не то: мое сердце — вещун».
Но как бы то ни было, вернулись в Питер. Квартира была все такая же, но в жизни произошла неуловимая перемена. Мать за это время совершенно отвыкла от семьи. Выше я говорил о том, как упивалась она всю жизнь «Анной Карениной». В это время толстовский роман стал ее жизнью.
Еще в 1926 г. среди многочисленных актеров и актрис, наводнявших нашу квартиру, появился высокий, курчавый парень из Обояни, с простым русским лицом, служивший в драме, но учившийся одновременно в Консерватории и обладавший великолепным баритоном, — Георгий Никифорович Орлов. Сын лавочника, простоватый, но способный. Человек компанейский, добродушный, он и стал Вронским в мамином романе.
Мать была женщина отнюдь не легкомысленная, очень барственная, очень строгая — но нервная, немного истеричная, способная увлекаться до безумия. В скобках скажу: все эти качества я унаследовал от нее. В 1929 г. мать была полностью во власти той демонской, страшной силы, которую с таким гениальным проникновением почувствовал Толстой в знаменитом романе.
В жизни нашей семьи, и всегда ненормальной, произошел надрыв. Я ощутил его в полной мере, когда однажды увидел маму и бабушку о чем-то интимно беседующих друг с другом. Тут я почувствовал впервые, что совершается что-то невероятное: обыкновенно эти две женщины, столь не любившие друг друга, никогда между собой не разговаривали и как бы не замечали друг друга. На этот раз они сидели рядом, на диване, тихо беседовали и так были увлечены разговором, что даже не заметили моего появления. Первая меня заметила бабушка и с необычайной для нее резкостью сказала: «Что тебе здесь нужно? Уходи!» Но было уже поздно. Я успел услышать мягко увещевающие слова бабушки: «Делайте, что хотите, но только не разрушайте семью». И нервный, отрывистый ответ матери: «Нет, нет, я должна видеть его каждую минуту, как он ест, спит, говорит…»
Через несколько месяцев мать ушла из дому.
Ушла великолепно: взяв с собой лишь маленький чемоданчик, оставив все свои драгоценности, — ушла к полунищему актеру, сама полунищая, к тете Нине, которая отвела ей и Орлову маленькую темную комнату в своей квартире — бывшую людскую. Ушла навстречу нужде и нищете (она, такая избалованная, изнеженная, неумелая).
Развязка ее романа благополучна: жизнь оказалась более милосердной, чем суровый аристократ из Ясной Поляны. Она прожила с Орловым 32 года — до самой его смерти в 1961 году.
Георгий Никифорович сделал блестящую карьеру: стал певцом Михайловского, потом и Мариинского театра (Ленинградского Театра оперы и балета им. С. М. Кирова). Правда, из него не вышло Шаляпина, как рассчитывала мать, но, рано потеряв голос, он стал директором Мариинки.
А мать вела привычную для нее барскую жизнь до самой своей смерти в январе 1973 года; она умерла в возрасте 80 лет. Я узнал о ее смерти от оперуполномоченного, в лагере, в Сычевке Смоленской области. Вызвав меня, оперуполномоченный спросил: «Знаете ли Вы гражданку Орлову Надежду?» «Что, умерла?» — воскликнул я, сразу догадавшись. «Да, — сдержанно произнес старший лейтенант, — все люди смертны». И протянул мне телеграмму двоюродной сестры, извещавшую меня о том, что 11 января 1973 года умерла моя мать Орлова Надежда и что мое присутствие на похоронах необходимо. Оперуполномоченный при этом прибавил: «Отпустить на похороны, Вы сами понимаете, мы не можем. Молитесь! Вы же верующий человек и постоянно молитесь!» И я молился!
После возвращения в Питер мое увлечение церковью возобновилось с новой силой. Отец горько шутил: «Ну и семейка у меня: эта помешалась на Орлове, этот на церкви»… Действительно, мое увлечение церковью было сродни маминому: я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить — и почти ничем другим не мог заниматься. А так как отец, суровый и властный, мне в этом препятствовал, я принял отчаянное решение: 20 марта 1929 года, на первой неделе великого поста, я убежал из дому.
Темным питерским ранним утром, в питерскую первую оттепель, я вместо школы отправился на противоположный конец города, к Московским воротам, где тогда сияли золотые главы Новодевичьего монастыря. Этот район, воспетый Блоком в поэме «Возмездие», тогда ничем не напоминал теперешнего Московского проспекта, сплошь застроенного каменными коробками. Вообще ни один питерский район не претерпел столько метаморфоз, как этот. Не повезло ему, между прочим, с названием. На моей памяти он четыре раза менял названия — причем в каждом отразилась эпоха.
В это время в быту его называли по-старому, Забалканским, в честь встречи наших войск, возвратившихся с Балкан в 1878 г. (Этот момент и зафиксирован Блоком в начале знаменитой поэмы). Официальное название, однако, было Международный проспект. В 1948 году, в эпоху борьбы с космополитами, появилось новое название: Проспект им. Сталина. Шли годы, умер диктатор, появился хрущевский феномен — вернулись миллионы заживо погребенных в лагерях. Вернулся и я. И, посетив в 1957 г. родные места, уже не нашел имени Сталина, проспект принял то название, которое носил до 1878-го года, — он стал называться Московским проспектом. (В XVIII–XIX веках он назывался Московский тракт.)
Тогда эти места славились бойней (у Обводного канала). Два бронзовых быка украшали вход в приземистое красного цвета здание, окруженное кирпичной стеной. А из-за стены слышался истошный рев живых быков, приговоренных к смерти.
Идем дальше; все меньше каменных домов, все больше деревянных домишек. И наконец — большие каменные стены, золотые купола. Новодевичий монастырь. Еще несколько кварталов — Московские ворота, воздвигнутые в 1815 г. Затем мостовая исчезает, неимоверная грязь, деревянные домишки, чайные, пивные…
Сюда я и пришел 20 марта 1929 года — была среда первой недели поста. В монастырском соборе совершалась преждеосвященная литургия. С клироса доносилось чудесное пение монахинь; отчетливо помню мелькнувшую в голове ассоциацию: монастырь из лермонтовского «Демона», в котором была монахиней Тамара. В пении монахинь действительно было что-то восточное.
Официально в то время монастыри были ликвидированы: все земельные угодья у них были отняты, но храмы были открыты и около них по-прежнему жили иноки и инокини.
В Новодевичьем монастыре оставалось более 90 монахинь (до революции их было 600). Во главе обители стояла игуменья Феофана (высокая, стройная женщина — из дворянок); остальные монахини были простые, набожные женщины, ласковые и трудолюбивые, жившие десятки лет в своих кельях, блестевших чистотой, с цветами на окнах, с множеством икон в углу. В монастыре было также несколько молодых послушниц. С одной из них, Ольгой, краснощекой, круглолицей девушкой, я дружил.
Главный собор, в котором стоял полярный холод, был посвящен Казанской Божией Матери. С обеих сторон двери шли в сестринские корпуса — длинные коридоры с кельями. Один из коридоров упирался в обширные покои, где жил митрополит Ленинградский и Гдовский Серафим. При его покоях была небольшая крестовая церковь, посвященная иконе Божией Матери «Отрада» (празднуется 21 января по старому стилю). Здесь по вторникам читался рукописный акафист, написанный стихами и составленный каким-то великолепным безвестным поэтом. Помню начало акафиста. Приведу его по памяти, т. к. сам акафист бесследно исчез после закрытия храма в 1937 г.
Отстояв преждеосвященную обедню, я зашел в чайную у Московских ворот. Это были последние проблески НЭПа и существовали еще частные чайные. Представьте себе деревянное помещение, все переполненное народом. Кого тут только не было: заводские рабочие, полупьяные (несмотря на утро), босяки, бабы с подбитыми глазами, и среди них — я, «Гогочка» (так называли тогда нас, мальчишек из буржуазных семей), в своем черном пальто с белыми крапинками (как бы снежинками), с черным (под котик) воротником, в котиковой шапке с ушами, с сумкой-портфельчиком в руках.
Выпив чаю с хлебом, я опять отправился в монастырь. Походил по кладбищу, побывал на могилах Н. А. Некрасова и Ф. И. Тютчева, присел на скамейку у входа на кладбище, почитал Евангелие. А там пора собираться ко всенощной. Вечерня с чтением покаянного канона, утреня. Служба монастырская, длинная-длинная, — длится почти пять часов (с 6 до 10 с половиной часов), да еще вечерние молитвы для монахинь. Окоченел от холода, ноги превратились в ледышки. Увидел местную «знаменитость» — юродивого Гришу. Здоровый, широкоплечий мужик лет под 60, с красным лицом, в смазных сапогах. Ходит по церкви, указательным пальцем как бы рисует что-то по стенам. Я о нем много слышал. Запомнился рассказ одной женщины, слышанный мной за год до этого, на Смоленском кладбище.
У ее подруги очень сильно пил муж. Уговорили сходить к Грише, посоветоваться. Он сурово схватил ее за руку, сказал: «Пойдем!» И повел ее на кладбище, ведет, ведет, привел в дальний угол. Ее охватил страх: одна, на кладбище, с здоровым мужиком наедине. (Тут женщина что-то шепнула собеседнице, косясь на меня, — а я был в общем в 12–13 лет довольно неиспорченным малым и не понял сразу, чего так испугалась почитательница Гриши.) А он, рассказала женщина, как бы уловив ее мысль, сел на могилу и начал дико хохотать, а потом схватил валявшуюся поблизости бутылку, связал горлышко веревочкой и сказал: «А муж твой вот и вот!» И ударил со всей силы бутылкой о соседний памятник, отчего та разлетелась осколками на все стороны; в ужасе женщина пустилась бежать, слыша за собой все тот же дикий хохот юродивого Гриши. А муж ее через два дня в пьяном виде повесился.
Теперь я видел Гришу рядом; старушки подходили к нему, спрашивали; помню вопрос одной из них: «Ехать ли мне в деревню?» Но Гриша, видимо, был не в духе. Отмахивался: «Не знаю! Не знаю!» Подошел и я к нему: «Гриша, я о Вас много слышал. Скажите, что со мной будет?» Гриша саркастически усмехнулся: «А я почем знаю, что с тобой будет!» Смущенно я отошел.
Но вот кончилась всенощная.
Проблема ночлега меня не смущала. Я вошел в облюбованный мною еще днем дом с большою лестницей, забрался на самый верхний этаж, у чердака. Спустил наушники с шапки, завязал их под подбородком, затем улегся на ступеньки, подложив сумку под голову, и тут же заснул сном праведника. Очнулся лишь в четыре часа утра, проснувшись от шума дворницкой метлы, и тотчас пошел в монастырь. Еще было темно, шли первые трамваи, дворники скребли панели.
Придя в монастырь, умылся снегом и уселся на скамейке, у колодца, ожидая начала службы. Задремал. Меня разбудил голос: «Малец, ты что тут делаешь?» Открываю глаза: послушница Ольга с ведрами, пришла за водой. «Службу жду!» «Да ты никак ночевал здесь?» «Да нет, это я рано приехал!» «Врешь, малец! Это ты от отца сбежал?» Я невольно покраснел. Надо же, так сразу угадала. «Да ты, чай, и голодный. Погоди-ка! Грибных пирогов принесу! У меня с масленицы остались!»
И принесла. Пока я с жадностью ел, она рассказывала про себя. Сама из-под Луги, сирота, и тоже в свое время от тетки сбежала. Так мы долго разговаривали с ней, пока не зазвонил колокол к часам. Послушница Оля всем рассказала о появившемся беглеце. Надо сказать, что побег из дому мало кого поражает в монастыре. Это полностью соответствует монастырской традиции, идущей от житийной литературы, и очень многие иноки и инокини с этого начинали свой путь. Поэтому беглец был встречен монахинями с сочувствием; меня кормили грибным супом и вкусной грибной икрой. (По случаю поста весь монастырь был на грибах.) Сожалели, что не могут мне дать помещение (это грозило бы величайшим скандалом).
Я ходил ко всем службам, хлебал в помещении послушниц грибной суп, а вечером, после службы, шел, как будто это так и надо, ночевать на лестницу. Было холодно, жестко на ступенях, но, поворочавшись немного, я великолепно засыпал и в 4 часа поднимался к заутрене.
Здесь я впервые познакомился с монастырской жизнью. Что я могу сказать по этому поводу?
Недавно я прочел великолепное исследование диакона ЧСБ «Экзарх Леонид Федоров», изданное Украинским Издательством при Ватикане. Это интересное, фундаментальное исследование грешит, однако, рядом неточностей. Там, в частности, со слов одного монаха из Александро-Невской лавры, перешедшего в католичество, говорится о якобы большом падении нравов в питерском монашестве 20-х годов.
Нет ничего более неверного. Я утверждаю, что период с 1925 по 1932 г. — период величайшего духовного расцвета питерского монашества. Все корыстолюбивые, недобросовестные люди ушли — остались лучшие. Полулегальное, стесненное со всех сторон, ежеминутно ожидающее ареста и полного разгрома (что и осуществилось в феврале 1932 г.), монашество в это время отличалось чистотой своей жизни, высотой молитвенных подвигов. Разумеется, и в это время были среди монахов недостойные люди, но не они создавали ту атмосферу, которой жило монашество в это время.
В Новодевичьем очень рельефно обозначались те три типа, которые характерны вообще для женского монашества: грубые, мужеподобные женщины, вечно недовольные, ворчливые, резкие на язык. Попавшие в монастырь вследствие какого-либо стечения обстоятельств, не смягченные материнством, никогда не знавшие мужской ласки и недуховные по природе, они обычно делаются бичом всех, кто с ними соприкасается. Ко второй группе относились добродушные монашки-тараторки, жадные до новостей, питавшиеся слухами и сами любившие распространять всевозможные слухи. Церковная смута была в этом отношении для них находкой. Занятые целый день, рукодельницы, вышивальщицы, любительницы кошек, они все отличались необыкновенной добротой. Сильно напоминали мне мою Полю, которая тоже ведь была старой девой. И, наконец, третья категория — монахини с просветленными лицами, молитвенницы, всегда кроткие, радостные, как бы излучающие свет. О них не могу вспомнить без умиления. Духовность у них сочеталась с чисто женской мягкостью, лаской. Глядя на них, я понимал, почему преподобный Серафим и старец Амвросий так любили именно женское монашество и так много своего драгоценного времени посвятили созданию женских обителей. (Преп. Серафим — Дивеевской обители, а старец Амвросий Шемординской общины.)
Вообще говоря, настоящего монаха отличить довольно легко: в нем всегда есть что-то детское, наивное, непосредственное. Я и раньше знал многих монахов; но только здесь, в Новодевичьем, впервые понял обаяние монашества и сам стал страстно желать монашеской жизни.
Впрочем, вскоре моей полумонашеской жизни пришел конец.
Однажды, когда я шел к месту своего ночлега, меня остановил какой-то гражданин средних лет, аккуратно одетый, интеллигент бухгалтерского типа. «Мальчик, что Вам нужно на чужой лестнице, почему Вы все время здесь ходите?» — вежливо спросил он, с недоумением меня оглядывая: я не был похож на беспризорника и сохранял внешность мальчика из буржуазной, интеллигентной семьи. Что-то пробормотав о своих знакомых, которые здесь живут, я бросился наутек. И о ужас! через пять минут меня остановил милиционер, стоявший напротив монастыря: «Малец, чего это ты все время здесь по ночам шатаешься? Откуда ты?» Растерявшись, я ответил, что иду из школы. «Из школы? В 12 часов? Идем-ка в милицию». И он меня отвел в приземистый одноэтажный домишко у Московских ворот, где помещалось отделение милиции. Дежурный по милиции сразу меня разгадал: «Э, парень, да ты убежал из дому. Говори твой адрес».
Я дал телефон тетки. Через десять минут в отделение милиции уже звонил отец; а через час он и сам явился, взволнованный, веселый, оживленный. «Что ты, подлец, со мной делаешь? Я же уже обрыскал весь город», — сказал он, обратившись ко мне, и благодарно потряс руку дежурному по милиции, а потом поцеловал меня в обе щеки. Дежурный по милиции, ожидая отца, говорил мне: «Ну и будет тебе, парень, порка!» Отец мой не чуждался и этого древнего метода воспитания. Но теперь не только не было порки, но отец принял меня (совершенно по Евангелию) как блудного сына. Бабушка же, разрыдавшись, бросилась мне на шею.
Несколько дней я чувствовал себя именинником; но потом опять начались школа, будни, ворчливость отца. А я уже отведал пьянящего напитка воли, а меня влекла романтика странствующего монаха. Через месяц я опять сбежал из дому. А потом и третий, и четвертый — всего шесть раз. На этот раз, понимая, что отец будет меня искать в Новодевичьем, я уже туда не ходил, а витал около лавры, около различных подворий, около питерских церквей. Ночевал по-прежнему на лестницах. Каждый раз отец меня находил. Каждый раз радость отца, смешанная со скорбью. На другой день допросы отца: «Скажи, что мне с тобой делать? Чего ты хочешь?» Я упорно молчал. Отец про меня говорил: «В нем живут два существа: одно — тихий, мирный, хороший мальчик, а другое существо — безумное, дикое, невозможное». Так и было. В эти годы, до 15 лет, я жил чувством, в моих побегах было страстное неприятие семейного и школьного быта, желание погрузиться в иную жизнь, уйти от нестерпимой прозы и пошлости жизни. И это стремление было сильнее меня.
Выносливость была во мне необыкновенная. Помню, например, я однажды переходил Неву (дело было весной) и провалился под лед. Едва-едва меня вытащили. Провалился я до горло. Все было мокрое. Одежда, белье прилипали к телу, как компресс. Что же? Пошел домой? И не подумал. Наскоро обсушился в сторожке и целую неделю домой не являлся. По всем правилам науки должен был бы схватить воспаление легких — ничего похожего; остался жив и здоров: отец и мать одарили меня на редкость крепким организмом.
Так проходил этот 1929 год, в побегах из дому, в обстановке семейного кризиса, в метаниях между монашеством и ночевками на лестницах и на вокзалах.
Кризис был, впрочем, не только у нас в семье. Кризис сотрясал всю страну. По силе кризис 1929 года не уступал 1917 году. Жизнь, было наладившаяся, вновь перевернулась вверх дном. Опять появились (впервые с 1920 года) очереди в магазинах — хлебные карточки, острые недостатки в пище. Толпы голодных людей переполняли Питер; их гнала сюда коллективизация, о которой все говорили с ужасом, с содроганием. Тут мы узнали впервые грозное слово «колхоз». Газеты были переполнены Филиппинами против «кулаков», которые изображались как чудовища, и по отношению к ним раздавались кровавые угрозы.
В конце года в нашу квартиру вселили три семьи. И хотя у нас оставалось три комнаты, но от недавнего «барства» не осталось и следа. Обеды в столовке, блохи и клопы, принесенные соседями, вечный гомон на кухне, непрерывное хлопанье дверей — таков стал отныне стиль жизни. Исчезли все промтовары, — люди приняли убогий, полунищий вид. Печать серости лежала на всем.
В этой обстановке впервые прозвучало зловещее имя «Сталин».
Как это ни странно, до 1929 года в народе Сталина почти не знали. Знали Ленина, Троцкого, Рыкова, Зиновьева, Каменева — кого угодно, но только не Сталина. Даже имя Молотова я узнал раньше, чем имя «Сталин». Почему так было? Что это, случайность? Вряд ли! Видимо, «мастер по части острых блюд» предпочитал до поры до времени держаться в тени. Только в 1929-ом замелькали всюду портреты грузина с трубкой.
Страна вступала в новую, страшную полосу своей истории.
Вблизи монастыря (1930–1932 гг.)
Весной 1930 г., после двух моих очередных побегов, отец, пережив долгую внутреннюю борьбу, принял очень тяжелое для себя решение. Поместить меня в Институт им. Грибоедова.
Это было своеобразное учреждение. В то время (вплоть до 1936 г.) в СССР процветала педология. В каждой школе был свой педолог, в обязанности которого входило работать с «трудными» детьми. Возглавлял педологию во всероссийском масштабе проф. Адриан Сергеевич Грибоедов, стоявший в то же время во главе научно-исследовательского института педологии, занимавшего огромное здание в семь этажей на Фонтанке, против цирка, наискосок от Семиониевской церкви.
При институте был интернат. Сюда и поместил меня отец в надежде, что здесь меня «исправят».
Впервые я попал в коллектив. Черная куртка и брюки, сильно напоминающие лагерную одежду, общие дортуары, завтраки, обеды, ужины по звоночку, совместные прогулки «под конвоем» воспитателей — все это действительно напоминало лагерь.
Я, однако, чувствовал себя там неплохо. Особенно нравилось мне отвечать на вопросы педологов. Сейчас, когда мне приходится давать интервью журналистам, я часто вспоминаю эти давние времена. Особенно мне импонировало, что меня принимают всерьез, интересуются моими взглядами, изучают мою психологию. Вопросы педологов иной раз поражали своим мнимым глубокомыслием. Помню, например, одного педолога в пенсне, который с вдумчивым видом у меня спрашивал: «Скажи, пожалуйста, Толя, почему ты ходишь в церковь: тебе хочется туда ходить или тебя тянет туда?»
Отец с присущим ему юмором потом пародировал за обедом педолога: «Скажите, пожалуйста, Надежда Викторовна (мамаша), почему Вы ходите к Орлову: Вам хочется к нему ходить или Вас туда тянет?»
Впрочем, вскоре Грибоедова сместили за уклон в биологию, за недооценку роли социальной среды. Вместо него был назначен проф. Николай Иванович Озерецкий. Этот со мной беседовал в присутствии тридцати педологов, повышавших свою квалификацию. Побеседовав со мной, он, обращаясь к аудитории, сказал: «Вот вам пример того, как внешний контакт устанавливается легко, а внутренний трудно».
Памятником моего пребывания в институте осталось заключение педологов, которое фигурирует в моем деле в КГБ и хранится у моей мачехи в Москве. Впрочем, при выдаче отцу этого заключения один из ученых педологов выразил еретическое мнение, что хороший ремень здесь может быть полезнее всех на свете педологов. Отец развел руками: «Пробовал; не помогает».
При выходе из института отец предложил мне конкордат. Я могу ходить, сколько мне угодно, по церквам. «Только ради Бога не убегай из дому: я уже не в силах бегать в жару по переполненным народом церквам — тебя искать». В этот момент мне стало страшно жалко отца и я искренно сказал: «Хорошо!»
А в жизни отца в это время произошло важное событие: в 48 лет он женился второй раз на 23-летней девушке. Было это так. Уход матери осенью 1929 года переживался отцом очень тяжело. Целыми вечерами он просиживал один в маминой комнате, и в это время в его черных как смоль волосах появились седые пряди.
В то же время в «beau mond'e», где вращался отец, прошел слух о разводе. Отца тотчас начали осаждать. Высокий, широкоплечий, красивый 48-летний мужчина (к тому же небезызвестный юрист, неплохо по тем временам обеспеченный, а также театрал) был еще необыкновенно привлекателен для женщин. Кто только в это время вокруг отца не увивался: дамы бальзаковского возраста и девчонки, только что соскочившие со школьной скамьи; дамы «старого общества» — вдовы белых офицеров; партийные работники, кокетничавшие в советском стиле между партсобранием и производственным совещанием. Иной раз звонили по телефону какие-то незнакомые дамы, только слышавшие от подруг об отце и никогда его не видевшие, что не мешало назначать отцу по телефону свидания.
И в это время отец вспомнил один давно прошедший эпизод своей жизни. Года за три перед этим он из Всехсвятского ехал на Спиртоводочный завод. На автобусной остановке отец заметил какую-то девушку высокого роста, светлую-светлую блондинку… В автобусе они стояли рядом. Вдруг водитель делает рывок: пассажиры падают друг на друга. Улыбнувшись, отец вступает в разговор с соседкой. Разговор оказался столь интересен, что вместо работы отец пошел провожать блондинку до дому. Она жила на Большой Спасской (около Сухаревки). Тут же было назначено свидание. Эта девушка и стала впоследствии моей мачехой и другом. Екатерина Андреевна Кушинская, дочь московского бухгалтера из немцев, несмотря на свои 20 лет пережила уже многое. Ее родители развелись. Жила она в семье матери; сильно ссорилась с отчимом, нянчила своего братишку Славу (сына матери от второго брака) и без конца возилась с больной сестрой Юлечкой, парализованной от рождения.
Вот это последнее обстоятельство и умилило отца: он понял, что она порядочный, честный человек и человек долга. Еще более поразило отца, когда после двухмесячного ухаживания он натолкнулся на довольно резкий отпор: в донжуанской практике папы это был почти небывалый случай. Она поставила ультиматум: брак. Но нашла коса на камень. Отец тоже был человек долга. Ответ был таков: «У меня жена и сын — семью не брошу!» Они расстались, как будто навсегда.
Вот ее-то и вспомнил отец через три года, в 1930 г. Он написал ей письмо, которое до сих пор хранится в архивах мачехи.
«Милая Екатерина Андреевна!
Надеюсь, Вы помните Вашего знакомого, высокого ростом юриста. Если Вы свободны и не вышли замуж, то сейчас можно было бы возобновить разговор, который мы с Вами имели три года назад в кафе на Сретенке, т. к. жена от меня ушла и я свободен».
Он забыл ее адрес, поэтому на конверте было написано:
«Большая Спасская улица. Рядом с церковью. Первый подъезд. Второй этаж. Квартира справа. Екатерине Андреевне Кушинской».
Через некоторое время отец получил ответ. На Большой Спасской были согласны продолжать разговор, так прискорбно оборвавшийся за 3 года до этого в кафе на Сретенке.
А 6 апреля 1930 г. отец привез в Ленинград новую жену. Неприветливо встретили ее на Неве: все знакомые охали и ахали; всех поражала разница в возрасте: 48 и 23–25 лет.
Они прожили ровно 25 лет, до самой смерти отца. И в своем предсмертном письме отец писал мне в лагерь: «Ты никогда не должен забывать, что она была мне верным другом и идеальной женой…»
В 1930 г. мне исполнилось 15 лет. Я был еще школьником, но отрочество окончилось. Отец и бабушка еще называли меня «ребенком», но я уже был юношей.
Бабушка сразу не поладила со своей новой невесткой: семья опять разделилась. Отец с Екатериной Андреевной жили в двух комнатах (бывшей гостиной и моей бывшей комнате); мы с бабушкой жили в бывшей столовой.
В комнате оставалось огромное каминное зеркало. Посреди комнаты стоял стол (при гостях комната опять обращалась в столовую); постель бабушки стояла в одном углу; моя (с образком преп. Серафима) — в другом. Бабушка мне стирала, готовила обед — жарила картошку (в обыкновенные дни — на сливочном, в постные — на подсолнечном масле).
С мачехой мы подружились; беседовали часами. Отец по-прежнему отцовскую нежность прятал под внешней суровостью. Помню, раз иду я по Аничкову мосту. Навстречу отец в бекеше. Увидел меня, лицо светлеет, расцветает улыбкой. «Куда ты, мальчик?» Я в ответ мнусь. Отец (уже другим тоном): «Куда тебя черт несет?» «Приехал из Москвы Введенский. Сегодня служит у Космы и Дамиана». «Чтоб он провалился, твой Введенский». На этом мы расстаемся. Каждый идет своим путем.
Жизнь у меня в это время установилась. Монах в миру. Сделал я себе наружность под послушника. Носил черную рубашку, подпоясанную черным пояском, черные брюки. Приобрел четки. Вечно терся у лавры и у подворий. Хорошее было время. Потом уже не то. В лавре самое интересное не сама лавра, а около-лаврское. Кладбищенская жизнь. Было в лавре три кладбища. Справа, как войдешь, — Тихвинское (с могилами Достоевского и Чайковского — нынешний Некрополь). Налево — Лазаревское, с могилами аристократов. И обширное — Никольское. На Никольском кладбище часовня, на часовне крест с голубком. Могила блаженного Матфея. В ней-то все и дело.
Умер блаженный Матфей в 1902 г. Был он из интеллигентов, пропитание добывал тем, что репетировал гимназистов. Вел жизнь аскета, в маленькой квартирке, у Обводного, увешанной иконами. Молился дни и ночи. О нем прослышали. Начали к нему ходить. Он принимал, давал советы. А когда умер (лет тридцати с лишком), похоронили его в лавре и построили склеп с часовней.
Наверху икона Божией Матери и аналой с крестом и Евангелием, панихидный столик. Иеромонахи здесь служили панихиды. Затем спуск вниз, подземелье. Большой деревянный гроб; туда в щелочку опускали записочки с прошениями.
А около часовни — община. Во главе — Любовь Матфеевна. (Ее заброшенная могилка и сейчас против часовни, без креста и надписи.) Старушка вся в светлом, седая, в белом платье, в белой косынке, со светлыми четками в руках. По национальности финка; жила в кухарках, встретила блаженного Матфея, под его влиянием перешла в православие. Он ее крестный отец при миропомазании (отсюда отчество — Любовь Матфеевна). Жила на задах лавры, у Тихвинских ворот. В небольшой ее комнатке, как в часовне, много икон, пахнет ладаном. А на кухне жил мой приятель отец Матфей. О нем надо рассказать подробней.
В миру — Михаил Челюскин. Из хорошей дворянской семьи. Во время войны — боевой офицер, драгун. Был контужен и ранен. После революции пристрастился к лавре, стал близким человеком к Любови Матфеевне, все свое время проводил в часовне, на могиле блаженного Матфея. Особенно усилилась его привязанность к Любови Матфеевне после смерти матери — глубоко религиозной женщины, единственного близкого человека. Жил он на кухне, спал на жесткой скамейке, подложив под голову (по «Добротолюбию») полено. Бывшему офицеру, крепкому, здоровому мужчине, нелегко ему, видимо, давался аскетизм.
В 1926 г. постриг его преосвященный Григорий в монахи с именем «Матфей» и рукоположил в иеродиакона. Вечно водил он под руку Любовь Матфеевну, старенькую, дряхлую, едва-едва ходившую.
Как сейчас вижу картину. Лавра. Мост через реку Монастырку. Апрель. Пригревает солнце. По мосту идет старушка в белом, с накинутой поверх черной шалью, а ведет ее под руку монах. С черной окладистой бородой, с длинными волосами, падающими на спину. В рясе. А на голове монашеский черный клобук (без наколки). Идут тихо, осторожно; под ногами скользко. Сколько раз встречал я эту пару.
К Любови Матфеевне меня привела, когда мне было 11 лет, одна женщина из лаврских. Любовь Матфеевна меня полюбила. Подружился со мной и отец Матфей, давший мне краткую характеристику с чисто военной прямотой: «Да, ничего. Хороший жиденок». Особенно укрепилась наша дружба с отцом Матфеем после смерти Любови Матфеевны. Целыми часами просиживал я у отца Матфея на кухне. Время в спорах шло быстро. Он был ярый монархист, я же уже тогда поражал его своей левизной. Называл он меня обычно «Толька-футурист». Впрочем, и старое прозвище оставалось за мной. Споры обычно оканчивались тем, что Матфей хлопал меня по плечу и говорил: «Хватит спорить, жиденок, давай варить суп». И мы принимались варить суп — грибной, с картошкой, на постном масле. Хлебали из одной миски, тарелок у отца Матфея не было; закусывали черным хлебом с солью. До чего ж было вкусно. Ничего вкуснее с тех пор не ел.
20 декабря 1931 г. преосвященный Амвросий рукоположил Матфея в иеромонаха. А в посту произошло неизбежное: его арестовали. Дали 4 года. Освободился в 1935 году. Поселился в Новосибирске. Жил на окраине. Служить не давали. Просил на паперти милостыню. В 1937 г. взяли повторно. Родовитый дворянин, офицер, иеромонах, нищий — это было для НКВД слишком. В 1937 году отец Матфей Челюскин был расстрелян.
«Мученик Твой, Господи, во страданиях своих прослави Тебе, Христа Бога нашего, венец нетленный стяжав, мучителя низложив, сокрушив же и демонов немощныя дерзости, того молитвами, Спасе, спаси души наши».
Другой духовный кружок был на Тихвинском кладбище. Там было две чтимых могилы: могила иеросхимонаха Алексия, у которого в 1825 г., перед отъездом в Таганрог, был Александр I. Молва приписывала ему якобы данный императору совет преобразиться в старца Федора Кузмича.
На могилке в то время всегда горела лампадка. Подойдя к могиле и трижды поклонясь усопшему старцу, проходим в самый укромный уголок кладбища. Там, рядом с памятником Огинскому, на котором высечены ноты знаменитого полонеза, могила другого схимника — отца Патермуфия, и рядом — каменная будочка, на дверях надпись: «Здесь жил и молился затворник, молчальник схимонах Патермуфий». Входим в келейку. Земляной пол, каменные стены. Полтораста икон, около 30 теплящихся лампад. Скамейка, приделанная к стене. Здесь я просиживал часами. Биографию схимника я узнал уже много позже.
Он жил в начале XIX века, умер в начале 30-х годов прошлого столетия. Надпись на дверях была не совсем точная: вряд ли старец был молчальник, и уж во всяком случае не затворник. Он был монахом Новгородского Юрьева монастыря во времена знаменитого архимандрита Фотия. Глубокий старик, но физически очень крепкий, строгий аскет, он вел скитальческий образ жизни. Периодически уходил из Новгородской обители в Питер, в лавру, жил здесь месяцами, в этой самой будочке, а потом внезапно уходил в Новгород. Ходил всегда пешком, жил всегда на кладбищах.
Ему покровительствовал Петербургский митрополит Серафим, правивший Петербургской епархией во времена Александра I, а потому ему в его странствиях не препятствовали. Будучи в лавре, он всегда жил в этой холодной будке на кладбище, где пребывал в непрестанной молитве и в строгом посту. Здесь однажды его нашли мертвым и похоронили рядом с кельей.
В мое время могилой ведала пожилая Мария Ивановна (купеческая дочка), заботами которой теплились лампады перед иконами. Иконы же жертвовали многочисленные почитатели памяти отца Патермуфия.
Богомольцы много говорили тогда о подымающейся плите на могиле старца. В этой поднимающейся плите ничего необычного не было; просто происходила осадка питерской глинистой почвы. Но все мы, конечно, видели в этом чудо. В келье был земляной пол, но от множества лампад никогда не бывало холодно. Всегда приходило много народа. Здесь обсуждались церковные новости.
Новостей было много. Церковная смута коснулась лавры. Как я говорил выше, лавра была разделена на сергиевцев и иосифлян. К официальной церкви принадлежали Свято-Троицкий собор, где служба происходила от Пасхи до зимнего праздника Александра Невского (6 декабря), после чего главным храмом становилась просторная Духовская церковь. Ранние обедни обычно совершались в крохотной церкви св. праведного Евдокима; здесь обычно служил отец Матфей. Заупокойные обедни и панихиды служились в небольшой Никольской церкви на кладбище.
Братия состояла из 40 человек, и во главе ее стоял епископ Амвросий (наместник лавры), архимандритом считался митрополит Серафим. Среди братии были очень достойные люди. Помимо отца Матфея, можно назвать архимандрита Сергия — духовника лавры. Примечательна судьба этого человека: цыган по национальности, он пришел в лавру 10-летним мальчиком, отбившись от табора. Его приняли послушником. Тяжело ему было: чего стоило преодолеть очень прочно укоренившиеся предрассудки против людей цыганской национальности. Но он всех привлек своим суровым аскетизмом. Я знал его стариком. Как сейчас вижу его мертвенно бледное лицо, окаймленное седой бородой. Цыганские скулы не только не портили впечатления, но придавали какой-то особый колорит его лику. Он почти отказался от еды, ел лишь сырые овощи, спал на полу, тщательно это от всех скрывая. Все дни напролет он пребывал в молитве. Братия имела в нем друга, брата, советника, молитвенника — подлинного духовного отца.
Другой архимандрит, Варлаам, — ученый монах, сын валдайского священника, вдумчивый, серьезный пастырь, тоже суровый аскет. Помню его проповедь в день Усекновения Главы Иоанна Крестителя. Об Иоанне Крестителе сказал, что с точки зрения человеческой — это неудачник. И это слово сразу раскрыло для меня образ Иоанна Крестителя. Я почувствовал всю его трогательность и смиренное величие. Потом, когда я прочел Иосифа Флавия, св. Иоанн предстал передо мной совсем в другом свете — народный вождь, бунтарь, полный отваги и силы. Но в Евангелии он «неудачник» — Друг Жениха, — и самый малый в Царствии Божием больше его. Что правильно? И то и другое. Ибо Евангелие показывает нам все во вселенской перспективе, в космических масштабах; и в этих масштабах он лишь предтеча, не сам по себе, а лишь в соотношении с Другим, — «неудачник».
Помню я и другого архимандрита-проповедника, ныне ставшего известным на весь мир, — архимандрита (ныне архиепископа) Ермогена Голубева. В 20-е годы он был наместником Киево-Печерской лавры и приезжал к нам в Питер, чтобы служить в Киевском подворье, на Васильевском острове. Тогда его облик был совсем не такой, как сейчас. Высокий, худой-худой, все болталось на нем, как на палке. Страшно бледный, пот выступал на лбу. Казалось — не жилец на этом свете. Кто мог подумать, что он переживет 10 лет лагерей (и каких лагерей — ежовских), переживет всех своих современников и доживет до глубокой старости. Когда увидел я его почти через сорок лет в Калуге, поразился. Вместо худощавого аскета увидел седовласого, крепкого, здорового, энергичного старика. Кто может предвидеть судьбы человеческие?
Я запомнил и его две проповеди. Одна на Воздвиженье. Проповедь была построена на смелой метафоре: Крест — Церковь. Подобно тому, как нет сейчас креста, на котором был распят Христос, — он весь растащен по всему миру на частицы, — так нет и целой Церкви. Она распалась на общины, на различные церкви. И подобно тому, как среди частиц Креста, имеющихся во всех уголках мира, попадаются и фальшивые, так и среди различных христианских общин имеются фальшивые церкви.
И другую его проповедь помню. Опять-таки об Иоанне Крестителе. Смерть угодника Божия — радость, и церковь празднует не день рождения, а день смерти святого, день его соединения с Господом. Только две смерти встречает церковь с великой скорбью, облеченная в траур, в глубоком посте. Смерть Господа Иисуса Христа (Великая Пятница) и смерть Иоанна Крестителя. Почему? О ком скорбит церковь? Конечно, не о них — церковь скорбит о том, что так злы люди, — даже и Христа и Его Предтечу они убили.
Эту проповедь я вспомнил недавно, прочтя в «Континенте» воспоминания покойного кардинала Миндсенти, — о том, как его мучили в тюрьме. Я задал себе вопрос: откуда берутся такие изверги? И мне стало невыразимо больно — не за кардинала, а за людей.
Помню, во 2-ю неделю великого поста, в 1931 году, митрополит Серафим в сослужении епископа Сергия и многочисленного духовенства совершал в Киевском подворье литургию, т. к. в это воскресение празднуется память всех преподобных киевопечерских, в ближних и дальних пещерах почивающих. На великой ектений архидиакон помянул (как настоятеля обители) архимандрита Ермогена. И вдруг суровое лицо митрополита дрогнуло: он осенил себя крестным знамением; вслед за ним перекрестилось все духовенство. И я понял: получено известие, что архимандрит арестован. Так оно и было. В 1931 г. начался крестный путь владыки Ермогена, который не окончен еще и сейчас.
Из других иноков, которые произвели на меня в детстве особое впечатление, упомяну об иноках Федоровского подворья (или, как оно тогда называлось, Федоровского собора).
Это переименование связано с тем, что в 1913 г. храм был построен к 300-летию Дома Романовых в качестве подворья костромского Ипатьевского монастыря. В это время Ипатьевский монастырь уже был закрыт, однако в Питере монахи оставались, и храм был переименован в собор.
Как я упоминал выше, здесь служил находящийся на покое архиепископ Гавриил Воеводин, а настоятелем храма был архимандрит Лев (Егоров), один из лучших представителей петербургского ученого монашества. Весь церковный Питер тогда знал братьев Егоровых. Двое из них окончили Петербургскую Академию, приняли монашество и в это время пребывали в одном сане — архимандриты Гурий[8] и Лев. Третий брат — профессор-путеец Егоров — тоже был связан с церковью и в самые трудные времена не боялся открыто ее поддерживать.
Из трех братьев я больше всего любил отца Льва. Он остался у меня в памяти как образец церковного администратора. Он удивительно соединял исконную православную традицию с широкой культурой и тонким интеллектом. Это отражалось на всей жизни обители. Строгая уставность богослужения и постоянные проповеди. Строгий порядок, никакой давки, никакой толкотни — и наряду с этим никакой суровости, никаких строгостей. Монахи его уважали, но не боялись. Он любил молодежь и умел ее привлекать.
В обители мирно уживались малограмотные старички-иеромонахи, оставшиеся от Ипатьевского монастыря, и монахи-интеллектуалы, привлеченные отцом Львом. Из них наиболее яркой индивидуальностью был иеромонах Вениамин. В миру барон Эссен — из остзейских аристократов — высоко образованный человек. Он принял монашество в 1927 г., будучи пострижен преосвященным Сергием, а затем отец Лев взял его к себе, в собор.
Я хорошо знал отца Вениамина и довольно часто у него бывал. Но это было совсем не то, что отец Матфей Челюскин.
Чистоплотный, аккуратный, безукоризненно вежливый; он был ласков, обходителен, но не фамильярен. Бледное породистое лицо, окаймленное рыжими бакенбардами, рыжие волосы (ариец) и чудесный, грудной музыкальный голос. В противоположность отцу Матфею, который жил один как перст, на своей маленькой кухонке, вокруг отца Вениамина всегда был кружок — интеллигентные дамы, девушки, студенты.
Когда его перевели из Федоровского собора в Лесной (в Тихвинскую церковь), все пошли на ним. По вторникам он проводил беседы. Говорил чудесно, вдумчиво, и, главное, лирически. Характерный для него образ — проповедь в праздник Федоровской Божией Матери. Окончание. «Нам вспомнилась смерть друга. Он пережил многое и в жизни налипло на него много дурного. Он был очень болен. Я сидел у его постели. Было темно. Лишь в углу, озаряя лик Божией Матери, горела лампада. Он мне сказал: „Я был счастливым, когда чувствовал, что Божия Матерь была со мной. И сейчас, я чувствую, Она опять со мной“. И умер легко и тихо, с радостной улыбкой. Божия Матерь да будет и с нами. Пресвятая Богородица, помогай нам. Аминь».
В это же время в Федоровском подворье подвизался молодой монах, окончивший Ленинградский Университет по историческому факультету, отец Серафим Гаврилов. Помню его как сейчас: худощавый, чернявый, похожий на еврея, он много читал, изучал историю церкви, святоотеческую литературу. Он был одним из немногих, переживших лагеря, и впоследствии был наместником Псково-Печерского монастыря. Как жаль, что несчастная слабость или несчастное стечение обстоятельств искорежили его жизнь и помешали дать церкви то, что он мог бы дать по своим выдающимся способностям.
И наконец, иеродиакон Афанасий, мальчик лет 22–23. Весь преданный молитве, тихий, кроткий — «Алеша Карамазов». И его не миновал вихрь тридцатых годов. И он погиб в страшных ежовских лагерях.
«О кто даст голове моей воду и глазам источних слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дщерях[9] народа моего». (Иеремия 9,1).
Я помню день 11 февраля 1932 г. Воскресение. Я был у обедни в верхнем храме Федоровского собора. Литургию совершал настоятель архимандрит Лев. Это была неделя о мытаре Закхее. И после литургии отец Лев говорил на тему воскресного Евангелия. Рассказав о Закхее, влезшем на дерево, чтобы увидеть Христа, архимандрит сказал: «И мы, чтобы видеть Христа, взбираемся на высокое древо, терпим многие лишения и несчастья. Чтобы видеть Христа, мы терпим многие муки…» А через несколько дней, 18 февраля, всю братию Федоровского собора арестовали. Из них, кроме Серафима Гаврилова, не вернулся никто. Все погибли в лагерях взошли на высокое древо, откуда виден Христос!
Из других проповедников этого времени наибольшей популярностью пользовался протоиерей отец Александр Медведский. Уроженец Новгорода, окончивший Новгородскую Семинарию, он был начитанным, образованным человеком. Но самое главное — это был исключительно талантливый проповедник. Лишь он один в официальной церкви мог соперничать с прославленными обновленческими златоустами — Введенским, Боярским, Платоновым.
До 1930 г. отец Александр служил в небольшом храме Преображения Господня за Московскими воротами, а в конце 1930 г. он был назначен настоятелем Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне (у Тучкова моста). Его предшественник, отец Павел Виноградов, арестованный в конце 1930 г., хороший старый священник, служивший еще вместе с отцом Иоанном Кронштадтским, пользовался популярностью в народе. Однако его популярность нельзя и сравнить с популярностью нового настоятеля. Во Владимирский собор на его беседы собирался весь церковный Питер. Беседы происходили по воскресениям вечером. После вечерни читался акафист Спасителю. Большинство приходило с книжечками; отец Александр читал лишь начало икосов, а затем народ продолжал обращение к Спасителю: «Иисусе!»
Было так: отец Александр, стоя посреди храма, прекрасным, звучным голосом, нараспев: «Ангелов Творче, и Господи сил, отверзи ми неодуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего Имене, яко же глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и глаголаше зовый таковая». И три тысячи голосов подхватывали: «Иисусе пречудный, ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание… Иисусе сыне Божий, помилуй мя».
Мне тогда стала понятна дивная красота акафиста Спасителю; особенно любил я чудесный бой икос: «Иисусе, истине, лесть отгонящая; Иисусе, свете, превысший всех светлостей, Иисусе, царю, премогаей всех крепости, Иисусе, Боже, пребываей в милости, Иисусе, хлебе животный, насыти мя алчущаго, Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго, Иисусе, покрове радости, покрый мя недостойнаго».
После акафиста начинались беседы — беседы необыкновенно смелые, оригинальные, вдумчивые. Отец Александр говорил не только у себя на приходе: он говорил также в крестовой митрополичьей церкви в Новодевичьем и в других храмах. Помню его проповедь 12 сентября 1930 г. в лавре. Отец Александр, начав с рассказа о князе св. Александре Невском, затем вспомнил о кулачных боях, которые происходили в Новгороде, на Волхове, после Крещения. Бои длились по несколько дней, и когда ярость охватывала жителей Новгорода и кровь лилась рекой, звали архиепископа. И владыка приходил на Волхов, осенял народ крестом, и утихала ярость народная, смягчались сердца, мир и любовь воцарялись в городе.
«Что мы увидим сейчас на берегах Волхова? Мы увидим реку, закованную в железобетон. (Тогда все газеты были полны сообщениями о Волховстрое — первенце пятилетки.) А на берегах все та же бессмысленная, жестокая, кровавая борьба. И что надо сделать, чтоб утихла человеческая злоба? Надо призвать Христа. Придет Он, тихий и кроткий. И утихнет злоба, и сойдут мир и любовь в человеческие сердца». У отца Александра было умение с первых слов захватить слушателя, зажечь его, заставить себя слушать и держать в напряжении до конца речи. Это и является главной особенностью оратора, проповедника.
В 1932 г. и он исчезает с горизонта. 3 года в лагере, на Медвежьей горе. Возвращается он в 1935 г. Служить нельзя. Между тем, надо воспитывать шестерых детей. Он работал ночным сторожем на заводе. Когда в конце 30-х годов я был учителем в школе на Заставской улице, очень часто рано утром я встречал маленького, одетого в кацавейку старичка с седенькой бородкой, возвращающегося с ночного дежурства.
А иногда видел в Никольском соборе этого же старичка, горячо молившегося за дальней колонной. Это и был недавний кумир православного Питера, отец Александр Медведский.
Дальше в его жизни наступил перелом. Удалось отсидеться. После сталинского конкордата с церковью во время войны, в 1943 г., Медведский опять выплыл. Он стал настоятелем сначала Владимирского, а потом и Николо-Морского кафедрального собора. Он — председатель Епархиального Совета. Он по-прежнему проповедует.
Но в полном альянсе с властью.
Видел его в 1957 г., приехав в Питер. Узнать нельзя. Великолепная седая выхоленная борода покрывает грудь, шелковая ряса, генеральские манеры, собственный автомобиль, собственный шофер… И наконец, последняя встреча. Осень 1973 года. Я на кладбище в Парголове. Церковь, знакомая с детства. Вдруг сопровождающий меня священник говорит: «Смотрите, чья могила!» Великолепный мраморный крест, надпись: «Протоиерей Александр Медведский. Ум. в январе 1973 года». И портрет: опять на меня глянуло высокомерное лицо, обрамленное великолепной седой бородой, из-за которой выглядывает драгоценный крест с украшениями.
Я предпочел бы простой деревянный крест и старичка в замусленной одежде ночного сторожа.
В период 1929–32 годов в Питере не было массовых арестов среди духовенства. Этому значительно способствовал крестовый поход, объявленный Папой Пием II в защиту гонимой религии в СССР. Не подлежит сомнению, что этот поход продлил существование русской церкви на несколько лет и отсрочил гибель многих священнослужителей. Правда, в деревнях шло массовое закрытие храмов. Правда, сельское духовенство разделило участь своих прихожан — русских крестьян («кулаков» и «подкулачников»), погибло вместе с ними в лагерях.
Однако в городах было относительно спокойно.
В этом отношении переломным был 1932 год, когда ГПУ нанесло решительный удар по церкви.
Однако и до этого имели место жестокие репрессии против отдельных священников. Так, в 1930 г. были арестованы трое протоиереев: отец Николай Чуков (настоятель Николо-Морского собора), будущий митрополит Григорий, отец Николай Чепурин (из Покровской церкви), отец Михаил Чельцов (настоятель Михаило-Архангельской церкви).
Самой трагической была участь отца Михаила Чельцова. Старый протоиерей был ученым человеком: его специальностью было богословие первых веков христианской церкви. По этой специальности он защитил магистерскую диссертацию и вел курс в Петербургской Академии. Но революция все перевернула: он был в течение долгих лет настоятелем храма Михаила Архангела в Коломне. В конце августа 1930 г. он был арестован. Еженедельно жена носила ему на Гороховую (тогда еще ГПУ было на Гороховой) передачи. Так было до января 1931 г. В январе матушке сказали: «Его у нас нет». «Где же он?» «Не знаем». Матушка поехала в «Кресты» — нет. Она поехала на Нижегородскую — нет. На Шпалерную — нет. Усталая, изнервничавшаяся, она вернулась домой и слегла в постель. На другой день за дело принялась дочь; она начала опять с Гороховой. На этот раз девушка, перебиравшая картотеку, сказала с раздражением: «Да что Вы тут все ходите, спрашиваете, неужели не догадываетесь?» «Как же я могу догадаться», — замирая от ужаса и уже предчувствуя ответ, спросила дочь. «Да расстрелян, конечно. Посмотрите вон там, на доске». Несчастная девушка тут же грохнулась в обморок. К ней подошли стоящие в очереди, подняли, привели в чувство. Картотетчица за перегородкой бесстрастно перебирала карточки. Девушка подошла к роковой доске, на которой был вывешен список расстрелянных.
Как выяснилось, отец Михаил Чельцов был расстрелян в рождественскую ночь, с 6 на 7 января 1931 года. Так окончил свою жизнь этот хороший батюшка в голубых дымчатых очках, с коротко остриженными седыми волосами, ученый и простой, с нервными порывистыми движениями, одетый в простую темную рясу.
Протопресвитер отец Михаил Польский в своей книге «Новые мученики» рассказывает, видимо со слов сокамерников, как легко и просто пошел отец Михаил на казнь. «Детей я уже вырастил — бояться мне нечего», — говорил он, предчувствуя смерть. Это так на него похоже и так гармонирует с его простым и ясным образом.
Отец Николай Чепурин получил 8 лет лагерей. Увидел его через 15 лет, когда он был назначен ректором Московской Духовной Академии. Увы! Ненадолго он вернулся к жизни: через несколько месяцев умер.
Самым счастливым оказался отец Николай Чуков. За него просил сам митрополит Сергий, просил и за двух других, но выпустили его одного. Рано утром, перед обедней, вдруг входит настоятель после полугодового ареста (ночью выпустили!). Что делалось — народ к нему кинулся; целовали руки, рясу, плакали. А он, надев епитрахиль, все такой же аккуратный, сдержанный, вежливый, отслужил молебен перед иконой Святителя Николая и начал литургию.
13 июля 1931 года ознаменовалось в моей жизни важным событием. В этот день я впервые выступил публично на антирелигиозном диспуте. Да не как-нибудь, а в присутствии нескольких сот человек. История этого моего выступления такова.
Однажды папаша (в конце учебного года) пришел в школу осведомиться об успехах своего сына. В вестибюле он увидел огромный плакат: «В середине июня отправление в пионерский лагерь». У отца сразу сработала мысль: бесплатная дача. Он обратился ко мне: «Почему бы тебе не поехать?» «Что ты? Я же не пионер и не комсомолец». «Чепуха! Мы это все устроим». И тут же пошел к старшему пионервожатому. «Мой сын не пионер и не комсомолец, и вот докажите ему преимущества коллективизма, вовлеките его — возьмите в пионерлагерь».
Старший пионервожатый, польщенный, что солидный человек обращается к нему с просьбой, тут же согласился. И через месяц я уже ехал в сопровождении отца и Екатерины Андреевны в пионерлагерь.
Пионерский лагерь был расположен по Варшавской железной дороге, за Сиверской. Станция называлась «Строгановка», и в пяти километрах от нее — село Орлино, где помещался лагерь. Когда-то в этих местах было имение графа Строганова, по преданию здесь гостила императрица Елизавета Петровна. И местное население показывало камень в форме пня. Предание гласило, что однажды императрица во время прогулки уселась на пень — и пень превратился в камень.
Отец мне купил одежду под «стиль» — красную рубашку с открытым воротом. А под открытым воротом — нательный крест.
Мое появление в лагере произвело сенсацию. Нательный крест — это был, вероятно, редкий случай за всю историю комсомольского и пионерского движения в СССР. Ко мне кинулись с расспросами, убеждениями, уговорами. Так продолжалось ровно месяц. Наконец, к концу месяца (пребывание в лагере — 25 дней) кому-то пришло в голову устроить диспут. В это время диспутов уже не было, но память о них в народе еще была свежа. Он был назначен 13 июля вечером. Под широким дубом, на лужайке, собрались ребята. Сначала только старшие — человек сто, а потом собрались и все остальные — человек 400–500.
Надо сказать, что организатор диспута — по молодости лет — совершил ошибку: он предоставил мне слово первому и не ограничил меня временем. Мой оппонент — старый учитель, проживавший в лагере в качестве «затейника», — была такая должность, позволявшая учителям проводить лето в лагере, — получил слово уже после меня.
Помню первый момент. Стою, скрестив руки на груди (я еще ко всему прочему был помешан тогда на Наполеоне), и не могу начать — страх. Все на меня смотрят с недоумением. И вдруг, как во время купания — собрался с силами — окунулся — почувствовал, что меня слушают, и речь пошла легко и гладко. Я по существу сделал монтаж из слышанных мною проповедей: Введенского, Боярского, Медведского. Получилось здорово. В конце речи я почувствовал настоящее вдохновение — потерял из виду аудиторию и заговорил своими, ни у кого не заимствованными словами. «Великую правду услыхал император Константин: Знаменем сим победишь. Именно этим знаменем — знаменем любви и страдания — мы победим!»
Мне аплодировали. Выступление оппонента, составленное по «Спутнику антирелигиозника», оказалось бледным и слабым. От заключительного слова я вежливо отказался, заявив, что не хочу спорить со старшим; однако отвечал на бесчисленные вопросы до поздней ночи и на другой день. «Успех мой первый окрылил!» И даже слишком: после этого я возомнил себя великим оратором, забросил учебу и только и делал, что мысленно произносил речи.
Так, в относительном затишье, прошли 1930 и 1931 годы. Тихие годы. Школа, лавра, храмы, чтение. Вероятно, это были два единственных таких спокойных года в моей беспокойной жизни.
1932 год опять все перевернул и у меня, и вокруг.
1932 год. Страстная пятница русского монашества
Уже первый день нового 1932 года начался необычно. Я решил поехать в настоящую обитель — испытать иноческое житие.
Я ушел рано утром, оставив отцу и бабушке подробное письмо, где указывал, куда именно я еду, и просил меня не искать. Тем более, что сейчас все равно наступают каникулы.
В какую же обитель я направил свой путь? Всякий, кто когда-либо ездил из Питера в Москву, знает, что первая станция (100 км от Питера) — Любань. Это небольшой городок, тогда еще весь деревянный, однако с хорошей каменной церковью Петра и Павла. Мало кто знал и тогда, что в 20 км от Любани, затерянная в глухих лесах, среди болот, находилась Макарьева пустынь. Примечательна судьба этой обители.
В XIII веке в Новгород пришел с запада чужеземец, преп. Антоний, прозванный Римлянином, он основал обитель под Новгородом и стал одним из самых популярных новгородских святых. Однако пришел он не один. С ним пришел и его товарищ Макарий, которому не понравилась жизнь около шумного, многолюдного Новгорода, — и он ушел в почти непроходимые леса новгородские и здесь построил свою келейку и часовню. Вскоре к нему стали собираться иноки, и совместно с ними построил он небольшую церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Здесь его погребли. Вскоре умерли и немногочисленные его ученики — преемников у них не нашлось, т. к. болота и лес не привлекали сюда людей, и лишь осталась от преп. Макария память в святцах (15 августа — в день успения) и небольшая часовенка над его мощами, почивающими под спудом, приписанная к ближайшему приходу — в 7 верстах, в соседнем селе.
И вот, неожиданно в 80-е годы зажила пустынь новой жизнью. В это время в Петербурге, в лавре, подвизался знаменитый противораскольничий миссионер иеромонах Арсений. Человек энергичный, вдумчивый, глубоко религиозный, он резко отличался от обычного типа тогдашних казенных миссионеров. Его диспуты со старообрядцами привлекали многочисленных слушателей, его имя часто упоминалось в газетах; его знал и уважал сам Победоносцев.
Отцу Арсению пришло на ум основать миссионерскую обитель, которая должна соединять строгое иноческое житие с миссионерской ревностью — так сказать, проповедовать и словом и делом. Стал искать отец Арсений, как осуществить свою мысль, и вспомнил о когда-то существовавшей, давно всеми забытой пустыни. Он начал хлопоты. Благодаря Победоносцеву, ему удается получить от Синода разрешение на восстановление старинной обители со строгим афонским уставом. Так воскресла из мертвых древняя пустынь.
Уже в XX веке Макарьева пустынь представляла собой обширную обитель с каменным храмом, с 4-мя каменными корпусами, с братией из 200 человек, с гостиницей для богомольцев и привлекала огромное количество паломников.
Сам отец Арсений окончил жизнь вдали от обители. Когда на Афоне (в русских обителях) появилось учение «имябожцев», туда послали опытного миссионера игумена Арсения. И о ужас! Сам миссионер перешел на сторону имябожцев и стал одним из главных их апологетов. Вследствие этого он разделил их печальную судьбу: подвергся репрессиям со стороны епископа Никона, явившегося на Афон с солдатами, и вернулся в Россию уже не в качестве настоятеля обители, а духовного узника…
А обитель продолжала жить, и даже революция ее пощадила: уж в очень непроходимых местах она стояла; ничего здесь нельзя было организовать. Так и простояла до 1932 года, и я был едва ли не последним ее паломником.
Приехав в Любань и напившись чаю в доме крестьянина (частных чайных уже не было), пошел я в 20-градусный мороз по указанной мне дороге. Верно, плохо бы мне пришлось в моих городских ботиночках и галошках, если бы не окликнул меня мужичок в санях: «Эй, парень, куда идешь?» «В монастырь». «Давай подвезу. Сам еду в тот край». И, усадив меня в сани, повез. До чего же веселый мужичок попался. Старый охотник. Все рассказывал мне, как охотился он в этих лесах с молодым помещиком, графом Кочубеем. И какой граф был шутник, балагур, и как они вместе по девкам ходили. У меня от этих рассказов и молитвенное настроение пропало.
Подъехали мы к обители в 6 часов вечера — северная зима, уже совсем темно. Мужичок мой поехал дальше, а мне показал, как пройти к монастырю. Хоть и недолгая дорога — километра два — да по сугробам. Я потерял галошу. По пояс в снегу — и хорошо. По крайней мере жар от рассказов о любовных приключениях графа Кочубея остыл.
Пришел к деревянным воротам, стучу. Открывает монах, смотрит с недоумением: «Кого Вам?» «Отца настоятеля можно?» Повели меня к настоятелю. Архимандрит Никанор. Добродушный, с седой бородой по пояс. Подошел под благословение, сослался на отца Вениамина, на отца Матфея (этот, оказывается, про меня им рассказывал): «Ну что ж, поживи, поживи у нас; отец Конон — гостинник, под его началом будешь».
И я поступил под начало к отцу Конону. Колоритная же была личность отец Конон. Такого уже нигде не встретишь. Было ему тогда 85 лет. Следовательно, родился он в 1847 году. По профессии он был машинистом; водил поезда между Петербургом и Москвой. Лет под 40 окривел на один глаз, затосковал, запил. Посоветовали: сходи к Макарию, помолись угоднику. Пошел недели на две — остался на всю жизнь. Уже доживал 45-ый год в обители. Хороший старик, умный, разговорчивый; любил я с ним разговаривать за чаем.
Он отвел мне келью рядом со своей; спал на кровати без белья, покрывался старой рясой отца Конона. Бывало, уже в три с половиной часа утра будит: «Натолий, вставай, к полунощнице пора!» Идешь, наскоро умоешься, и в церковь. В церкви темно, электричества в обители нет; монахи, как тени, в черных мантиях. Подходишь к раке с мощами преподобного. Два земных поклона, целуешь гробницу; берешь тяжелые вериги преподобного — тяжелую медную цепь с крестом; надеваешь. Так и гнет книзу, хоть и поверх одежды. Последний земной поклон в веригах. И становишься на свое место. Полунощница, утреня. Затем ранняя обедня. Раннюю обедню служил схиепископ Макарий со своим келейником, молодым тогда иеродиаконом Вуколом. После ранней обедни вся братия, кто помоложе, на работу — лес корчевать. Твердое задание получали. Лесоповал. А старики — позднюю обедню служат. Трапеза. Затем часа два работы в обители (я помогал отцу Конону по уборке). А в 4 часа звонят к повечерию. После повечерия — акафист. В 6 часов братия возвращается с работы, в 7 часов — вечерня, парастас перед иконой Божией Матери. Канон покаянный Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю. Вечернее правило. Богослужение оканчивается в 11-ом часу. А завтра в 3 с половиной опять разбудит отец Конон своим строго-ласковым «Натолий!»
Помню разговоры с отцом Кононом. Это живой фольклор. Например, объяснение памятника Николаю I на Исакиевской площади в Питере. Николай I показывает правой рукой на небо. Так вот как дело было. Была в Питере холера. Народ пришел к государю. Государь показывает на небо: «Что я могу сделать? Тут Бог!» Народ в ответ: «Бог-то Бог, да и ты, царь-батюшка, не будь плох!» И задумался царь. Что это значит, — не будь плох. Идет и видит: тащат холерного в больницу. Он потихоньку за ним. Пришел в больницу, спрятался, наблюдает. Вот входит доктор — немец, толстый, в очках, в белом халате. Приказывает санитарам: бултыхните его в ванну. Как бросили его в ванну, — сразу помер. Так же второго, третьего, четвертого. Тогда выходит из-за ширмы царь, приказывает санитарам: бултыхните врача в ванну. Они его за руки за ноги — бросили в ванну, помер. После этого перебил народ всех врачей, и холера прекратилась.
Я много раз вспоминал этот рассказ в период 1953–1958 гг., когда по всей России прокатилась молва, что врачи-евреи травят по больницам людей. Можно только подивиться поистине сатанинской гениальности Сталина, который сумел так мастерски расшевелить старый народный предрассудок. Вероятно, еще будучи где-нибудь в ссылке, слышал рассказ, подобный рассказу отца Конона. И ведь все повторяли о врачах-отравителях еще лет пять после смерти Сталина. В Архангельской области пронесся слух, что «вата заражена сифилисом, а водка раком». В 1959 г. в Кашине я слышал в вагоне рассказ какого-то мужичка: «Хотели меня в больницу положить — не дался! Евреи отравят». В Калязине другой мужичок жалуется: «Баба у меня была — отравили доктора-евреи в больнице».
Как тут не повторить вместе с Пушкиным: «Боже мой! До чего грустна наша Россия!» А ведь очень неглупый и добрый человек был отец Конон! Не тем его поминать!
В обители главным лицом был архиепископ. Примечательна его судьба. Он пришел в обитель, по рассказу отца Конона, молодым пареньком, таким, как я, и с ним отец Конон, как и со мной, дрова пилил. Потом отец Арсений постриг его в монахи с именем «Кирилл». Был он иеромонахом, а после отца Арсения стал настоятелем пустыни. В 1923 г. — в смутное время — рукоположили его епископ Колпинский Серафим и епископ Архангельский Михей во епископа Любанского (тогда без конца рукополагали архиереев, чтоб на случай арестов оставались епископы). А в 1926 г. принял он схиму с именем «Макарий». Жил он наверху, в келейке, и прислуживал ему келейник, иеродиакон Вукол, из местных крестьянских парней. Служил владыка ранние обедни, в приделе, по священническому чину; надевал лишь поверх фелони малый омофор. Ко всем службам ходил в схиме, стоял на клиросе. Спрашивал у отца Конона про меня, что это, мол, за парень? Тот меня учил: «Как подойдешь к владыке под благословение, спроси: Когда, владыко, благословите прийти!»
А я, хотя и много уже тогда видел архиереев, но каждый раз, когда подходил под благословение, — на меня нападала почему-то такая робость, что я молча целовал руку и отходил. Вообще схимников я почему-то боялся; в лавре у нас был тоже схимник — отец Серафим (из гостинодворских купцов), и в Новодевичьем была схимница, мог бы с ними знакомство завести, знали они меня, но робел и стеснялся. Отец Матфей надо мной подшучивал: «Вот приму схиму, ты и меня бояться будешь!» Но так и не пришлось мне никогда говорить ни с одним схимником.
Через много лет узнал я о судьбе схиепископа. После ареста всей братии в 1932 г., схиепископу Макарию и его келейнику Вуколу дали сравнительно малый срок — 3 года. Вернулись в 1935 году, поселились в Чудове (это недалеко от Любани), а во время войны попали в самый фронт. Убежали в соседнюю деревню, жили у кого-то в избушке, голодали. Местность была занята немцами, а Новгородская область — это и в мирное-то время голодный край. Однажды видит старушка, у которой жили схиепископ с келейником, странный сон: как будто подъезжает к ее избе золотая коляска, а в коляске Царица. И говорит Царица: «Здесь у меня старец, очень устал, надо ему дать отдохнуть». А на другой день приходит католический ксендз и говорит: «Я слышал, здесь живет православный епископ с келейником!» Вышел к нему владыка. Поговорили. И ксендз дал совет: пробраться за Псков, в Псково-Печерский монастырь. Взяли котомочки, посохи и пошли. Добрались до Печер, там их приняли с почетом.
Стал схиепископ жить в Псково-Печерском монастыре на прежнем положении, служил ранние обедни. Стал мечтать, как вернется он восстанавливать в третий раз свою родную Макарьеву пустынь. Но не то судил Бог. В 1944 г., осенью, стал владыка готовиться к обедне, стал перед иконами вместе со своим келейником читать правило. А в это время артиллерийский обстрел: крупный снаряд ударил в вековой дуб, стоящий на дворе, рассыпался осколками; один осколок влетел в окно кельи и прямо в горло владыке. Схимник так и упал перед иконами мертвым и был погребен в пещерах монастыря.
Обо всем этом рассказывал мне в 1963 г., в Псково-Печерском монастыре, иеродиакон Вукол — последний из остававшихся в живых монах Макарьевой пустыни. Долго вспоминали мы с отцом Вуколом прошедшие времена, и отец Вукол в заключение сказал: «Все это было и всего этого уже нет!» Через несколько лет он тоже умер — и теперь, вероятно, я один остался из тех, кто помнит Макарьеву пустынь.
В заключение скажу: хорошие были люди. Скромные, тихие, трудолюбивые, религиозные, но без всякой аффектации, без всякой позы, ибо монашеская религиозность всегда такая: смиренная, тихая, самоуглубленная. И свойственна она простым людям. Интеллигент всегда немного позер — он и в религии рисуется, декламирует, смотрит на себя в зеркало. Как хотел избавиться от этого Толстой, и не мог, а простым людям это дается легко и просто.
В Люцерне — городе, где я сейчас живу, — есть древняя обитель ордена капуцинов — Веземлин. Пришел раз туда и ахнул. Макарьева пустынь. Те же монахи, то же у них выражение лица, то же смирение, та же поспешная походка. И даже запах в монастырских коридорах тот же. Мне разъяснили: монахи все из альпийских крестьян, простецы.
Как мало отличаются альпийские крестьяне от новгородских.
Мое пребывание в Макарьевой пустыни окончилось через четыре недели. Отец сначала решил меня не беспокоить. Потом стал скучать, тосковать, сходить с ума. Поехал на разведку — в Любань. В Любани было подворье Макарьевой пустыни, там жило пятеро монахов. Отец приехал туда. Стал расспрашивать что и как. И через несколько дней в пустыни узнали, что отец разыскивает сбежавшего сына, шестнадцатилетнего парня, и парня укрывают в монастыре.
В обители забеспокоились и отправили меня поскорее в Питер. Кстати попросили повезти в Любань, в подворье, продукты. Запрягли мне единственную остававшуюся в монастыре лошадь. На мои отговорки, что я никогда лошадей не видел, был ответ: «Лошадь умная, только что не говорит, — сама тебя довезет».
Еду я в санях, лошадь действительно сама везет. Везет, везет — по лесу, потом свернула на лужайку; батюшки, да ведь опять к монастырю привезла. Я ее повернул обратно. Сделала круг — и опять к монастырю. Так было три раза. Стал я ее хлестать вожжами, а она вдруг понеслась рысью и прямо в стойло. Пришлось мне возвращаться в монастырь пешком. Там поахали, посмеялись, покачали головами — и отец Никанор послал вместе со мной иеродиакона отца Дионисия, — украинца из Полтавщины. Дионисий пришел, посмотрел, выругал меня и перепряг лошадь. Поехали мы с ним вместе. Поздней ночью доехали до подворья. Переночевал я там и поехал рано утром в город.
Что делать дальше? Домой возвращаться не хотелось. И принял я совершенно сумасшедшее решение: переходить границу и идти на Валаам. В Питере были две часовни Валаамского монастыря, расположенного, тогда на финляндской территории. И я решил назавтра с монахами посоветоваться, а пока навестил знакомых. Ночевать решил на Московском вокзале.
Напился чаю в ресторане, потом пошел в зал ожидания, сел на скамейку — вдруг голос: «Здравствуйте, молодой человек, с приездом Вас!» Обернулся. Отец. Оказывается, ему уже сообщили соседи, что видели меня на улице, что я в городе. Стал думать, где я могу быть. Теперь, после монастыря, — соображал папаша, — его потянет туда, где шумно, много народа, где светло и где городская сутолока. Пойти в театр — у него нет денег. Значит, он на вокзале. Поехал на Николаевский вокзал. К ресторану. Я сижу за столом и пью чай. Долго наблюдал за мной — куда я пойду. Увидел, что уселся ночевать на скамейке, в зале ожидания. Тут-то и решил меня поздравить с приездом.
Так окончилась моя монастырская эпопея.
А через несколько недель наступила светлая и страшная дата, страстная пятница русского монашества, никем не замеченная и сейчас почти никому не известная — 18 февраля 1932 года, когда все русское монашество в один день исчезло в лагерях. 18 февраля в Ленинграде были арестованы: 40 монахов из Александро-Невской лавры, 12 монахов из Старо-Афонского подворья, 25 монахов Сергиевой пустыни, пятеро монахов из Киевского подворья (остальные были арестованы еще раньше — в 1930 г.), 10 валаамских монахов, 90 монахинь из Новодевичьего монастыря, 16 монахинь из Леушинского подворья, 12 монахов Федоровского собора, 8 монахов из «Киновии», отделения Александро-Невской лавры за Большой Охтой, монахов и монахинь из различных закрытых обителей, живших в Ленинграде, — около сотни. Всего — 318 человек. Была арестована и привезена в Питер вся братия Макарьевой пустыни (думал ли отец Конон, что ему придется через 45 лет вернуться в Питер в арестантском вагоне?).
По всей Руси прокатилась волна арестов (главным образом, среди монахов). Из белого духовенства был арестован в Ленинграде только лишь отец Александр Медведский (видимо, уж очень намозолил он глаза ГПУ со своими проповедями). Все были отправлены в Казахский край. И из всей этой массы знакомых мне людей вернулось только трое: иеромонах Серафим (Гаврилов), иеродиакон Вукол и ныне здравствующий, единственный оставшийся в живых монах Александро-Невской лавры, иеромонах Симеон (Сивере) — в схиме иеросхимонах Сампсон.
Одновременно в Ленинграде началась дикая вакханалия с закрытием церквей. На одной неделе было закрыто около двух десятков церквей. На Петроградской стороне: Введенская, Матвеевская, Алексия Человека Божия, Иоанна Милостивого, Спаса-на-Колтовской, Николы Трунилы. На Выборгской стороне: Спаса-на-Бочаровской. В Лесном — Тихвинская церковь. В центральной части города — Казанский собор и Спасская часовня у Гостиного Двора. На Песках (старое название той части города, которая находится за Московским вокзалом) — церковь Божией Матери Скоропослушницы и Рождественская церковь. В селе Смоленском — Смоленская церковь, церковь Всех Скорбящих Радости, Михаило-Архангельская церковь. В Александро-Невской лавре все церкви, кроме собора и Духовской церкви. В Московско-Нарвском районе — собор Новодевичьего монастыря и Преображенская церковь. В Коломне — старинное название той части города, которая находится за Мариинским театром — церковь Михаила Архангела и церковь Спас-на-водах. Через два месяца были закрыты также Покровская церковь (в Коломне) и огромный храм Владимирской Божией Матери на Владимирском проспекте, а также Коневское подворье и еще целый ряд церквей. Хотели закрыть тогда и великолепный Знаменский храм против Николаевского вокзала. Спас этот храм академик И. П. Павлов. Поехал в Москву лично. Ему обещали этот храм оставить; он был усердным прихожанином Знаменской церкви — там исповедовался и причащался и считался почетным старостой храма[10].
Все мы очень болезненно переживали этот страшный период; каждый чувствовал себя так, как будто плюют ему в душу; на глазах твоих избивают мать. Ужасное чувство обиды и бессилия. Я его испытал впервые весной 1932 года.
Мне запомнились два эпизода этого времени. У нас в Питере была чудная церковь Спаса-на-водах, построенная на берегу Невы в память Цусимской катастрофы, я упоминал о ней выше. Я помню, как мы с Полей первый раз были в этой церкви в 1925 году. И читали плотно прибитое к дверям объявление, что церковь находится под охраной «Главнауки». Между прочим, церковь эта славилась своим псаломщиком: старый интеллигент в скуфейке, с лорнетом в руках читал действительно чудесно; весь церковный Питер в страстную пятницу собирался слушать его чтение статей на погребение плащаницы. Прихожу туда весной 1932 года, — от церкви осталась лишь западная стена, а на дверях объявление: «Церковь находится под охраной Главнауки». Это был мне первый наглядный урок: не верить советским государственным учреждениям.
Другой эпизод связан с Введенской церковью на Петроградской стороне. Это была одна из самых посещаемых церквей в Питере. В 80-х годах прошлого века она была значительно перестроена и расширена; это была единственная церковь в Питере, которая имела пять престолов. Ее строителем был протоиерей отец Николай Соболев, прослуживший в этом храме 50 лет. В 20-е годы он присоединился к обновленцам и (будучи вдовым протоиереем) был рукоположен во архиепископа. Был, однако, честным обновленцем: ни на кого никогда не доносил, никого не трогал; тихо и мирно продолжал служить в своем храме, живя напротив, в своей настоятельской квартире. В момент, когда храм закрыли, отец Николай был болен воспалением легких. От него тщательно скрывали факт закрытия храма, чтоб не волновать больного. Но вот наступила поздняя питерская весна. Больному стало лучше. Захотелось хоть через окно посмотреть на весну. Будучи один в комнате, он встал с постели, прошел по комнате, подошел к окну и увидел: церкви уже нет — как раз сносят последнюю стену. Это зрелище так поразило его, что он тут же грохнулся на пол. Оказалось, инсульт. Больного парализовало. Через несколько месяцев он умер.
После моих приключений с бегством в пустынь я вернулся в школу. Встретили меня с любопытством, но в общем доброжелательно. Тогда в школе происходила ломка; чуть ли не каждый год все менялось. В это время была семилетка, и наш класс был выпускной; в школу тогда поступали в 8–9 лет, а оканчивали 16-летними юношами и девушками. В июне и я окончил школу.
Отец мне сказал: «Я знаю, ты опять задумал какую-нибудь очередную эскападу; у тебя амплитуда колебаний от Раскольникова до Хлестакова. Но сначала окончи институт. А там делай над собой эксперименты, сколько влезет. Но я должен исполнить свой долг — дать тебе образование».
Я согласился с отцом. Надо было поступать в техникум. Отец выбрал мне Промышленно-Экономический техникум, выпускавший экономистов. Он помещался в бывшем военном министерстве, в том самом здании, у подъезда которого, на одном из мраморных львов, сидел Евгений из поэмы «Медный всадник».
По обыкновению, я не спорил с отцом. Но когда пришел держать экзамен и увидел расписание — черчение, геометрия, — понял — это не для меня. Взял документы. Взял телефонную книгу, стал смотреть, какие в Питере есть техникумы. Увидел: Педагогический техникум им. Ушинского на Большой Посадской улице. Поехал туда, сдал документы. Выдержал экзамены и поставил отца перед совершившимся фактом — он не возражал. Так в 1932 году я избрал себе профессию педагога, профессию, которой занимался долгие годы.
В 1932 году произошло еще одно большое событие в моей жизни. Как-то весной я случайно зашел к одному школьному товарищу — сыну профессора-археолога. Заметил у него на полке ряд хорошо переплетенных книг. На корешках было вытиснено золотым тиснением «Сочинения В. С. Соловьева». О Владимире Соловьеве я уже много в ту пору слышал, но никогда его не читал. Наугад я снял с полки один из томов, раскрыл. Оказалось — «Духовные основы жизни». Первые же строки меня взволновали: это было так не похоже на все, что я слышал и читал до сих пор. Я выпросил у товарища книгу. Вскоре прочел почти всего Соловьева. И он перевернул мою жизнь. Ни один человек не оказал на меня такого сильного влияния, как Соловьев. Я прожил бок о бок с ним жизнь. И теперь, оканчивая ее, я хочу, наконец, разобраться в том, что он дал мне и что он даст грядущему поколению русских юношей.
Рука об руку с Владимиром Соловьевым
Меня всегда считали учеником вл. Соловьева — и нисколько в этом не ошибались. Но ученик — это еще не последователь. Соловьев дал толчок моей мысли. По Соловьеву я проверял каждый шаг своей жизни, с ним советовался, с ним спорил, и сейчас заканчиваю жизнь, как мне кажется, в полном ладу с Соловьевым. И в то же время отнюдь не разделяю многих его взглядов.
Первое ощущение от знакомства с Соловьевым: в душной комнате, пропахшей ладаном и лампадным маслом, открыли окно и впустили свежий воздух. До 16 лет я жил в келье, уставленной лампадами: я был узким клерикалом, фанатичным церковником. «Мир», все, что не было связано с церковью (а церковь у меня полностью отожествлялась с православным духовенством, и даже еще уже — с православным монашеством), для меня было враждебно, чуждо, неприемлемо. Правда, я с детства любил литературу и театр, но внутренне считал это грехом, слабостью, непоследовательностью. Даже приходские церкви я посещал неохотно: настоящей церковью для меня был только лишь монастырь.
И вдруг! И вдруг приходит В. С. Соловьев и говорит, что Христос пришел спасти всех, пришел для того, чтоб создать всеединство. Особенно меня поразило, что и католическая церковь есть не полуязычество, как учили меня с детства православные батюшки, а другая отрасль великого Христова древа. И я сразу бросился в католические храмы — присматриваться, испытывать, изучать. А католическая церковь в Питере в это время переживала ужасное и прекрасное время — время самых страшных гонений. Тогда в Питере было 6 действующих католических церквей. Главным центром католичества был великолепный кафедральный собор св. Великомученицы Екатерины на Невском проспекте, построенный последним польским королем Станиславом Понятовским. Весь облицованный внутри белым мрамором, построенный в духе строгого классицизма, он напоминал античные храмы. Немного смущала меня мраморная статуя Божией Матери, стоящая справа от алтаря: она изображала сильную, пышущую энергией и здоровьем крестьянскую девушку, которая указывает на стоящую у ее ног корзинку с двумя голубями. Уж очень это изображение не гармонировало с православным восприятием Божией Матери. В соборе был похоронен его строитель, король Станислав, проведший последние годы своей жизни в качестве почетного пленника в Мраморном Дворце в Петербурге. На могиле его лежала доска с «рыцарски» лицемерной надписью: «Королю Польши Станиславу, брату и гостю, император Павел».
Большинство прихожан были поляки, и служба (согласно конкордату Ватикана с Пилсудским) совершалась наполовину на латинском, наполовину на польском языках: священнические возгласы произносились по-латыни, все песнопения — на польском языке. Другой великолепной церковью был храм св. Станислава на Офицерской улице (ныне ул. Декабристов).
Существовали также костелы в селе Смоленском, на 23 линии Васильевского острова (бывший женский католический монастырь), маленький храм на Петроградской стороне и храм Парижской Богоматери (французская церковь) в Ковенском переулке — единственная ныне сохранившаяся католическая церковь в Ленинграде. И при этом обилии храмов на весь Питер был только один священник — француз. Все остальное католическое духовенство во главе с епископом было арестовано. Священник не знал ни одного слова по-польски; говорил он только на ломаном русском языке с сильным французским акцентом, так что никто ничего не понимал. Помню одну его проповедь, в которой все время чередовались слова «мой батя», «шатен» (носовое ен) и «ушасни». Только потом я понял, что «батя» означает «братья», «шатен» — сатана, а «ушасни» — «ужасный».
Каждое воскресенье патер объезжал все храмы, из которых каждый отстоял от другого на расстоянии 7–8 км. Кроме того, были католические храмы в пригородах, которые также посещались этим единственным в области священником. Очень трогательно было видеть, как сотни людей часами ожидали в храме прибытия священника, чтоб исповедаться и причаститься, а в ожидании пели трогательные песнопения о Божией Матери на польском языке. Исповедь была также трудным делом, т. к. исповедоваться приходилось на русском языке, и около церковного ящика старушки-польки диктовали грамотеям свои грехи, которые затем переводились на русский язык, чтобы вручить эту бумажку патеру. Помню также, как перед Пасхой 1933 года в храм Великомученицы Екатерины на Невском польские женщины приносили освящать вместо куличей маленькие булочки, а одна старушка принесла освятить ломоть черного хлеба. (Хлеб выдавался по карточкам, и муку достать было невероятно трудно). Во всем этом было нечто трогательное и поэтическое, и чувствовалась большая внутренняя сила, живое религиозное чувство. И все это (параллельно с чтением В. С. Соловьева) располагало меня в пользу католической церкви; я чувствовал глубокое внутреннее родство между двумя церквами. Юноша увлекающийся и порывистый, я увлекся католицизмом, хотя ни на один миг мне не приходила в голову мысль об измене православию: слишком глубока была внутренняя кровная связь с православной церковью, с православной Русью. Однако мысль о соединении церквей крепко внедрилась в мое сознание, и с тех пор не было ни одного мгновения, когда бы я упускал из виду эту заветную цель; не было ни одного дня, когда я не молился бы о соединении двух церквей воедино. Привычные с детства богослужебные формулы — «…о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех»… «И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое», — которые до сих пор лишь скользили по поверхности сознания, повторялись чисто механически, машинально, для меня, благодаря В. С. Соловьеву, неожиданно ожили, приобрели конкретный, действенный смысл.
В католичестве (под влиянием В. С. Соловьева) меня привлекало вселенское единство церкви, независимость от светской власти, сочетание глубокой мистики с практическим смыслом, стремление соединить религиозное чувство с разумом. Снова и снова приникал я к Соловьеву, чтоб уяснить себе будущее церкви; с захватывающим интересом прочел я его книгу «Россия и Вселенская Церковь». И здесь начинается мой спор с Владимиром Соловьевым. Я глубоко воспринял мысль Соловьева о необходимости отличать папизм от папства, средневековое католичество и католическое политиканство от высоких идей господства Царства Божия на земле. Мысль, которая проходит красной нитью через все ранние произведения В. С. Соловьева. Меня нисколько не смущала идея Папы как первого епископа Вселенской Церкви, которому принадлежит не только первенство чести, но который является Верховным Первосвященником (Pontifex maximus) Вселенской Церкви, ее верховным авторитетом. Я, однако, никогда не мог согласиться с той защитой католических догматов, защитой очень поверхностной и неубедительной, которую я находил в знаменитом произведении великого философа, опубликованном на французском языке и удостоившемся благословения Папы Льва XIII. В первую очередь претил моему сознанию догмат папской непогрешимости. Все натянутые объяснения и оговорки, что эта непогрешимость относится только к догматическим определениям, вызывали у меня неприятное чувство своей половинчатостью и неискренностью. Гораздо большее уважение у меня вызывали объяснения простых польских женщин (я говорил и с ними), что Папа беседует лично с Христом и Божией Матерью, которые ему являются, а потому не может ошибаться; это было наивно, но искренно, а потому трогательно. Слушая же объяснения богословов, я никак не мог понять, почему, если Папа может ошибаться в одном, он не может ошибаться в другом. Я не мог понять и того, каким образом Папа, сохранивший неповрежденность (непогрешимость) в вопросах не только веры, но и нравственности, мог не осудить такие ужасные явления, как инквизиция, Варфоломеевская ночь, избиение альбигойцев. А он их не только не осудил, но и одобрил…
Меня умиляло также глубокое почитание Божией Матери католиками. Я также впитал почитание Божией Матери в детстве, вращаясь в среде монахов и монашек. Я особенно чтил икону Божией Матери Скоропослушницы в Питере, на Песках (ныне в Александро-Невской лавре).
Чудесна судьба этой иконы. В 70-е годы прошлого века Петербург пожелал получить благословение от Афона — икону Божией Матери Скоропослушницы. Там приказали послушнику, славившемуся своим искусством, сделать точную копию с афонской иконы. И он написал чудесный лик, но взял небольшого размера доску, не рассчитал места — и копия получилась неполная: только лик Божией Матери и правая рука, приложенная к груди. Младенца на копии иконы не было. Долго думали, как быть, и решили послать икону в таком виде в благословение российской столице. Встретил Питер эту икону и поместил ее в крохотном храме на Песках, на Полтавской улице, слева от Староневского. Любил я приходить в этот храм днем, когда не было богослужения. Темная церковь, лампады. И над всем этим — лик Божией Матери, молодой, чистый, — и такой близкий и понятный. Впоследствии (в 1932 г.) церковь была разрушена, но икону отдали; она перешла в Борисоглебскую церковь на Калашниковой набережной. Там она пробыла три года. В 1935 году, после того, как и этот храм был разрушен, перенесли ее в лавру, в единственный сохранившийся храм — Духовскую церковь. Здесь она пробыла год. После окончательного закрытия лавры перенесли икону в Троицкий собор, на Измайловский проспект. В 1938 году, после закрытия и этого собора, изгнанная икона перешла совсем близко к нам, к Васильевскому острову, — в Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне, у Тучкова моста. Здесь была эта икона 20 лет, а в 1958 г., после возобновления собора Александро-Невской лавры, вновь была туда перенесена. Всюду я ходил за ней. И здесь, у этой иконы, мне открывалась Божия Матерь, такая простая и человечная, и здесь я ощущал Ее покров, Ее заступничество, Ее милость.
И вот, когда я ознакомился с католическим догматом непорочного зачатия Божией Матери, я почувствовал, что этот догмат не приближает меня к Матери Божией, а отдаляет Ее от меня. Ведь если Она еще в утробе матери очищена от всякой возможности греха и, следовательно, грешить не может, то этим отнимается от Нее свобода воли, а следовательно и заслуга чистоты, непорочности, благодатности. Мне было гораздо более по сердцу название одной из икон Божией Матери, чтимой на Руси, — «Мария обрете Благодать» — по словам Архангела. Она обрела Благодать усилием воли, пламенной любовью к Богу и стала Матерью Бога.
Я здесь не имею намерения рассматривать этот вопрос с богословско-догматической точки зрения (я знаю, что возможно и другое толкование), я пытаюсь объяснить, почему католический догмат непорочного зачатия Божией Матери для меня оказался внутренне неприемлемым и я не пошел за Владимиром Соловьевым в католическую церковь.
Не мог я принять и догмата об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (знаменитое Filioque): мне всегда казалось, что Сын и Дух Святой, эти две разные ипостаси Троицы, действуют как бы параллельно, перекрещиваясь и пролагая путь друг другу: Святой Дух, действуя в сердцах людей, озаряя пророков, а затем и Пречистую Матерь Божию, делает возможным появление в мире Сына Божия — Премудрости Отчей — Логоса — в личности Иисуса Христа. А Христос, своим учением, крестной смертью и воскресением, делает возможным восприятие Святого Духа апостолами в день пятидесятницы. Таким образом, Один, рожденный от Отца, а Другой, от Него Исходящий, — открывают миру непознаваемого, неизреченного Бога-Отца. Догмат чистилища мне был, наоборот, близок и понятен, т. к. идея покаяния, возможного и после смерти, соответствовала моему представлению о безграничной любви Божией.
Таким образом я не стал католиком, но и пристрастная, несправедливая православная полемика против католической церкви (у Антония Храповицкого, Беляева, Хомякова и даже у Достоевского) меня отталкивала. Я видел, как католической церкви приписывают те пороки, которые в той же мере, если не в большей, свойственны и православной церкви. Я никогда не мог понять, почему признать власть Римского Первосвященника — это значит уступить «третьему искушению», поклониться князю мира сего, а раболепствовать перед византийскими императорами, а затем перед императорами российскими, которые хотя и были нравственно более чистыми, чем византийские, но тоже оставляли желать с христианской точки зрения (мягко выражаясь) много лучшего, — это значит «устоять перед третьим искушением» и не поклониться князю мира сего. Я также никогда не мог понять, почему установить инквизицию — это значит отказаться от Любви Христовой, а сжигать жидовствующих в железной клетке, как это делали на Руси в XV веке, это значит сохранить любовь. Не мог я также понять и того, почему принять власть Римского Первосвященника — это значит разорвать единство Вселенской Церкви, а разделить Церковь на греческую, русскую, грузинскую, сербскую, болгарскую, румынскую и т. д. — это значит сохранить единство Церкви.
Через очень много лет, поговорив со мной, один литовский священник, с которым я встретился в лагере, мне сказал: «Непостижимо! Вы и не католик и не православный!» Возможно. Зато я сторонник кафолической, подлинно вселенской церкви и так же, как В. С. Соловьев, думаю, что православная церковь не полна без католической, а католическая без православной. И обе они должны признать свои исторические грехи и обновиться во Христе…
Но самое главное в другом. В. С. Соловьев сделал для меня удивительное открытие: учение Христа есть Евангелие Царствия, и Царствие Божие не только на небе, оно должно осуществиться и здесь, на земле. И вся история человечества есть лишь путь к возрастанию Царства Божия в мире, которое строится богочеловеческими усилиями. Это было ошеломляюще, непривычно; вся жизнь, мир, история озарялись отныне новым светом. Для меня, как для исцелившегося от слепоты, все стало восприниматься по-новому. Эта идея, изложенная В. С. Соловьевым в его «Чтениях о богочеловечестве», а затем с предельной полнотой выясненная в двух статьях «О подделках» и «Об упадке средневекового мировоззрения» (в VI томе его «Собрания сочинений»), — как удар грома, как внезапный блеск молнии среди темной ночи. Эта мысль перевернула мою жизнь; это та идея, которой, по выражению Достоевского, я был съеден. И до сих пор я полностью под ее могучим обаянием. Царство Божие — на земле? Я его должен строить. Но как? Но где?
О том, что монашеская церковь, вся устремленная вовнутрь, сосредоточенная на внутреннем, духовном делании, к этому непригодна, у меня не было никаких сомнений. Я ее не отрицал — я перед ней преклонялся, но в то же время не сомневался в том, что она недостаточна, одностороння, доступна лишь ничтожному меньшинству. Церковь приходская — остаток старой России — с ее консерватизмом, воздыханиями о прошлом, рытьем в канонах, со старушками и вечными склоками, еще в меньшей степени соответствовала новой цели, открытой ныне великим философом. И тут рождается в моем уме мысль: обновление!
И сам В. С. Соловьев в своих статьях «Как обновить наши церковные силы», «Воскресные чтения» и других наталкивал меня на это. И я пошел в обновленческую церковь, я стал обновленцем.
Мой приход в обновленчество произошел следующим образом: в Троицу 1933 года — 4-го июня — я отправился к литургии в обновленческий Андреевский собор. Я и раньше заходил в обновленческие храмы, но всегда стоял там, как посторонний наблюдатель, не крестясь и всем своим видом показывая, что я не имею никакого отношения к обновленческому богослужению. «Точно пристав в синагоге во время молебна о царе», — говорил один мой товарищ. Теперь впервые я пришел в обновленческий храм как молящийся. Служил архиепископ Николай Платонов, о котором я уже упоминал раньше. За литургией и во время молитв Пресвятой Троице я горячо молился о том, чтоб Господь осенил меня Святым Духом и показал мне, куда мне идти. Платонов, которого я не видел перед этим 5 лет, только что вернулся из Крыма. Загоревший и посвежевший, он выразительно читал положенные молитвы, однако особенного впечатления на меня не произвел. Но здесь я услышал новость: через неделю, 11 июня 1933 г., в Ленинград прибывает Введенский, который совершит в Вознесенском соборе литургию. Это было сенсационно.
К тому времени слава Введенского, столь ярко разгоревшаяся в 20-е годы, значительно померкла, или, точнее, была притушена. В 1929 г. диспуты прекратили. Введенскому «посоветовали» из Москвы никуда не выезжать. В 1931 г. был взорван храм Христа Спасителя, последним настоятелем которого был Введенский. Ему было еще разрешено проповедовать, но проповедь эта сосредотачивалась лишь в храме Петра и Павла на Басманной (в Москве). Однажды он должен был приехать в Питер (в 1930 г.) служить в Казанском соборе, но за несколько дней было объявлено, что митрополит Александр заболел гриппом, а потому богослужение откладывается. И вот именно теперь, когда я весь захвачен идеей обновления церкви, приезжает знаменитый обновленческий иерарх. 11-го июня, спозаранку, я отправился в величественный Вознесенский собор, на месте которого сейчас высится уродливое помещение школы (здание казарменного типа), на бывшем Вознесенском проспекте (ныне проспект Майорова). К 10 часам собор был набит народом (знаменитого проповедника пришли послушать все — и староцерковники, и обновленцы). Служба проходила с византийским великолепием. Вместе с обновленческим митрополитом служило четверо иерархов: неизменный Николай Платонов, архиепископ Лужский, архиепископ Тихвинский Михаил Попов, архиепископ Петергофский Макарий Торопов и архиепископ Ладожский Вениамин Молчанов, а также 40 обновленческих священников. В соборе присутствовало не менее 7–8 тысяч человек. В конце литургии, перед отпуском, на кафедру проповедника (в питерских храмах по образцу католических справа от алтаря высилась кафедра проповедника) взошел прославленный оратор. Я протискался почти к самой кафедре. Все взгляды устремились на человека в сверкающей митре, с актерски бритым лицом, с архиерейским посохом в правой руке. Он заговорил. У него был тенор, очень звучный, наполнявший собор. Начал в бытовом тоне, с заверения, что рад был служить литургию в этом храме. Потом заговорил о том, как образ Христа продолжает притягивать к себе взоры и сердца людей во всем мире. В этой связи он напомнил о только что вышедшей на немецком языке книге лейпцигского профессора Лоофса о Евангелиях. Все более воодушевляясь, процитировал слова Лоофса, что Евангелия, подобно чистым водам, отражают лик Христа. А затем воскликнул: «Но вот заходит речь о явлении Христа в исторической церкви, и здесь начинаются горькие слова проф. Лоофса: церковь, по его мнению, отражает лик Христа как бы в замутненных водах». Проповедник взволнован, посох отставлен как ненужный, начинается нервная жестикуляция, наперсный крест и панагия заметно подпрыгивают на его груди. Он начинает обзор всех церковных течений. Сначала говорит о католической церкви; ссылается на журнал, издающийся в Лионе «Journal apologue». Там говорилось (ссылка на № и дату), что целью церкви является «suretat» (сверхгосударство). Горячая тирада о подмене понятия церкви понятием государства, о порче церкви, о гниении и оскудении церкви, затем переход к протестантству. Упоминание о характерном эпизоде, происшедшем в Германии, когда один пастор с кафедры отрицал воскресение Христа и был за это лишен сана, что вполне понятно и естественно, ибо тот, кто отрицает главнейший догмат веры, конечно не может быть христианским священником. Но вот началась в протестантской церкви кампания в защиту неверующего пастора, причем огромное большинство высказывалось за то, что всякий пастор может веровать или не веровать в Воскресение Христово. Тирада о тепло-хладности, об оскудении благодати, об иссякновении Духа Святого в церкви. «Но от запада, где солнце заходит, я обращаю свой взор на восток, где солнце восходит». (Какая-то женщина, стоящая рядом со мной, улыбаясь, тихо говорит: «Он коммунист».) Но ошиблась — речь идет о другом: «И здесь я вижу солнечные образы: вот прямо передо мной икона — Василий Великий, а вот (широкий жест) Иоанн Златоуст, а там (немного поодаль) Святитель Николай. Но, когда я свожу свой взгляд с икон, смотрю на живых людей, я вижу иное. Знаменитый немецкий богослов Гарнак когда-то говорил, что история византийской церкви есть история больших и малых монашеских ссор». Далее — резкое обличение цезарепапизма, консерватизма, обрядоверия. И наконец оратор переходит к современности: он говорит о том, что ему трудно выразить сущность староцерковничества в единой формуле. Он долго искал определения и пришел к выводу, что главной чертой староцерковничества является «бесформенность». Блуждающее богословие (по выражению Мечникова), жалкие попытки зацепиться на каких-то рубежах, вечная недоговоренность и искание компромиссов. Но не так учил Христос. Христос говорил: «Тот, кто кладёт руку свою на плуг и обращается вспять (к suretat, к древним обрядам), не надежен для Царствия Божия». И Царствия Божия ищут обновленцы. Но кто такие обновленцы? Для одних это страшное слово: не ходи сюда — здесь обновленцы! А для других это слово — источник великой радости. И вдруг истошный крик: «Ты обновленец, христианин! Радуйся и торжествуй!» Проповедник весь меняется в лице, жестикуляция становится столь динамичной, что (кажется!) у него четыре руки; видно, что весь он дрожит мелкой дрожью. Его экзальтация передается толпе. Слышатся выкрики: «Христос воскресе!» А голос оратора раздается во всех уголках храма: «Мы не говорим вам: идите за митрополитом Введенским, за каким-либо другим религиозным вождем и идеологом. Мы говорим вам: идите за Христом, ибо только в нем Свет, Истина и Красота, и Его благословение, Его ласка да будут с нами!» И задыхающимся голосом он произносит литургические слова: «Благословение Господне на вас, Того Благодатью и Человеколюбием».
Я вышел из Вознесенского собора обновленцем. Так неожиданно В. С. Соловьев толкнул меня в объятия обновленческой церкви.
Обновленчество, однако, — лишь один из аспектов моего «соловьевского» развития. Другой аспект — политика. Если Царство Божие на земле, то значит и политика есть строительство Дома Божия. Тем более, что сам В. С. Соловьев говорит о христианской политике, о теократии. До этого я был довольно равнодушен к политике, хотя и следил с детства за газетами. Но теперь… теперь я почувствовал необходимость определить свое отношение к политической жизни. Тем более, что 1933 год был годом завязывания новых страшных узлов в жизни мира. Только что (29 января 1933) в Германии к власти пришел Гитлер. В России в это время была завершена первая пятилетка. Положение несколько стабилизировалось, стало ясно, что сталинский режим победил, установился надолго. Владимира Соловьева я читал в контексте 30-х годов. Должен сказать, что эсхатология В. С. Соловьева («Три разговора») меня особенно не привлекала. Я был непоколебимо убежден в молодости мира, в том, что миру еще предстоит жить тысячи и тысячи лет. Мне нравилось изречение Джинса (знаменитого астронома), который сравнивал все то время, которое существует человечество, с почтовой маркой, а время, которое ему предстоит прожить, с рядом марок вышиною в Монблан. Я и сам тогда был молод, и мысль о смерти почти никогда не посещала меня. Теперь я стар. Прожита жизнь, не за горами смерть. И все же ощущение молодости мира меня не покидает. Жизненный опыт подтверждает это: слишком глупо человечество, слишком оно мало знает и слишком много в нем энергии, слишком много в нем жизненных сил. Как мне кажется, человечеству сейчас столько же лет, сколько мне было тогда — 17, и стоит оно на пороге совершеннолетия. Но Царствие Божие воплощается в гармоничном обществе, оно несовместимо с неравенством, с нищетой, с властью богатых и сильных. И тут я очутился на пороге социализма. Слово «социализм» в России тогда еще не приобрело зловещего оттенка, которое ему придала ежовщина, оно не было еще опошлено в той мере, как сейчас. К счастью, тогда еще не говорили, что социализм построен; его еще только строили, и слово это еще не утратило в России того романтического и героического обаяния, которое придали ему поколения революционеров-народников.
И тут же я вступил в спор в В. С. Соловьевым. Особенно раздражала меня его критика социализма в «Критике отвлеченных начал». У меня сохранился экземпляр II тома собрания сочинений В. С. Соловьева с моими тогдашними пометками. Пометки носят порой грубый характер: в том месте, где В. С. Соловьев призывает враждующие классы «добровольно и сознательно ограничить свой субъективный интерес в пользу всех» и «самоограничиваться»(т. II, стр. 142), я делаю пометку: «куда же рабочему дальше „самоограничиваться“? Портки с себя снять и отдать капиталисту, что ли?» Это замечание очень характерно: если В. С. Соловьев подходил к проблеме социализма с точки зрения представителя верхних классов (тут требование «самоограничения» вполне логично), то мне (несмотря на мое буржуазное происхождение) гораздо ближе были представители пролетариата, простой народ, крестьяне. И я подходил к проблеме социализма именно с их точки зрения. Я подчеркиваю и означаю восклицательным знаком то место (стр. 131)[11], где Владимир Сергеевич говорит о безнравственности плутократии, т. к. для нее человек — прежде всего обладатель капитала. Однако там, где В. С. Соловьев говорит о том, что социалист так же, как и плутократ, ставит на первое место экономику и потому стоит на одной почве с представителями ненавистного ему «мещанского царства», я делаю пометку: «Социализм не цель, а только предпосылка». Такое же замечание на стр. 139, где сказано: «Между тем социализм, требуя общественной правды и вместе с тем ограничивая все интересы общества экономической сферой, как бы говорит каждому: высшая цель общества есть материальное благосостояние, но ты не должен стремиться к личному обогащению, а прежде всего заботиться о благосостоянии всех других». Я пишу: «предпосылка, а не цель». На целый ряд размышлений меня наталкивает следующее рассуждение В. С. Соловьева: «Итак, признание безусловного значения личности, признание, что человеческое лицо как таковое заключает в себе нечто высшее, чем всякий материальный интерес, — есть первое необходимое условие нравственной деятельности и нормального общества. Социализм, по-видимому, признает эту истину, поскольку он требует общественной правды и восстает против эксплуатации труда капиталом». (Я ставлю в знак одобрения восклицательный знак). Однако ниже, где В. С. Соловьев пишет, что с точки зрения социализма «…полное определение человека будет такое: человек есть производитель и потребитель экономических ценностей, или существо, стремящееся к материальному благосостоянию», я ставлю на полях замечание: «стремящееся к необходимому минимуму материального благосостояния». «Критика отвлеченных начал» меня чуть было не поссорила с моим учителем; зато «Чтения о богочеловечестве» меня с ним полностью помирили. Здесь я прочел: «И во-первых, я не буду опровергать социализм. Обыкновенно он опровергается теми, кто боится его правды. Но мы держимся таких начал, для которых социализм не страшен. Итак, мы можем свободно говорить о правде социализма. И прежде всего он оправдывается исторически, как необходимое следствие, как последнее слово предшествующего ему западного исторического развития». (Т. III, стр. 5). И совершенно пророческими мне казались следующие слова: «… когда на западе (оказалось, что на востоке. А. Л.) социальная революция достигнет победы и, достигнув победы, увидит бесплодность этой победы, увидит свою собственную несостоятельность, невозможность основать согласный и правильный общественный строй, осуществить правду на основаниях условного преходящего бытия, когда западное (оказалось, что не только западное!) человечество убедится самим делом, самою историческою действительностью в том, что самоутверждение воли, как бы оно ни проявлялось, есть источник зла и страдания, — тогда пессимизм, поворот к самоотрицанию перейдет из теории в жизнь, тогда западное человечество будет готово к принятию религиозного начала, положительного откровения истинной религии». (стр. 14).
Таким образом, социализм — устранение социального неравенства и несправедливости — есть диалектический момент в истории человечества. Достигнув этого порога, человечество убедится в его недостаточности и взыскует «вышнего града» — и придет к Христу, наступит истинный Христов социализм. Так, под влиянием В. С. Соловьева, я пришел к христианскому социализму. Христианским социалистом я остался навсегда. На благодарную, вполне подготовленную почву пали и все статьи Соловьева, где он выступает против «победоносцевщины», против всякого мракобесия, против квасного патриотизма; за свободу личности, за права человека. Несмотря на то, что я рос в монархической среде (и отец, и большинство церковников были монархисты), я никогда не сочувствовал монархической идее. Еще в детстве я терпеть не мог никакого деспотизма и никакой единоличной власти. Достаточно было лишь одного толчка, чтобы стать из стихийного демократа демократом сознательным. Таким толчком послужили для меня публицистические статьи В. С. Соловьева. Демократом я остался на всю жизнь.
Таким образом, В. С. Соловьев меня совершенно «испортил». Из тихого, религиозного мальчика, полупослушника, я превратился в обновленца, христианского социалиста и демократа. Но этого мало. Вкусив Соловьева, я бросился с головой в омут немецкой философии. И, наконец, достиг Гегеля. Читать его было невыразимо трудно. Как совершенно правильно говорил С. Н, Трубецкой, Гегель — гениальный философ и бездарный писатель. Всякую мысль он стремится выразить, как будто нарочно, так, чтоб она была как можно менее понятна. Получается, как в армянском анекдоте: «Зеленый, длинный, висит в гостиной и пищит. — Что это? — Селедка. — А почему висит в гостиной и пищит? — А это, чтоб ты не догадался!» За «Науку логики» я принялся и бросил — ничего не понимаю, хоть тресни. К счастью, попалась «Феноменология духа». Это нечто более понятное и увлекательное. Более того, я обнаружил, что это перевод Екатерины Димитриевны Аменицкой, которая была заведующей школы, когда я начинал учиться, и дружила с моей бабушкой. Узнал ее адрес и нагрянул к ней на дом: «Екатерина Димитриевна! Помогите!» Милая старушка была уже на пенсии. Приняла меня ласково и помогла. Порекомендовала читать Куно Фишера, а потом уже приниматься за Гегеля. Фишер! Фишер! Целыми днями просиживал я в публичной библиотеке и читал Фишера. Великий ученый и великий писатель. Его книги о Шеллинге, Фихте, Гегеле читаются, как увлекательный роман. В простых и ясных словах он изложил мне всего Гегеля, и потом я уже не боялся и самого Гегеля. И наконец (хотя и не без труда) одолел «Науку логики». Герцен говорит, что всякий человек, который не прошел через Гегеля, неполноценен. Как он прав!
Гегель не просто философ: Гегель творец нового видения мира. И таким новым видением мира является диалектика, которая учит рассматривать все, происходящее в мире, в движении, в противоположности, в противоречии. Нет ничего стойкого, застывшего; все совершенствуется, меняется, переливается из одного состояния в другое, чтобы в конце концов соединиться во всеединство — в то, что Гегель называет абсолютной идеей, В. С. Соловьев «всеединством». И что мы, христиане, называем Небесным Иерусалимом. Принимая гегелевское диалектическое видение мира, я, разумеется, ни на минуту не принимал его пантеизма. Я всегда оставался верующим христианином. Однако гегелевское объяснение истории как движения абсолютного Духа, движения целенаправленного и закономерного, лучше всего подтверждало для меня телеологизм истории — явление Бога в развитии мира.
И наконец, марксизм. После Гегеля я перешел к Марксу, Энгельсу, Плеханову, Мартову, Каутскому, Ленину. Затем особый интерес у меня вызвала история коммунистической партии. Тогда в публичной библиотеке еще выдавали находящиеся ныне под запретом стенограммы съездов ВКПб; газеты и журналы периода борьбы с оппозицией. И я жадно их проглатывал. Стенограммы съездов особенно интересны: они полны драматических деталей, читая их (все реплики, выступления по личному «вопросу»), узнавая о всех колкостях, взаимных оскорблениях, инцидентах, вы чувствуете каждого человека, ощущаете ритм эпохи, переноситесь в ту атмосферу. Это ценнейший исторический документ; недаром сейчас они под строжайшим запретом.
И через все это я прошел рука об руку с моим «Вергилием» — В. С. Соловьевым, руководствуясь следующим его высказыванием: «Нельзя же отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков совершился в духе человеколюбия и справедливости, т. е. в духе Христовом. Уничтожение пытки и жестоких казней, прекращение, по крайней мере на Западе, всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение феодального и крепостного рабства — если все эти преобразования были сделаны неверующими, то тем хуже для верующих. Те, которые ужаснутся мысли, что Дух Христов действует через неверующих в Него, будут неправы даже со своей догматической точки зрения. Когда неверующий священник правильно совершит обедню, то Христос присутствует в таинстве ради людей, в нем нуждающихся, несмотря на неверие и недостоинство совершителя. Если Дух Христов может действовать через неверующего священнослужителя в церковном таинстве, то почему он не может действовать в истории через неверующего деятеля, когда верующие изгоняют Его? Дух дышит, где хочет. Пусть даже враги служат Ему. Христос, нам заповедавший любить врагов, конечно, сам не только может любить их, но умеет пользоваться ими для Своего дела». (В. С. Соловьев, т. VI, стр. 392).
И в то же время марксизм мне был глубоко противен как философская теория своим самоуверенным отмахиванием от самых главных вопросов жизни. Диалектический же материализм как философская система для меня был попросту смешон. Прежде всего, я никак не мог понять, каким образом можно связать диалектику, которая все рассматривает в динамике, в проникновении противоположностей, с материализмом — философией, которая все сводит к единой субстанции — материи, все из нее выводит, с нее начинает и ею кончает. Если материализм — так не диалектический; если диалектический — так не материализм. Далее, я никак не мог понять, каким образом, если все течет, все развивается и абсолютной истины нет, — почему вдруг эта истина воплотилась в лондонском экономисте и литераторе, а затем уже окончательно осуществилась в «лысом дяденьке», родившемся на берегах Волги в 1870 г., и почему всякое сомнение в их непогрешимости немыслимо и невозможно. В то же время я не мог не видеть относительной правоты многих марксистских положений. Я до сих пор не понимаю, как можно отрицать теорию прибавочной стоимости, которая подтверждается столь очевидно жизнью на каждом шагу (особенно в Советском Союзе, где обсчитывание рабочего является основой всей экономики), как можно отрицать наличие классовой борьбы. Социализм мне (как и В. С. Соловьеву в цитированном выше отрывке) представлялся закономерным итогом всего исторического развития, историческим этапом, через который должен был пройти мир. Я не мог не признать много положительного и в советской действительности: ликвидация социального неравенства, повышение культурного уровня (это были годы ликвидации неграмотности). В то же время методы грубого насилия, варварского уничтожения религии, насаждение подхалимства были налицо.
Не довольствуясь книгами, я обратился к живому свидетелю — к Екатерине Димитриевне Аменицкой (старой политкаторжанке), члену Общества старых политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Чудесная была старушка. Быстрая, тоненькая, как девочка, кривая на один глаз, аккуратная, подтянутая, когда надо — строгая и крикливая, и необычайно добрая. Бестужевка (выпускница Бестужевских курсов), пошла она в революцию. Стала участницей народнических кружков, ходила в народ, угодила на каторгу (примыкала к эсерам), вернулась после 1905 г., перешла к народным социалистам, вернулась к учительской работе, переводила Гегеля. После революции заведовала в течении 13 лет школой при университете, где я начинал свою учебу. Здесь-то и познакомилась и подружилась с моей бабушкой. В 1930 г. (как беспартийная) была отставлена от заведования, одно время преподавала биологию. Беседы с Екатериной Димитриевной многое мне дали и многое для меня уяснили. Она боготворила народ и в то же время не делала никаких иллюзий: народ темен, дико невежественен, тонет в пьянстве, и никто практически с ним не работает, никому до него дела нет. Его подавить, увлечь, обмануть ничего не стоит. Надо с ним работать, надо отдать ему душу, не ожидая никаких непосредственных результатов, никакой благодарности, никакого отклика. Пройдет очень, очень много времени, пока наша деятельность даст свои плоды. «И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя»[12]. Знамя свободы, равенства и братства. И только тогда установится настоящий демократический строй. Народ отбросит все ложное, гнилое, сохранит все ценное. Но только тогда, когда он станет просвещенным, никак не раньше, поэтому надо идти в народ, нести ему знания, отдавать ему душу. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ев. от Иоанна, 15, 13).
Я понял и принял этот конечный вывод «мудрости земной» и решил по этому принципу построить свою жизнь. А В. С. Соловьев, я уверен, полностью одобрил бы мое решение.
Тревожная юность
Итак, весна 1933 года, осенью мне должно исполниться восемнадцать лет. Я студент (тогда мы так назывались) Педагогического техникума (тогда он тоже так назывался). Теперь он называется Педагогическое училище. Когда-то я был высоким, выше своих сверстников, но в 15 лет рост остановился; я маленький, щупленький, чернявый, некрасивый. Лицо в прыщах. Очень застенчив. Товарищей не имею: с школьными товарищами пути разошлись; в техникуме ни с кем не подружился. Держусь особняком (считают — от гордости, на самом деле — от застенчивости). Иногда пытаюсь заговаривать с девочками и даже ухаживать, копирую манеры отца в разговоре с женщинами, но они не обращают на меня никакого внимания. Очень нервен. Плохо сплю ночами. Живу в одной комнате с бабушкой. Она мне готовит, стирает, меня обслуживает. Но я ей часто грублю. С отцом и Екатериной Андреевной (мачехой) очень мило беседую: отец, который тоже ото всех отдалился, называет меня «единственным знакомым». Мы действительно знакомые: живем разной жизнью. Я бываю на их половине только по вечерам и тогда, когда отец позовет. (Зовет меня, впрочем, каждый вечер, когда я дома).
Став обновленцем, я сразу начал действовать — решил поступить в обновленческую Духовную академию. Увы! Это оказалось невозможным: в 1933 году прием в нее был прекращен. Она доживала последние дни своего существования. Добился, однако, того, что мне (к ужасу отца) стали высылать конспекты лекций и списки рекомендованной литературы. К этому времени относится мое знакомство с Платоновым, Введенским и (как это ни странно) более тесное общение с епископом (будущим митрополитом) Николаем. Начало своего знакомства с обновленческим архиепископом Николаем Платоновым, имевшее малоприятные последствия, мною описано в моих воспоминаниях «Закат обновленчества». Все-таки вернусь к этому опять.
3 июля 1933 года, понедельник, страшно жаркий день. Я в своей черной рубашке — косоворотке на выпуск, подпоясанной узким ремешком (пиджаков я еще не носил). Поднимаюсь по лестнице на второй этаж дома.№ 11 по 6 линии Васильевского острова. На дверях объявление с надписью: «Архиепископ Лужский Николай Платонов принимает по понедельникам с 10 до 2 часов». Долго стою у дверей. Слышу, как бьется сердце. Не могу решиться позвонить. Обыкновенная дверь в коммунальную квартиру: табличка с перечнем жильцов (кому сколько раз звонить). Отдельный звонок; над ним дощечка: «Звонить к архиепископу Николаю». Перекрестясь, нажимаю на пуговку звонка. Дверь тут же раскрывается. На пороге — маленькая старушонка, безвкусно, по-мещански одетая, в пенсне, с неприятным лицом. Резким тоном: «Кого Вам надо?» Заикаясь от робости, отвечаю: «Я бы хотел видеть владыку». «Как Ваша фамилия?» «Анатолий Левитин». Проходит по коридору, стучит в какую-то дверь. «Вас спрашивает какой-то гражданин Анатолий Левитин». Из-за двери сильно гнусавый баритон: «Пусть подождет». Старушонка — сердито: «Пройдите, подождите!» Прохожу направо. Видимо, была столовая. Стоит буфет, круглый стол. На стене портрет хозяина. Откуда-то от окна бесшумно встает молодой человек маленького роста, рыжеватый; манеры консисторского чиновника, неопрятный; взглянув ему в лицо, невольно вспоминаю гоголевский эпитет: «кувшинное рыло». (Это теперь уже покойный будущий профессор Ленинградской Духовной академии — А. Ф. Ш.). В руках у него книга. Тихо: «Распишитесь». Книга аккуратно разделена на 3 графы: «Фамилия. По какому делу. Ориентация». Взяв перо в руки, сразу ощущаю прилив смелости, робость изчезла. Пишу: «Анатолий Левитин. По личному делу. Христианский социалист». Старушонка заглядывает мне через плечо, и первый раз на ее тонких губах появляется улыбка.
Часы отбивают половину одиннадцатого. Из коридора слышится голос: «Кто меня спрашивал?» Старушонка говорит: «Идите!» Иду по коридору. На пороге стоит «он», которого я с детства привык видеть в золотом облачении, в облаках кадильного дыма. Теперь он просто в рясе. Из-под широких рукавов выглядывают манжеты с запонками. Подхожу под благословение. Спокойно: «Пройдите!» Кабинет.
На письменном столе — «Известия» и «Ленинградская Правда». На стене портрет тогда уже покойного митрополита Вениамина Муратовского. «Кто Вы такой?» — указывает мне на табуретку, сам садится в кресло. Начинаю: «Я попрошу у Вас, Владыко, несколько минут внимания». Быстро овладеваю собой, начинаю говорить о своих взглядах. Бесстрастно слушает. По лицу нельзя судить о впечатлении. Но вот я говорю: «Я говорил со многими староцерковными священниками». Здесь хозяин прерывает молчание: «А конкретно с кем же именно?» Я называю ряд имен. Слушает внимательно, уточняет фамилии. Я продолжаю. Кончил. Пауза. Несколько вопросов: «Ваше имя отчество». «Из какой семьи?» «Я спрашиваю потому, что хочу понять, откуда такая религиозная стихия». Затем начинается разговор по существу: «Насколько я понимаю, обновленчество возникло вовсе не для того, чтобы фиксировать то, что давным-давно зафиксировано в христианском социализме. Обновленчество вовсе не хочет вмешиваться в политику. Ну вот мы всмотримся, что они там делают. Скажем: „Ну, что вы там такое строите, как вы строите? Нет! Вы строите совсем не так“. И партия нам ответит так, как ответила троцкистам. Или мы скажем, что тоже хотим строить социализм. Вот видите, уже при одной этой фразе у Вас на лице улыбка. Я думаю, что такая же улыбка будет на всех лицах, начиная с товарища Сталина. Мы, конечно, сходимся и с коммунистами, и с социалистами, но только где-то на очень большой глубине: там, где речь идет о новом Иерусалиме и о браке Христа с церковью».
Я начинаю говорить о борьбе церкви с несправедливостью, со всяким социальным злом.
Говорю взволнованно. Постепенно и хозяин теряет свое олимпийское спокойствие. Спорит всерьез. Говорит: «Я не думаю, чтоб этот эксперимент увенчался успехом. (Это про Октябрьскую революцию.) Но если даже и увенчается удачей, мы должны остаться вне политики». Затем начинаются опять расспросы. Дает мне совет прочесть М. М. Тареева: «Основы христианства». Советует ходить на его беседы. Просит зайти осенью для разговора о Духовной академии. Выхожу.
Делюсь дома своими впечатлениями. Бабушка польщена: ее внук такой умный, что даже епископы с ним разговаривают на равных. Отец внимательно выслушивает. Отзыв: «Во всем этом хорошо одно, что такой идиот может о чем бы то ни было рассуждать, да еще с таким убеленным богословом.
Но ведь практически это все совершенно нереально и несерьезно. Была в тебе одна черта, заслуживающая уважения, — фанатизм. А теперь и этого нет. Какие-то обновленцы, куда-то свернул. Все это не то».
Приглашением архиепископа я воспользовался, стал его частым гостем. Иногда по его поручению наводил справки по научной части: в Публичной библиотеке разыскивал ему какие-либо нужные изречения в творениях отцов церкви или какую-нибудь историческую дату.
Осенью произошло мое знакомство с Введенским. В сентябре он опять приехал в Ленинград. На этот раз я слышал три его проповеди и убедился в необыкновенно широкой амплитуде его ораторского таланта. Каждый раз он говорил по-другому. Не верилось, что это один и тот же человек. Я его слышал 18 сентября 1933 г. — в Захарие-Елизаветинской церкви на Захарьевской (улица Каляева). Он говорил спокойно, благодушно, в тоне старого профессора, дающего консультацию студентам. Говорил об Анри Бергсоне, излагал его систему очень популярно, изложил концепцию мистического биологизма. Сказал, что ему хочется пропеть гимн нервной системе, что это божественный инструмент… Словом, все было очень интересно, ново, оригинально и сильно напоминало тех модных профессоров, которые читали в лектории популярные лекции по истории искусства.
На неделе он служил парастас Божией Матери в Пантелеймоновской церкви. В этот день он был чем-то взволнован. Порывистые движения, тик, судорожное подергиванье головой; речь нервная, сбивчивая, потрясающая. Он начал со слова, которое я уже слышал из его уст: «Христова ласка». И тут же пояснил: «Я нарочно употребляю этот нецерковный термин, потому что неласково поступает с нами жизнь». Потом сказал о грубых лапах жизни, о трагизме жизни, упомянул проф. Крюкова, который говорил, что каждый из нас должен «довлачить свою жизнь до могильной ямы». Вспомнил Тургенева с его страхом смерти. Потом заговорил о Христе, привел изречение Оскара Уайльда: «Даже тому, кто не клонит колен перед алтарями Иисуса, становится легче, когда он слышит Его имя». Стал говорить о Христе, о Евангелии, о вечном празднике — и закончил опять Христовой лаской и начал благословлять богомольцев.
В воскресенье вечером (25 сентября) он служил вечерню в Спасо-Сенновском кафедральном соборе, опять, как весной, в сослужении всего обновленческого духовенства. На этот раз (как когда-то на диспутах) я услышал трибуна, обличителя, призывающего обновить церковь.
И в эти же дни состоялось мое с ним знакомство. Чтоб познакомиться с ним, пришлось сделать довольно много усилий. Пошел к Спасу-на-Сенной. Один священник мне дал адрес, где жила его первая семья: «Верейская улица, 18». Сказал, что принимает каждый день с 2-х часов. Отправился туда. На дверях записка весьма прозаического содержания: «Шурик стоит за керосином». Звонил, не дозвонился. Сходя с лестницы, встретил молодого человека, очень похожего лицом на знаменитого витию. Это и был «Шурик» — старший сын обновленческого митрополита, которому впоследствии (через 16 лет) пришлось сыграть не особенно приятную роль в моей жизни: он помог мне очутиться в лагерях. Но тогда он еще сексотом, кажется, не был, поэтому особого интереса ко мне не проявил и лишь порекомендовал мне зайти в Захарие-Елизаветинскую церковь. Пошел туда, дозвонился. Сказали, что здесь; сейчас уходит. Провели в пономарку. Через пять минут откуда-то появился «сам», в штатском, в хорошо сшитом костюме, благословил, трижды облобызал. Стал слушать; однако на третьем слове перебил и начал сам мне рассказывать про меня: «Да, да, конечно, Тихоновская церковь Вас не удовлетворяет и удовлетворить не может… Владимир Соловьев? Это светлое имя… Социализм? Да, да, возможно только его религиозное обоснование. Я чувствую с Вами родство душ. Приезжайте в Москву. Непременно. Вы напоминаете меня в Вашем возрасте. Прекрасно! Вы будете епископом». В этот момент открылась дверь; и иподиакон почтительно сказал: «Ваше Высокопреосвященство! Вас ждут». «Да, да, сейчас! Мой милый мальчик, как хорошо, что Вы ко мне пришли. До свидания в Москве». И он так же стремительно исчез, как появился.
К этому времени относится и мое более близкое знакомство с епископом Николаем (будущим митрополитом Крутицким). Жил он тогда в Петергофе, на главной улице (Красный проспект, 40). Так как знал я его с детства и был у него посошником — счел долгом пойти к нему, рассказать о своем переходе в обновленчество и о своем намерении поступить в обновленческую академию.
Он принимал, по пятницам. Пришел. Двухэтажный, наполовину каменный, наполовину деревянный дом. Передняя.
Старушка Елена Васильевна снимает пальто. Входишь в зал для ожидания. Довольно просторная комната. Мебель в чехлах. Сидят несколько священников, женщины в платочках, дамы в шляпах и без шляп. После каждого посетителя появляется владыка в рясе, с синей панагией на груди, спокойный, благостный. Все встают. Он указывает следующего посетителя. Ко мне обратился предпоследнему, после трех часов ожидания: «Идите Вы, молодой человек». Выслушал мое сообщение довольно равнодушно. Отговаривать от поступления в обновленческую академию не стал, слушал рассеянно. Благословив, сказал свою стандартную фразу (он ее говорил всем молодым людям, которые готовились к духовному поприщу): «Да поможет Вам Господь в Ваших намерениях, благих, святых». Я ушел с твердым решением никогда больше у него не появляться. Каково же было мое изумление, когда через месяц, в Николо-Морском соборе, когда я в числе богомольцев подходил под архиерейское благословение, он мне сказал: «Не могли бы Вы зайти ко мне в пятницу?» На этот раз владыка принял меня первого, был необыкновенно любезен и очень подробно расспрашивал об обновленческих делах. После этого мои посещения стали очень частыми. Только много позже я понял, в чем дело: владыке хотелось знать, что творится в обновленческих кругах. Я также очень часто выполнял некоторые его поручения: разыскивал газеты, журналы, наводил исторические справки. Не надо забывать, что тогда все духовные лица были лишены избирательных прав — и пользование библиотеками было исключено. В свою очередь владыка часто беседовал со мной о тогдашней церковной ситуации и даже рассказывал мне кое-что о планах митрополита Сергия в Москве. Особой симпатии ко мне он не чувствовал, но интеллигенция в те времена боялась как огня общения с духовенством, поэтому разговор с интеллигентным человеком (хотя и мальчишкой) ему, видимо, был приятен.
А церковная ситуация в то время носила очень путаный и неопределенный характер.
В октябре 1933 года митрополит Серафим был отправлен на покой. 29 октября 1933 года прибыл новый митрополит, Алексий Симанский, будущий Патриарх. Он служил в лавре.
Я был на литургии, слушал его спокойную, изящную речь, а потом, когда пришел момент идти к архиерейскому благословению, со мной произошел следующий инцидент: когда я был около самого митрополита, иподиакон неожиданно растворил решетку, и я очутился между двумя решетками у солеи. Решетку отодвинуть я не мог, так как идущая толпа ее плотно прижимала ко мне. Таким образом я простоял полтора часа, пока митрополит, заметив мое отчаянное положение, не приказал отодвинуть решетку. Между тем я в течение двух часов наблюдал нового митрополита, которого не видел уже несколько лет: волосы у него поседели, но в остальном он изменился мало. Благословлял с видом благодушным, шутил с духовенством, улыбался. Так бывало не всегда: иногда, в раздраженном настроении, он был высокомерен, хмур, делал резкие замечания.
Так или иначе, митрополит начал свою деятельность в Ленинграде. Как это ни странно, в это время происходило оживление церковной деятельности. Обновленцы, совершенно забытые, как будто никому уже не нужные, снова всплыли на поверхность. Они начали шумную пропагандистскую кампанию в резко наступательном тоне. Платонов в Ленинграде неистовствовал: без конца говорил митинговые речи, как заправский пропагандист. Особенно усилил он свою деятельность, когда в сентябре 1934 года был назначен митрополитом Ленинградским и всего северо-западного округа. В то же время и в православной церкви началось некоторое оживление. В мае 1934 года заместитель Патриаршего Местоблюстителя — митрополит Горьковский Сергий — торжественно принял на себя титул Блаженнейшего Митрополита Московского и Коломенского. Получился канонический и литургический нонсенс: заместитель стал выше того, кого он замещает. Официальная формула поминовения гласила: «О Патриаршем Местоблюстителе, Высокопреосвященнейшем Петре, Митрополите Крутицком, и Заместителе его, Блаженнейшем Сергии, Митрополите Московском и Коломенском».
Осенью 1934 года владыка Николай, также возведенный в сан архиепископа, мне сообщил, что ожидается в скором времени архиерейский собор, для избрания митрополита Сергия Патриархом, и даже обещал мне дать тезисы будущего собора, которые он ожидал со дня на день. Если архиепископ Николай (с его сдержанностью и тактом) говорил о таком событии с болтливым мальчишкой, то, видимо, это считалось делом решенным.
Как известно, он ошибся всего лишь на…. десять лет! Что касается Платонова, то и он (несмотря на всю свою осторожность) чувствовал себя на седьмом небе: давал мне поручение за поручением. Разыскать разные сведения о соборах древней Руси, подготовительные материалы к собору 1917–18 годов. Он материал знал блестяще, но вход в Публичную библиотеку ему (увы!) был как лишенцу тоже запрещен. Был необыкновенно оживлен, составлял докладные записки, много шутил, смеялся. Иногда называл меня своим «Санчо Панса», на что я отвечал: «Что Вы, Владыко, по общему мнению я Дон Кихот!» «Здравствуйте! Так что же, я у Вас Санчо Панса?»
Выбрался я и в Москву, к Введенскому; этот был уж совсем на седьмом небе и предсказывал всем нам самую блестящую будущность. О соборе говорил: «У них собор, и у нас — собор. Подождите, Вы еще будете референтом на соборе, конечно, когда подрастете!»
Теперь у меня, конечно, нет ни малейших сомнений, чем было вызвано это кратковременное «оживление церковной деятельности». Основной причиной был приход в Германии к власти национал-социалистов. В газетах печатались противоречивые сообщения: то о конкордате Гитлера с Ватиканом, то о разногласиях между Гитлером и католиками. Впервые появились сообщения о преследованиях Гитлером католиков, стали появляться сообщения об участии католиков в движении сопротивления. На столбцах советских газет появилось имя «красного» настоятеля Кентерберийского собора Хьюлетта Джонсона.
В этих условиях дальновидный и умный Тучков, видимо, вырабатывал план сотрудничества с православной церковью в сфере внешней политики. План, о котором вспомнили через десять лет, во время войны. Разница между тогдашним планом и тем, который был практически осуществлен, видимо, в том, что Тучков хотел иметь православную церковь в двух вариантах (староцерковников и обновленцев), так как староцерковная иерархия, включавшая много епископов старого, дореволюционного поставления, не внушала ему доверия.
Я, по примеру своих наставников, тоже был полон оптимизма. Я перешел с дневного отделения техникума на вечернее, имел уйму свободного времени и целые дни просиживал то в Публичной библиотеке (на Садовой), то в бывшем Владимирском соборе, где помещалась тогда антирелигиозная библиотека. Там была вся библиотека бывшей Петербургской Духовной академии. Книги этой библиотеки выдавать на руки полагалось только по специальному разрешению, но одна из библиотекарш была моей однокурсницей по техникуму и не придерживалась формальностей. И вдруг — катастрофа.
В 1934 году Пасха была ранняя — восьмого апреля, на другой день после Благовещения. Я первый раз в этом году все страстные богослужения и светлую заутреню проводил в Андреевском соборе (у Платонова). Все было очень хорошо. Но вот, с 17 апреля я почему-то стал чувствовать давящую беспричинную тоску. Странное ощущение, почти физическое — что-то давит, наваливается на тебя. В таком состоянии я после техникума шатался по городу.
Приходил поздно. Даже отец заметил, что со мной что-то неладное, сказал вдруг с непривычной лаской: «Что с тобой, мальчик?» И тут же сам себе ответил: «Женить тебя надо!» И вот, 23 апреля, переступив порог лестницы, я вдруг (к своему собственному удивлению) сказал: «Ну, теперь все кончено». И почувствовал какое-то странное облегчение. А ночью я был разбужен стуком в дверь. Открываю. Трое военных. Один из них сует мне под нос какую-то бумажку, поясняет: «Ордер на обыск и арест». Так я был арестован в первый раз.
Помню перевернутое лицо бабушки, бледное как полотно лицо отца, помню, как гепеушники рылись в шкафу. Но после нескольких минут смущения я быстро овладел собой. И когда настало время идти, я отправился даже в хорошем настроении.
С детства я привык к тому, что самых почтенных людей, митрополитов, епископов, самого Патриарха, не говоря уж о священниках и монахах, арестовывали. Кроме того, последнее время я без конца читал о революционерах и себя также считал великим революционером. Арест мне импонировал: значит, меня принимают всерьез, значит, я действительно большой деятель. Привезли меня на Шпалерную («большой дом»). После анкеты, личного обыска, сидения в «боксе», который мне напомнил, как однажды тетя Нина заперла нас с Сережей, двоюродным братом, на полчаса в чулан, за то что сильно шумели, меня повели внутренним переходом в тюрьму. Привели. Здесь я невольно содрогнулся, и мне (первый раз) стало очень не по себе. В голове мелькнула невольная ассоциация («ад!»). Представьте себе зал, похожий на партер театра, со всех сторон ярусы, только вместо театральных лож — железные двери. При этом зловещий желтый электрический свет, хотя уже 10 часов утра. Окна отсутствуют. Меня проводят по винтовой лестнице наверх. Пройдя несколько ярусов, останавливаюсь перед железной дверью. Камера № 191а; впоследствии из «Писем к родным» Ленина я узнал, что он в свое время сидел в камере 193. Открывается дверь. В нос шибает запах уборной, полутьма, электрический свет. Мне навстречу встает какой-то бледный, обросший бородой человек. Увидев меня, спрашивает: «Аид?» Смущенно я отвечаю: «Да, мой отец еврей, но я по-еврейски не говорю». Сажусь на койку, осматриваюсь. Комната — шесть шагов. Над окном «козырек» (деревянный ящик) — виден лишь кусок неба. Ватерклозет. Две койки: одна железная, прикованная к стене, другая обыкновенная. У окна (как в купе вагона) — откидная железная доска, заменяющая стол. Удушающий запах от уборной и чеснока, который мой «напарник» ест в изобилии. Начинаем с ним разговор. Натан Соболев, еврей с неожиданно русской фамилией. Заведующий столовой. Сидит по делу «нарпитовцев» («Нарпит» — трест народного питания — ныне трест столовых и ресторанов). ОГПУ тогда занималось, кроме политических дел, также крупными хищениями. В тюрьме уже шесть месяцев. На другой день позвали к следователю. Следователь — Ермолаев — среднего роста, в штатском, пенсне, нос картошкой, лицо интеллигента. После обычных расспросов — «Какое Ваше credo?» Мне этого только и надо. Разливаюсь соловьем. Говорю о социализме и христианстве. Слушает внимательно; лицо непроницаемо (так же, как несколько месяцев назад у Платонова). Через час меня отпускает. Я спрашиваю: «Чем вызван мой столь удививший меня арест?» Ответ: «Об этом мы Вам скажем после».
В тот же день — передача из дому. Отцовским почерком составлен список. Все, что только разрешено передавать. Тюремные книги. Здесь я впервые прочел «Мать» М. Горького. У меня уже был выработан некоторый литературный вкус, поэтому книга резанула своей ходульностью, неестественностью некоторых ситуаций. Но одно место врезалось в память: как Пелагея Ниловна ночью идет в село, села отдохнуть, и вдруг ей представляется картина: церковь перед пасхальной заутреней. Темно, народу еще нет, зажигаются лампады — и во всем какое-то ожидание чего-то необыкновенного, неповторимого, светлого. «…И так же сейчас в мире». Мне это было близко. Я с детства любил бывать в церкви, когда нет богослужения. И в этой торжественной тишине я всегда чувствую какое-то таинственное ожидание. Понравился Находка. Зато оттолкнул Павел. Я сразу почувствовал ту ограниченность и узколобие, которые мне всегда были особенно противны в коммунистах.
Другая книга — Андрей Струг, «Бомба», талантливо написанный роман о польских террористах.
Мой сосед по камере со мной много разговаривал. Оказался симпатичным, мягким человеком. Много рассказывал мне о своих донжуанских приключениях.
Между тем, следователь вызвал меня второй и третий раз. Опять теоретический разговор. Наконец, называет 15–20 фамилий. Ни одной не знаю. Затем вынимает из ящика стола другой список. Опять фамилии. И о ужас! Это как раз те самые фамилии, которые я назвал Платонову, когда он меня спросил, с кем конкретно из староцерковных священников я говорил. Тут и отец Иустин из Киевского подворья, и отец Михаил Яворский, и архиепископ Гавриил. Никто, кроме Платонова, о моем знакомстве с ними не знал. Впервые за все время я почувствовал острую боль. До этих пор я всегда резко обрывал тех, кто говорил о связях знаменитого проповедника с ГПУ, считал это глупой бабьей сплетней. А следователь, видимо, любуясь произведенным эффектом, говорил: «Итак, Вы охарактеризовали себя однажды как христианского социалиста». Пауза. Ермолаев продолжает: «А Вы, собственно говоря, не христианский социалист. Я Вам скажу, кто Вы такой: бунтарь-одиночка. И всегда таким будете. Мелкобуржуазный бунтарь. Но Вы нам много опаснее открытого реакционера. Вы берете реакционнейшую идеологию православной церкви и приделываете к ней революционную надстройку. Надстройка у Вас революционная, и ею Вы можете многих сбить с толку». Я отвечаю резко: «Говорите, что хотите: я все равно останусь при своем мнении!» «А если мы Вас репрессируем, что тогда?» «Делайте, что хотите!» «Не то, что хотим, а то, что будет нужно». На этом мы расстались.
Потом он меня вызвал только однажды для очной ставки с каким-то незнакомым мне молодым человеком. Оказалось, что мы оба друг друга не знаем. Впоследствии я узнал, что это Николай Николаевич Сыренский (иподиакон, сын протопресвитера) и доныне проживающий в Ленинграде, тоже арестованный в то время. Больше меня следователь не вызывал, а Соболев сделал прогноз: «Три года лагерей; пошлют Вас рыть Волго-Московский канал — под Дмитров.
Туда всех теперь посылают». Оказалось не так. Через месяц распахивается дверь. Входит украинец-конвоир: «Собирайся с вещами!» Собираюсь, прощаюсь с Соболевым. Он мне говорит: «Если на волю, зайдите к моей жене». Я отмахиваюсь: «Что Вы, какая воля!» Спускаюсь вниз. В светлом помещении появляется человек в чекистской форме. «Мы с Вами поговорим потом. А сейчас поезжайте домой». Дает мне подписать документ: «Обязуюсь явиться по первому требованию следствия и никуда за пределы Ленинграда не выезжать».
Прохожу тюремный двор. Сторож распахивает дверь. Ленинградская улица. Воля!
Все как во сне. Только через некоторое время все для меня прояснилось.
Тучков, делавший, по выражению Введенского, «религиозную погоду», проводил в это время политику «кнута и пряника»: с одной стороны, манил церковников обещаниями «собора», подстрекал обновленцев к «острой борьбе» с церковью, а с другой стороны, продолжал политику репрессий. Его, между прочим, сильно беспокоило появление в обновленческой церкви молодых священников, которые не были заражены духом подхалимства перед ГПУ в такой мере, как «старые обновленцы», и хотели действительного обновления церкви. ГПУ этого меньше всего хотело: оно рассматривало обновленчество как фигуру в шахматной борьбе с церковью и вовсе не желало, чтоб «старушечья церковь» стала по-настоящему живой, привлекательной для масс.
И вот, весной 1934 года ГПУ решило расправиться с обновленческой молодежью. Для этого было инсценировано «дело Захарие-Елизаветинского братства», якобы контрреволюционной организации, смыкающейся… с троцкистами. По этому делу были арестованы: священник отец Сергий Руменцев, молодой иерей, служивший в Вознесенском соборе, и священник отец Игорь Малюшицкий — ныне оба здравствующие и уже отнюдь не молодые (один в Питере, другой в Москве). И еще пять-шесть молодых обновленческих священников, фамилии которых не помню. ОГПУ решило включить сюда также Николая Сыренского и меня, который, видимо, был у них на примете со времени моего первого визита к Платонову.
Я никого из своих «однодельцев» не знал, но это, конечно, не помещало бы послать меня «рыть канал», как отправились все другие (кроме Сыренского и меня), если бы не одно обстоятельство. Выше я указывал, что отец до 1924 года был крупным хозяйственником и имел знакомства в «Смольном». Потом все эти связи были заброшены, отец вел уединенный образ жизни: с мамиными родственниками после развода связи порвались, а советских служащих, своих коллег, отец не любил. Когда меня арестовали, отец (со своей особенностью все доводить до крайности) чуть с ума не сошел от горя и ужаса. В то же время он начал судорожно перебирать в уме: к кому из старых знакомых можно обратиться. И тут вспомнил Струппе — бывшего работника Совета народного хозяйства, который теперь занимал пост председателя Ленинградского облисполкома и был правой рукой и близким другом Кирова. К нему-то и пошел отец. Тот принял его тотчас. Усадил, стал расспрашивать: «Ну, как дела?» «Плохо». И отец изложил ему свое горе. Струппе поохал, покачал головой, а потом снял телефонную трубку и стал звонить к Медведю, председателю Ленинградского ГПУ: «Там какого-то мальчишку арестовали — Левитина Анатолия. Да, да, запиши. И разберись! Мальчишке еще нет 18-и. (У меня по документам год рождения был указан 1916). Он какой-то малохольный. Все Богу молится. А отца я давно знаю. Приличный мужик. Сейчас у меня сидит».
В тот же день меня освободили!
Итак, я свободен. Четыре раза в жизни я освобождался из тюрьмы — и, как это ни странно, никогда не чувствовал при этом радости. Не почувствовал радости и в этот первый раз. Тотчас, как только я очутился за тюремными воротами, в уме у меня всплыл вопрос: «Что делать?»
Проклятый вопрос! В тюрьме он отпадает, об этом можно не думать, можно целиком положиться на волю Божию и черпать помощь в молитве. А здесь надо решать, решать сейчас же. Может быть поэтому я не очень спешил домой.
Зашел в парикмахерскую, сбрил тюремную щетину; зашел в Пантелеймоновскую церковь, пошел Марсовым полем и Дворцовой набережной, через мост, на Васильевский. Стоял чудесный майский «белый» вечер — предвестие белой ночи; вот он опять Питер, чудесная Нева. И все тот же проклятый вопрос.
Пришел домой. Всеобщая радость. Все в сборе, и даже Надежда Викторовна (моя мать), которая иногда заходила; с отцом они сохранили дружеские отношения. Все это прекрасно, но, все же, что делать?
Самое простое разрешение этого вопроса предлагала бабушка, которая со слезами на глазах умоляла меня больше никуда не ходить и заниматься только учебой.
Отец был более серьезен; он понимал, что бабушкин вариант для меня не подходит. Он аргументировал более убедительно: «Теперь, когда то, что говорят бабы на папертях тихоновских церквей, подтвердилось, когда стало совершенно ясно, что Платонов чекист и подлец, — неужто ты будешь опять к нему ходить? Ходи во Владимирский собор. Там приличные люди. Наконец, если уж так хочешь идти в обновленческую церковь, ну иди в Вознесенский собор; там, где тебя не знают. Что касается твоего желания быть попом — то подожди ради Бога. Ну, окончи техникум, окончи институт, а потом уже занимайся экспериментами. У нас в ВИЭМе (он тогда был юрисконсультом Института экспериментальной медицины) прежде, чем делать эксперимент над кроликом, его подготавливают: кормят, поят, утучняют; ты хочешь делать эксперимент над собой — ну, приготовь себя к этому: тюрьма от тебя не уйдет — она подождет и 5, и 10 лет. Куда тебе спешить?» И видя, что эти аргументы на меня не действуют, неожиданно дал мне четкую и ясную характеристику: «Беда с этим мальчишкой! От своих материнских предков он взял религиозную манию, а от меня заимствовал мою дикую самоуверенность. Отсюда одержимость своей какой-то миссией».
На этот раз вступила в дискуссию моя мать, которая обрушилась на идею христианского социализма и на обновленчество. В ответ на мои возражения, она неожиданно излила на меня целый поток изречений из Евангелия, доказывая, что христианство несовместимо с социализмом. (Недаром она окончила в свое время институт с золотой медалью и по закону Божию шла первой). На мои слова, что это надо понимать не так, она отчеканила: «Понимать надо так, как сказано.
Христос, когда говорил, вовсе не думал о том, что твоему попу Введенскому надо будет подлизываться к советской власти!» Отец закричал (как в английском парламенте): «Слушайте! Слушайте!» И вся семья (даже бабушка) покатилась со смеху.
Я все взвесил, все обдумал, со всем согласился и в следующее воскресенье (был праздник Троицы) пошел в Андреевский собор, наверное зная, что служит Платонов. После литургии я подошел к Платонову под благословение, и здесь произошел тот обмен репликами, который я привожу в своих воспоминаниях «Закат обновленчества». Смотря ему в лицо, я заметил: «Напрасно Вы сказали о моем знакомстве с Михаилом Яворским и другими». «Что такое? Что я сказал?» «Вы же знаете, владыко, кому Вы это сказали!» «Не помню, не помню!» — прогнусавил Платонов, отводя глаза, и прошел мимо. Еще неделя — и я опять нажал кнопку звонка его квартиры. На этот раз открыл «сам». В квартире шел ремонт, и он был одет в рабочую куртку, штаны, вправленные в сапоги, в руках кисть. Я невольно вздрогнул: без рясы и облачения — рыжий бородатый мужик с злобным лицом — он был похож на деревенского колдуна.
«Я хотел с Вами поговорить, Ваше Высокопреосвященство!» «Можно! Пройдите в ту комнату». Там опять бесшумно встал мне навстречу с книгой в руках А. Ф. Ш. «Расписываться не буду», — резко сказал я. «Нехорошо нарушать порядки учреждения». «Возможно, но я все-таки не буду». «Тогда я сам Вас зарегистрирую». «Регистрируйте!» В этот момент вышел Платонов, в рясе, но с таким же злобным выражением на лице. А. Ш. сразу испарился, как будто провалился сквозь землю. Платонов, благословив меня, но без обычного поцелуя («ликования»), официально, как к незнакомому, обратился ко мне: «Что Вам угодно?» «Я пришел к Вам, владыко, сказать, что я, несмотря ни на что (я подчеркнул эту фразу), хочу служить церкви и намерен подать Вам прошение о рукоположении в священный сан». «Зачем Вам это нужно? Конечно, мы можем завести дело о Вашем посвящении: рукоположим, а потом Ваша деятельность будет парализована». «Парализована, так парализована, а сколько Бог даст, столько и послужу». «Зачем Вы спешите; ну подождите лет десять. Учитесь. Молодой Вы очень и неуравновешенный. Очень неуравновешенный Вы человек». «Откуда у Вас, владыко, такие сведения?» «А у нас свои наблюдения. Я считаю, что Вам в Вашем возрасте рано принимать сан». «Но митрополит Александр (Введенский) думает иначе». «А это другое дело. Конечно, если мне поручают рукоположить кого-либо лица, имеющие на это право, это другое дело. Но ведь Вы же, наверно, пришли просто посоветоваться, спросить моего мнения». Не найдя, что ответить, я сказал: «Так». «Да, так», — повторил архиепископ и, встав, столь же холодно меня благословил.
А через несколько дней, а через несколько дней… я вступил на поприще «Самиздата» и написал архиепископу первое в моей жизни длинное письмо, оговорив в постскриптуме, что письмо считаю открытым и копию его посылаю Первоиерарху и митрополиту Александру. Письменного ответа не было, но в следующее воскресенье свою вечернюю беседу, длившуюся около двух часов, он посвятил (не называя имени) моему письму. В своем письме я говорил об истинном и фальшивом обновлении, я говорил о том, что истинное обновление состоит в том, чтоб не угашать дух, а обновленческое начальство только и делает, что «угашает дух», расхолаживает людей, опошляет религию. Примером этого является и наш последний разговор. Кроме того, я приводил много фактов из обновленческой практики в подтверждение.
Беседа Платонова была о священстве, и он с блеском, ссылаясь на слова Апостола «Скоро рук не возлагай» и на творения отцов церкви, раскрывал понятие «горение Духа», которое надо отличать от вспышки молодого темперамента, нервного возбуждения и т. д. В конце речи мне протягивалась рука примирения. Говорилось о том, что церковь должна «различать духов», испытывать приходящих, а как только она убеждается, что это горение подлинное, а не мгновенная вспышка бенгальского огня, она тотчас с благодарностью принимает приходящего и дает ему «Божественную Благодать…»
После беседы, когда я стоял в церковном дворе, разговаривая со знакомыми дамами, из дверей вышел Платонов в лиловой рясе и шляпе, с букетом в руках, окруженный почитателями. Завидев меня издали, он снял шляпу и поклонился.
На другой день я получил письмо (до востребования) от Введенского, в котором он заверял меня в своем расположении и надеялся, что я «сумею найти взаимопонимание с архиепископом Лужским (Платоновым)». Письмо было подписано по-царски: «Впрочем, пребываю к Вам благосклонный Александр».
Нелегко мне было (после всего, что я узнал) идти опять на сближение с Платоновым. Прежде, чем идти к нему, я посоветовался с моим духовником, добрым, стареньким священником. Батюшка мне сказал: «Бросьте! Ну какой он провокатор? Ну кто Вас за руку толкал писать о своем социализме? Ведь Вы же знали, что это учреждение официальное и все там проверяется. У него спросили про Вас — он ответил, только и всего. И ничего же он такого про Вас не сказал, что Вам повредило. Ну, знали Михаила Яворского, ну, знали отца Иустина и архиепископа Гавриила. Кто же из церковных людей их не знал? Идите к нему с миром».
Прав ли был батюшка? Нет, не прав: будущее показало, что разговор Платонова с гепеушниками не был случайностью. Но тогда я постарался себя в этом уверить и пошел к архиепископу. И, как все компромиссы с совестью, и этот компромисс мне ничего хорошего не дал.
Между тем, летом 1934 года наблюдалось новое качание политического маятника. Причем политический маятник качнулся как будто бы в сторону либерализма. Было опубликовано постановление ЦИКа и Совнаркома о расформировании ОГПУ, о преобразовании его в «Народный Комиссариат Внутренних Дел» (НКВД). Было оговорено, что при наркоме внутренних дел (им был назначен Г. Г. Ягода) учреждается «Особое Совещание, которое в административном порядке может приговаривать к четырем годам ИТЛ». Это уже было какое-то ограничение произвола. Простаки сразу окрылились надеждами; тогда мы все еще были донельзя наивны и на все смотрели сквозь розовые очки.
В это время я один раз вступил в соприкосновение с ГПУ и вынес из этого соприкосновения малоприятное впечатление. Я отправился на Шпалерную за своими вещами, отобранными у меня при аресте. Мне пришлось простоять часа два в длинной очереди, и кое-какие впечатления у меня остались. Я видел даму, которая добивалась, чтоб ей выдали труп мужа, умершего в тюрьме, и ей все время морочили голову: то говорили, что выдадут завтра, то говорили, что муж жив, то говорили, что совсем не выдадут. Очередь стояла у окошка. Кладовщик брал квитанцию, громко говорил кому-то, что в ней написано; тот или подавал вещи, или говорил: «На месте нет, зайти через неделю». Передо мной стоял солидный человек с бородой, похожий на купца. Запомнил его фамилию — Беспрозванный. Ни до, ни после такой фамилии не встречал. Кладовщик-чекист: «Беспрозванный: пять золотых портсигаров, кулон с бриллиантами. Перстень золотой с бриллиантом». «Нет на месте. Зайти через неделю!» «Да я уже два месяца каждую неделю хожу!» «У нас не Вы одни. Разыскиваем. Зайти через неделю!» «Левитин. Ремень брючный, крестик медный, шнурки от ботинок, крючок от брюк. Пожалуйста». «Иванова. Серьги золотые с рубинами. Два браслета. Кольцо золотое, обручальное. На месте нет. Зайдите через неделю!»
Меня это заинтересовало: я задержался на час и убедился, что на месте оказываются только вещи бедняков, вроде меня брючные ремни да шнурки. Элемент коррупции, видимо, сильно внедрился в работу «органов».
Между тем, 1934 год принес много плохих вестей: в январе был арестован епископ Сергий (Зинкевич), о котором я упоминал ранее, и получил 10 лет. Одновременно с ним были арестованы его две сестры, которые также получили лагерный срок, и еще несколько человек из его окружения. Причина: пострижения в монашество, которые он совершал у себя на дому.
Наконец, в Иваново-Вознесенске был арестован А. И. Боярский, но оптимисты указывали, что это было в первой половине года (еще до преобразования ГПУ в НКВД), а теперь, мол, начинается либеральная эпоха. И верили! Да, верили и надеялись!
В сентябре произошло сенсационное событие: Николай Платонов был назначен митрополитом Ленинградским. Приехав из Москвы, он совершил свою первую митрополичью службу в Андреевском соборе. Первый раз мы увидели его в белом клобуке. Когда я подошел под благословение, он неожиданно сказал: «Зайдите ко мне во вторник утром!»
Во вторник он меня встретил стоя. Благословив и поцеловав, сказал: «Ну что? Вы все еще недовольны? Я и теперь говорю: годик с рукоположением придется подождать. (Годик! Раньше он говорил о десяти годах!) А теперь вот что. Вот Вам бумажка, здесь записаны интересующие меня номера апостольских правил, правил вселенских и поместных соборов, а также святых отец. Разыщите мне и сделайте выписки: толкования Педалиона, Аристина, Зонара и Вальсамона, русской Кормчей, а также у канонистов: проф. Павлова, Лакшина и Иоанна Смоленского. Как можно быстрее. Срок пять дней». «Есть, Ваше Высокопреосвященство!» «Я знаю, Вы молодец, но подрасти все-таки нужно». Благословив и расцеловавшись со мной, он быстро вышел из комнаты.
Я помню, меня несколько удивило то, что все эти правила касаются прещений по отношению к раскольникам и еретикам. Но сказано — сделано. Все разыскал и принес в срок. Принял опять находу: «А, принесли? Давайте! (Пробежал, кивнул головой). Спасибо. Сегодня уезжаю в Москву. Готовятся большие события. Александра Павловна (это секретарше), перепишите. До свидания».
Только через месяц мы узнали, что это за «события». Узнали и ахнули. Оказывается, в Москве в это время заседала «Комиссия Священного Синода по борьбе со староцерковничеством». В сентябре комиссия приняла постановление по докладу Платонова, утвержденное тут же сессией обновленческого синода. Постановление было датировано 3 октября 1934 г. и поэтому его называли «Октябрьские указы». Согласно этому постановлению, «староцерковничество» (т. е. православная церковь) объявлялось «еретичествующим расколом»; все рукоположения, совершенные после 10 мая 1922 г., — день устранения Патриарха Тихона от власти, — объявлялись недействительными. Все клирики, приходящие в обновленчество, должны были приниматься через покаяние, а все храмы, переходящие к обновленцам, должны были переосвящаться. Таким образом, всякое примирение между обновленцами и староцерковниками становилось невозможным.
Это была разорвавшаяся бомба: до сих пор православная церковь рассматривала обновленчество как раскол; обновленцы держались оборонительной тактики, считали себя «обиженными», призывали к миру. И вдруг «такой пассаж неожиданный». Епископ Николай Петергофский был взволнован, как и другие православные священники. Владыка специально меня вызвал, чтоб расспросить, не знаю ли я, чем вызвано это постановление. А я, разумеется, сам ничего не знал и не понимал. Большинство обновленцев также были смущены и не понимали, в чем дело. Один лишь Платонов был «на коне», выступал во всех храмах со скандальными речами, в которых обливал грязью церковь и иерархов и на все лады распинался в своем православии. Все это производило впечатление такой пошлости, что я перестал ходить на его службы и больше к нему не заходил. Мысль о священстве в обновленческой церкви я совершенно оставил: быть подручным Платонова мне больше не хотелось. Я готовил письмо протеста против «братоубийственных указов», как вдруг произошло событие, которое совершенно отодвинуло на задний план все наши церковные ссоры и счеты.
Второго декабря по новому стилю (девятнадцатого ноября — по старому) церковь празднует память иконы Божией Матери «Во скорбех и печалех утешения». Икона эта находилась на Афоне, в Андреевском скиту, а ее чтимая копия у нас, в Питере, в Старо-Афонском подворье. В этот день совершались в подворье торжественные всенощная и обедня. В это время Афонское подворье было уже закрыто, но икона уцелела и находилась в Знаменской церкви против Московского вокзала.
Второго декабря 1934 г. (это было воскресенье) я отправился в Знаменский собор. Проходя по Васильевскому, я заметил, что на всех домах красные флаги с черной траурной каймой. Боясь опоздать к обедне, я не стал узнавать, кто именно умер, сел на трамвай и поехал в храм. После торжественной обедни (служил епископ Амвросий), выйдя из церкви, я заметил большую толпу около газетного киоска. Спросил: «Вы не знаете, кто умер?» Старая женщина ответила: «Кирова убили». Так я узнал об убийстве Кирова.
Это событие произвело на всех ленинградцев большое впечатление. Киров был единственным (за время советской власти) популярным руководителем. Он единственный был сравнительно доступен, постоянно гулял со своей собакой, и попасть к нему на прием было сравнительно нетрудно, причем в большинстве случаев он шел навстречу и просьбы удовлетворял. Он был довольно хорошим митинговым оратором, часто выступал на рабочих собраниях, относился к людям благожелательно. Было ли это все искренно? Сказать трудно. Но сравнивая Кирова с другими его коллегами, начиная от Сталина и кончая Брежневым, можно вспомнить Герцена — его сравнительную характеристику Александра I и Николая I: «Если даже эта любезность была, как говорят, лицемерием, то такое лицемерие все же лучше наглого цинизма власти». Во всяком случае его смерть встретили с сожалением.
Через несколько дней было сообщено, что убийство совершено «зиновьевской бандой». Это было встречено спокойно. Помню, отец сказал: «Если большевики убивают друг друга, так тем лучше». Зиновьевцев арестовывали, газеты писали о бдительности, но жизнь шла более или менее нормально.
Но вот наступил март. Кошмарный март. Помнят его старые питерцы.
Для меня этот месяц имел огромное значение, так как только в это время я узнал, что такое советская власть.
Как это ни странно, несмотря на то, что я всю жизнь провел при советской власти, я ее как следует до этого не знал. Конечно, я знал о жестокостях гражданской войны и периода коллективизации, но так как я непосредственно с этими жестокостями не сталкивался, то они мне рисовались в романтической дымке революционных событий (примерно так, как эпоха французской революции рисуется в романе Гюго «Девяносто третий год». Отец ненавидел большевиков и боготворил старую Россию, но это скорее меня даже располагало в пользу советской власти: уж очень эта «тоска» хорошо подтверждала официальную версию о «классовых врагах», которые не могут примириться с потерей своих привилегий. Как я не раз говорил отцу, он был типичный буржуа, на что он полушутя отвечал: «А, конечно! Я человек приличного общества, а не босяк, как ты». Правда, я не мог простить большевикам их глумления над церковью и над религией; но с тех пор, как я стал обновленцем, я усвоил концепцию Введенского, что это есть диалектический момент, объясняемый тем, что церковь в прошлом была на стороне эксплуататорских классов, и несколько смягчил свою к ним неприязнь. Коммунистов я вообще никогда не видел. Если не считать директора школы и техникума, с которыми я никогда не разговаривал, и моего следователя Ермолаева, с которым я имел два-три официальных разговора, то единственный коммунист, которого я более или менее знал, был наш сосед по даче Акель Яковлевич. С ним и с его семьей, когда мне было 12 лет, я дружил, ходил в лес за грибами, много и часто разговаривал. Я помню, я как-то раз спросил его, какого он мнения о царе Алексее Михайловиче (я в это время как раз читал исторический роман Мордовцева), и получил ответ: «Что ты меня спрашиваешь? Какого я могу быть мнения о царе?» Тут впервые я почувствовал всю ограниченность и узколобие моего приятеля. Другой раз я ему сказал: «Ну, почему Вы коммунист? Только потому, что у Вас партбилет?» Акель надулся, а вечером, когда все вместе пили чай, пожаловался моим родителям. «Какой негодяй!» — воскликнули они в один голос и начали меня пробирать, но я видел, что глаза у них прыгают от сдерживаемого смеха и они кусают себе губы, чтоб не расхохотаться. Когда мы вошли в комнаты и остались одни, мама попробовала было продолжать нотацию, но тут же не выдержала и рассмеялась, а отец с громким хохотом бросился на диван и воскликнул: «Ну и мальчишка, ну и сукин сын».
И только в марте 1935 года я окончательно понял, что советская власть — это и не романтично, и не смешно, а очень страшно и гнусно.
В марте началось массовое выселение из Ленинграда «чуждого элемента». В газетах было опубликовано краткое сообщение о том, что «из Ленинграда выселено некоторое количество граждан из царской аристократии и из прежних эксплуататорских классов». Наряду с этим газеты запестрели каннибальскими статьями о «революционной бдительности». Помню подборку в «Ленинградской Правде» — «Будем поочередно держать почетную революционную вахту». В этой подборке было напечатано более десятка истерических статей каких-то «рабочих-стахановцев», которые призывали к расправе с классовыми врагами. Какой-то «герой» хвастался тем, что только в своем доме разоблачил трех бывших белогвардейцев. Другой «герой» заявлял, что, когда он узнал, что из Ленинграда выкидывают классовых врагов, ему захотелось написать личное письмо с благодарностью товарищу Жданову (это был новый сатрап, назначенный к нам в Питер вместо Кирова). Редактор в передовой статье, подытоживая все эти крики и взвизги, писал, что «в городе Ленина имеют право жить только настоящие пролетарии, только честные труженики».
Я отправился на Шпалерную посмотреть на высылаемых. Никогда не забуду этого дня. Еще не доходя до Шпалерной, я увидел старую даму, лет за 70, видимо, очень хорошего общества, которая еле двигалась на своих подагрических ногах; в руках она держала какую-то зеленую бумажку; встретившимся знакомым она громко жаловалась, что ей предложено уехать куда-то в Башкирию в течение 24 часов. Все улицы, прилегающие к Шпалерной, были наполнены такими же пожилыми людьми. С перевернутыми лицами, с прекрасными манерами, нагруженные вещами… Район Литейного — район аристократических особняков, и многие уцелевшие хозяева этих особняков ютились в дворницких и подвалах своих бывших домов. Теперь всем им надо было уезжать. Куда? Зачем? Неизвестно. Но вот я дошел до Шпалерной, с трудом протискался в приемную, где несколько месяцев назад мой отец справлялся обо мне. Боже! Что я здесь увидел. Большой зал, битком набитый людьми. Такого ужаса, такого отчаяния я еще никогда не видел. Порядок был такой. Человека арестовывали; через 2 дня выпускали, предписав явиться в НКВД с паспортом; паспорт отбирали и вместо него давали предписание: в 24 часа выехать в определенную местность. (Ту самую зеленую бумажку, которую я видел в руках старой дамы). В приемной было очень много бывших офицеров. Это было видно по военной выправке и по остаткам формы. Эти держались намеренно бодро, даже шутили друг с другом, но и у них на лицах я видел ужас и безнадежность. Я помню какую-то даму лет пятидесяти, когда-то, видно, прелестную, с остатками былой красоты, которая жаловалась: «Ну пусть мы, но за что же наших детей, наших внуков? Что ж, это месть до десятого колена, что ли?» А поблизости стоял старичок с лицом типичного писаря, который говорил: «Вот уж не думал, что меня тронут. Я занимал ответственные должности, был заведующим канцелярией в Гороно, и вот…» Какая-то изможденная женщина читала вслух заявление, в котором содержалась просьба отсрочить выселение, так как она болела туберкулезом. Вышел какой-то хорошо одетый человек, видимо, инженер, сказал, что его высылают в Астрахань, но чекист его заверил, что там ему будет очень хорошо, что «это — не прежняя ссылка». В ответ послышался горький смех. Действительно, все эти несчастные были рассованы по медвежьим углам, а через 2 года (в 1937 г.) первыми были арестованы и почти все погибли в лагерях.
Вечером, в техникуме, я узнал, что наш преподаватель педагогики, Иван Иванович Сухов, образованный, пожилой, вдумчивый человек, тоже выселен из Ленинграда. Атмосфера человеконенавистнической истерии действовала и на обыкновенных людей. Я помню, мой товарищ по техникуму, хороший парень из рабочей семьи, мне сказал: «Мама говорит, черт с ними, пусть высылают. Может быть, нам скорее квартиру дадут».
Дома отец, весь бледный и поникший, был в панике: высылали многих его коллег-адвокатов, людей, совершенно не причастных ни к какой политике. По телефону звонили мать и тетки, спрашивали взволнованными голосами: «Что у вас, все благополучно?» Так, как спрашивают во время эпидемии или наводнения.
На другой день я должен был увидеть Петергофского владыку Николая. (Я должен был принести ему какую-то книгу). Зашел в Епархиальный Совет в бывшем Новодевичьем монастыре у Московских ворот. И здесь увидел почти ту же самую картину, что в приемной на Шпалерной: десятки батюшек в рясах, с наперсными крестами, с такими же взволнованными, красными лицами чего-то ожидали. Из-за дверей слышался убеждающий и как будто успокаивающий кого-то голос митрополита Алексия. Обо мне доложил секретарь, но владыка Николай в этот день меня не принял, секретарь мне сказал: «Владыка чрезвычайно занят; просит Вас приехать к нему в следующую пятницу, в Петергоф».
В следующую пятницу владыка был очень грустен, подавлен; едва взглянул на принесенную мной по его просьбе книгу, махнул рукой: «Нам теперь не до книг». Узнал, что высылают епископа Амвросия, отца Николая Чукова (будущего митрополита Ленинградского Григория) и большую часть питерского духовенства. Елена Васильевна, когда я уходил, в прихожей шепотком мне сказала, что у владыки приготовлен узелок с бельем на случай ареста. Платонов сохранял спокойствие. Перед великим постом, однако, предупредил прихожан, что «теперь всюду духовенства станет меньше, так как они поедут в другие места делать дело Божие». Это означало ссылку. Действительно, обновленческое духовенство разделило участь своих собратий. Выслано было больше половины обновленческих священнослужителей, между прочим, был выслан чудесный, глубоко религиозный батюшка (уже на восьмом десятке, только что отпраздновавший полвека своего иерейства), отец Константин Шахов.
Наша семья не пострадала, но лишь по счастливой случайности. Высылка производилась по следующему принципу: брали старую справочную книгу «Весь Петербург» и тех, кто уцелел, высылали. Высылали также по доносам. Высылали всех «бывших»: бывших дворян, бывших аристократов, бывших офицеров, бывших купцов, бывших лавочников, бывших торговцев. Как далеко заходило это гонение на бывших, показывает статейка в «Красной газете», в которой какому-то директору школы ставилось в вину даже то обстоятельство, что «…он сын бывшего… губернского секретаря», т. е. Акакий Акакиевич (из гоголевской «Шинели») и Вырин (из пушкинского «Станционного смотрителя»). Они тоже должны были бы быть высланы.
Мои родители не жили до революции в Питере; следовательно, в книге «Весь Петербург» они не числились, а при узком круге их знакомств доброжелателя-доносчика не нашлось.
Так приоткрылся мне снова краешек завесы над той бездной жестокости и человеческих страданий, которая покрывалась условным термином «советская власть».
Увы! Это были цветочки — ягодки были впереди.
Самый разгар высылок (по официальной терминологии это называлось «кампания по очистке Ленинграда от чуждого элемента») пришелся на масленицу и на первую неделю великого поста. На первой неделе я говел. Это было особое говение, особая углубленная молитва. В субботу за ранней я причастился и почувствовал полное спокойствие и мир духовный.
Но вот прошла «кампания», жизнь стала входить в свою колею. Наступила Пасха, печальная Пасха; невольно вспоминались наши священники и прихожане, высланные из Питера. Где они, что с ними, как они празднуют Пасху?
А затем опять возник передо мной вопрос: «Что делать?» Я чувствовал себя разочарованным и обманутым. Обман, со всех сторон обман! Обманом оказался советский социализм, в котором я думал найти нечто истинное: он оказался лишь маской, под которой скрывались жестокость и хамство. Я без содрогания не мог вспомнить ни перевернутых лиц высылаемых, ни гнусных слов матери моего товарища: «Черт с ними! Пускай высылают, может быть, нам квартиру скорее дадут». Обманом оказалось обновленчество: вместо истинного обновления церкви — подлизывание к НКВД и карьеризм. В то же время и к старой церкви, с ее косностью, обрядоверием и консерватизмом, я вернуться уже не мог.
В это время я, между прочим, имел разговор с митрополитом Алексием (будущим Патриархом), единственный откровенный с ним разговор.
Он остался все такой же: изящные манеры, французский выговор, красиво брошенные на стол очки. «Да, да, наша церковь косная — и с этим ничего не сделаешь», — говорил владыка, задумчиво качая головой. «Что касается меня, то моя идеология — монашество. Мир все дальше и дальше отходит от Бога: люди в 1935 году гораздо хуже, чем они были в 1735 году. Я потому и пошел в монахи. В общем власть могла бы относиться к нам наиболее, что ли, снисходительно: мы совершенно отказываемся от всякого мирского властительства». (Красиво он выговаривал это слово с французским тянущимся «и» — «власти-и-тельство»). Мне он рекомендовал больше читать, больше систематически заниматься богословием. «Напрасно Вы думаете, что Вы богослов. Я помню, как я по окончании университета поступил в академию, и как мне трудно было догонять. А Вы, Вы только вершки, вершки схватили!» Опять очень красиво у него выговарилось «в-э-ршки, вэршки». Он тогда жил еще в бывшем Новодевичьем, около Московских ворот. Монахинь уже давно не было: они были сосланы в 1932 году, в соборе был клуб, монастырская стена была снесена. От всей былой роскоши оставались только покои митрополита (нижний этаж игуменских покоев и небольшая церковь с иконой Божией Матери «Отрада»). Митрополит занимал три комнаты — ему прислуживал старичок иеродиакон Макарий. Семьи Остаповых, игравшей такую большую роль, когда он стал Патриархом, при нем еще не было.
В июне в одном доме я видел Платонова. После ужина, за которым он был очень оживлен, весел, обворожителен, он уселся у окна и подозвал меня к себе: «Ну, что Вы делаете?» Я рассказал ему о своих мыслях и начинаниях (впрочем, довольно осторожно: тюрьма, хотя и кратковременная, меня все-таки кое-чему научила). Задумчиво он сказал: «Жизнь меняется. Религия, видимо, будет в каких-то совершенно других формах. И мы должны меняться». «И Вы, Ваше Высокопреосвященство, меняетесь?» «Да, и я. Закон жизни, ничего не поделаешь!» И он начал прощаться с хозяйкой.
Это был мой последний разговор с Платоновым как с архиереем. Следующий раз я увидел его через семь лет, незадолго до его смерти, в страшную блокадную зиму, когда у него уже позади были отречение от веры, превращение в профессионального антирелигиозника, а впереди — предсмертное раскаяние и смерть. Действительно, развитие — закон жизни.
Лето 1935 года — время тоски и порою отчаяния. Особенно страшное время — вечера. Угрюмый и одинокий, бродил я по Питеру, погруженный в задумчивость. Вот иду я, помню, по Литейному и неожиданно вижу в зеркало около кондитерской свое отражение: чернявый, угрюмый парнишка в сером пиджаке (мой первый пиджак, перешитый из папашиного) и в рубахе косоворотке. И мне приходит в голову мысль: «А что если сейчас прямо по Литейному, к мосту и в воду». И сколько раз приходила в голову тогда мне такая мысль. Особенно влияла на меня в этом смысле декадентская поэзия, которой я в это время упивался.
Но спасла меня от самоубийства все же церковь, все же глубокое религиозное чувство, особенно молитва к Божией Матери.
Царица небесная, Скоропослушница! Мать и Дева! Непрестанно Она простирала надо мной свой Покров. И я чувствовал Ее руку в самые черные моменты и предчувствовал тяжелые беды, которые ждут впереди, но они были не страшны с Ней, Заступницей теплой мира холодного.
Недавно раскрыл наугад томик Блока, вывезенный мной из России, — попал на одно стихотворение и удивился, как верно поэт отразил там мое тогдашнее состояние, настроение моей тревожной юности.
Между тем, наступил август. Техникум я окончил в июне. Надо было что-то делать. Безделие надоело. Да и папаша говорил, что вскоре мне будет 20 лет и пора вставать на собственные ноги. В августе я выдержал экзамен в Педагогический институт им. А. И. Герцена, на факультет языка и литературы. С первого сентября 1935 года стал студентом института (на вечернем секторе) и одновременно учителем начальных классов в одной из школ Ленинграда.
Тревожная юность окончилась. Началась трудовая жизнь, которая несла новые тревоги, новые заботы.
Трудовая жизнь
В пьесе Бернарда Шоу «Ученик дьявола» один из героев задает вопрос: «Что скажет об этом история?» Ответ: «Верно, солжет по обыкновению». История если и не всегда лжет, то почти всегда бывает пристрастна и несправедлива.
Пример исторической несправедливости: Екатерина II. Нет государя, который бы сделал для России столько добра, как эта высокоталантливая, энергичная и трудолюбивая женщина; именно в ее царствование Россия начинает приобретать облик цивилизованного государства, с этого времени ведет свое начало русская интеллигенция, русское общественное мнение, гласность, русский гуманизм. Не говоря уже о великолепной, блестящей государственной деятельности, благодаря которой Россия стала одной из ведущих держав Европы и обогатилась чудесными черноморскими жемчужинами. И что же? В народной памяти она сохранилась как героиня нескольких анекдотов.
Во всяком случае мы, старые питерцы, влюбленные в свой город, обязаны воздать честь ее памяти. Петр I положил основание новой столице — Екатерина II построила на этом месте один из самых прекрасных городов мира. В ее время жил в Питере Иван Иванович Бецкой, своеобразный, интересный человек (1704–1795 гг.), незаконный сын фельдмаршала князя Трубецкого, носивший усеченную фамилию своего отца; он был одним из крупнейших вельмож своего времени. Но память о незаконном рождении жгла его, не могла быть изглажена никакими почестями, никакими должностями. Это была рана, которая никогда не заживала, которая мучила его всю жизнь. И вот, по его инициативе, был основан специальный Екатерининский институт для незаконнорожденных детей, который занимает 12 огромных корпусов и тянется почти на километр. Он выходит одновременно на Мойку и другой стороной к Казанскому собору. Целый городок Бецкого, и в садах этого городка до сих пор высится его памятник.
Это здание сыграло ни с чем не сравнимую роль в моей жизни: здесь я не только получил образование и окончательно сформировался как личность, но познал и свою первую любовь, и свою первую дружбу. Здесь я впервые приобщился к политической деятельности. После революции, по инициативе А. М. Горького, в этих зданиях расположился Ленинградский Педагогический институт им. А. И. Герцена, как тогда говорили «производственным языком» первых пятилеток, — «самая большая кузница педагогических кадров». Действительно, до сих пор это самый большой педагогический институт в Советском Союзе. В мое время там училось 8 тысяч студентов; сейчас там учатся 16 тысяч человек. Десятки тысяч народных учителей во всех уголках России с любовью вспоминают этот институт.
Так как я подхожу к тому времени, когда стал педагогом, здесь уместно будет посвятить несколько строк моим коллегам. Русский народный учитель всегда, на всем протяжение русской истории, был одной из светлых фигур русской жизни. И опять мы сталкиваемся с ужасной несправедливостью, на этот раз уже не истории, а русской литературы — она обошлась с моими коллегами на редкость жестоко: благодаря ей русское учительство ассоциируется с бурсацкими мастерами порки, с Беликовыми и Передоновыми. Неблагодарные ученики забыли тех, кто не только научил их грамоте, но и был первым проповедником гуманизма в их жизни. Ведь не от своих же родителей сыновья пьяного дьячка Помяловского, жестокого и жадного лавочника Чехова и безграмотной прачки Тетерниковой[13] восприняли светлые идеалы, питавшие их творчество! Русский народный учитель, всеми презираемый, со всех сторон теснимый, всегда полунищий, полуголодный, униженный, был единственным, кто нес свет знания невежественному, пьяному, угнетенному народу. Могут спросить: «А советское учительство?» Отвечаю: никакого советского учительства никогда не было и нет. Есть все тот же извечный труженик, русский учитель, теперь уже даже не полунищий, а совершенно нищий, живущий впроголодь, который единственный несет, худо или хорошо, знание все такому же невежественному, пьяному, угнетенному народу. И это он воспитал генерала Григоренко и тысячи других демократов. Он и никто другой. Владимир Буковский не любил школы и не очень хорошо отзывается о школьных «учителишках». Все же я надеюсь, на старости лет он добром помянет одного из таких учителишек, с которым судьба его столкнула уже в его зрелые годы, когда этого учителишки уже давно на свете не будет.
Так или иначе, 1 сентября 1935 года я переступил порог одного из корпусов института им. Герцена, где помещался факультет русского языка и литературы. Прошел в деканат для регистрации. Здесь я увидел полную даму лет 30-и, жгучую брюнетку, с открытым, приятным лицом, со светскими манерами, и худощавого чернявого парнишку, по виду рабочего, в прорезиненном пальто (как тогда называли — «макинтоше»), который нервно закуривал папироску. Дама обратилась ко мне: «Вы что, тоже на литфак?» «Конечно!» «Ну вот, будем учиться вместе». Как она потом говорила, у нее в этот момент промелькнула мысль: «Этот в меня влюбится». Странно, что точно такая же мысль промелькнула и у меня в голове. С этой встречи начинается большая любовь, которая длилась 24 года, до самой ее смерти…
Парнишка был Борис Иванович Григорьев, впоследствии мой самый близкий, задушевный друг, умерший от голода в ленинградскую блокаду.
Так начались годы учебы в институте — лучшие годы моей жизни. И в этот же день я впервые переступил порог школы и дал первый в моей жизни урок. Когда я стал учителем, было всеобщее изумление: недоумевали все, начиная от моих родителей, кончая владыкой Николаем. По обыкновению, проиронизировал отец: «Ну да, ты учитель советской школы. Ну, так им и надо!» Даже тактичный и безупречно вежливый владыка Николай не мог сдержать улыбки и развел руками: «Вы учитель? Не представляю».
Действительно, трудно было себе представить такого анархичного, сумбурного, мечущегося юношу в роли учителя. Тем более, что я стал учителем 1-го класса. Причем класс мне дали состоящий из 40 восьмилетних детей (мальчиков и девочек), из которых ни один не знал ни одной буквы. Однако при моем появлении все встали. Я начал говорить и почувствовал, что меня внимательно слушают. И вдруг (неожиданно для самого себя) начал вести себя так, как будто я преподавал 20 лет. Я почувствовал себя свободно и уверенно, и какие-то невидимые нити протянулись между мной и детьми.
Выше я много писал о театре. Актерский талант — это действительно нечто непонятное и неуловимое, рационально необъясняемое. Ремесло актера требует неимоверного труда, непрерывного напряжения. Но зато обещает впереди славу, почести, всеобщее преклонение (кому из актеров не мерещится все это в начале деятельности). Для многих будет неожиданностью, если я скажу, что педагогический талант — это также нечто врожденное, непонятное, рационально необъяснимое. В этом я убеждался сотни раз на протяжении своей педагогической деятельности: образование, педагогические навыки, интеллект — все это не имеет никакого значения, если нет педагогического таланта. Сколько я видел образованных, высоко интеллигентных педагогов, которые были школьными мучениками: ученики их не слушали, над ними издевались, уроки для них превращались в пытку. И, наряду с этим, самые серые, простые, даже полуграмотные люди при одном появлении у учительского стола водворяли полную тишину и спокойствие. Ученики их слушали внимательно, боясь проронить слово, и подчинялись им беспрекословно. Искусство педагога, пожалуй, еще в большей степени, чем актерское творчество, требует непрестанного упорного труда и нервного напряжения. И в то же время не только не сулит впереди никакой славы, но и вообще ничего не обещает, кроме жалкого полунищенского существования и обычно полного забвения со стороны тех, кому ты отдал жизнь: несколько казенно учтивых фраз на выпускном вечере, традиционный букет, а затем холодный кивок при случайной встрече на улице. Такова обычная награда педагогу со стороны его питомцев.
За 60 лет советского строя выработалось бесконечное количество фикций. Одна из таких фикций — «советский учитель». Я утверждаю, что никаких советских учителей в природе не существует, даже если они сами себя таковыми считают. Конечно, школьная программа буквально замусорена всякими «актуальными» советскими лозунгами; конечно, от учителя требуют расшаркиваний перед официальными авторитетами. Однако это все лишь привески, которых никто всерьез не принимает. Придя в первый класс в качестве учителя, я следующим образом сформулировал нашу программу: «Мы с вами будем учиться читать, писать и считать». По существу, это является главным делом педагога, от 1-го класса до 10-го. А дело это увлекательное, интересное и настолько трудное, что ни на что другое просто не остается времени. А ведь все беды человечества происходят именно потому, что оно не умеет читать, писать и считать. За примерами ходить недалеко: 2000 лет читают Евангелие и так до сих пор не научились его читать. А посмотрите на людей во всех странах мира — пять тысяч лет пишутся книги, и вот сейчас книгопродавцы всего мира жалуются, что спрос на книги падает. И еще меньше умеют люди писать, считать, формулировать, дифференцировать, определять, поэтому для среднего человека все события мелькают, как ландшафт для пассажира экспресса; какими-то фрагментами, обрывками, без всякой связи между собой. Поэтому большинство людей так легко становятся жертвами любого политического обманщика. А пока что все учителя в мире учат людей читать, писать и считать: ни для чего другого у них не остается времени. Пожелаем им успеха в этом их трудном и увлекательном деле.
То, что я так быстро вошел в роль учителя, было для многих неожиданностью, но наибольшей неожиданностью это было для меня самого. Однако, когда через полгода я сфотографировался со своими ребятами, отец долго всматривался в эту фотографию, а затем пожал плечами и сказал: «Типичный сельский учитель. Как мог вдруг так переродиться». Я действительно люблю свое учительство и всегда о нем с удовольствием вспоминаю. Однако неровности моего характера всегда очень сказывались на моей работе. Как человек очень субъективный, эмоциональный и раздражительный, я всегда весь во власти личных симпатий и антипатий. Вот я прихожу в первый раз в класс — класс во мне возбуждает симпатию, все прекрасно. Речь льется сплошным потоком, ученики слушают с блестящими глазами, атмосфера дружбы, любви, взаимной симпатии, взаимная симпатия все возрастает, и когда приходит время расстаться (при выпуске учеников), мучительно страдаешь, кажется, отрываешь что-то от сердца. Но бывает и совершенно по-другому. Приходишь в класс. И сразу чувствуешь безотчетную антипатию. Особенно это у меня бывало, когда впоследствии мне приходилось преподавать в старших классах привилегированных московских школ. (Ученики — уже готовые чиновники советских министерств). И сразу эта антипатия заполняет все. Речь становится нервной, штампованной, неряшливой. Ученики это чувствуют. Злорадно ловят погрешности. Учителя это еще больше раздражает. Класс становится местом поединка между учителем и учениками. Патологическая вспыльчивость, унаследованная мною от отца, порождает острые инциденты; я делаю глупость за глупостью. И чем больше это сознаю, тем больше глупею. Жду не дождусь, когда перестану видеть перед собой эти неприятные физиономии. И мы расстаемся врагами. Так на простом практическом примере я убедился в глубокой правде апостольских слов: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий» (1Кор.13, 1).
Как это ни парадоксально, работать тогда было много легче, чем сейчас. Многие прочтут эту фразу с широко раскрытыми глазами: как, в те времена, в преддверии ежовщины, работать было легче, чем сейчас, в эпоху Сахаровых и Солженицыных? Представьте себе — легче. Конечно, если человека арестовывали, он проваливался сквозь землю и исчезал навсегда. Конечно, никто не был уверен, ложась спать, что посреди ночи его не разбудит стук в дверь. Но если человека не сажали, то было легче, много легче, чем сейчас. Объясняется это просто: тогда еще всюду и везде сохранилась старая интеллигенция. Она, по существу, занимала во всех учреждениях ключевые позиции. Вся профессура, все учительство, вся техническая интеллигенция состояла из интеллигентов старой формации. С ними сразу находился общий язык, и они создавали вокруг себя атмосферу доброжелательности, терпимости, широты взглядов. Тогдашние партийные руководители (из рабочих) чувствовали себя неуверенно и как-то стремились найти общий язык с интеллигентами. Сама советская жизнь еще не отлилась в те бездушно-бюрократические формы, в которых исчезает всякая живая мысль, всякое искреннее, сердечное чувство. Особенно это все чувствовалось в учительской среде: коммунистов здесь почти не было; обычно один на школу (директор), из сорока человек учителей — 30 старых питерских педагогов. Хорошо работалось в те дни! С удовольствием вспоминаю своих тогдашних коллег. Среди учителей начальных классов преобладали женщины. Обычно «бестужевки», окончившие знаменитые Бестужевские курсы в Петербурге. Люди очень высокой культуры: все знали два-три иностранных языка, блестяще знали русскую и западно-европейскую литературу. До 1912 года учительницам воспрещалось выходить замуж (после выхода замуж она автоматически прекращала учительствовать), поэтому среди учительниц еще в мое время было много старых дев. В дореволюционное время они тоже жили не блестяще, однако общественность помогала. В частности, большую роль в помощи учителям играл Великий Князь Константин Константинович (известный поэт и переводчик К. Р.) На свои средства он устраивал учителям экскурсии за границу (платите 25 рублей — вас провезут по трем странам: Дрезден, Париж, Рим, Флоренция). Вам предоставят билеты во 2-ом классе, бесплатный вход во все музеи, трехразовое питание, гостиницы. Все это, разумеется, стоило не менее 200–300 рублей, но с учителя брали только 25. Остальное доплачивал Великий Князь. Он же помогал всем учителям в случае болезни, затруднительных обстоятельств — через особое бюро. В мое время питерские учителя хранили о Константине Константиновиче благодарную память.
В 1959 году, будучи в Новгороде, я случайно встретил мою старую школьную учительницу, Ангелину Степановну Кирьянову, бывшую бестужевку. Приехав в Москву, написал ей и получил ответ. Я долго держал ее письмо в руках и буквально любовался им — хотелось вставить его в раму. Конверт с адресом, само письмо — все это было так красиво оформлено, с таким тонким чувством вкуса, письмо было написано так умно, с таким тактом, во всем чувствовалась такая высокая культура. В Москве сейчас (смело говорю) не найдется ни одного учителя, включая пишущего эти строки, кто мог бы написать такое письмо. И как было обидно, что этим высококультурным, морально не то что чистым, а чистейшим женщинам, платили несчастные гроши (даже школьная уборщица иной раз зарабатывала больше). Иногда дворник говорил: «Татьяна Ивановна! (имя подлинное) что толку с Вашей грамоты? Я вот ни одной буквы не знаю, а больше Вас в десять раз зарабатываю».
Они сносили свое положение с большим достоинством. Никогда никаких жалоб. Работа в две смены с ужасными, разнузданными ребятами, достойный тон с родителями учеников, шутки с товарищами. Привычная книга перед сном. И над всем этим — бедность, аккуратная, заштопанная, чистоплотная бедность. С тех пор прошло 40 лет. Те учителя давно уже ушли из жизни. Сходят со сцены и те, кто тогда были мальчишками. Теперешние учителя не говорят по-французски и не пишут красивых писем. Одно осталось неизменным — бедность. Положение учителя с тех пор не только не улучшилось, но даже стало хуже. Тогда в учителях был недостаток, ими дорожили, и всегда можно было как-то подработать. Теперь среди учителей безработица — большая часть из них не имеет полной нагрузки; серая, нудная жизнь, и в то же время во всех школах плакат со словами Ленина: «Мы должны поднять народного учителя на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не мог стоять в буржуазном обществе». Как правильно сказал А. Д. Сахаров, «дело народного просвещения находится в СССР в постыдном состоянии».
У меня вскоре сложился новый образ жизни. В 6 часов утра встаю. Питерское зимнее утро. Тьма. Фабричные гудки. Школа до двух часов дня. Обед в столовке. Институт. Лекции до 10 часов вечера. Проводы Доры Григорьевны (таково было имя моей новой знакомой). Жила она на Лиговке, от института около 4-х километров. Возвращение домой в час ночи, чтобы завтра начать ту же жизнь.
До 20 лет я жил замкнутой жизнью — весь в книгах, в церкви, в философских абстракциях. Теперь я впервые вышел из своей башни слоновой кости. Хотя я еще в детстве изучил все тонкости русского лексикона, однако был, в сущности, парень неиспорченный: о любовных отношениях между полами знал, в основном, из романов, а вкус водки впервые узнал лишь в 19 лет. В нашей трезвой семье никогда не бывало ничего спиртного, кроме кагора, и то лишь три раза в год: на Пасху, на Новый Год и на Рождество, которое совпадало с днем рождения отца. И вот теперь первая любовь.
Мой друг Дора Григорьевна П. была человеком брызжущей жизнерадостности. Она мне всегда напоминала слова Моцарта у Пушкина: «А если мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти „Женитьбу Фигаро“». В каком бы настроении я ни был, как бы ни замыкался в своем мрачном внутреннем мире, увидев ее, я сразу весь преображался, убеждался, что и мир вовсе не так уж плох и что в 20 лет еще рано хоронить себя заживо. Между тем, более разных людей, чем мы с Дорой Григорьевной, трудно себе представить. Она родилась в 1903 году в семье крупного еврейского буржуа. С ранней юности отличалась жизнерадостностью и теми способностями, которые в других условиях сделали бы из нее украшение гостиных. Хорошо и много декламировала, была веселой, остроумной собеседницей. Она не принадлежала к глубоким людям, но имела живой интерес к политике, к литературе, к искусству, любила нравиться, но без тени пошлости. Ей был свойственен внутренний аристократизм: дрязги, сплетни, интриги ей были органически чужды и возбуждали у нее брезгливое отвращение, поэтому подруг у нее было мало. Когда мы с ней встретились, ей было 32, мне не было еще и 20-и. Сначала влюбленность мальчишки ее забавляла и немного льстила ее женскому самолюбию. Потом заинтересовала. Кончилось, однако, тем, что она меня полюбила. Так или иначе, но через полгода я объявил дома, что женюсь. Это объявление буквально повергло всю мою семью в транс. Против моего намерения восстала, конечно, бабушка: «Как?! Но ведь она же старше тебя на 13 лет! Это же безумие!» Отец тоже возражал, но не так решительно: он видел Дору Григорьевну и она произвела на него хорошее впечатление. Кончилось тем, что я заявил, что все равно поступлю так, как решил. И, зная по опыту мое упорство, семейные замолкли. Препятствие, однако, пришло с другой стороны. Дора Григорьевна попробовала ввести меня в свой круг. Я очень оробел и, рассердившись на себя за застенчивость, начал всем дерзить и грубить. Поэтому, когда Дора Григорьевна осторожно объявила о своем намерении, началась буквально буря: «Как? За этого нахального мальчишку-выкреста? Ты сошла с ума!» Больше всего Дора Григорьевна испугалась «ridicule». Действительно, выйти замуж за неоперившегося мальчишку, которого на улице многие еще принимали за школьника-десятиклассника, было нельзя сказать, чтоб очень серьезным шагом. И она нерешительно сказала: «Может быть, все-таки подождем?» Так женитьба не состоялась, но дружба продолжалась почти четверть века…
С Борисом Григорьевым нас сразу сблизила общая любовь к стихам. В первый же день мы разговорились о поэтах-символистах. Он увлекался Клюевым, я — Блоком, начали перебирать поэтов, тут же незаметно перешли на «ты». Итак, сразу между нами возникла дружба. Борис происходил из кондового русского мещанства. Его родной городок — Раненбург Рязанской губернии, сплошь поросший крапивой и заселенный сапожниками и огородниками. Отец, самородок-художник, сумел пробиться в Академию художеств и даже окончил ее с золотой медалью. Жениться, однако, Иван Васильевич поехал в свой родной Раненбург и привез оттуда веселую, чернобровую и почти совершенно неграмотную девушку. В 1916 году, 4 октября, родился у них сын Борис, который был моложе меня на год. В противоположность мне, прошедшему в это время уже огонь, воду и медные трубы и почти совершенно независимому от семьи, Борис был крепко привязан к семейному очагу и не мыслил для себя жизни вне дома. Худощавый, болезненный юноша, он был страстным курильщиком; буквально не вынимал папиросы изо рта, и от всех его вещей так и несло запахом дешевого табака.
Несколько лет назад, сидя в Библиотеке Ленина, я вдруг ощутил справа от себя запах студенческих дешевых папирос; курил мой сосед. И вдруг я почувствовал впервые за 30 лет у себя на глазах слезы. Как живой встал у меня перед глазами Борис. Дружба наша, однако, отнюдь не была сентиментальной: как все мальчишки, мы не выносили никаких проявлений чувства и всегда разговаривали друг с другом с подчеркнутой грубостью. Сначала мы разговаривали в основном о литературе, но вскоре наши беседы приняли более актуальный характер и уперлись в политику. В Советском Союзе всегда все упирается в это. Мы нашли полное согласие: оба были демократами, противниками капитализма и сторонниками того, что сейчас бы назвали «социализмом с человеческим лицом».
В одном мы никогда не могли договориться с Борисом — он не был религиозным человеком, не знал и не понимал христианства.
Жил он в той своеобразной части Питера, воспетой Пушкиным и мастерски описанной Гоголем в «Портрете», которая называлась тогда Коломной, около самого Калинкина моста, где когда-то бродил Раскольников.
Питер — странный город; в нем никогда ничего не меняется. Каждый раз, когда я туда приезжаю (а живя в России я бывал там каждый год), я буквально погружаюсь в свое детство. Иду мимо крылечка (у нас на Васильевском) с пятью ступенями и думаю: «Что это сегодня нету бабки, которая семечками торгует и всегда здесь сидит?» И только в следующий момент вспоминаю, что бабка эта здесь сидела и семечками торговала ровно 50 лет назад. Прихожу в библиотеку нашего института и нахожу стол, на котором сохранилось слово, вырезанное мной по привычке бурша перочинным ножом 40 лет назад. Вот и Коломна почти не переменилась с того времени, когда жил здесь Борис. И до сих пор от нее веет если не Пушкиным и Гоголем, то во всяком случае Раскольниковым. Каждый раз прихожу сюда, к Калинкину мосту, и стою на набережной канала Грибоедова, и смотрю на дом № 168, — это единственная возможность вспомнить Бориса, которого последний раз я видел здесь мертвого 23 февраля 1942 года. Могилы нет; он похоронен где-то среди умерших от голода, мать последовала вскоре за ним (отец умер еще до войны), а его фотографии потерял я вместе с вещами при выезде из Ленинграда после блокады. И уже никого не осталось, кроме меня, кто помнил бы его. А между тем это был человек кристальной душевной чистоты, редкого благородства, в моральном отношении во много раз более высокий, чем я. Ему никогда не было свойственно ни честолюбие, ни тщеславие; он был сама скромность. В минуту душевного волнения сильно заикался. Благодаря этому на экзаменах (при совершенно одинаковых знаниях — мы готовились всегда к экзаменам вместе) я всегда получал «5», а он тройку. Однако зависть и другие мелкие чувства никогда ему свойственны не были.
Я помню, мы как-то с ним шли осенью вместе по набережной Невы. Дул сильный ветер, на горизонте черные тучи, однако вдали желтый просвет. Час заката. Придя домой, я написал стихотворение.
Мы много лет с тобой вдвоем Обходим воды, мглу и сушу. И много лет я жег огнем Свою больную, злую душу. Идем зигзагами вперед, Блуждая вместе руку в руку. И черно-желтый небосвод Таит смертельную разлуку.
Прошли мы с ним рука в руку совсем незначительный отрезок пути, а «смертельная разлука», когда я писал эти строки, была совсем не за горами. Но на всю жизнь образ Бориса Григорьева остался у меня одним из самых светлых воспоминаний.
«Меж ними все рождало споры и к размышлению влекло». Одно, кажется, было бесспорным, что советский режим безнадежно плох. Каждый день приносил этому все новые и новые доказательства. Особенно ощутимо это было для нас, литературщиков, которые ежедневно соприкасались с тем всеобщим проституированием, которое все больше и больше охватывало советскую культуру. Правда, в это время советская литература еще не превратилась в такое смрадное болото, как в послевоенное время, в эпоху «сталинских лауреатов». Еще жили и действовали талантливые писатели, еще появлялись изредка талантливые произведения, и интерес к литературе в обществе еще не совсем погас. Но и то, что мы видели, было достаточно подло. Ряд писателей сидел с кляпом во рту и ожидал гибели. Бабель, Пильняк, Пастернак, Лавренев. Другие доходили до самого гнусного сервилизма: Алексей Толстой становится в это время типичной фигурой. Его «Петр Первый» еще вызывал интерес; за ним охотились, в библиотеках за ним стояли очереди, его зачитывали до дыр. К 1937 году, к 20-летию Октября, вышел «Хлеб», широко разрекламированный в газетах. Когда он появился, люди кинулись в библиотеки, схватились за книжку и тут же ее бросили. Уже через 2 недели «Хлеб» спокойно лежал на библиотечных стендах — никто его не брал. Так общественное мнение отвергло подхалимское произведение придворного писателя. Из уст в уста передавался следующий перефраз знаменитой эпиграммы Пушкина на Булгарина:
В своих выступлениях Толстой побивал все рекорды холуйства: на одном из съездов комсомола он бросил поистине бессмертную фразу: «В старое время считали, что писатель должен искать истину. У нас частные люди поисками истины не занимаются: истина открыта четырьмя гениями и хранится в Политбюро». Было противно. Противно до тошноты. Сходную эволюцию (хотя и не с таким отвратительным цинизмом) проделывали и другие писатели.
Своеобразное положение занимал А. М. Горький. До 1935 года его считали одним из официальных авторитетов. Однако в 1935–36 гг. начал явно обозначаться перелом в отношении официальных кругов к «великому пролетарскому писателю». Это не осталось незамеченным. В марте 1935 года в «Литературной газете» появилось письмо Горького в редакцию по поводу романа Достоевского «Бесы». Речь шла о переиздании знаменитого романа, который уже был подписан к изданию, но в последний момент задержан. Горький высказывался за переиздание романа «Бесы», так же, как и «антинигилистических» романов Лескова «Некуда», Крестовского «Панургово стадо», Писемского «Взбаламученное море». В конце письма Горький отдавал должное мастерству романа и делал очень тонкое наблюдение, что в романе имеется персонаж, не замеченный критикой, — тот, от имени которого ведется повествование. Все мы привыкли к тому, что «догмат непогрешимости» распространяется и на Горького в такой же мере, как на «четырех гениев», и «великий пролетарский писатель» (таков был официальный титул Горького) является среди них пятым. И вдруг! И вдруг появляется ругательный ответ Горькому от… Д. Заславского, паршивой журналистской шавки, которого никто не принимал всерьез. Причем ответ, составленный в вызывающем тоне. Горького обвиняли в том, что он пропагандирует «клевету на революцию». Затем Заславский с грацией заправского доносчика делал провокационный пируэт: «Если можно печатать старую клевету на революцию, то почему же не перепечатать более свежую клевету белогвардейских сочинителей — эмигрантов и господина Троцкого. Не предложит ли Алексей Максимович и их перепечатать и преподнести нашей молодежи с восторженным предисловием». Все ахнули от изумления и начали ожидать ответа Горького. Увы! Ответа не последовало. А через два месяца — новый сюрприз. Появился в «Литературке» очередной опус Горького «Литературные забавы», № 2. Так назывались большие критические статьи Горького, занимавшие целый газетный лист, в которых Горький отчитывал многих писателей «соцреализма». Он, между прочим, однажды сделал довольно острое замечание: «Мне говорят, что я плохо знаю советскую действительность. Это правда. Но ведь я еще хуже знаю действительность индийскую и норвежскую. Однако, когда я читаю Рабиндраната Тагора или Кнута Гамсуна, у меня почти никогда не является никаких сомнений, а когда я читаю советских писателей, сомнение меня гложет на каждой строчке». В этой статье старик, между прочим, отвел душу на Панферове — официальном партийном писателе, бездарность которого была очевидна. И вдруг, вдруг появилось опять в ответ вызывающее письмо Панферова с личными выпадами в адрес Горького. Здесь была поставлена точка. Горький замолк. До самой его смерти не появилось ни одной строчки. Горький, видимо, решил уйти в молчание, во внутреннюю эмиграцию, так же, как Бабель, Лавренев, Пастернак. Это была единственная возможная в то время форма протеста. Но молчание Горького тоже было достаточно красноречиво. Все его прекрасно понимали, лучше всех понимал его Сталин, и потому он решил его участь: Горький ушел из жизни.
Григорьев хорошо знал живопись и был связан (благодаря своему отцу) с кругами художников. Там была еще более затхлая атмосфера, чем в литературных кругах. Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, Игорь Грабарь доживали последние дни. Над всем царил дух художника И. Бродского, одного из самых подлых представителей сталинской эпохи. Сейчас он забыт. И забыт несправедливо. Он имеет право на бессмертие так же, как имеет такое право Иуда Искариот. Видел его много раз: он принимал участие во всевозможных конференциях, заседаниях, собраниях, где всегда сидел в президиуме. Полное еврейское лицо, длинные волосы, оставшиеся от юности, когда он был учеником Репина. На лице брюзгливое выражение: самодовольство и злость. Все пальцы в кольцах. Он являлся не только придворным художником (автором портретов Ленина и Сталина), но и признанным законодателем в области живописи. В полной мере его роль выяснилась после его смерти, когда появилась о нем монография, написанная его сынком. Достойный отпрыск И. Бродского пишет о своем папаше следующее: «Однажды он был принят товарищем Сталиным. Товарищ Сталин задал вопрос: „Кто персонально мешает развитию советской живописи?“ „Я предвидел этот вопрос, товарищ Сталин, вот список лиц, мешающих развитию советской живописи“. И отец положил на стол перед товарищем Сталиным список. Каково же было удовлетворение отца, когда он узнал, что все эти лица впоследствии оказались врагами народа». Если прибавить, что в числе «этих лиц» был великий русский художник, только что вернувшийся из эмиграции, Борис Шухаев и ряд других наиболее талантливых художников, то на этом можно считать характеристику маститого «заслуженного деятеля искусств» Израиля Бродского законченной.
Во всех областях жизни, в науке, в искусстве, даже в церкви, — начинали господствовать в это время лица, подобные Бродскому. Великая блудница все больше укрепляла свое царство. Какова была позиция интеллигенции в это время? Очень много бичевали интеллигенцию за трусость, за подхалимство, за беспринципное приспособленчество. Больше всего ее за это критиковали сами интеллигенты. Эти упреки, конечно, справедливы. Но лишь отчасти. Позиция старой русской интеллигенции была гораздо более сложной. Воспитанные на Некрасове, на статьях Белинского, Чернышевского, Добролюбова, на «хождении в народ», преклонявшиеся перед народниками, русские интеллигенты, конечно, не могли принять белогвардейского движения. Оно у них ассоциировалось с русским шовинизмом, с погромами, поркой крестьян шомполами, русским милитаризмом и полумонархизмом[14]. В 20-х, начале 30-х годов многие интеллигенты задавали себе вопрос: «Если не советская власть, то кто же? Белая армия, которая придет вместе с интервентами?» В 30-е годы русский интеллигент стоял перед еще более страшной альтернативой: фашизм, который был уже совершенно во всех отношениях неприемлем, и даже самое слово вызывало ужас. Большинство старых интеллигентов выходило из этого положения следующим образом: недостатков много, но все они временные, постепенно они будут изживаться. Поэтому надо работать не за страх, а за совесть. Работаем мы не для власти, а для народа.
Мы с Борисом, как типичные интеллигенты, исходили их тех же предпосылок: в частности, Борис был страстным поклонником Белинского и полностью разделял мое преклонение перед Толстым. Идеология «Вех» была для нас обоих безусловно неприемлема. Преклонение перед идеалами Некрасова и народников было альфой и омегой нашей жизни. Различие было только в том, что я истолковывал народников в духе евангельской заповеди: «Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя» (Иоанн 15, 13). Я был (да и остался) христианским народником и христианским социалистом. Борис был народником и социалистом в чистом виде. Но мы были молоды и энергичны. Теория «малых дел» нас не устраивала. Мы жаждали деятельности. И на вопрос «Что делать?» мы отвечали словами Некрасова От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви.
Григорьев эту мысль выразил в довольно напыщенном, хотя и звонком четверостишии:
Отсюда был только один шаг до участия в подпольных организациях, в подпольных кружках. Оставалось сказать лишь слово. Это слово сказал я однажды вечером, между Покровским рынком и Калинкиным мостом, когда провожал Борю из института. Борис промолчал. Потом сказал: «Да, но я не хотел бы глупо погибнуть. Из-за болтовни». И дальше мы начали обсуждать конкретные пути. Месяца два мы говорили об этом. Но дальше разговоров дело не шло.
Может быть, так бы все и заглохло, если бы в это время я не познакомился еще с одним парнем — Володей Вишневским, тоже филологом, с дневного отделения. Вишневский был таким же типичным «герценовским» парнем, как мы с Борисом. Все мы, «герценовцы», одевались плохо, реяли в эмпиреях и были немного людьми не «от мира сего». Человек «этого мира» в учителя не пойдет. Как говорил однажды один мой знакомый преподаватель (циник и остряк), «в учителя идут все недоделки и неудачники жизни». Володя Вишневский был из приличной семьи, увлекался наукой, был круглым отличником. Мы с ним быстро нашли общий язык. Я уже на третий день знакомства раскрыл свои планы. Через несколько дней, в кавказском ресторанчике (погребке) у Казанского собора, мы пришли к полному согласию. Володя назвал несколько человек, которые могли бы принять участие в кружке, Борис назвал несколько своих школьных товарищей, я некоторых товарищей из молодежи по церковной линии. В общем насчитывалось человек 20[16]. Мы бы, конечно, тут же всех их собрали и немедленно были бы арестованы, если бы Володе не пришла в голову мысль: посоветоваться с одной из преподавательниц института.
«Преподавательница» (будем называть ее так, потому что у меня нет полной уверенности в том, что ее нет в живых, хотя надежд на это мало, — она в 1937 году попала в лагерь) была колоритной личностью. Экспансивная, сангвиническая еврейка, она читала у нас один из литературных предметов, охотно беседовала со студентами и некоторых приглашала к себе на дом. Володя Вишневский на дневном, я — на вечернем были ее фаворитами. Она дала Володе на прочтение редкий литературный сборник «Ржаное слово», мне она также дала для доклада о футуристах известный футуристический сборник «Пощечина общественному вкусу». Мы с Володей договорились прийти к ней в одно время. Борис, скромный и заикающийся, ее внимания не привлек и оснований к ней приходить у него не было. Итак, однажды, субботним вечером, мы с Володей переступили порог ее одинокой квартирки на одной из улиц, прилегающих к Невскому. Здесь, под зеленой настольной лампой, состоялся наш с ней разговор. Говорил Владимир, нервный, подергивающийся, теребя в руках носовой платок. Изложил наши планы. Окончил. Молчание. Она посмотрела внимательно ему в лицо, потом таким же изучающим взглядом на меня. Мы, затаив дыхание, ожидали, что она скажет. Ее реплика была неожиданна: «Скажите, ребята, вас в детстве ваши папаши секли?» Володя покраснел, а я спокойно ответил: «Случалось». Она, однако, Володю не оставила в покое: «Так, его отец сек, а тебя?» Володя ответил: «Тоже случалось». Она сказала: «Мало, очень мало. Надо было вас обоих драть, как Сидорову козу. Ну, есть ли у вас что-нибудь в голове, что вы вдруг приходите ко мне с таким делом? Вы же знаете, что я член партии. Любой бы на моем месте немедленно позвонил в НКВД, хотя бы потому, что принял бы вас за провокаторов». Она прошлась несколько раз по комнате, а потом спросила: «Сумасшедшие мальчишки! Хотите чаю?» Я ответил: «Спасибо». «Спасибо да, или спасибо нет?» «Спасибо, да!» «Ладно, подождите!» Она пошла на кухню раздувать примус, а Володя мне шепнул: «Клюнуло!» Вообще он был самый смелый и предприимчивый из нас. Царство ему Небесное! Он умер как герой в первые же дни войны: добровольцем пошел на фронт и был убит под Ленинградом в августе 1941 года.
За чаем разговор возобновился. Как бы невзначай она спросила Володю: «Ты не знаком с Х из института Покровского?» Он ответил: «Нет». «Познакомься. Он тебе много может дать ценных указаний по литературе». Затем обратилась ко мне: «А тебе, парень, полезно общаться больше с рабочими ребятами, а то уж очень ты книжный. Вот есть хороший парень из рабочих в университете, Николай. Будущий химик. Зайди-ка к нему в общежитие, на 3-ей линии. Подружись с ним: он тебя спустит с неба на землю». Затем заговорила о литературе, заинтересовалась нашими успехами и, все так же, между прочим, дала нам инструкции: никогда не собираться нигде больше 2–3 человек, никому не сообщать никаких фамилий. Держать связь только с этими двумя парнями. Больше к ней не приходить. Затем, пожав нам руки, пожелала нам всего хорошего. Когда мы очутились на лестнице, Володя кое-что сообщил мне про нее. Оказывается, она была старым членом зиновьевской оппозиции и поддерживала связь с троцкистскими кругами. Хорошая, умная, смелая женщина! Я поминаю ее за упокой, если же жива (ей сейчас было бы 80 лет), тогда пусть примет привет от своего любящего ученика.
На Московском вокзале нас ждал Борис. Завидев его, я еще издали, смеясь, спросил: «Борька, тебя отец в детстве сек?» Он вытаращил глаза: «Чего это вдруг?» «Нет, ты отвечай, лупил тебя отец или нет? Иначе ничего не скажем!» «Ну стегал, конечно, как и всех. Что из этого следует?» И мы подробно изложили ему разговор с преподавательницей. Борис полностью со всем согласился. Так был закреплен наш триумвират — трех герценовцев.
В Институте им. Покровского готовили сельских учителей. Туда поступали обычно деревенские ребята, испытавшие на своей спине все прелести коллективизации. Среди них было больше десятка парней, связанных с одним из преподавателей, а через него — с известным меньшевиком Сандлером, а после его ареста — с одним профессором, фамилию которого нам не называли. Все эти ребята считали себя социал-демократами, хотя по своему мировоззрению скорее подходили к эсерам. Их в основном интересовала деревня. Их родители несли на своих плечах колхозное ярмо, они спали и во сне видели, когда возродится русская деревня и станет сытой, хлебной, грамотной, основанной на полном товариществе и братстве. Володя, нарушив запрет, познакомил меня с некоторыми из этих ребят. До чего же хорошие были люди: устойчивые, аккуратные, трудолюбивые. На таких можно было положиться. Впоследствии все побывали на войне. Вернулись в родные места. Учительствовали. Теперь те, кто жив, уже деды. Володя не хотел называть мою фамилию. И тут я впервые придумал себе кличку «Краснов», по имени одного священника, о. Владимира Краснова, служившего под Москвой и умершего в лагерях, которого я знал в детстве. Называли же меня обычно просто «Толик». В 1960 году, после того как в «Науке и религии» появилась про меня статья, где назывался мой псевдоним и имя, ко мне в дверь постучали. Вошел какой-то пожилой человек, по виду мне незнакомый, одетый в поддевку, с бородой, в шапке-ушанке, по-деревенски. Он меня крепко, крепко обнял и сказал: «Это ты и есть! Я сразу догадался». Это был мой старинный товарищ из института им. Покровского.
Между тем, тогда я направился в университетское общежитие на 3-ей линии. Разыскал Николая. Здоровый парень. Белобрысый. Хмурый. Когда я вошел в комнату, он с кем-то играл в шашки. На мой робкий вопрос, он ли Николай, сказал: «А, это ты. Погоди маленько». И докончил партию. Докончив, хлопнул меня по плечу: «Пошли». Хмуро повел по Среднему проспекту до Андреевского рынка. Дорогой молчали. Здесь зашли в пивную, заказали пару пива. Преодолевая отвращение, стал пить (пиво я всегда не выносил). Он усмехнулся: «Плохо пьешь, парень! Интеллигенция», — и выругался матом. Я озлился. «Ну ладно, хватит дурака валять. Имеешь ты мне что-нибудь сказать или нет, а то я уйду. А ругаться я умею не хуже тебя». Мой наскок, видимо, Николаю понравился. «Ну ладно, не петушись. Придет время, поговорим». Вскоре действительно начался серьезный разговор. Он был старше меня на десять лет. Теперь ему уже 70 и он имеет четырех внуков. Сын старого рабочего-путиловца, который принимал участие в революции, затем в гражданской войне. Его отец — старый троцкист, «отрекшийся формально от своих взглядов». Николай с детства усвоил взгляды отца, учился на рабфаке, работал на заводе. Сейчас был уже на третьем курсе. В университете тогда было много троцкистской молодежи, были троцкисты и среди преподавателей. Кряжистые, хорошие парни, хотя и довольно хамоватые в обращении, щеголявшие своим пролетарским происхождением. Вскоре договорились — все три молодежных потока, «герценовцы», «деревенщина» (так называли ребят из института Покровского) и университетские ребята, соединяются в единый социалистический молодежный фронт. Общая платформа следующая:
I. Трудовая и учащаяся молодежь, как наиболее действенная и передовая часть общества, является движущей силой пролетарской демократии и социализма.
II. Главной целью молодежи является борьба с господствующим слоем бюрократии.
III. Молодежь требует внутрипартийной демократии, а также полной демократии внутри страны, которая должна выражаться в свободе критики, в свободе слова, собраний, печати для всех, кроме монархических, фашистских и буржуазных партий.
IV. Молодежный фронт высказывается за сотрудничество с международным рабочим движением (в частности, с Социалистическим Рабочим Интернационалом).
V. Молодежный фронт высказывается за полную свободу профсоюзного движения.
VI. Молодежный фронт считает недопустимым какую бы то ни было принудительную коллективизацию, осуждает всякое прямое или косвенное давление в этом вопросе и высказывается за то, чтобы советское крестьянство само избирало пути своего развития.
VII. Молодежный фронт, являясь интернациональной организацией и признавая за всеми нациями право на самоопределение, в то же время считает необходимым сохранить Союз Советских Социалистических Республик.
VIII. Социалистический молодежный фронт признает полную свободу религиозных и философских убеждений, как за своими членами, так и за всеми гражданами, категорически осуждает какое бы то ни было прямое или косвенное давление в этом вопросе.
IX. Методом работы молодежного фронта является индивидуальная устная и (при возможности) письменная агитация среди молодежи.
X. Ввиду особых условий, в которых действует молодежный союз, каждый вступающий в союз должен носить псевдоним, и всякое разглашение сведений о фронте квалифицируется как предательство и провокация со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Как видит читатель, наша программа в основном отражала установки троцкистской оппозиции и была выработана университетскими ребятами. IV, V, VI пункты были введены по предложению «деревенщины». VII пункт был введен по предложению Вишневского, а VIII пункт по моему предложению. Считалось, что молодежный фронт объединяет большевиков-ленинцев (троцкистов), социал-демократов и христианских социалистов. Платформа была принята 1 января 1936 года. «Фронт» просуществовал примерно год и, конечно, не мог себя особенно проявить в тех условиях. Тем не менее этот год дал мне очень многое: я понял, как много значит подлинное содружество идейных людей. И хотя в 1937 году наш фронт прекратил свою работу и все его члены отошли впоследствии от общественной деятельности, тем не менее ни предателей, ни трусов в нашей среде не нашлось. «Органы так ничего и не узнали о нашем существовании.
Обсуждение нашей программы происходило следующим образом. Мы с Володей встречались с Николаем раз в неделю в пивной на 23 линии, в самом конце Васильевского острова, у Горного института. Заказывали пиво. Николай и Володя пили; я обычно лишь делал вид, что пью. Закусывали раками. Николай курил, громко ругался, заигрывал с официантками. Я это переносил довольно спокойно, а Володя, у которого было органическое отвращение к вульгарности и пошлости, сидел буквально как на иголках, нервно теребил свои недавно отпущенные усики, то надевал, то снимал шапку. Несколько лет назад Николай, уже старый и полупарализованный, спросил у меня: „А почему все-таки Володька меня так не любил?“ Я ответил дипломатично: „Закон кармы“ — всякий получает то, что заслуживает». Правда, Николай объяснял свое поведение необходимостью конспирации, но я лично думаю, что это была наименьшая из жертв, принесенных им на алтарь демократии; все университетские почему-то и без всякой конспирации без матерщины не могли произнести и трех слов. Некоторые оправдывали эту привычку ссылкой на высочайший из авторитетов — на «самого» Льва Давыдовича. (Насколько это обоснованно, не знаю). Посидев в пивной с полчаса (причем Володя все время торопил идти), мы направлялись к бульвару, соединявшему Средний со Смоленским кладбищем. Обычно это было около пяти, когда происходила смена в расположенном у бульвара трампарке, а также в лежащих рядом заводах; народу в это время здесь было видимо-невидимо, и компания трех парней, от которых разило пивом, не могла привлечь ничьего внимания. Здесь вполголоса начиналась острая дискуссия. Николай требовал безоговорочного принятия программы, составленной с четко большевистских, троцкистских позиций. Володя буквально трясся от негодования. Мы шли обычно, сцепившись под руки. Я посредине, Николай слева от меня, Володя справа, и я чувствовал дрожь Володи. Я играл роль миротворца. Николай поэтому дал мне кличку: «Толик-центрист». (И в буквальном, и в переносном смысле.) Раза два-три встретились, так ничего и не добившись. Между тем Володя представлял довольно значительную группу с дневного отделения Герценовского и института Покровского. Невозможность с ним договориться означала конец надежд на создание единой организации еще до начала ее деятельности. На середине бульвара мы прощались. Коля пожимал нам руки и сворачивал на тротуар. Мы с Володей обычно доходили до Смоленского. Помню, как однажды, когда мы остались одни, Володя воскликнул: «Ну и типчик! Как это ты его выдерживаешь?» Я ответил: «Что ж ты хочешь, революцию с профессорами делать?» Павел Николаевич и Александр Федорович это уже пробовали. Что из этого получилось, ты видишь[17]. Вишневский ответил: «Неужели мы затеяли всю эту катавасию только для того, чтоб опять идти на поводу у этого хамья?» Но пока мы доходили до Смоленского, он остывал, и мы мирно садились в трамвай № 4, чтобы ехать до площади Труда, где он жил. Он шел домой, я направлялся в институт.
Наконец, произошел решительный разговор. Володя разразился резкой филиппикой в адрес коммунистов, которые хотят посадить нам на шею вместо грузинских авантюристов жидовских (выпад тем более неожиданный, что сам Володя был, как и я, наполовину еврей, а Николай был чисто русский парень), что Троцкий ничуть не лучше Сталина, что ни он, ни его ребята пальцем не пошевельнут, чтобы надеть те же «портки, только гашником наперед», что нам явно не по пути[18]. Николай тоже озлился: с раздувающимися ноздрями, позеленевший от злости, он четко и ясно изложил свою позицию. Заявил, что их целью вовсе не является сдавать власть буржуазным сынкам. Власть завоевана рабочим классом, и не может быть и речи, чтоб он отдал ее кому-нибудь другому. Вишневский возражал резко и убедительно. Николай, однако, с неотразимой логикой, обнаруживая огромную начитанность в марксистской (и не только в марксистской) литературе, разбил аргументы Вишневского. От добродушного, полупьяного пивного завсегдатая-матерщинника не осталось и следа. Перед нами был эрудированный и глубоко убежденный, стойкий борец. Наконец, в тот момент, когда страсти накалились до крайности, в спор вступил я. И — в этот вечер нам было суждено удивлять друг друга — стал драться с Николаем его же оружием, основываясь на Марксе, Энгельсе, Плеханове, Ленине, Троцком. Почти 2 года корпения над марксистской литературой не прошли даром. Мы как будто уже начали находить какую-то общую платформу, но Володя чуть не испортил все дело. После какой-то, особенно его раздражившей, реплики Николая он вдруг воскликнул: «Все вы одна сволочь!» На что Николай ответил, все так же раздувая ноздри: «Таких, как ты, мы к стенке ставили и еще будем ставить!» Я быстро схватил в этот момент Володьку за руку, уловив его движение броситься на Николая. Стиснув зубы, он повернул от нас к Среднему. На этот раз мы с Николаем остались наедине., Шли некоторое время молча. Наконец я спросил: «Могу ли я осведомиться о своей участи? Что, меня тоже к стенке?» Николай махнул рукой, пробурчал какое-то ругательство и, едва мне кивнув, вскочил на ходу на вышедший из трампарка вагон трамвая. Я остался один.
Поздно вечером, в одиннадцатом часу, после института, я пришел опять в общежитие, в комнату, где жил Николай. Увидев меня, он тотчас встал с койки с необычной для него любезностью и сказал: «А, Толик, пожалуйста!» (Ему, видимо, было стыдно за нынешнюю вспышку). Я сказал: «Можно тебя на минуту?» Мы вышли в коридор. «Что ты, Толик?» — все таким же виноватым тоном спросил он. Я молча протянул ему листок, на котором была написана программа, приведенная выше. Здесь только один пункт принадлежал мне (о свободе религиозных и философских убеждений), все остальные пункты были заимствованы у Николая (из его проекта), у ребят из института Покровского, у Вишневского. Коля пробежал программу глазами, видимо, остался доволен. Сказал: «Хорошо. Надо показать ребятам». Затем попросил меня подождать в вестибюле. Через 5 минут вышел. Отдал мне мою рукопись, сказал: «Разорви и сожги на спичке или спусти в уборной. Не надо, чтоб это было написано твоей рукой». «А как же программа?» «Я уже ее переписал». Тут я впервые почувствовал у него ко мне теплое товарищеское чувство. Затем он мне сказал: «Пойдем, провожу тебя». Проводил меня до Тучкова моста. Говорили дорогой о посторонних вещах. У моста, перед прощанием, сказал: «А вообще интересный ты все-таки пацан. На все руки. И Маркса цитировать, и ругаться, и Богу молиться». Я ответил: «Стало быть, пока к стенке не ставить?» Он ответил: «Нет, не ставить. Ты ренегат своего класса. Буржуи тебя никогда своим не признают. Да и никто никогда тебя своим не признает». И мы пожали друг другу руки.
Он напомнил мне этот разговор два года назад и сказал: «Ну как, вышло ведь все-таки по-моему? В результате всего ты не в тех, не в этих. Так и остался белой вороной». А тогда он еще раз крикнул мне вслед: «Бумагу разорви — не забудь!» И мы расстались.
Через пять дней, когда мы снова встретились с Николаем (на этот раз пошел я один), он мне показал проект программы, перепечатанный на машинке. Введена была лишь одна поправка: там, где говорилось о запрещении монархических и фашистских партий, было вставлено слово «буржуазных». Наших (особенно Володю и Бориса) это покоробило. Но я уговорил их не срывать дело, которое наладилось с таким трудом, из-за одного слова. 1 января 1936 года я был приглашен Николаем к нему на дом. Я должен был принести ответ наших. Жила его семья за Нарвскими воротами. Открыл дверь отец. Тоже белобрысый, суровый, наполовину седой. Обдав меня запахом водочного перегара, сказал: «К Николаю?» И провел через кухню в крохотную комнатушку (типа чуланчика), где лежал на кровати полупьяный Николай. Завидев меня, спросил: «А, Толик, ну, с чем пришел?» Я сказал: «Все в порядке!» «Значит, по рукам?» «Да, да». «Ну и хорошо, а то жалко было с тобой расставаться. Больно уж хороший ты пацан». «А с Володей?» Николай был на этот раз в благодушном настроении и потому ограничился лишь кратким резюме: «Ну его на…» Затем сказал: «Пойдем к моим. Батя все знает, а мать и моя девчонка (Николай вскоре должен был уже в 3-й раз жениться) ничего… Баб в эти дела путать нельзя». Вошли в небольшую комнату. Стол, накрытый белой скатертью, на столе несколько бутылок. В стороне, за ширмой, постель родителей. На стене портрет Ленина. Однако в углу небольшой образ Николая Угодника. Коля, поймав мой взгляд, сказал: «Это мамкин. Она у нас верующая». И началось пиршество. Настоящее русское рабочее празднество: пироги с капустой, с мясом, борщ со сметаной, мясо на второе из борща. И с настоящей сорокаградусной водкой, настоенной на тмине. Я довольно быстро захмелел. Помню только, как сквозь сон: целовались и обнимались с Иваном Яковлевичем (отцом Николая), с Николаем, с его невестой. А мать Николая я объявил своей единомышленницей как верующую. Говорил, вероятно, много глупостей. Николай потом проводил меня до Доры Григорьевны. Дорогой я протрезвился, и Николай меня поздравил с началом нового дела. Папаша, старый троцкист, как мне сообщил Николай, меня похвалил, сказав: «Ничего, хороший пацан, открытый, простой, только уж очень болтлив».
Так или иначе, начали новое дело. В нашем институте была довольно сильная группа на дневном. У нас с Борисом нашлись несколько хороших ребят. Мы многому друг у друга научились. Мне не удалось обратить всех моих новых друзей в христианство; однако под моим влиянием все они решительно отвергли философию диалектического материализма. Вишневский вскоре погрузился в чтение В. С. Соловьева и стал верующим христианином, хотя называл себя «свободным верующим» и отвергал церковь. Примерно такой же линии держались и все его товарищи, за исключением Миши Гринберга, который был поклонником Спинозы. Борис воспринимал христианство, так сказать, эстетически. Его привлекал сияющий образ Христа; в это время он написал трогательные строчки:
Он воспринимал Христа по Ренану и Ал. Иванову, картину которого очень любил. Он считал себя неверующим, и в то же время ему были свойственны мистические переживания; он обожал символистскую поэзию, с упоением читал Рабиндраната Тагора «Титанжали» и иначе как с насмешкой и с пренебрежением не говорил о марксистской философии.
Что касается меня, то хотя я оставался и в это время верующим христианином, но духовная жизнь во мне несколько заглохла: политика, литература, преподавание меня отвлекали от церкви. Тем не менее, я аккуратно три раза в год исповедовался и причащался (в великом посту, в рождественском и в день своего ангела — 16 июля) и старался не пропускать праздников. (Воскресных богослужений я посещать не мог, т. к. воскресенья тогда были рабочими днями). Однако пунктуальнейшим образом соблюдал первую и страстную недели поста; не пропускал тогда ни одного богослужения и старался не вкушать мяса. С владыкой Николаем и с другими духовными лицами держал контакт по-прежнему. Тем не менее молился мало и рассеянно. В это время мною полностью овладевает моя постоянная наиболее сильная страсть — честолюбие. Оно принимает тем более противный характер, что я по своему простодушию и не пытался его скрывать. Помню, например, как однажды, когда в студенческой компании зашла речь о Пушкине и Дельвиге, я обронил полушутя замечание, обращаясь к Борису: «Вот видишь, как хорошо быть другом гениального человека — в историю попадешь». Борис, заикнувшись от раздражения, отпарировал: «Обойдемся без самовлюбленных нарциссов, разыгрывающих из себя филантропов». Отец смеялся, но и сам всем и каждому хвастал, что у него сын «отличник из отличников». Я действительно сдал все экзамены на обеих зачетных сессиях на «отлично» и шел первым на курсе. Ребят грамоте научил и, таким образом, как педагог тоже выдержал испытание. Моя личная жизнь с этого времени начинает носить весьма запутанный характер. Не вдаваясь в подробности, скажу, что через очень много лет, прочтя великолепный роман Генриха Белля «И не сказал ни единого слова», я, как в зеркале, увидел свою юность и свои мучительно сложные отношения с любимой мною на протяжении многих лет женщиной.
Лето 1936 года я использовал для того, чтобы возобновить свой контакт с духовенством. За зиму я соскучился по церкви и все лето ходил в храм чуть ли не каждый день. В это лето мы много и подолгу беседовали с владыкой Николаем. Я побывал в июле также в Москве, у Введенского. Вообще говоря, радоваться было нечему: в 1935 году был снят Тучков, руководивший церковным отделом в ГПУ начиная с 1919 года. После этого были распущены оба синода (как патриарший, так и обновленческий). Прекратился выход в свет «Журнала Московской Патриархии», издававшегося с 1930 года 2–3 раза в год в очень жалком виде, на 5–6-и страницах, без обложки. Тем не менее и Введенский, и владыка Николай были полны надежд.
Надежды, как это ни странно, сосредотачивались на будущей конституции, которая должна была быть принята осенью. Согласно новой конституции (проект был опубликован), духовенство получало избирательные права; следовательно, отпадал кошмар «лишенчества», который тяготел над священнослужителями много лет. «Лишенцы» — это была особая категория отверженных, подобно евреям в Германии во время фашизма. Всюду, куда ни являлся лишенец, вход ему был воспрещен (даже в столовых в 30-е годы я видел надпись: «Обеды отпускаются только гражданам, не лишенным избирательных прав»). Духовенство, лишенное всех прав в течение почти 20 лет, воспряло: им хотелось думать, что с принятием конституции все изменится. (Иллюзии! Опять иллюзии!) В то же время все газеты пестрели лозунгами о «демократизации» конституции, о демократизации жизни. Владыка Николай лелеял, видимо, какие-то личные планы. Помню, как он с горечью сказал: «Я теперь человек, стоящий в стороне». И тут же, как бы между прочим, прибавил: «Скоро это, я думаю, изменится». И, по внезапно изменившемуся выражению его лица, я понял, что бес честолюбия мучит не только одних мальчишек.
Лето 1936 года ознаменовалось двумя политическими событиями, которые имели огромные последствия, под знаком которых шла вся наша жизнь в последующие годы. Первое из этих событий — франкистский мятеж в Испании. 18 июля 1936 года. Когда я пишу слово «франкистский», я руководствуюсь позднейшими ассоциациями. Генерал Франко мог бы сказать о себе, как полковник Скалозуб в «Горе от ума»: «Довольно счастлив я в товарищах своих: из списков выключат иных, другие, смотришь, перебиты». Два его главных соперника (генерал Сен-Хурхо и генерал Мола) погибли (один в день переворота — во время авиационной катастрофы; другой через год после мятежа был убит шальной пулей в бою). Как бы то ни было, в начале гражданской войны испанское белое движение еще не ассоциировалось с именем Франко. Мы его называли просто «фашистским». Не приходится говорить, что все симпатии демократической молодежи были на стороне Республики, вплоть до того, что многие из нас мечтали (если начнется вербовка добровольцев) ехать в Испанию в качестве защитников Республики. Особенно мечтал об этом Володя Вишневский. Пылкий, экспансивный мальчик, он ненавидел одинаково лютой ненавистью и фашизм, и большевизм. Тонкий человек, интеллигент до мозга костей, он ненавидел всякую грубость, жестокость, всякую звериную, дикую силу. Я помню, как он мне однажды сказал: «И большевизм, и фашизм полностью укладываются в „Бесах“ Достоевского. Поставьте Верховенского и Шигалева у власти; они тут же подожгут рейхстаг, перебьют всех евреев или разгонят Учредительное собрание и перебьют половину крестьянства. И провозгласят власть „Ивана-царевича“ — немецкого, грузинского, еврейского — не все ли им равно». Как человек действия, он хотел бороться непосредственно на полях сражения, а не в кабинете. Увы! Через пять лет он осуществил свою мечту, пошел на войну добровольцем и пал под стенами родного города. В Володе было что-то от молодого Ницше, подобно Ницше, он был человек кабинета, филолог; подобно ему, «со светильником в руке он ходил от одного древнего поэта к другому», и, подобно Ницше, он рвался к живой жизни: цоканье кавалерии, романтика битвы воодушевляли его. Только идеалы у него были не ницшеанские, и он спал и во сне видел, как поедет он в Испанию бороться за свободу. Я тоже был воодушевлен борьбой за свободу Испании. Мне казалось, что в Испании формируется в лице борцов за Республику третья сила, одинаково враждебная и коммунизму, и фашизму, одинаково чуждая и капитализму, и советскому лжесоциализму. «Солнце восходит из-за Пиренеев», — говорил я. Особенно я был восторженным поклонником Ларго Кабальеро — испанского премьер-министра и вождя испанских левых социалистов. Мне нравилась его глубокая принципиальность, его независимость и бескомпромиссность в борьбе с фашизмом, в борьбе с испанскими коммунистами и с диктатом Москвы. Я и сейчас думаю, что, победи в Испании Республика, возможно, мы бы увидели в Испании то, что не удалось провести в жизнь Дубчеку: социализм с человеческим лицом. Хотя, конечно, в нашем сочувствии испанской Республике было немало элементов идеализации: мы и понятия не имели о тех зверствах, которыми запятнали себя защитники республики, узнали о них много позже из романа Хемингуэя и из других источников, которые дошли к нам в самиздате уже в наши дни.
Во время войны, на Кавказе, мне пришлось познакомиться с испанским эмигрантом, учителем из Барселоны, членом партии каталонской левой, сторонником Кампаниса. Мы с ним быстро нашли общий язык, и, как оказалось, в дни испанской войны он и его товарищи были воодушевлены теми же идеалами, что и мы. В довершение всего мой каталонский коллега оказался еще страстным поклонником Достоевского, и, когда я говорил с ним, мне порой казалось, что я слышу тогда уже покойного Вишневского. Так происходила перекличка юных сердец, разделенных тысячами километров, высокими горами, не одним, а десятками железных занавесов, — общие идеалы воодушевляли самых различных людей. Что касается Николая, то он, конечно, был сторонником ПОУМ (испанских троцкистов) и поклонником Нина, действительно одного из интереснейших людей того времени, незаслуженно забытого в наши дни. Андрей Нин, в прошлом крупный испанский коммунист, был в то же время тонким интеллектуалом, переводчиком Достоевского на испанский язык. В 20-е годы он часто бывал в Москве, и то, что он здесь видел, отнюдь не приводило его в восторг. Впоследствии я подружился с одной дамой, хорошо знавшей Нина в те дни. Он ей говорил, что в скором времени вернется в Испанию. В Испании был тогда также авторитарный режим Примо де Ривера. «Но Вас же там посадят в тюрьму», — сказала дама. «Конечно, — хладнокровно ответил Нин, — я для того туда и еду. Зато в тюрьме я смогу спокойно написать книгу, которую здесь написать мне не позволят».
Понятно, что такой человек не мог долго оставаться в орбите официального коммунизма. Во время гражданской войны он был крупнейшим теоретиком ПОУМ — испанских троцкистов. И Николай был его страстным поклонником и даже изучил испанский язык, чтоб прочесть в подлиннике книги Нина, которые сохранились от тех времен, когда Нин считался еще другом Кремля. Все мы хотели видеть в республиканской Испании осуществление наших идеалов. И хотя последние дни испанской Республики нас разочаровали (и здесь стало проявляться звериное лицо коммунизма), однако мы все оплакивали гибель Республики.
А пока мы твердо верили в победу республиканцев и считали, что наш социалистический Фронт и испанские республиканцы — союзники, что мы делаем одно и то же дело — боремся против варварства и деспотизма за свободу и демократию во всем мире.
Лето 1936 года принесло еще одну трагическую новость. С конца июля в «Правде» и «Известиях» начали появляться из номера в номер статьи, направленные против Зиновьева и Каменева и вновь, в кликушеском тоне, призывавшие отомстить за Кирова. Все мы были озадачены. В свое время убийцы Кирова (Николаев и его товарищи) были расстреляны.
Зиновьев, Каменев, Евдокимов и ряд их сторонников были заключены в тюрьму (по совершенно вздорному обвинению в том, что они были причастны к убийству). Но это было в январе 1935 года, а теперь, через полтора года, все эти события уже подернулись тиной забвения. И вдруг опять начинается кампания, причем совершенно так, как будто Киров убит только вчера. Первый почувствовал что-то неладное Николай. Задумчиво он сказал: «Что-то там произошло. Предстоит опять кровавая баня. Но пока будем делать, что можем». В конце августа все выяснилось: начался процесс Зиновьева, Каменева и их товарищей. Этим процессом открывается новая глава в истории России, новая глава моих воспоминаний.
Ежовщина
Процесс Зиновьева и Каменева в конце августа 1936 года был, как известно, лишь первый из трех подобных процессов. Не будет преувеличением сказать, что 3 процесса — это роковые вехи тех трагических двух с половиной лет, которые прочно вошли в историю и в народное сознание под зловещим названием «ежовщина». Для всех моих современников это такой страшный рубеж, он оставил у всех нас в душе такой след, что каждый смело может сказать: если бы не ежовщина, моя жизнь была бы иной; лучшей или худшей, но совсем другой. Прежде всего нас всех ошарашивали признания подсудимых и их поведение на процессах, настолько гнусное, что даже жутко об этом вспоминать. Достоевский говорит, что есть такие страницы в мировой литературе, что их вспоминаешь всю жизнь с щемящей болью; в качестве примеров он приводит конец «Отелло» и «Евгения Онегина». Такие страницы есть и в жизни каждого человека, и в истории каждой страны. В истории России такой страницей является ежовщина и эти зловещие процессы. Когда вспоминаешь, как Каменев говорит, что он не находит слов, чтоб определить всю гнусность своих несуществующих преступлений. Когда Пятаков, уже обреченный на смерть, пишет статью, где говорит, что всех подсудимых (его старых товарищей) надо расстрелять, и поносит приговоренных к смерти площадной бранью. Когда Бухарин, тоже обреченный на смерть, пишет передовую статью, в которой называет их «трижды презренными» и тоже требует расстрела, когда, наконец, Радек говорит, что с Бухариным его связывает глубокая «интеллектуальная» дружба и тут же дает на него лживые показания, которые должны неминуемо повлечь за собой расстрел Бухарина. Для определения всего этого есть только одно слово: дьявольщина. Все же сейчас, через 40 лет, хочется что-то понять в этом кровавом кошмаре, который и до сих пор не совсем рассеялся на нашей родине.
В лагере я сидел с одним старым румынским коммунистом, который много раз был узником Сигуранцы и испытывал там очень тяжкие пытки. Он спрашивал: «Почему же я мог это вынести, а Бухарин не мог?» А я у него спросил: «Сколько времени продолжались эти пытки?» Он отвечал: «Обычно неделю. До того, как вызовет прокурор. Когда дело возьмет в руки прокурор, пытки немедленно прекращались». Значит, надо было выдержать только неделю? Между тем, Зиновьев и Каменев с товарищами находились в тюрьме с декабря 1934 года по август 1936-го. Т. е. 20 месяцев. Пятаков, Радек с товарищами — полгода. Рыков и Бухарин — год. Пытки могли продолжаться без малейшего просвета. В конце концов человек доводится до такого состояния, что хочет только одного — чтоб как можно скорей его расстреляли. И больше ничего.
Покойный кардинал Миндсенти в своих воспоминаниях несколько приоткрыл подоплеку этих роковых признаний. В лагере я видел одного очень крупного белорусского коммуниста Домбровского, который во время войны командовал целой партизанской армией, а потом был крупным хозяйственником и попал за какую-то фантастическую растрату на 25 лет. Он говорил категорически: «Есть пытки, которых не может выдержать ни один человек. Однажды мы взяли в плен немецкого полковника. Я завидовал его мужеству: он держался высокомерно, ругал нас дураками и казался сделанным из камня. А во что он превратился потом? Он готов был предать родного отца, родную мать». А ведь здесь речь идет о партизанах, где им, самоучкам, до эмгебистских высококвалифицированных палачей. Конечно, мы знаем христианских мучеников и наших старообрядцев типа протопопа Аввакума или отца Никиты, так называемого Пустосвята, которые и не такие пытки выдерживали. Но ведь и среди этих несчастных были отдельные лица, которых не могли сломить никакие пытки (Шляпников, Преображенский, Смилга и др.). Так не все же могут быть героями и мучениками. Удивительно не то, что они были сломлены пытками. Удивительно другое — что они каялись с каким-то особым азартом, обвиняли себя чуть ли не с большим жаром, чем сами их обвинители. И здесь мы имеем дело с удивительным феноменом человеческой психики.
Я много раз замечал, сидя в тюрьмах, что человек держится до первого шага. Но стоит лишь «расколоться», признать себя виновным, и им овладевает буквально какой-то психоз: он забегает вперед, говорит о том, о чем его не спрашивают, называет огромное количество всяких фамилий, клевещет на себя и других. Говорить с ним в это время невозможно, усовещивать бесполезно. И только месяца через два, в лагере, происходит отрезвление, и он с удивлением и ужасом вспоминает свое поведение на суде. Это то, что на духовном языке называется «беснованием». И феномен беснования очень легко узнать в показаниях подсудимых тех процессов. Они говорят вещи невероятные, непонятные и даже такие, о которых их совершенно не спрашивают. Они одержимые, они собой не владеют, и их языки, как в бреду, лепечут то, что подсказывает им их воспаленное, больное воображение. И ветер дьявольщины проносится по залу, по стране, по всему миру. Когда Господь изгнал легион бесов из бесноватого, они умоляли Его, чтоб Он разрешил им войти в стадо свиней. Вся коммунистическая партия в это время превратилась в стадо бесноватых свиней. Мне пришлось однажды у одного из своих друзей увидеть архив его покойного отца, крупного коммуниста, относящийся к тем дням. Такого кошмара я не видел никогда, нигде, ни до, ни после. Старые, убеленные сединами люди набрасываются друг на друга, как бешеные собаки, наперегонки клевещут и доносят друг на друга. Как правило, каждое заявление в райком партии начинается с оправдания. Такой-то на него клевещет, что он, якобы, разделял платформу Троцкого, или был близок с каким-нибудь троцкистом или зиновьевцем. Во второй части заявления почтенный коммунист переходит в наступление: изничтожает своего врага, копается в его грязном белье, заглядывает в его ночные горшки. Затем переходит к другим своим знакомым. И их уничтожает, и на них доносит, и их обливает грязью. Слог нервный, бредовый, малограмотный. Пишет одержимый. А потом вся эта блевотина выплескивается на газетные столбцы, на страницы брошюр, звучит в речах ораторов. И всему этому верят, и всей этой мутью заражены миллионы людей. Дочь А. И. Рыкова Екатерина Алексеевна рассказывала моему другу, покойному Евгению Львовичу Штейнбергу, как во время процесса Зиновьева — Каменева она вошла в кабинет отца и увидела его с залитым слезами лицом над отчетами процесса. И он сказал: «Неужели Николай (Бухарин) мог быть связан с ними?» Он верил. Если уж он верил, то что же говорить об остальных. Тем большим уважением проникаешься к тем, кто не поддался этой заразе. К их числу принадлежал мой Николай и все наши ребята.
Лучше всего человек познается в опасные моменты. И в это время я хорошо узнал Николая. Он вдруг преобразился; совершенно исчезли элементы пошлости, почти исчезла привычная для него ругань. Речь стала четкой, ясной. Он порвал с девчонкой, которую прочил себе в жены. На мой вопрос ответил: «Где ей? Разве она выдержит?» Он не сказал, чего она не выдержит, но и так было понятно: все мы ожидали ареста с минуты на минуту. И все-таки были веселы и беззаботны. (Это я говорю про себя, человека крайне легкомысленного). Это легкомыслие меня всегда спасало в тяжелые моменты. Мне всегда именно в это время хотелось смеяться, дурачиться, рассказывать анекдоты.
Осенью 1936 года я ушел из обычной школы и стал учителем школы малограмотных при заводе «Электроаппарат». Отчасти, чтоб больше было свободного времени, отчасти для того, чтоб быть ближе к рабочей массе. После этого я целых три года работал исключительно с рабочими ленинградских заводов, фабрик, строек. Я имел дело с бесчисленным количеством рабочих и, помимо преподавания, незаметно, по ходу дела, популяризировал нашу программу. Это было не трудно. Сначала надо установить контакт, а это делается само собой. Труженик, изнуренный тяжелой работой, уставший от грубости и хамства, сразу раскрывается перед тем, кто относится к нему с лаской и дружбой. А ко мне шли именно такие рабочие, малограмотные. Активисты, карьеристы считали себя даже слишком грамотными, и им нечего было делать в нашей школе. Беседуешь с людьми, и сам собой почти ежедневно всплывает то тот, то другой пункт нашей программы; лучшее доказательство ее жизненности. И абсолютное большинство моих учеников уходило от меня, вполне усвоив программу, и были вполне подготовлены, чтоб поддержать нашу организацию. Оставалось сделать лишь шаг. Но вот этого-то шага я и не делал. Не мог сделать. Это значило немедленно погубить не только себя, но и целый ряд людей. Однако наш «Фронт» и не ставил перед собой какие-либо конкретные цели, а лишь устную агитацию. Он был своеобразным хождением в народ. И как участник этого хождения могу сказать, что результаты получались блестящие.
Моя дружба с Николаем тем временем крепла. Володя, который наружно помирился с Николаем, но все-таки его избегал, удивлялся: «Я понимаю, что надо поддерживать с ним деловые контакты, но как ты можешь с ним дружить, хоть убей, не пойму!» А я действительно дружил с ним и полюбил его. Мне нравилось в нем отсутствие позы, простота и доброе сердце под маской внешней грубоватости. Ум у него был ясный, пытливый, практический. Даже в это время он много читал. В. С. Соловьева читать, однако, не стал: «Нет уж, это чтение не для меня», — сказал он мне, возвращая «Духовные основы жизни». Зато Библию попросил сам. Прочел, однако, лишь пророков и Евангелие. На мой вопрос о впечатлении ответил неожиданно по-украински: «Це дшо треба розжувати». Мои методы работы с учениками одобрял, подчас давал очень дельные советы. В члены организации пока никого вербовать не рекомендовал, но учил, как строить работу с уже посвященными в наши эльвезинские таинства: «Бойся больше всего на свете бабников и пьяниц. Самые ненадежные люди». «Пьяниц понятно — они болтают, а бабники почему?» «Эти еще хуже. Возятся с проститутками (он выразился погрубее) и сами, как проститутки; ни воли, ни слова, ни твердости — тряпки». (Сколько раз потом я вспоминал эти слова! Золотые слова!) Я, однако, спросил: «Так ведь и ты бабник: двух жен сменил, на третьей хотел жениться, а что сверх этого — и считать нечего!» Он засмеялся: «Ну, меня же тебе вербовать во всяком случае никуда не придется, так что и говорить об этом. А затем у твоего Пушкина („моего“, потому что это литература) сказано, что „правил нет без исключений“». Я удивился: «У Пушкина? А где это у него сказано?» Он процитировал:
«Ты что, учил это наизусть?» «А я много из „Онегина“ знаю наизусть». «Зачем же учил?» «Понравилось и выучил».
Увы! Скоро пришел конец моему общению с Николаем. В ноябре 1936 года он пришел в пивную на 23 линии мрачный. Молча выпил кружку пива. Сказал: «Пойдем». Когда пришли на бульвар, я спросил: «Что случилось?» Он сказал: «Плохо!» (Впрочем, выразил эту мысль другим жаргонным термином). «Что такое?» «Батю вчера арестовали. Надо нам с мамашей сматывать удочки из Ленинграда. Пока не выслали». Я спросил: «Когда?» «Послезавтра». «Как послезавтра? Куда? А как же отец?» Он тут же изложил мне свою программу действий. Отца арестовали вчера. Значит через неделю, дней через 10, мать и он получат предписание о высылке из Ленинграда в 24 часа. «Вопрос ясен: отец — троцкист. Значит, надо действовать. Из университета я сегодня ушел. Завербовался на стройку в Сибирь. Из домоуправления выписался, указал место выбытия — Баку. Надо поскорее сматываться, пока не вмешались „органы“. Могут не выпустить. Послезавтра уезжаем. О бате будет справляться и носить передачи сестренка. Она замужем. Фамилия у нее другая и живет в Луге. Значит, ее не вышлют. Писать не буду. Надо, чтоб следы затерялись. Обо мне можешь узнать у сестры». (И он мне дал ее лужский адрес). Я спросил: «С кем мне держать связь?» «С Алексеем». Я сказал: «Приду проводить». Он заколебался: «В общем, не стоило бы, но если охота, можешь». Я действительно пришел на Московский вокзал. На прощание крепко обнялись. Я его перекрестил.
Благодаря своей стремительности, Николай довольно легко отделался. В той суматохе, которая происходила, его никто, конечно, разыскивать не стал. Он сначала работал грузчиком, потом быстренько окончил (экстерном) в Сибири институт. Выше я называл его профессию — химик. Собственно говоря, не совсем химик, но пусть он так и остается химиком. Был на войне. Война все списала. Женился, имел двух дочерей, похоронил мать. Отца расстреляли. В 1958 году, будучи в Ленинграде, я наугад справился о нем в будочке Ленсправки. К моему изумлению, мне тотчас дали его адрес. Квартира со всеми удобствами. В новом районе. Он открыл мне дверь сам, пожилой, стриженый под ежик, совершенно седой. Увидев меня, нисколько, казалось, не удивился. «А, Толик? А я так и знал, что ты зайдешь». Я онемел от изумления. «Откуда ты знал об этом?» «А я был у Доры Григорьевны. Она сказала, что ты должен быть в августе. Я ей и адрес оставил». (Я действительно вспомнил, что Дора Григорьевна говорила мне о каком-то человеке, который обо мне справлялся и оставил адрес. Но он ей показался подозрительным. Она ему очень мало обо мне рассказала, а адрес потом порвала). Торжественно он повел меня к жене. «Вот этот пацан — мой старый друг», — та с удивлением уставилась на 43-летнего пацана. Затем начался дружеский разговор…
Был я у него и в 1968 году. У него только что был удар. Отнялась речь. Жена рассказывала мне про него, а он молча смотрел на меня жалкими глазами, и в глазах стояли слезы. В последний раз видел его весной 1974 года. От удара оправился. Речь восстановилась. Но ходил с палочкой, правая рука плохо действовала. Долго с ним разговаривали.
Он знал, что я собираюсь на Запад. На прощание сказал: «Скажи тамошним коммунистам, чтоб были умнее наших; пусть не разбойничают». Если эти строки попадут на глаза западным коммунистам, буду считать, что поручение старого друга выполнил.
Конец 1936 года ознаменовался новым страшным событием: заключением всех «зиновьевцев». Надо сказать, что когда-то, в 1925 году, Зиновьев был в Питере царем и богом. Перед XIV съездом партии на партийных собраниях секретарь говорил: «Товарищи! Ставлю на голосование проект резолюции Ленинградского губкома по случаю XIV съезда партии. Кто за? Принято единогласно». Эта резолюция отражала точку зрения зиновьевской оппозиции. В 1936 году все участники злополучных собраний были еще в Ленинграде и их всех повально арестовывали, а родственников высылали. Делалось это так: брали протокол собрания — «единогласно»! Кто присутствовал? Такие-то. Всех немедленно в тюрьму. Я знал одну учительницу, которая спаслась лишь благодаря случайности. В день партсобрания очень устала, у нее болела голова, не пошла, получила выговор за неявку. Этот выговор ее спас через 11 лет. Во всех учреждениях, точно во время эпидемии гриппа, никого нельзя было найти: половина работников была арестована. Увы! Все это было лишь прелюдией к страшному 1937 году.
1937 год начался для меня знаменательно. 1 января происходила всесоюзная перепись населения. Это был единственный раз, когда в опросном листке была графа: вероисповедание. Специально разъяснялось, что атеисты должны писать «неверующий», без всяких дальнейших пояснений. Верующий же должен означить свое вероисповедание. Перепись проводили учителя и студенты. 1 января, в полдень, явился к нам переписчик, молодой парень, еврей, видимо, студент. Отец долго думал, как поступить, и решил дело дипломатически; сказал мальцу: «Ставь черту». Он ответил: «Нет, так нельзя». И записал в графу: неверующий. Отец дернулся на своем стуле, но смолчал. Затем студент обернулся к моей мачехе; та с совершенно спокойным видом сказала: «Неверующая». (Это вполне соответствовало истине). Бабушка ответила тоже что-то неопределенное; он и ей записал «неверующая». Заполнив мой вопросный листок («преподаватель, студент») и дойдя до каверзной графы, стал, не спрашивая меня, писать: «неверующий». Я так и вскрикнул: «Нет, нет, пишите православный». Парень засмеялся, думая, что я шучу. А я твердо сказал: «Пишите православный, иначе я не подпишу». Он удивленно вскинул на меня глаза и написал «православный». Отец и бабушка, бледные, молча наблюдали эту сцену. В передней, когда отец его провожал, статистик сказал: «Интересно у вас получается: единственный верующий — и самый молодой!» Отец молча пожал плечами. Простившись со статистиком и войдя в комнату, отец сказал, обращаясь ко мне: «Смотри, ты уже один раз попал в тюрьму из-за такой штуки. Опять попадешь — уже будет все. Струппе ведь теперь нет, заступиться некому». (Струппе, Чудов и другие соратники Кирова уже давно ходили во «врагах народа»).
На этот раз все оказалось не так страшно: никто из-за переписи не пострадал. Сталин, по приказу которого был включен этот пункт, действительно интересовался тем, сколько в СССР верующих. Процент оказался очень большой, и это имело определенное значение для переориентировки Сталина в церковном вопросе во время войны. Однако испуг моей семьи показывает, насколько ужас террора охватывал в это время всю страну. Деревня вся показала себя верующей, так же, как в городах пожилые люди. Интеллигенция струсила. Отец разводил руками: «Что поделаешь, я чиновник, Беликов, в старое время был православным, теперь неверующий». Никаким Беликовым он, конечно, не был, а был обычным средним запуганным человеком тех дней.
В феврале начались повальные аресты. Ужас веял над страной. Всем было известно, что в КГБ применяются страшные пытки, что людей убивают, калечат, истязают. Все время выхватывали то одного, то другого человека. Причем было совершенно непонятно, по какому принципу арестовывают: арестовывали безобиднейших, вполне советских людей, между тем как люди антисоветски настроенные оставались иной раз невредимыми. Отец по этому поводу говорил: «Ты мне примеров не приводи: там, где полный произвол, всегда могут быть отклония в ту или другую сторону».
Уже много позже, в 1946 году, со мной произошел такой случай. Мы ехали в автомобиле по Сокольникам. Правил диакон Александр Введенский (сын моего шефа, известный стукач).
Рядом с ним сидел его товарищ, а я сидел на заднем сиденье вместе с женой Александра Александровича. Вдруг машина остановилась, Введенский крикнул: «Спасайтесь!» Все, кроме меня, выскочили из автомобиля. Произошла катастрофа. Я после этого прослыл необыкновенным смельчаком. И даже при моем втором аресте следователь, видимо основываясь на сексотских показаниях Александра Александровича, начал допрос словами: «Мы знаем, что ты не трус». Между тем, все объяснялось совершенно просто: я не понял, что произошло.
Так и в 1937 году я нисколько не изменял своего поведения по одной причине: я просто не отдавал себе в полной мере отчет о грозящей мне опасности. Всех людей вокруг себя я считал честными, ко всем относился дружески и как-то совершенно упускал из виду, что на свете есть сексоты. Впрочем, как сказано выше, учительство было богадельней. Видимо, так считало и НКВД: среди учителей (во всяком случае в Питере) арестов почти не было. Считали — что возьмешь с этих нищих чудаков?
А между тем атмосфера все сгущалась. Буквально каждый день приносил какую-нибудь новую жертву. Арестованный человек проваливался как сквозь землю; его ссылали без права переписки, и никто не знал, где он. Все родственники в лучшем случае немедленно выселялись из Ленинграда. То, что так поразило меня в 1935 году, при высылке из Ленинграда «бывших» в течение 24 часов, не только больше никого не поражало, но считалось наилучшим исходом. Худший исход — когда родственники в качестве членов семьи врагов народа (ЧСВН) разделяли участь арестованного и тоже исчезали в лагерях навсегда.
Расскажу о судьбах известных мне людей, попавших в это время в жернова страшной машины. Моя двоюродная сестра, Тамара Романова, безобидная, тихая девочка, за несколько лет перед тем вышла замуж за 18-летнего деревенского парнишку из-под Луги. У парня была странная фамилия, подававшая повод шуткам; его звали Евгений Свиньин. Типичный деревенский парень, трудолюбивый и способный, он поступил в Институт путей сообщения, был там круглым отличником и активным комсомольцем. Весной 1937 года он должен был сдать дипломную работу. В это время пришла Ольга — старая нянька, жившая до революции лет 20 в семье Романовых, вынянчившая всех трех детей. Тогда она жила в домработницах в соседнем доме, у инженера Ермакова, но часто навещала старых хозяев. В этот день она пришла грустная и с порога сообщила новость: «Ермакова арестовали!» Тетка и Тамара всполошились, а Женя Свиньин, сидевший за чертежами, сказал: «Арестовали — значит не зря. Зря не посадят». Ровно через неделю Евгения также арестовали. С тех пор прошло уже почти 40 лет. Куда только ни обращались, кого только ни запрашивали! Запрашивали и родители Жени, и жена, и теперь уже взрослый сын. Просили сообщить, какова его судьба, ничего неизвестно. Все только пожимают плечами: «Никаких документов нет. Видимо, дело затерялось. Ни в каких списках репрессированных такой не числится». Двоюродная сестра в это время была на сносях. На другой день после того, как она родила сына, она получила обычное предписание: в 24 часа выехать из Ленинграда в село Белозерку Курганского района Челябинской области. Просили отсрочить выезд, пока оправится от родов, — никто слушать не захотел. Уехала, оставив ребенка на попечении матери и бабушки, той самой, которая в свое время вынянчила и меня.
Здесь все характерно: и реплика Жени, показывающая наивность советского человека тогдашней формации, который еще верил в справедливость советского режима, и абсолютная случайность арестов (просто надо было выполнить контрольные числа, показать бдительность, а для этого нужны были жертвы), и, наконец, абсолютное безразличие к человеческим судьбам, холодная жестокость чекистов. Интересно, что за два года до этого Сталин произнес свою знаменитую речь на выпуске курсантов Военной Академии, где призывал к заботе о человеке.
Аналогичный случай произошел в это время с моей знакомой в Самарканде, у которой за несколько дней до ареста какая-то дама спросила: «Извините, Вы не были в лагере?» (В Средней Азии очень много бывших лагерников). На это моя приятельница гордо ответила: «Этого не было и не могло быть!» Дама робко сказала «извините» и отошла. Быть может, этой даме принесло бы некоторое удовлетворение узнать, что моя приятельница, арестованная через 4 дня после этого разговора, провела 10 лет в лагерях и до самой смерти не смогла вернуться в нормальную колею.
У нас был сосед по квартире, юрисконсульт Мюллер. Коренной петербуржец, стопроцентный советский человек, активный «деятель» местного домоуправления, общественник. Вдруг арестовали. Его теща и хорошая, милая девочка-дочка лет 16-и были немедленно высланы. Тоже как в воду канул: где, когда умер, в каких лагерях, — ничего неизвестно. У отца был сослуживец Скворцов, известный ленинградский инженер, участник гражданской войны, награжденный орденом Красного знамени. То же самое.
По России точно проходила эпидемия чумы или холеры; не разбирая, косила первых попавшихся людей, всех, кто попадет под руку. В это время ленинградское управление НКВД возглавлялось Заковским, циничным, наглым карьеристом, авантюристом, который хвастал тем, что был когда-то соратником Дзержинского. Помню одну его статью в «Ленинградской правде», прямо подстрекавшую к ложным доносам. В начале статьи этот «государственный деятель» давал советы простым людям о том, как должен поступить «советский человек». Он говорил: «Ты видишь — твой сосед живет не по средствам. Что сделает в таком случае обыватель? Посудачит с женой и забудет об этом. Но не так должен поступать советский человек: он должен немедленно сообщить об этом органам. Вот недавно мы получили заявление от одного рабочего, что ему подозрительна (хотя он и не имеет фактов) бухгалтер — дочь попа. Проверили: оказалось, что она враг народа. Поэтому не следует смущаться отсутствием фактов; наши органы проверят любое заявление, выяснят, разберутся». Надо сказать, что подобные призывы не пропадали даром: со всех сторон сыпались доносы; доносили враги, доносили друзья, доносили жены. Доносили из мести, из желания выслужиться, были и оболтусы, принимавшие всю эту газетную чепуху всерьез. Я знал одну студентку, в общем не плохую, но донельзя ограниченную девушку, которая, придя в кинотеатр, «усмотрела», что на поясном портрете Ворошилова, на ордене Ленина, виден полковничий погон (тогда еще в советской армии погон не было). Как она могла рассмотреть на поясном портрете, где орден был раз в пять меньше обычной величины, погон и определить, что он полковничий, — никому не известно. Она немедленно вызвала заведующего кино. Он побледнел как смерть, услышав такой сюрприз, и приказал немедленно снять портрет. Это случай эпизодический, но я знал нечто подобное в масштабах города.
10 февраля 1937 года был с большой помпой отмечен 100-летний юбилей со дня смерти Пушкина. Советские газетчики, со свойственным им отсутствием вкуса и чувства меры, в течение месяца заполняли страницы газет восхвалениями поэта; всюду были его портреты. (Помню, как отец, развернув газету, сказал: «Ну вот, пожалуйста, теперь и Пушкин уже стал так противен, что не хочется к нему прикоснуться»). В это время были выпущены миллионными тиражами тетради с переснятой на обложке картиной Васнецова «Олег прощается с конем». И вдруг во все школы Ленинграда телефонограмма: немедленно со всех тетрадей сорвать обложку. Если учесть, что школ в Ленинграде тогда было около 600, что мы, учителя, обычно внушаем ученикам, что тетрадь — святыня и на ней не должно быть ни пятнышка, можно себе представить масштабы сенсации. Учителя, срывающие обложки с тетрадей, любопытные и лукавые глазенки учеников, многие из которых сказали, что они обложки уничтожили (на самом деле припрятали), изумление завмагов, когда им приказали немедленно сдать уже поступившие в продажу кипы тетрадей. Оказывается, кто-то «рассмотрел», что узоры на мече Олега образуют слова: «Долой ВКП(б)». Буква «б», правда, не на мече, а где-то на каблуке княжеского сапога. После этого многие стали находить в траве лозунг «Да здравствует капитализм!» На мой недоуменный вопрос, как же В. Васнецов мог в 90-е годы, когда была нарисована эта картина, предвидеть ВКП(б), мне отвечали: дело тут не в Васнецове, а в копиисте, который нарочно так поместил узоры, чтоб получился подобный лозунг. Наконец, когда все крамольные тетради были изъяты, и сенсация улеглась, последовала новая телефонограмма, что слух об этом носит чисто провокационный характер и что тетради изымать не следует. Художник-копиист доказал, что рисунок абсолютно точно скопирован с картины Васнецова. Развязка этого анекдотического происшествия счастливая, но обычно такие анекдоты оканчивались трагически.
В городе Орле в то время жила 70-летняя учительница, которая давала частные уроки ученикам начальной школы. Как-то раз она дала ученику 3-его класса выучить стихотворение по старому учебнику. На другой день мальчишка принес ей радостную весть: «Марья Ивановна! А в учебнике Троцкий. Вожатая у меня его забрала». Оказывается, старушка дала учебник 1923 года и не рассмотрела, что там портрет Троцкого. Как безумная Марья Ивановна побежала в школу. Уже поздно. Вожатая (это же не свой брат учитель) сдала учебник в НКВД. Через два дня Марья Ивановна была арестована за «троцкистскую контрреволюционную деятельность» (КРТД), и о дальнейшей ее судьбе никто ничего не знает. До сих пор мы говорили о маленьких, простых людях, но немало пострадало и больших, высокоталантливых людей.
Здесь мне прежде всего хочется вспомнить замечательного литературоведа тех дней Димитрия Мирского. Я считаю себя обязанным рассказать о нем, между прочим, потому, что, вероятно, я единственный из оставшихся в живых, кто знает об обстоятельствах его смерти в лагере. Полное имя этого литературоведа князь Святополк-Мирский, он сын знаменитого русского государственного деятеля, министра внутренних дел в период между 1903 и 1905 годом, славившегося своим либерализмом. Димитрий Мирский был в эмиграции. Преподавал в Оксфорде. В 20-е годы Оксфордский университет объявил конкурс на лучшую научную биографию Ленина. Мирский увлекся этой темой. Много работал в архивах, встречался с рядом людей, которые могли дать ему какие-либо сведения о Ленине. На этой почве познакомился с Горьким, с которым у него завязалась большая дружба. В 30-е годы, при содействии Горького, он вернулся в СССР, поселился в Москве. Его яркие, талантливые статьи привлекали всеобщее внимание. Он много писал о русской литературе XVIII века, о Пушкине (между прочим, в связи с юбилеем). Равным ему по таланту и по эрудиции оппонентом был профессор Г. А. Гуковский, тоже впоследствии умерший в лагере. Весь литературный мир следил за поединком двух блестящих литературоведов (спор вращался вокруг русской литературы XVIII века). Но Мирский был не только литературовед, он, кроме того, был еще и литературный критик и писал статьи на актуальные темы. В частности 1933 году он написал уничтожающую рецензию на одну из повестей А. А. Фадеева («Последний из Удэге»). Началась кампания против Мирского; однако, последовал окрик Горького, что «если Мирский позволил себе родиться от родителей дворян, то это еще не значит, что он не может критиковать Фадеева». При жизни Горького Д. Мирский пользовался его покровительством. Однако летом 1937 года мы все прочли в «Правде» роковую формулу: «враг народа Мирский». После этого его имя нигде уже не упоминалось: он был погребен заживо.
В 1949 году мне пришлось встретиться во внутренней тюрьме на Лубянке, в камере № 33, со старым московским врачом Сергеем Владимировичем Грузиновым. Он сидел уже как «повторник», после того, как отбыл 10 лет на Воркуте. Он рассказал следующее: в 1938 году он работал врачом в лагерной больнице. Больница представляла собой барак, в котором на общих нарах вповалку лежало 40 человек. Но и эта больница заключенным казалась раем, т. к. избавляла от невероятно тяжелых работ. Однажды туда поступил старый (или преждевременно состарившийся) человек, страдавший дистрофией (острым истощением) и хроническим поносом. Это и был Димитрий Мирский. Его поступление в больницу сразу ознаменовалось происшествием: блатные украли у него пенсне и «литературные записочки». (Он имел силы что-то писать даже в тех чудовищных условиях). Доктор Грузинов, войдя в барак, сказал: «Если через полчаса не будут возвращены пенсне и рукописи, немедленно выписываю на работу с правой стороны десять человек и с левой — десять». Сразу же пенсне и записочки нашлись. Далее С. В. Грузинов рассказывал: «Как-то вечером совершаю я обход больных в сопровождении двух санитаров. Вдруг откуда-то вылетает фигура в белье и бросается на колени: „Сергей Владимирович, спасите! Я умираю“. Смотрю — это Мирский. Я засмеялся и прошел мимо». (Жестокие лагерные нравы, он мог засмеяться, а ведь неплохой и даже добрый человек был и тоже умер впоследствии в тюрьме). Через час ему доложили о смерти Димитрия Мирского.
В нашем институте был арестован ряд преподавателей. На 1 курсе общее языкознание у нас читал Леон Георгиевич Башинджагиан, в прошлом ассистент и ближайший друг академика Н. Я. Марра. Самоуверенный, заносчивый кавказец, но блестящий эрудит и безусловно, талантливый языковед, он пользовался в институте большим уважением. Считали за честь, что он, работник Академии Наук, профессор университета, делавший погоду в области языкознания, «снизошел» до нашего института. Как говорили, в последние годы жизни Марра, когда знаменитый академик почти спятил от постоянных восхвалений и уже был кандидатом в пятые гении (спорить с ним было нельзя — за это сажали, как за контрреволюцию), Башинджагиан был единственным, кто еще мог с ним разговаривать, и «корифей марксистского языкознания» прочил его себе в наследники. В один прекрасный день и он стал врагом народа, и люди, до этого дня перед ним пресмыкавшиеся, начали произносить, как нечто само собой разумеющееся, магическую формулу: «враг народа Башинджагиан». Почему он «враг», в чем заключалась его «вражда к народу» — об этом никто не спрашивал и пусть только попробовал бы спросить.
Деканом нашего факультета и заведующим кафедрой мировой литературы был основатель института (о нем мне придется еще рассказывать) Василий Алексеевич Десницкий, честнейший человек, продолжатель традиций демократических разночинцев XIX века. Старый революционер, вышедший, однако, из партии в октябре 1917 года, он занимался в это время исключительно «чистой наукой», все организационные дела передоверив Кларе Аароновне Ангилович, коммунистке, деловой, способной женщине, читавшей у нас теорию литературы. Она читала яркие, талантливые, эмоциональные лекции, была требовательным, но интересным педагогом. Приходим осенью 1936 года в институт — и ахаем от изумления: Ангилович, делавшая погоду на нашем факультете, всемогущая Ангилович, стоит в библиотеке и выдает книги. Что такое? Оказывается, летом исключили из партии. Тогда было в газетах сообщение, что если коммуниста исключают из партии, то его снимают с ответственного поста, как не заслуживающего доверия, и переводят на низшую должность. Несчастные люди, которым грозила голодная смерть (их никуда не принимали), вынуждены были терпеть все унижения. Через месяц появилась в «Ленинградской правде» статья, где Ангилович называлась «разоблаченной троцкисткой» (это еще не «враг народа», но нечто близкое). За что же такая немилость? Оказывается, давая отзыв об одной диссертации, где критиковались взгляды «литературоведческой школы Троцкого», она ставила в вину диссертанту, что он «привлек мало троцкистской литературы». По мнению новоявленных «ученых», научное исследование о «литературоведении Троцкого» должно было заключаться только в площадной брани и проклятиях. С сожалением должен признать, что наши студенты проявили себя в большинстве случаев как отъявленные хамы: всячески третировали разжалованного педагога, вымещали на ней старые обиды. Увы! Это было лишь прелюдией к тому, что еще Кларе Аароновне предстояло пережить. Осенью 1937 года она была арестована.
В начале 1937 года был арестован самый популярный из наших преподавателей, профессор Медведев, известный лектор, которого знал весь Ленинград. Почему? За что? Никто не знает. Мне пришлось осенью 1937 года присутствовать на заседании кафедры совместно со студентами-отличниками. Заседание открыл В. А. Десницкий. Во вступительной речи, отдавая дань времени (или, как тогда острили, «длань времени»), он вынужден был сказать и о бдительности. Ему пришлось сказать о «врагах народа» в нашем институте. Я видел, как трудно было старику выговорить этот термин. Слова буквально не сходили у него с языка, они застревали у него в горле. Наконец, перечислив несчастных (назвав их не только по фамилии, но и по имени отчеству), он выговорил: «И они оказались, как бы, до некоторой степени, так сказать, врагами народа». Сказал и перевел дух. Наконец выговорилось.
Василию Алексеевичу приходилось делать над собой усилие — всем остальным это давалось без всяких усилий. Легко, просто, иной раз даже талантливо, они обливали грязью, шельмовали своих вчерашних друзей, учителей, иной раз начальников, перед которыми еще вчера пресмыкались. Я помню совершенно анекдотическую заметку в нашей институтской многотиражке «За большевистские педкадры». Автором заметки был не кто-нибудь, а выдающийся ученый, профессор А. А. Гвоздев, который бичевал себя за отсутствие бдительности и извинялся за свое сотрудничество с профессором Адрианом Пиотровским, известным специалистом по античному театру. И тут же утверждал, что он его почти не знал и только несколько раз видел. Курьез состоял в том, что он работал с «врагом народа» Пиотровским в одном институте 20 лет и выпустил в соавторстве с ним не более и не менее, как пять книг.
Вообще в это время мораль оказалась вывернутой наизнанку: предать товарища, отвернуться от человека в беде, лягнуть несчастного — это одобрялось, предписывалось, поощрялось. Проявить нечто человеческое: пожалеть, помочь — это значило самому оказаться кандидатом во «враги народа». Именно в это время начинается та страшная порча нравов, которая сегодня является характернейшей чертой советского режима: подлость, вероломство, лицемерие, ложь становятся стилем советской жизни, лежат в основе всего, пропитывают все поры общества, отравляют подрастающее поколение. Один мой московский друг, очень эрудированный и талантливый богослов, говорил мне: «Божественность Христа больше всего сказывается в сверхчеловеческой способности к формуле. Так все сформулировано, что нельзя ничего ни прибавить, ни убавить». А теперь развернем Евангелие: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он ложь и отец лжи». (Ин.8, 44).
Человекоубийство и ложь — неразлучные спутники.
Сокрушительный удар нанесла ежовщина и церкви, или, вернее, остаткам церкви, потому что уже к 1935 году церковная организация была в основном разгромлена. 1937 год породил целый сонм новых мучеников. К сожалению, пока нет возможности привести точные статистические данные. (Они будут установлены, когда распахнутся железные сейфы, в которых хранятся архивы КГБ). Все же попробуем немного разобраться в этих цифрах. Как я говорил выше, в 20-е годы было огромное количество архиерейских хиротоний; это было вызвано желанием сохранить иерархию несмотря на непрерывные аресты епископов. Арестованные архиереи через 3–4 года тогда возвращались и получали новые кафедры, и до их возвращения вновь поставленные архиереи, считавшиеся их викариями, обычно были временно управляющими епархий. Таким образом, в каждой епархии было в среднем 2–3 архиерея. К этому надо причислить архиереев, проживавших на покое: тех, которые после возвращения из ссылки не могли получить кафедру и служили где-либо на приходе. Кроме того, не менее 100 архиереев в это время томились в лагерях. Итак, подводим итоги, причем берем нарочно заниженные цифры, чтоб не обвинили в преувеличении.
70 — правящих архиереев
70 — викарных архиереев
50 — состоящих на покое
100 — находящихся в заключении
итого: 290 архиереев (как минимум).
В 1941 году их оставалось 8 человек на кафедрах. Кроме того, уцелели два, вернувшихся из ссылки. Больше никто не вернулся. Значит, в период с 1937 по 1939 г. увенчались мученическим венцом 280 святителей.
Переходим к обновленческой иерархии. В 1935 году тогдашний первоиерарх обновленческой церкви, митрополит Виталий, определял в разговоре с архиепископом Витебским Александром Щербаковым число обновленческих архиереев цифрой 400. В 1941 году их оставалось на кафедрах — пять, заштатных — пять; всего — 10. Следовательно, в период с 1937 по 1939 г. погибло 390 обновленческих иерархов. Что касается священников, то они погибли почти все. Чтоб не быть голословными, приведем опять цифры по Ленинграду. По моим подсчетам, в 1935 году в Ленинградской области оставалось еще 100 священнослужителей (всех знал лично и помню все имена). В 1940 году их оставалось — 7. Следовательно, увенчались мученическим венцом только в одном городе 93 священнослужителя. В 1935 году в Ленинграде насчитывалось 50 обновленческих священнослужителей, в 1941 году их было — 8. Из них один (архидиакон Верзилин) принес покаяние и умер естественной смертью, один (Федор Разумовский) снял с себя сан, трое отошли от церковной деятельности. Итого: только в одном городе увенчалось мученическим венцом 38 обновленческих священнослужителей.
В 1941 году в Ленинграде оставалось 5 церквей: 4 храма православных — Никола Морской, Князь-Владимирский — большие храмы; церкви Волкова и Богословского кладбищ — крохотные церкви (типа часовен), и один храм обновленческий (Спасо-Преображенский собор на Литейном); небольшой храм на Смоленском кладбище был закрыт в 1938 году.
Митрополит Алексий был выброшен в течение суток из своих покоев в Новодевичьем монастыре (церковь была закрыта) и ютился в Князь-Владимирском соборе, на колокольне, где для него были специально оборудованы «покои» — две крохотные комнатки. Впрочем, своего образа жизни не изменял: тут же на колокольне была оборудована ванная комната, а внизу куховарила повариха — женщина в белом халате, похожая на врача.
Что касается архиепископа Николая, то он в это время лишился, по существу, своего викариата, т. к. все церкви, как в Петергофе, так и в Петергофском районе, были закрыты. Он служил в Никольском соборе в качестве настоятеля. Тщательно избегал каких-либо знаков архиерейского сана, служил без диакона, нес обычную священническую чреду, исповедовал, совершал требы, лишь очень редко возлагал на себя архиерейское облачение.
К 1939 году относится инцидент, отравивший отношения архиепископа Николая с митрополитом Алексием и в значительной степени объясняющий многое в той ситуации, которая сложилась в русской церкви в послевоенное время.
Как я говорил выше, владыка Николай был исключительно любящим, преданным сыном. В 1939 году опасно заболела его мать Екатерина Ивановна. Для всех было ясно, что дни старушки сочтены. И вот как раз в это время происходит печально-знаменитое событие: советские войска «освобождают» Западную Украину и Западную Белоруссию. Решено назначить туда вполне надежного, «просоветского» экзарха. Выбор митрополита Сергия (патриаршего местоблюстителя) падает на владыку Николая. Владыка, узнав об этом, спешно выезжает в Москву, просит местоблюстителя не отрывать его от больной матери. Местоблюститель охотно идет ему навстречу, говорит: «Не беспокойтесь, владыко, назначим туда другого». Возвращается с радостной вестью. Остался. В это время неожиданно отправляется в Москву и митрополит Алексий. А через неделю архиепископ получает указ о назначении экзархом Западной Украины с распоряжением немедленно выехать к месту нового служения. Взволнованный звонок в Москву. Местоблюститель отвечает: «Митрополит Алексий мне сказал, что Вы передумали и теперь согласны принять назначение. Теперь уж я ничего не могу сделать. Вопрос согласован с правительственными инстанциями». И архиепископу пришлось с болью в сердце проститься с умирающей матерью, хорошо сознавая, что он ее больше никогда не увидит. Через несколько дней после отъезда владыки его мать (Екатерина Ивановна Ярушевич) действительно умерла. А митрополит Алексий, с которым владыка Николай перед отъездом имел бурное объяснение, переехал в Николо-Морской собор. Здесь, на третьем этаже, он оборудовал себе покои. С этого времени Никольский собор становится кафедральным собором Ленинградской епархии. Этот случай показывает, что общее понижение нравственного уровня коснулось также и иерархов, и аристократов, людей голубой крови.
1938 год ознаменовался снятием с себя сана обновленческим митрополитом Николаем Платоновым, который становится с этих пор штатным сотрудником Музея Истории Религии, помещавшегося в бывшем Казанском соборе. Это событие, бросившее яркий свет на всю предшествовавшую его деятельность, мною подробно описано в работе «Закат обновленчества», широко распространившейся в церковном самиздате и напечатанной в журнале «Грани» за 1974 год.
Между тем, несметные толпы наполняли оставшиеся храмы. В 1936 году, чтобы попасть к светлой заутрене в Князь-Владимирском соборе, мне пришлось занять место на клиросе в 2 часа дня. Так же обстояло дело и в 1937-ом, и в 1939-ом. В 1938-ом, 1940-ом и 1941 гг. я был у заутрени в Никольском соборе. Так как этот храм двухэтажный, то здесь можно было занять место гораздо позже — в 7–8 часов вечера. В великом посту сотни тысяч человек приступали к исповеди и причастию. Оставшиеся священники буквально сбивались с ног, падали от усталости. Подавалось огромное количество записок о здравии «скорбящих» (термин «заключенный» был запрещен). По всей стране храмы были закрыты. Оставалось менее 100 церквей.
Возникает вопрос, почему все-таки Сталин, истреблявший в это время даже зародыш какого бы то ни было инакомыслия, все-таки сохранил остаток церкви — патриаршего местоблюстителя, обновленческого первоиерарха, нескольких епископов. Видимо, уже тогда коварный и дальновидный диктатор предусматривал, что настанет время, когда он сможет использовать и этот козырь в своей азартной, сложной, кровавой игре за мировое господство.
В это время я не был ни в тюрьме, ни в лагере. Все, что там происходило, считалось строжайшим секретом; разговор об этом грозил немедленным тюремным заключением. Тем не менее кое-что проникало на волю. Все мы знали о страшных пытках, которые происходят в застенках НКВД. Приходилось видеть людей, которым в редчайших случаях (1 на 10 тысяч) удавалось выйти на волю. Они производили кошмарное впечатление; скелетообразные фигуры, тело, покрытое страшными рубцами, безумные, блуждающие глаза и упорное молчание о том, что происходило с ними. Кое-что мы узнали о жизни в лагерях. Борису Григорьеву удалось наладить нелегальную связь с одним заключенным, и Боря очень ярко нарисовал мне однажды картину тогдашней лагерной жизни; интересно, что решительно все в этом рассказе было мною впоследствии проверено по десяткам разговоров с заключенными, и все подтвердилось вплоть до малейшей детали. «Представь себе, — говорил мне Борис, — огромную оцепленную площадку, работает несколько сот человек; со всех сторон вышки, на вышках часовые. По малейшему капризу часовой может стрелять. Нет дня, чтоб обходилось без жертв. Представляешь себе, какой ужас смерти витает над этой толпой… Так работают 10–12 часов. Потом возвращаются в лагерь. В бараках — трехэтажные нары. Барак рассчитан на сотню человек. Туда впихивают по 600–700. Каждый день утром кого-то не досчитываются; ночью умер от истощения. У многих голодный понос. Они лежат тут же. Вонь такая, что невозможно дышать. По зоне ходят не люди, а скелеты. Выйти на волю — безнадежно».
Один из жителей Москвы (ныне глубокий старик), который был в то время в лагерях на Печоре, рассказывал: «Мы брели как-то глубокой осенью вдоль берега под конвоем на работу. Страшные порывы северного ледяного ветра пронизывали нас, шел проливной дождь, начиналась буря. А мы все брели и брели без бушлатов и шапок, мокрые, дрожащие, жалкие. А в это время мимо нас по Печоре медленно плыла баржа, на которой были сложены заботливо укутанные войлоком машины. И как мы в тот момент завидовали этим машинам». Эта картина, которую наблюдал живой еще теперь человек, представляется мне символической. Никогда (даже в дни войны) человеческая жизнь не ценилась так дешево, никогда и нигде человек не был так унижен, пригнут к земле, обезличен.
В народе есть поговорка. О плохой погоде говорят: «Хороший хозяин в такое время и собаку на улицу не выгонит». Про ежовские лагеря можно сказать: ни один самый плохой и жестокий человек никогда не будет так издеваться над собакой.
В это время экономика несколько стабилизировалась; питание на воле было нормальное. В лагерях, однако, был искусственный голод. 500 грамм хлеба и похлебка — единственная еда при тяжелой 10–12-часовой физической работе. Все было сделано, чтоб уморить как можно больше людей. Но начальство было нетерпеливо. Скучно дожидаться, когда люди умрут с голоду (средняя продолжительность жизни лагерника тех лет — 6 месяцев), тем более, что с воли все гонят и гонят новые этапы. И вот, в лагерях повсеместно практиковались массовые расстрелы (на языке чекистов они называются очень «поэтично» — «очистительные акции»). Делалось это так. Утром нарядчик называл фамилии людей, которые должны были ехать на этап. Этап как этап. К доктору, потом обходной — сдавать тряпье, потом на вахту. Мой друг, бывший заключенный врач, говорил: «Дают мне список, я знаю, что это на расстрел, но что я могу сделать: могу оставить как больных не более 2–3 человек из сотни…» Гнали этап обычно пешком километров пять. А там церемониал известный: рыть яму — и под пулю. В то же время безостановочно работали лагерные суды. Показательные процессы: расстрел за вредительство, за антисоветскую агитацию, за саботаж. Но и этого мало. Все время инсценировали «попытки к бегству». Дело в том, что за предотвращение побега конвоир получал премию и путевку в санаторий. Почему бы и не поехать в санаторий? Один бывший заключенный мне рассказывал такой случай: ведут этап, вдруг конвоир подбегает к заключенному парнишке, срывает с него шапку и бросает метра на 3 в снег. Говорит: «Беги за шапкой». Парень неопытный, думает, что это шутка. Бежит, улыбаясь, за шапкой. Наклоняется. Вдруг выстрел. Убит при попытке к бегству. Премия. Путевка в санаторий.
Все, кто сидит в лагере, — «враги народа». Таков официальный термин. Истребить, унизить как можно больше врагов народа — это почетно, доблестно, патриотично. Такова жизнь в лагере. Из миллионов арестованных в то время выжили лишь единицы, и то только те, кому удалось пристроиться в санчасть (главным образом, врачи). И в это время была сочинена песня, которая распевалась всюду и везде:
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
И в это время вернувшийся в Россию выживший из ума А. И. Куприн, вспоминая о том, как его высекли в кадетском корпусе, писал: «Сейчас, когда торжествует человеческое достоинство в нашей стране, даже как-то странно вспомнить о розгах».
Действительно, в эпоху массового истребления людей и нечеловеческих усовершенствованных пыток было странно вспомнить о таком сравнительно безобидном, патриархальном наказании, как розги.
Ежовщина представляет собой зловещий рубеж в истории страны, в психике каждого отдельного человека. Люди резко переменились: стали забитыми, трусливыми, покорными. Бюрократия, почувствовавшая свою силу, отбросила всякую демагогию, советский бюрократ предстал в своем подлинном виде: наглый, циничный, крикливый и невежественный. В то же время у очень многих после ежовщины исчезли всякие иллюзии в отношении советского режима. Ежовщина породила стольких врагов советской власти, сколько не могла породить никакая, даже самая умелая и широкая, агитация. Я особенно замечал эту эволюцию на моем друге Борисе Ивановиче Григорьеве. Человек мягкий, мирный, обещавший быть хорошим семьянином, (к сожалению, он не успел жениться), после ежовщины буквально переродился. Говоря о советском режиме, о Сталине, он буквально дрожал от ненависти; он готов был взять винтовку и идти убивать палачей и людоедов. В это время его любимым писателем становится Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он мечтает о том, как он вместе со мной будет издавать подпольный печатный орган, в котором мы будем клеймить советскую бюрократию, подобно Щедрину. Он ожидает войны. Он считает, что война развяжет наконец руки народу. Народ взорвет проклятый тюремный режим и примет меры, чтобы второй раз уж не ошибиться. Мой отец говорил: «Зачем ты разжигаешь в нем такую ненависть к режиму? Ему же очень трудно будет жить». Разжигал эту ненависть не я. Ее разжигал сам режим.
Но всему на свете бывает конец. Пришел конец и «ежовщине». В ноябре 1938 г. мы прочли коротенькое сообщение на последней странице в «Известиях», что Ежов по его просьбе освобожден от обязанностей наркомвнутдела и на эту должность назначен Берия. Массовые аресты несколько утихли. Страна вступала в предвоенный, предгрозовой период. Его описанием мы и закончим наши безыскусственные очерки.
Предгрозье
«Было душно; похоже было на отдаленное предвещание грозы…» На меня всегда производило глубокое впечатление это место из «Идиота», где описывается томление Мышкина перед покушением на него Рогожина и эпилептическим припадком. Я никогда не мог читать этих страниц без волнения.
Петербург, жаркий летний день, и во всем — предчувствие грозы. И с этим сливается предчувствие эпилепсии. Я буквально физически чувствую эти строки. Хотя у меня никогда не было эпилепсии, но в юности я безусловно был тем, кого психиатры называют эпилептоидным типом. Ощущение грядущего, ужасного, неотвратимого, часто посещало меня, начиная с детских лет. И с этим ощущением у меня всегда ассоциируются последние три предвоенных года.
Ежовщина прошла довольно благополучно и для меня, и для моих близких. Она лишь иногда задевала меня своим крылом. И как всегда бывает в жизни, трагическое смешивалось с комическим. Кошмар соседствовал с курьезами. К числу таких курьезов принадлежит случай с Дорой Григорьевной. Как это ни странно, именно эта веселая, беззаботная и совершенно аполитичная женщина чуть не сделалась жертвой репрессий.
Выше я говорил о педагогическом таланте как основе учительского ремесла. Великолепной иллюстрацией к сказанному является Дора Григорьевна. Прекрасная литературная речь, умение увлекать слушателя, большое человеческое обаяние — и ни крупинки педагогического таланта. В результате уроки ее превращались во что-то среднее между бедламом и карнавалом: ребята прыгали, смеялись, визжали, орали — на целом этаже нельзя было заниматься, — а кончалось неизменно «уходом по собственному желанию». После очередного «собственного желания» (это было как раз осенью 1937 года) кто-то порекомендовал ей избрать себе новое поприще. 23 февраля 1938 г. должна была в Русском музее открыться выставка, посвященная 20-летию Красной Армии. Выставка, состоящая из бессмертных творений Бродского (портреты Ворошилова в разных позах — на лыжах, на коне и т. д.) и Соколова-Скаля. Кукрыниксы также внесли свой вклад: на выставке должна была демонстрироваться их картина: «Бегство Керенского из Гатчины». За полгода до открытия были организованы специальные курсы для экскурсоводов. Учащимся платили стипендии, а в будущем им обещали золотые горы. Дора Григорьевна собиралась стать звездой выставки. Но вот наступил долгожданный день. Пробная экскурсия. Приехал какой-то «ответственный товарищ» из Москвы. Дора упивается своим красноречием, водит экскурсию от одного вождя к другому: «Товарищ Фрунзе», «товарищ Чапаев», «товарищ Ворошилов». И вдруг с разгона: «А это товарищ Керенский!» Шок у всех присутствующих. Гость из Москвы в ужасе восклицает: «Какой товарищ?» Дора Григорьевна: «Да это иронически». «Нет уж, не надо нам иронии. Передайте руководство экскурсии кому-нибудь другому». Полгода пропали даром, экскурсовода из Доры Григорьевны не вышло. Но больше того. Когда она проходила по коридору, к ней подошел один из ее коллег и буркнул: «Вас сейчас арестуют — я слышал разговор!» Ни жива ни мертва бедная Дора Григорьевна пришла домой. На другой день я пошел объясняться. Руководительница курсов дала мне ее документы и сказала: «Пусть больше не показывается. Хорошо еще, что москвич оказался приличным человеком, сказал: „Дамочка! Что с нее возьмешь“. Но как бы не донес кто-нибудь из техничек (уборщиц), они ведь присутствовали при этом». К счастью, обошлось!
Я в эти годы работал в школах малограмотных, где стукачей не было (коллектив — 3–4 старых учительницы); в институте же лишь в мае 1938 года произошел инцидент, едва не стоивший мне головы, но об этом после. А сейчас вернемся к нашим кружкам молодежи.
К 1937 году наше дело имело многообещающие перспективы. Каждый из нас что-то делал. Наибольшими успехами мог похвалиться Борис: помимо мальцов (своих старых школьных товарищей), ему удалось привлечь двух солидных людей (они уже умерли, поэтому назову их имена): своего тезку Бориса Померанцева, молодого, талантливого биолога, научного сотрудника Института зоологии при Академии Наук, и молодого писателя Глеба Чайкина. Самое главное, что этот кружок не распался и во время ежовщины и существовал вплоть до самой войны. Опять осуществилось то, о чем я говорил выше: скромный, молчаливый, заикающийся Борис делал гораздо больше, чем мы, говоруны и позеры. После ежовщины, как я сказал выше, Борис сильно переменился. Он стал сторонником революции — только она сможет свергнуть ненавистный режим. Он не хотел, чтоб народ снова ошибся. Он за новый строй. И хотя прямо не отрекался от социализма, но стоял за товарищества на добровольных, кооперативных началах. Будущий строй России ему представлялся как сильное демократическое и национальное государство, без тени «керенщины», расхлябанности, фальшивого либерализма. Будущей войной надо было воспользоваться, чтоб раздуть революцию. Для этого надо готовить волевых, смелых парней, которые смогли бы стать руководящей силой. Через много лет я прочел программу НТС и ахнул. Впечатление такое, что это писал Борис Григорьев в 1938 или 1939 году. Жизнь не радовала Бориса. Здоровье его становилось все хуже и хуже. Его мучила язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Надо было бросить курить. Но этого он не мог и не хотел. Папироса ему была необходима как воздух.
И самое ужасное: в 1939 году заболел его отец. Вскоре поставили диагноз — рак печени. 21 ноября 1940 года Иван Васильевич умер. Умер хороший русский человек, трудолюбивый, талантливый, веселый, добродушный. Его до сих пор вспоминают в научно-исследовательских институтах; он считался лучшим в России специалистом по изображению насекомых и микробов под микроскопом. Смерть отца наложила мрачные блики на Бориса. Последний предвоенный год — год предчувствия близкой смерти. В это время мы окончили институт, и это тоже сделало жизнь более скучной, однообразной. Ученики его обожали. Он преподавал в это время в старших классах. Блестяще у него получались уроки, посвященные произведениям, в которых раскрывалась тема одинокой, обреченной на гибель личности. Я помню, я присутствовал на его уроке, посвященном Жуковскому. Он читал стихотворение «Бедный певец», читал так, что весь класс замер; слышно было жужжание мухи. С особым чувством произносил он рефрен: «Бедный певец». В стихотворении он повторяется трижды. А мне сделалось жутко. Я почувствовал в интонации Бориса, что это он говорит о себе, предчувствует свою гибель, — и это предчувствие передалось мне: я понял, что не жилец он на этом свете. «Бедный певец».
Володя Вишневский остался все таким же романтиком. Причем у него «романтизм» был вполне сознательным. Шиллер, Виктор Гюго, молодой Горький, по его мнению, гораздо полнее выражают сущность жизни, ощущают ее пульс, чем Гете, Флобер и Лесков. Его лозунгом оставались слова: «Безумство храбрых вот мудрость жизни». И эта мысль о «безумстве храбрых» сплеталась у него с понятием «юродства проповеди» у апостола Павла. Как можно больше безумства! Как можно больше юродства — и мир будет спасен. «Ибо не красотой, а безумием спасается мир», — писал он в одном своем реферате. В философском смысле это было очень близко к экзистенциализму (тогда мы этого термина еще не знали), т. к. по его мнению безумство, юродство лежит в основе мира. Политически это воплощалось в идеологии эсеровской партии. Володя после некоторого периода блужданий осознал себя эсером и лелеял мысль о воссоздании этой партии. Марксизм для него был ненавистен; он его сравнивал с писцом из романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген», тогда как романтическое народничество было для него воплощением прекрасной «Басни» из этого же романа. Свою теорию он применял и к тогдашней политической ситуации. «Конечно, бороться одновременно с фашизмом и большевизмом, бросать им вызов — с точки зрения ходячей политической мудрости безумие, но в политике и всегда побеждает безумие. Жанна д'Арк, Лютер, Томас Мюнцер — были безумцами, потому они и победили». Его старые друзья из института Покровского, однако, его сторонились; русский мужичок почитает юродивых, но самому ему юродство не свойственно — слишком много в нем «себе на уме», житейского здравого смысла. Да и ежовщина их напугала: они прекратили решительно всякую политическую деятельность. Со мной и Борисом они еще иногда (очень редко) встречались; однако Володю (этого «одержимого») просто боялись. Герценовцы тоже все ушли в личную жизнь.
С Алексеем из университета, с которым Николай просил меня держать связь, контакты у меня были весьма поверхностные: внутренней спайки не получилось. Сухой человек, уже успевший облысеть и в очках, педант, аккуратист, чистоплюй, он не внушал мне особых симпатий. Наши встречи были эпизодическими; мы оставались с ним на «Вы», и разговоры носили чисто деловой характер. Наконец в 1937 году, встретившись со мной в пивной против Балтийского вокзала (мы перенесли туда наши встречи, т. к. в василеостровских пивных мы слишком примелькались, все нас знали, начиная от официантов, кончая уборщицами), Алексей мне сообщил, что в университете все очень взволнованы, т. к. произошло несколько арестов, арестован, между прочим, сын Гумилева Лев, студент исторического факультета. НКВД и здесь, по обыкновению, попало пальцем в небо — взяло несколько горячих, откровенных, но в политическом смысле абсолютно безобидных ребят. Алексей информировал меня о том, что их организация постановила ввиду сложившихся обстоятельств прекратить временно свою деятельность. После этого я поддерживал лишь дружеские бытовые связи с некоторыми университетскими ребятами, встречаясь с ними, по обыкновению, в пивных. О моих друзьях из церковной молодежи и говорить нечего: они все были смертельно напуганы и боялись слово сказать.
Таким образом, от нашего «фронта» остались лишь три мушкетера: Борис, Володя и я. Мы встречались почти ежедневно. Очень много и подолгу разговаривали. С 1939 года (после начала мировой войны, во время советско-финской войны и т. д.) наши разговоры утратили чисто теоретический характер: мы занимались прогнозами будущей войны. Лет 15 назад в Москве была опубликована книга «Секретные документы из архива германского министерства иностранных дел». Там были напечатаны записи тех бесед, которые вели с послами в то время Деладье, Чемберлен, Галифакс. Прочел и изумился: до чего эти беседы были похожи на те разговоры, которые вели в это время в коридорах и в саду Герценовского института мы с Борисом и с Володей: те же гадания на кофейной гуще, те же глубокомысленные комментарии к событиям и те же глубокомысленные прогнозы, из которых ни один не сбылся. Видимо, «не боги горшки обжигают». Можно вспомнить также слова одного немецкого журналиста, относящиеся к 20-м годам: «Политика — самое глупое дело. Любая торговка понимает то, что эти господа в Веймаре».
Какова была моя позиция в это время? Я стоял где-то посередине между Борисом и Володей. Здесь, на Западе, некоторые меня называют «полумарксистом». Это, конечно, неверно: с таким же правом меня можно назвать и «ницшеанцем» (да и называли), и фашистом, и кем угодно. Я не марксист, но не переношу вульгарной, глупой критики марксизма, выражающейся в основном в ругательствах и проклятиях. По-моему, она еще хуже, чем сам марксизм.
В это время я начинал свой спор с марксизмом. Спор по большому счету, чуждый личных пристрастий и нелепого отрицания неопровержимых фактов. Мне, идущему от Гегеля, от Владимира Соловьева, конечно, невозможно было согласиться с Володей, что «безумие» лежит в основе мира. В основе мира лежит разум, Абсолютный Дух, Божественный Логос. Я неоднократно говорил Володе, что под «писцом» в романе Новалиса подразумевается не разум, а житейский, мелкотравчатый, обывательский «здравый смысл». В то же время носителями истинной мудрости являются лишь отдельные люди (и в этом — главное разногласие мое с марксистами). Если для Володи идеалом были маркиз Поза, Жан Вальжан и горьковский Сокол, то у меня в это время настольной книгой становится «Гамлет». Гете когда-то говорил: «Мы удивляемся отсутствию чудес в наше время, и не видим, что Гомер и Шекспир есть наивысшее из чудес». Мережковский говорил (по словам Брюсова), что бывают произведения, которые являются как бы «провалом в вечность». В качестве примера он называет «Монну Ванну» Метерлинка[19]. Таким чудом в искусстве является «Гамлет».
А теперь мы перейдем к марксистам. Надо сказать, что большинство критиков марксизма — очень неумелые стратеги: они атакуют марксистов как раз на том участке фронта, где они совершенно неуязвимы. Нельзя же серьезно, например, оспаривать теорию прибавочной стоимости. Именно в наши дни она подтверждается столь ясно, как никогда раньше; между прочим — на примере советской экономики, которая держится исключительно на избыточной прибавочной стоимости. Только благодаря явной недоплате рабочим, ограничению их заработка минимумом, необходимым для поддержания самых насущных потребностей, может существовать, да еще угрожать всему миру, несмотря на слабую технику, плохую организацию производственного процесса и очень низкую производительность труда, такое грандиозное сооружение, как Советский Союз. Совершенно детской представляется ссылка некоторых доморощенных критиков марксизма на то, что инженеры играют в производстве не менее важную роль, чем рабочие. Эти критики, видимо, просто или не читали «Капитал», или читали его очень невнимательно; иначе бы они знали, что там имеется специальная глава «Превращенная прибавочная стоимость», и Маркс не делает принципиального различия между рабочим и инженером — инженеру так же не доплачивают, как рабочему. Совершенно детскими представляются также ссылки на технику. Ведь все машины делаются людьми, и если бы инженерам и рабочим в полной мере оплачивали их труд, то все машины были бы настолько дороги, что никто в мире не мог бы их купить. Не говоря уже о том, что, к сожалению, никто не может опровергнуть теорию кризисов и того, что капиталистическая система, видимо, клонится к полному упадку. Но разве в этом дело?
Марксисты мне часто представляются в чем-то похожими на Дон-Кихота. Так же, как он, вооруженный заржавленным копьем и самодельными латами, решил переделывать мир по Амадису Галльскому, так и марксисты считают, что если переделать мир по Марксу, сделать так, чтоб прибавочную стоимость клали себе в карман не капиталисты, а толстобрюхие бюрократы и карьеристы с партбилетами, то от этого кому-то станет легче.
Между прочим, подобным Дон-Кихотом был и «сам» Ленин. Несмотря на всю его «практичность», его рецепты построения земного рая поражают своей наивностью. Чего стоит хотя бы анекдотическая фраза: «Советская власть + электрификация — это уже коммунизм». Ай-ай-ай, Владимир Ильич, и не стыдно Вам; такому умному человеку и такой вздор городить. А угроза «субботниками» весь мир перевернуть и поставить советское производство на новый, более высокий уровень? И вот уже 60 лет, как существует советская власть (или то, что так называют), уже 40 лет, как вся страна электрифицирована, а коммунизма нет как нет. И субботники, как известно, никому не помогли. Правда, Хрущев решил «поправить» своего учителя. Он заявил: «Советская власть + электрификация + химизация — это уже коммунизм». Но сейчас об этом лозунге предпочитают помалкивать. Могут, правда, сказать, что коммунисты страшно свирепы. А Дон-Кихот разве был мягкий человек? Он только и грезит войной; он нападает на баранов, на львов, и будь у него более усовершенствованное орудие, и будь он не так стар и слаб, то, наверно, многим бы не поздоровилось. Скажут, что Дон-Кихот человек исключительно благородный, а большевики действуют подлыми методами, основывают свое царство на лжи. А разве не сплошной обман все эти сказки о благородных Амадисах? Мы видели, каковы эти Амадисы, когда получают власть; стоит лишь вспомнить «подвиги» крестоносцев в Константинополе. Да вот, был еще один «рыцарь», Павел I, — «Мальтийский кавалер, Хоть не совсем он правил На рыцарский манер».
И вот снова, как когда-то, Дон-Кихоту противостоит Гамлет с его упорной констатацией: «Весь мир — тюрьма, а коммунизм (с его обожествлением крепкого государства и диктатуры касты) — одно из наихудших ее отделений». И кто может с этим спорить? Так что же все-таки делать нам, одержимым комплексом Гамлета? Философствовать по трактирам, как это делал наш русский Гамлет Иван Карамазов, и уезжать в «Чермашню», когда готовится убийство? Пьянствовать, менять жен, а потом повеситься, как это сделал наш советский Гамлет Есенин? Махнуть на все рукой, сказать: «Делайте, что хотите», и идти в церковь, как это советуют нам многие искренние, хорошие священники и монахи в России?
И тут я вспоминаю ту мою старенькую учительницу и народницу Екатерину Димитриевну Аменицкую, которая мне посоветовала, когда мне было 18 лет, идти в народ. Теперь пришел мой черед советовать молодежи. И я говорю — идите в народ! становитесь священниками, учителями, библиотекарями, колхозниками, рабочими. Несите в народ свет религии, науки, подлинной человечности. Ибо пока народ будет дикий, невежественный, утопающий в пьянстве, ничего путного не выйдет; все будет лишь перемена камер, одну на другую.
В институте я зачитывался также Ницше. Мне нравилась его бесстрашная последовательность, железная воля, не сдающаяся перед болезнью. Мне глубоко врезались в память его слова: «Человека можно любить только за одно: за то, что он мост между обезьяной и сверхчеловеком». И я тоже верю в сверхчеловека, но ищу его не там, где искал Ницше. Сверхчеловеком сильная индивидуальность становится тогда, когда она вся без остатка отдает себя людям, когда она становится нищим духом: у человека ничего не должно остаться при себе. Все — талант, волю, здоровье, счастье — он должен отдать людям, страждущим, нуждающимся людям. Нищий духом есть подлинный сверхчеловек и ему принадлежит Царство Небесное. В данное время страждущим, нуждающимся является наш народ. Он живет во тьме, в невежестве, гибнет в пьянстве, во лжи, в нужде. Надо идти к нему. А тот, кто придет к нему с раскрытым сердцем, с душой, полной любви, увидит, что надо делать.
«Что не излечит лекарство, излечит железо, что не излечит железо, излечит огонь». «Просвещенный, пропитанный демократическими идеями, народ сам поймет, какое средство применить, чтоб обрести свободу: лекарство реформ, железо сопротивления или огонь революции».
Так что в конечных выводах все три мушкетера сходились; разница была лишь в нюансах: ни я, ни Володя не были противниками революции, о которой мечтал Борис, ни я, ни Борис не имели ничего против неоэсеровской партии, и, верно, все трое в нее вступили бы, если бы она была. Ни Борис, ни Володя не отрицали необходимость «хождения в народ». И все трое, независимо от религиозных верований (я — православный, Вишневский — свободный христианин, Григорьев, считавший себя неверующим), руководствовались евангельским правилом: «Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя» (Иоанн 15, 13). Господь дал малый срок жизни моим двум братьям-друзьям, оба они дожили лишь до 25 лет, а я? Я дожил до 60.
В то время в институте я непрерывно говорил о комплексе Гамлета[20]. Разумеется, я оповещал всех и каждого только о первой, «литературоведческой» части моих рассуждений; вторую часть я благоразумно приберегал для самых близких (Друзей вроде Бориса Григорьева, Володи Вишневского и других. Однако выводы напрашивались сами собой. «Комплекс Гамлета» — это звучало очень возвышенно и создавало широкую раму, в которой можно было поместить многое. Впервые я публично сформулировал эту теорию в студенческом реферате по поводу «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Реферат удался; его даже хотели напечатать в Ученых записках института, но в последний момент отставили. Видимо, почуяли что-то неладное. Затем, в своих выступлениях на семинарах, в своих вопросах преподавателям на лекциях, в частных беседах, я неоднократно возвращался к этой теме. Одним это нравилось, других интересовало, некоторых раздражало: «Он нас с ума свел своими комплексами», — злобно сказала одна из наших девиц. «Ты знал, что всегда сумеешь заморочить им голову своими комплексами, а потому спал спокойно», — сказал мне в 1941 году в момент запальчивости Борис. Было ли это так? Думаю, что нет. Я говорил правду, только правду, ничего, кроме правды, но не всю правду. Это и была единственная возможная форма общественной деятельности в Советском Союзе в те времена. (Самоубийцы не в счет!)
Я планировал в то время грандиозную работу: «Комплекс Гамлета и его развитие в мировой литературе», вовлек в свои планы и Бориса, и Володю Вишневского, и мы мечтали этим заняться после окончания института. Заинтересовались и некоторые наши преподаватели. Таким образом, вокруг меня начали ходить толки. Назревал нарыв. Он должен был прорваться.
И прорвался. 15 мая 1938 года в институте шла лекция по западно-европейской литературе. Темой было творчество Шиллера. Читал лекцию Борис Яковлевич Гейман, доцент, очень полный пожилой человек, страдавший одышкой, с неприятным, брюзгливым выражением лица. Григорьев прозвал его Гаргантюа, и неверно: у него не было и тени добродушия раблезианского героя. Наоборот, он был человек желчный и донельзя раздражительный, хотя и неплохо знавший свое дело. Меня он буквально не переваривал за мою нахальную манеру сидеть на последней парте и пробегать газету в то время, когда все в поте лица записывали его откровения. Уже вошло в традицию, что после лекции я выступал с так называемыми «развернутыми вопросами» и, как он потом говорил, «давал каждый раз диаметрально противоположное толкование темы». На этот раз я остался верен себе: «Мы услышали сейчас, что недостатком Шиллера является то, что у него этическая проблема всегда превалирует над социальной. А не является ли это как раз самой сильной его стороной? Ведь именно благодаря этому он смог вместо головной кантовской этики создать живую, вдохновенную мораль, основанную на сердечном порыве, на вдохновении, на любви к людям. Разве не поэтому Шиллер стал, по выражению Белинского, „благородным адвокатом человечества“». Гейман встал и тяжело задышал, покраснел, склеротические жилы выступили у него на лбу. «Товарищ Левитин… товарищ Левитин… товарищ Левитин, — прохрипел он, точно у него с горла только что сняли веревку. — Вы меня понимаете, не правда ли?» «Нисколько», — сказал я. «Вы находитесь в стенах советского вуза, а не в вузе фашистской Германии». В аудитории поднялся шум. Встала с места очень хорошая женщина, Лидия Ивановна Митрофанова, (наш староста, старая учительница, пришедшая к нам, чтобы получить диплом) и энергично выступила в мою защиту. Потом другая дама — Елена Васильевна. Гейман только задыхался: «Товарищ, Вы ничего не поняли». В этот момент вступило новое действующее лицо. Некий Мирон Михайлович Гельфанд. Колоритная личность. Он был старше меня на пять лет, ему было 28. Преподаватель литературы в одной из школ рабочей молодежи. Среднего роста. Жгучий брюнет. В очках. Когда-то он учился в институте. Потом был исключен за соц. происхождение (кажется, приходился дальним родственником знаменитому Парвусу). Когда «классовый отбор» при приеме в институт был отменен, пришел к нам доучиваться. Он шел по курсу вторым. И мы с ним всегда друг друга не любили. Я этого нисколько не скрывал, а он старался быть со мной любезным. Теперь он попросил слово и очень спокойно, очень серьезно, хорошим литературным языком выступил с форменным доносом: «Мне кажется, те товарищи, которые выступают здесь так рьяно в защиту товарища Левитина, совершенно не правы. Ни для кого не является секретом, что товарищ Левитин находится в плену идеалистических концепций. Кому не известно, что товарищ Левитин является ревностным почитателем Владимира Соловьева, которого он цитирует буквально после каждого третьего слова. И, конечно, недостойно советского педагога и советского студента быть проводником идеалистических идей. Преподаватель только исполнил свой долг, и мы должны быть ему за это благодарны». Произнеся эту тираду, почтенный Мирон Михайлович протер очки и спокойно сел на место. Вскочив с места со свойственной мне стремительностью, я сказал: «Дайте мне слово для ответа». «Хватит, Вы уж достаточно поговорили!» — прокричал весь красный от волнения Гейман. «Если мне здесь зажимают рот, мне остается только уйти отсюда», — сказал я, схватив портфель. «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил, несколько смутившись, Гейман. А я, выскочив как ошпаренный из аудитории, захлопнул за собой дверь так, что все стекла задрожали. «Это дуэль! Это настоящая дуэль», — хрипел Гейман. В аудитории стоял невообразимый шум… А я стремглав ворвался в кабинет к декану. Деканом вечернего отделения филологического факультета был в то время Николай Павлович Каноныкин. Сын священника, окончивший в свое время Уфимскую Духовную семинарию, Николай Павлович затем пошел в университет и стал учителем словесности одной из питерских гимназий. Теперь он вел у нас методику русского языка и деканствовал на вечернем факультете. Высокого роста, аккуратный, с небольшой бородой, он был воплощением спокойствия, благодушия, безмятежности. Говорил ровно, четко, выговаривая каждое слово, никогда не повышая голоса.
Казалось, он не изменит себе, даже если внезапно обвалится потолок. Впоследствии он был с институтом эвакуирован в Пятигорск, остался там при немцах, преподавал и при них русский язык в школе. Мне рассказывал один человек, бывший в то время его учеником, как ныне покойный Николай Павлович однажды велел ученикам зачернить чернилами портрет Сталина в учебнике. Ему ответили: «Нельзя, чернила проникают, будет испорчена страница». «Ну, тогда заклейте бумажкой», — нашел выход из положения преподаватель. Через несколько дней ему докладывают: «Бумажка отваливается». Безмятежность и здесь не покинула Каноныкина: «Ну, тогда не смотрите на этот портрет». Теперь с таким же полным спокойствием выслушал Николай Павлович и мою горячую жалобу. Я обвинял Геймана в клевете: «Я имею право иметь свой взгляд на Шиллера и по другим вопросам литературы». В этот момент прозвенел звонок к окончанию лекции. И через некоторое время вошел все такой же красный и взволнованный, весь дрожащий Гейман и начал жаловаться на меня. Николай Павлович выслушал и его, и нашу последующую взаимную потасовку и наконец изрек соломоново решение: «Так как здесь имеет место научный спор, то следует его перенести на разрешение авторитетного лица. Признаете ли Вы, Борис Яковлевич, и Вы, товарищ Левитин, авторитет Василия Алексеевича Десницкого?» «Конечно! Конечно!» — воскликнули в один голос мы с Гейманом. «Ну вот и прекрасно! Я договорюсь с Василием Алексеевичем и извещу вас обоих, а потом, возможно, этот вопрос мы поставим на кафедре. А теперь разрешите пожелать вам доброго вечера», — сказал Николай Павлович и выпроводил нас из комнаты.
Здесь следует рассказать о том, кто такой был Десницкий. Василий Алексеевич, как и Николай Павлович Каноныкин, и как очень многие наши филологи, был сыном священника Нижегородской губернии и также окончил Духовную семинарию. Затем он поступил в петербургский университет и еще на студенческой скамье вступил в социал-демократический кружок. С этого времени начинается его тесная дружба с Алексеем Максимовичем Горьким. Примкнув к Большевикам, он сблизился также с Плехановым и Лениным. Эмигрировав в 1906 году за границу, председательствовал поочередно с Даном на IV объединительном съезде социал-демократической партии в Стокгольме. Он — от большевиков, Дан — от меньшевиков. В это время приобрел широкую известность под партийным и литературным псевдонимом «Строев». Однако перед войной вернулся на родину, порвал с Лениным и занял, как и Горький, четко выраженную позицию обороны отечества. После Февральской революции Василий Алексеевич стал основателем группы «Новая жизнь», секретарем редакции (фактическим редактором) и одним из главных лидеров группы. После Октября он ушел в научную преподавательскую деятельность. Организовал совместно с Горьким наш институт, был заведующим кафедрой мировой литературы и деканом филологического факультета (на дневном отделении). Перед этим-то человеком я предстал через несколько дней после означенного инцидента.
Это было дождливое, но теплое майское утро. Я быстро поднялся по лестнице и вошел в деканат. Первое, что я увидел, — свое отражение в зеркале. Я повзрослел и возмужал. Мне уже шел 23-й год. Зеркало отразило фигуру молодого учителя, аптекаря или часовщика — в очках, некрасивого, еврейской наружности, но нос картошкой, унаследованный от матери, и с небольшими баками, которые я отрастил для солидности. Секретарь ввела меня в кабинет декана. За столом сидел, пощипывая седую бороду, суровый старик в синих очках, по стенам сидело около десяти преподавателей (из них 4 — Троицкий, Касторский, Богородский и Каноныкин — сыновья священников, бывшие семинаристы, а один — профессор Троицкий — даже окончил Духовную Академию, профессор античной литературы граф Иван Иванович Толстой, старая представительная дама Е. С. Истрина, вдова известного академика, Гейман; остальных трех не помню). Увидев такую компанию, я сразу возликовал духом: «ворон ворону глаз не выклюет». Перед этим, по обыкновению, я сходил к Скоропослушнице и поставил свечку. Надо сказать, что я представлял себя в роли маркиза Позы и приготовил пламенные речи. Весь почтенный синклит на меня смотрел со снисходительным любопытством. Гейман чувствовал себя неловко, избегал встречаться со мной глазами, недовольно пожимал плечами. Василий Алексеевич начал «допрос»: «Итак, Вы придумали комплекс Гамлета. Что это такое?» Я начал говорить, но Десницкий меня перебил на третьем слове: «Вы английский знаете?» «Нет». «И все-таки занимаетесь Шекспиром? Что Вы читали Шекспира?» «Я читал всего Шекспира». Он тут же учинил мне экзамен, но сбить меня на Шекспире не удалось. Я его знал неплохо. «А в каком издании Вы читали Шекспира?» Я замялся: «В красном сафьяновом переплете». Десницкий (резко): «Что значит „в красном сафьяновом переплете“? Я могу телефонную книгу переплести в сафьян». Я: «Кажется, издание Гербеля». Десницкий: «Иллюстрированное?» Я: «Да». Десницкий: «Плохо читали. Иллюстрированное — Брокгауза и Эфрона». И начал меня гонять по изданиям. Сбил. Смущенно я замолчал. Каноныкин спросил: «Поставим вопрос на кафедре?» «Никаких кафедр. Кафедре и без этого есть чем заниматься! — (ко мне) — А Вы зарубите себе на носу, что в аудиторию приходят не для споров. А если у Вас есть какие-то сомнения, подойдите потом к преподавателю. А свои задушевные мысли изложите мне письменно, тогда поговорим. — (к Гейману) — Ну, и у Вас, может быть, тоже были элементы раздражения? (Гейман молчал).
Это бывает. До свидания, товарищ Левитин». Только много позже я понял, как многим я обязан Василию Алексеевичу; если бы дело было поставлено на кафедре (кафедра состояла из 120 человек, из которых половина была коммунистов, а четверть работников, вероятно, были секретными сотрудниками НКВД), мой арест был бы неминуем. Десницкий же потушил это дело в самом начале, придал ему характер обыкновенной мальчишеской выходки. Видимо, пристыдил он и Геймана. Тот после этого держался со мной с исключительной, несколько утрированной любезностью, здороваясь, снимал шляпу первый. Но всегда, говоря со мной, отводил глаза.
А сколько людей погибло в лагерях даже за гораздо меньшее, да и вообще без всяких оснований. Хочется в заключение этого рассказа перефразировать Белинского: «Хорошо иметь дело с Василиями Алексеевичами (с порядочными людьми). И да пошлет Господь всем моим друзьям, коллегам, ученикам в России побольше на их жизненном пути Василиев Алексеевичей». У Белинского: «И да пошлет Вам, читатель, Бог на Вашем пути побольше Максимов Максимовичей».
Этот инцидент показывает, что и в те страшные времена много было людей, оставшихся чистыми и незапятнанно сохранивших свою честь.
И здесь же расскажу о другом подобном случае. В 1940 году, в страстной четверг, после окончания всенощной с чтением Двенадцати Евангелий, в Николо-Морском соборе ко мне подошла молодая женщина и спросила: «Скажите пожалуйста, Вы учитель литературы и классный руководитель 10 класса 4-й школы?» Я ответил: «Это неважно, здесь я молящийся». Как потом оказалось, это была сестра моего ученика, секретаря школьной комсомольской организации. Одного ее слова или слова ее брата было достаточно, чтоб я был уволен с записью в трудовой книжке: «Уволен как не заслуживающий доверия». Такая запись означала остракизм, невозможность поступить на работу куда бы то ни было, и как финал — арест. И это слово сказано не было.
А теперь расскажу о других людях, людях с сожженной совестью, которых тоже было немало среди нашей (иногда даже очень высокой) интеллигенции.
В январе 1940 года я сдавал государственный экзамен по русской литературе. Преподаватели разделились. Каждый спрашивал по своему разделу. По древнерусской литературе экзаменовал профессор Сергей Александрович Адрианов, известный либеральный дореволюционный деятель, публицист и литературный критик, профессор петербургского университета. С. А. Адрианов после революции считался крупным специалистом по древнерусской литературе и литературе XVIII века. Он был, впрочем, больше известен в литературных кругах как муж знаменитой исполнительницы старинных русских романсов Зои Лодий. На всех ее концертах, сидя рядом с аккомпаниатором, он переворачивал ноты. Высокого роста, сухощавый, с седой бородой, одетый во френч, обутый в черные краги, носил он старомодный черный плащ и такую же шляпу. Вероятно, в юности сочинил себе эту одежду, придававшую ему сходство с Дон-Кихотом. Это был человек, принадлежавший к сливкам петербургской интеллигенции.
Мне попался билет «Переписка Грозного с Курбским». Отвечая, я, между прочим, сказал, что разница во взглядах Грозного и Курбского очень преувеличена: Курбский вовсе не отрицает самодержавной власти, наоборот, он ее безоговорочно признает — он лишь протестует против зверства и произвола. Боже! Что стало с Адриановым (это было время, когда культ Грозного по манию его грузинского коллеги входил в моду). «Как? Вы отрицаете классовую противоположность позиций Грозного и Курбского? Но Вы не марксист, какой же Вы марксист?» — закипятился старик. «Я говорю то, что есть, анализирую исторический документ, а не подменяю его схемой», — ответил я. Этого спора никто не слышал, экзаменаторы экзаменовали для скорости в разных углах. Тем не менее, после окончания экзамена Е. С. Истрина (председатель комиссии) зачитала следующую резолюцию: «Левитин — 5. Однако комиссия считает необходимым отметить некоторую методологическую нечеткость». Адрианов вставил: «Мягко выражаясь». И, обернувшись ко мне, сказал: «Так Вы, оказывается, поклонник Владимира Соловьева? Тогда Ваше идеалистическое извращение вполне понятно». Я ответил с насмешливой улыбкой: «Мне Ваш марксизм тоже вполне понятен».
Невольно задаешь себе вопрос: что заставляло этого убеленного сединами человека, старого ученого, выскакивать с доносом (опять-таки спасло меня то, что председатель комиссии, профессор Истрина, и другой член комиссии, Докусов, были порядочнейшими людьми) и публично обвинять студента в идеалистическом «извращении». (Он, конечно, прекрасно понимал, чем это могло пахнуть). Видимо, подхалимство, подлость, стремление «заглаживать свое прошлое» стало настолько его второй натурой, что заглушило в нем даже самую элементарную порядочность.
Хочется рассказать и о втором «герое» этого же рода, о Гельфанде. После того, как я вышел «сухим из воды», т. е. после инцидента с Гейманом, я демонстративно перестал с Гельфандом здороваться. Боря Григорьев тоже. Бывало, идем мы с Григорьевым по коридору, стоит группа студентов, среди них Гельфанд. Я говорю: «Пойдем — не поздороваемся с Гельфандом». Мы подходим, здороваемся за руку со всеми (человек 10–12), кроме Гельфанда. Под конец. Григорьев говорил: «Иди сам не здоровайся, мне уж надоело всем трясти руки из-за твоего Гельфанда». Так продолжалось два года, до самого окончания института. Дальше начинается курьез (скучно было бы жить все-таки без курьезов).
Летом 1940 года я должен был навестить одну пожилую учительницу. Никогда до этого я у нее не был. Звоню. Дверь, к моему удивлению, открывает мой товарищ по институту Студенский. Увидев меня, поздоровался и спросил: «Ты ко мне?» «Нет, я понятия не имел, что ты здесь живешь. Я к Зинаиде Васильевне». «Зинаида Васильевна моя соседка. Она сейчас придет. Заходи ко мне». Зашел. Разговариваем. Однако вижу, что мой товарищ смущен и как будто бы озабочен. Звонок. Студенский идет открывать дверь и вводит Гельфанда (надо же было такое совпадение, чтоб он пришел именно в тот момент). Увидев меня, смутился. Смутился и Студенский, (он его, оказывается, ожидал). Я минуту колебался, но хорошее воспитание, которое я в свое время получил под эгидой двух бабушек, пересилило. Встав со стула, я вежливо сказал: «Здравствуйте, Мирон Михайлович», — и первый протянул руку (гостя оскорблять нельзя — это неуважение к хозяину). Затем начался общий разговор; вскоре, однако, пришла Зинаида Васильевна, я с облегчением покинул общество Гельфанда. Потом, я слышал, война сильно ударила по Гельфанду: его жена с сыном поехали летом 1941 года в Харьков к родным, попали в немецкую оккупацию и погибли. Сострадаю своему коллеге и бывшему однокурснику и надеюсь, что после этого страшного испытания он обновился духовно. (Он еще должен быть жив — он старше меня всего лет на 5).
Между тем, моя преподавательская деятельность продолжалась. В течение трех лет, с 1936 по 1939 год, я работал по школам малограмотных, а в 1939 году стал учителем литературы старших классов. Много я видел за это время людей и особенно хорошо узнал жизнь рабочего класса. Я был учителем на заводе «Электроаппарат» (одном из крупнейших заводов в СССР), на грандиозном строительстве «Хлебострой» (ныне мелькомбинат им. Кирова) и на катушечной фабрике. Жизнь среди рабочих делала особенно ясным тот обман, который царил в Советском Союзе. Согласно официальной демагогии, в СССР осуществлялась «диктатура пролетариата» и рабочий класс стоял у власти. Однако достаточно было пойти на любой завод, чтоб убедиться в полной вздорности этой официальной фразеологии. На самом деле рабочий класс находится в положении не намного лучшем, чем колхозное крестьянство. Особенно ярко проявилась беспомощность рабочего класса после 1936 года, когда началось буквально наступление на рабочий класс. Прежде всего, с этого времени начинается непрерывное повышение рабочих норм в связи с так называемым «стахановским» движением. Процедура повышения норм стала в это время традицией. Каждую весну все газеты начинали истошно кричать о баснословных рекордах какого-нибудь очередного героя — Стаханова, Кривоноса, Дуси Виноградовой, Никиты Изотова или еще кого-нибудь. Страницы «Правды» и «Известий» пестрели их портретами, в газетах печатались также «отклики читателей» с призывами подражать рекордсменам и даже перекрыть их рекорды. Шум продолжался с месяц. Кампания оканчивалась торжественным награждением «стахановцев» орденами, приемами и банкетами в Кремле. Затем газеты на некоторое время смолкали, а тем временем втихомолку происходило «подтягивание норм», т. е., попросту говоря, снижение зарплаты. Особенно ощутительно понизилась реальная зарплата рабочего в 1939 году, когда начали расти цены: сначала повысились цены на сахар, потом на хлеб, потом на все другие продукты. С 1938 года был, кроме того, опубликован целый ряд антирабочих законов, карающих за прогул и за самовольный уход с предприятия (об этом подробней расскажу ниже). Все это было возможно лишь в обстановке ежовщины, страшной запуганности населения, дикого террора. Характерно, что когда Хрущев попробовал применить те же методы (повышение рабочих норм в других условиях — в 1956–58 годах), рабочие ответили на это волной забастовок. Все эти факты следует учесть историку, когда он попытается выяснить те побудительные причины, которые заставили Сталина открыть эпоху ни с чем не сравнимого террора. Я помню питерских рабочих 20-х годов, дерзких, требовательных, с еще не остывшим возбуждением революционных лет. И для меня ясно: для того, чтобы превратить тогдашний пролетариат в свое покорное орудие, чтобы сломить его волю, Сталину нужна была «ежовщина». Террор, направленный, якобы, против интеллигенции, на самом деле был направлен против рабочего класса. Недаром в это время со всех сторон слышались призывы к железной дисциплине, к порядку, к единоначалию.
Что из себя представлял рабочий класс того времени? Т. к. эти строки принадлежат социалисту и народнику, читатель, конечно, ждет дифирамбов «пролетариату». Ошибается! В рабочей среде было немало скотов и хамов, и, сравнивая рабочих с интеллигентами, я должен признать, что интеллигентская среда нравственно чище и несравненно выше рабочей. Правда, тогда еще рабочий класс не был съеден алкоголем до такой степени, как сейчас, но зато был развращен сильнее. Система всеобщего шпионажа, наушничества, предательства сделала свое дело: дух товарищества, сознания общности интересов совершенно выветрился.
Рабочих того времени можно разделить на следующие четыре типа:
I. Старые питерские рабочие, которые хорошо помнили рабочие кружки, участвовали во всех трех революциях. Суровые, начитанные, знавшие многих старых революционеров. Эти ушли в себя, молчали; столь неожиданные результаты революции их ошеломили, дезориентировали. Лишь в кругу семьи и в разговорах с близкими друзьями, немного подвыпив, отводили душу — критиковали советский режим, ругали Сталина. Однако дальше не шли. Слишком мало времени прошло, чтобы могло сформироваться какое-либо новое мировоззрение. Отсюда разочарование, иногда отчаяние.
II. «Молодняк». Рабочие-активисты. Рабочие парни и девушки, которые во что бы то ни стало хотели сделать карьеру. Эти орали до хрипоты на всевозможных совещаниях, выступали с предложениями «догнать и перегнать», «выполнить очередную пятилетку в 4 года», приветствовали товарища Сталина и т. д. Наиболее характерной их чертой была страшная внутренняя опустошенность. Никаких принципов, ничего святого, все выброшено за борт, все принесено в жертву желанию «выбиться в люди». В то же время — надо отдать им справедливость — выходцы из рабочих семей, где их не гладили по головке, работать они умели, лодырями и лежебоками не были. А впоследствии и воевать тоже умели. Напористые, энергичные, нахальные, они в конце концов выбивались в люди. Это и был тот резерв, из которого черпал свои кадры советский режим. Именно из этой среды вышли и Никита Хрущев, и Косыгин, и почти все нынешние большие и малые советские партийные руководители. В рабочей среде их не любили, но тон все-таки задавали они: противоречить им боялись, с ними считались. Ведь кто его знает — сегодня он активист-горлодер, а завтра — парторг, заведующий цехом, а там, глядишь, вылезет и в секретари парткома, и в замдиректоры.
III. К 3-ей группе принадлежали мирные трудящиеся люди, костяк рабочего класса. Как сказали бы теперь — «работяги». Эти никуда не лезли. Работали с утра до вечера. Главная забота — семья. Прокормить, воспитать детей, устроить как можно лучше квартирку. Живой интерес ко всему: и к политике, и к науке. Кто помоложе — учился в школе рабочей молодежи. Некоторые выходили в интеллигенты: попадали через рабфаки в институты, становились инженерами, учителями.
IV. 4-я и самая многочисленная группа — выходцы из деревни. Колхозные беглецы. Нищие, в лохмотьях, полуголодные. Большей частью неграмотные. Обычно они работали сезонниками на строительствах или чернорабочими на фабриках.
Это и были в основном мои ученики, когда я преподавал на «Хлебострое», на строительстве мелькомбината им. Кирова — за Александро-Невской лаврой. Помню рабочие бараки. Это было что-то ужасное. Уже на крыльце запах шибает в нос.
Смешанный запах помоев, гнилой картошки, человеческих испарений, мочи. Бараки семейные — дети тут же сидят на горшочках. Входим в помещение. Большая комната, разделенная занавесками на 4 части. Каждый квадратик — жилище семьи.
Посреди матерчатых стенок — коридорчик. Работа тяжелая: носить кирпичи на самую верхотуру, в строящиеся цеха, работать на весу — на высоте 7-этажного дома, Одно неверное движение — крышка. Зарплата грошовая. Какой ужас должен был быть в деревне, чтобы цепляться даже за такую жизнь. А за эту жизнь цеплялись.
И здесь мне вспоминается следующий эпизод. Вызывает меня как-то (я был старшим преподавателем) председатель постройкома Федосеев, ловкий парень, из тех самых «активистов», о которых я писал выше, профсоюзник-карьерист. «Товарищ Левитин! Сколько у нас на строительстве неграмотных?» «600». Федосеев: «А сколько учится у Вас в школе?» «70». Федосеев: «Плохо! Сегодня приезжает ревизия — из ЦК профсоюза строителей, из Москвы. Буду вызывать людей». Учеба шла в две смены. Утром мы (трое педагогов) позанимались, пошли в столовую, пообедали. Не спеша идем на вечерние занятия — и в первый момент не понимаем, что такое произошло: у школы стоит огромная толпа. Подходим ближе. «Что вам надо, товарищи?» «Учиться пришли». Мы все трое таращим глаза: обычно в это время к нам приходят 15–20 человек. Открываю дверь (ключ у меня), школа — деревянный домик, типа сельского училища. Толпа наполняет классы. Все люди, которых мы никогда в глаза не видели. Начинаем проверять списки, а люди все идут, идут и идут. Все классы переполнены, мест не хватает, тетрадей, карандашей нет. Учителя, взволнованные, ничего не понимающие, сбиваются с ног. Ровно в семь часов к школе подъезжает автомобиль. Сановной походкой двигается очень полный, очень важный, очень медлительный пожилой мужчина. За ним свита — человек десять, впереди всех Федосеев в роли гида. Дает пояснения: «Это, видите ли, у нас школа, ликвидируем неграмотность. Охвачены учебой все 600 человек. К сожалению, средств не хватает — всего 20 тысяч на школу. Три учителя». Медленно движется процессия. Ни с кем не здороваясь, начальник, заходя в классы, всех окидывает строгим взглядом. Затем заходит в канцелярию. «Да, с охватом учащихся у Вас дело обстоит неплохо». Федосеев представляет меня как старшего преподавателя. Сановно, снисходительным жестом, начальство подает мне руку и направляется к выходу, за ним следует свита. И только на другой день мы узнали, в чем дело: оказывается, Федосеев, вызвав двух-трех женщин, сказал им по секрету, что всех неграмотных, кто не учится, будут высылать из Ленинграда. Среди неграмотных — паника. Жажда знания охватила все шестьсот человек. Разумеется, через несколько дней, когда Федосеев утратил интерес к школе, жажда поутихла. И через неделю у нас остались наши исконные 70 человек. Но впечатление произведено: Федосеев получил из Москвы благодарность. Как тут не воскликнуть (в который раз!) вместе с Пушкиным — «Боже мой! Как грустна наша Россия!»
Или еще одна веселенькая картинка. 1940 год. Опубликован указ: за прогул (или за опоздание свыше 20 минут) принудительные работы, за уход с предприятия — год тюрьмы. (Это еще-только цветочки: во время войны — 4 года). В то время я уже работал в средней школе (в Московском районе). Жил на Васильевском. В один прекрасный день, в 9 часов утра, появляюсь в школе. Навстречу вылетают взволнованный директор и завуч (обе — прекрасные женщины и мои большие друзья). Завуч: «Богема несчастная! Зачем Вы пришли?» Я: «Что такое?» Директор: «А то такое, что Вы сегодня дежурный и должны были явиться в половине девятого, и мы должны Вас теперь отдать под суд!» Я хлопаю себя по лбу, но делать нечего, закон строгий: администратор, который покроет прогульщика (а я опоздал на полчаса — значит, прогульщик) сам попадает под суд. О моем опоздании знает уже вся школа. Завуч квохчет: «Ну, видите, что опоздали, ну заболели бы, ну вызвали бы врача». Я пожимаю плечами и иду на урок. А в конце дня получаю повестку: завтра в 11 явиться в суд. Грозит полгода принудработ, т. е. вычет из зарплаты половины суммы. На другой день, утром, захожу во «Дворец труда» — там профсоюз учителей. Консультант мне дает папку: «Вот, смотрите, может быть здесь что-нибудь найдете для себя подходящее. Была насчет дежурств какая-то телеграмма от наркома». Ищу — эврика! Телеграмма из Москвы — от Потемкина. Составлена так, что ее не расшифрует и сам Шамполион. Заметил только, что в первой строке слово «общественная работа учителей», а в последней (без связи с «общественной работой») слово «дежурство учителей». «Можно взять телеграмму?» «Если считаете, что поможет, берите!» Ровно в 11 переступаю порог кабинета судьи. Эти дела разбираются единолично, поэтому заседателей нет. За столом сидит грузный мужик лет 35-и (и отчего они все так быстро толстеют?), с квадратным лицом. Перед ним несчастная, вся в лохмотьях, женщина, приговоренная несколько дней назад за самовольный уход с предприятия к году тюрьмы. «Товарищ судья! Так как же? Я ведь с ребенком». Судья (бесстрастно): «Вас заберут!»
Женщина: «Но ведь ребенок! А ребенок как?» Судья (все так же): «Ребенка заберут!» «Как заберут?» Покосившись на меня, судья снисходит до объяснения: «Сначала ребенка в детдом заберут, а потом приедет карета и Вас заберет». Женщина (страшно жалостно, робко, почти шепотом): «Да как же так? Может быть, можно как-нибудь?» Судья (все так же бесстрастно, точно сомнамбула): «Вас заберут!» Женщина уходит. Я (мелким бесом): «Товарищ судья! Тут произошло недоразумение. Я опоздал на дежурство, но дежурство — это общественная работа; чисто на добровольных началах. Вот телеграмма наркома просвещения (министров тогда еще не было). Вот пожалуйста, читайте! Вот написано — общественная работа, вот — дежурство». Судья смотрит телеграмму, не понимая, конечно, ни одного слова. Потом все с такой же важностью изрекает: «Дело прекратить». С торжеством я являюсь в школу. Директор всплескивает руками: «Так ведь три учительницы в нашем районе уже несколько месяцев платят за опоздание на дежурство!» Я смеюсь: «Дело мастера боится». Но перед глазами у меня стоит силуэт страшной, оборванной, обиженной женщины, и мне не весело.
В 1939 году я стал учителем 9–10 классов 4-ой школы Московского района. Взяла меня на работу директор школы Серафима Ивановна Куликевич, старая питерская учительница, которая работала в этой школе с 1912 года. При этом сказала, по-учительски отчеканивая слова: «Знаю, что у Вас будет масса методических ошибок. Беру с испытательным сроком. Через месяц приду на урок — посмотрю; если умеете говорить так, что у учеников глаза блестят, тогда оставлю. Нет — не взыщите!» Оставила. Говорить я умел и литературой увлекался. Началась моя работа в средней школе. Через 20 лет зашел в свою старую школу. Серафима Ивановна все еще была директором. Долго говорили. Вспоминали старину. Я сказал: «Одного не пойму: как Вы меня держали — такого нахального мальчишку?» Серафима Ивановна молча улыбнулась. А мальчишка я был если и не нахальный (все-таки с дамами я был вежлив), то во всяком случае самоуверенный необыкновенно. Себя я мнил по меньшей мере Ушинским. Отец кратко резюмировал: «Чисто жидовское нахальство». Ученики меня слушали разинув рот. Чего только я им не говорил. И о символистах, и о Сологубе, и о Брюсове, и об Оскаре Уайльде, и о Метерлинке, и даже о Гамсуне. И все это как-то увязывалось с программой. Хаос в головах у учеников от моих уроков был невообразимый. Блистать перед посетителями умел. Помню, пришел ко мне на урок инспектор, с которым я только что перед этим поругался. Сказал потом директору: «До чего он противный в жизни и до чего хорош на уроке». Но были и другие отзывы: один старый, опытный педагог, посидев у меня на уроке, в ответ на вопрос Серафимы Ивановны «А что, хороший учитель, не правда ли?» ответила: «Бросьте, какой он учитель. Так себе, провинциальный краснобай-адвокатишка».
Кто был прав? Конечно, старая учительница. Я понятия не имел тогда, в чем сущность учительской работы. Постиг это лишь много позже. Сущность педагогической работы заключается в том, чтобы сложное сделать простым, скучное увлекательным, старое — новым, оригинальным, интересным. Когда у меня спрашивают, что такое педагогическое искусство, я вспоминаю один рисунок, принадлежащий гениальному русскому педагогу Димитрию Ушинскому. В самом деле, что может быть скучнее для ребенка, для ученика 2-го класса, чем предлоги. Читаем грамматическое определение: «предлог — часть речи, которая показывает отношение предметов друг к другу». Что за муть! Как это втолковать 8-летнему ребенку. Что же делает Ушинский? Он рисует клетку, а вокруг птицы: «Птица из клетки», «Птица под клеткой», «Птица за клеткой» и т. д. Как все сразу стало интересно, весело и, главное, просто. Ушинский здесь нашел совершенно новое, оригинальное и простое решение. Весь педагогический процесс — цепь таких находок. Но тогда я ничего этого не понимал: по выражению Серафимы Ивановны, растекался «мыслью по древу» и был страшно доволен своим красноречием. Были довольны и ученики, а потом, конечно, все мгновенно забывали и сдавали экзамены по шпаргалкам.
В 1940 году я с отличием окончил институт и поступил в аспирантуру. В это время я уже располнел — стал зашибать деньгу. Правда, очень относительную, но все-таки «деньгу». 400 рублей — аспирантская стипендия, 600 рублей — в школе. По-теперешнему — 200 рублей. Более или менее прилично оделся. Один мой старый, еще школьный, товарищ, который жив и сейчас, вспоминая этот период моей жизни, говорит: «У меня от тебя тогда было впечатление: еврей, делающий карьеру». Так ли это было? Вряд ли. Такова была только внешность. Внутренне я метался и искал.
Я помню, отец меня как-то спросил: «Ну, к кому же ты, наконец, примкнул сейчас, когда ты взрослый человек?» Я кратко ответил: «Христианский социалист». «Как, все еще христианский социалист?» «Да, все еще христианский социалист. И вчера, и сегодня, и завтра. Всегда!» За это время, перечитав горы книг, увидев очень много людей, потратив бесчисленное количество часов в разговорах на философские, религиозные, политические темы, я убедился, что весь мир — тюрьма.
То, что советский коммунизм и фашизм есть тюрьма — и в буквальном, и в переносном смысле, — это была истина, не требующая доказательств. Но и капиталистическое общество, основанное на деньгах, на борьбе за существование, на господстве «сытых», мне было глубоко противно, и я его не принимал и не мог принять. Не говоря уже об идеологах «крепкого государства», рыцарях классовой «гармонии», «симфонии», типа поклонника Византии Константина Леонтьева, к которым я всегда чувствовал брезгливое отвращение. Всякое авторитарное государство (монархическое, цезаристское или мнимо теократическое) было для меня отвратительно, под каким бы флагом оно ни выступало. Если раньше оно у меня ассоциировалось с папашиным ремнем, который, в общем, возбуждал больше смех, чем страх, то теперь оно предстало предо мной в лице судьи, изрекающего глагол «заберут». Мир безнадежен. Я часто вспоминал Ибсена: «Была лишь одна настоящая революция — всемирный потоп. Но и тут нашелся оппортунист и соглашатель — Ной». В это время я без конца читаю греческих трагиков. Сильная личность, бросающая вызов судьбе, борющаяся даже тогда, когда борьба безнадежна, и гибнущая без слова жалобы, меня пленяет. Образы Антигоны, Филоктета, Электры — для меня были предвосхищением христианства. Отталкиваясь от Ницше, я мечтал написать работу «Рождение античной трагедии из духа борьбы». Многие близкие мне люди в это время разочаровывались в искусстве. «В сущности, искусство — это гнусная вещь: оно лишь навевает красивые сны», — сказал как-то в это время Боря Григорьев. Помню, мне удалось с огромным трудом достать книгу Габриэля Д'Анунцио «Сто и сто и сто и сто страниц Габриэля, который хочет умереть». Мне ее дал Василий Алексеевич, которому я все-таки подал мои «Задушевные мысли» и с которым свел знакомство. Книга была на итальянском языке. Я, разумеется, ничего не понимал, но Екатерина Димитриевна Аменицкая знала итальянский и обещала прочесть и мне рассказать. Отец увидел у меня книгу и спросил, как называется. Получив ответ, сказал: «Врет твой Габриэль: если бы хотел умереть, так книг с дурацкими названиями не писал бы». И, вздохнув, прибавил: «И все так: искусство — сплошное позерство и фальшь». И хотя я, конечно, понимал, что эти сентенции очень вульгарны и плоски, но долю правды в них все-таки чувствовал. И твердо знал, что ни Шекспир, ни Эсхил, ни Софокл, ни Эврипид — мне истины не откроют. Безнадежность!
Но когда я говорил «безнадежность», я видел среди окружающей тьмы одну ярко светящуюся точку. И чем темнее было вокруг, тем ярче разгоралась она. Свет — «И тьма его не объяла». Свет этот был Христос!
Страшно писать о Христе! А надо писать. С раннего детства Он мне был самым близким. И не было ни одного дня в моей жизни, когда не стоял бы Он у меня перед глазами. М. М. Тареев когда-то писал, что во Христе удивительно совпадают исторический, мистический и символический планы. Мало того! Христос так многогранен, что каждое поколение, каждая эпоха улавливает в нем какую-то одну грань. И лишь в конце времен раскроется Христос во всей полноте. Сейчас я хочу рассказать, какие грани уловил я в Христе.
В Христе я нашел полную, совершенную свободу и совершенную любовь. В то время я еще мало занимался богословием. Годы, когда я полностью отдался богословию, наступили уже после войны (1945–1949 гг.). А в то время я был еще дилетантом в богословии, поэтому не буду и сейчас излагать свое мировоззрение в богословских терминах[21].
Итак, во Христе я увидел совершенную, безграничную, последнюю свободу. Это прежде всего свобода от всех условностей, придуманных людьми: сословия, государства, национальности. Все это если и существует, то только как «мнимость», условность, нечто временное, эфемерное, что разлетается как дым при первом порыве ветра.
Государство. Что о нем сказано? Сказано: «Отдайте кесарево кесарю, а Богу божие». А Богу надо отдать все: «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумом твоим». (Лк.10, 27). Что же остается на долю кесарю? Всего лишь динарий (Мф.19, 19–21). Немного. Особенно если учесть, что у истинного христианина нет динариев, ведь он все свое имущество отдал нищим (Мф.19, 21). В обществе христианском нет и не может быть властителей, стоящих над народом: «Цари народов господствуют над ними и имеющие власть над ними называются благодетелями. А вы не так, но больший между вами, да будет младший, и начальствующий как служащий». (Лк.22, 26)[22]. Свобода от сословия, от всех авторитетов, придуманных людьми. Свобода не только от преклонения перед наследственными титулами — это теперь уже изжито, — но и перед авторитетами научности, личной одаренности, гениальности. «Ибо высокое у людей — мерзость перед Богом». (Лк.16, 15). Наконец, самое категорическое отвержение всякого деления людей по национальному признаку, самого понятия «нация» содержится в следующем месте Евангелия: «Ответили они и сказали Ему: отец наш Авраам. Говорит им Иисус: если бы вы были дети Авраамовы, вы делали бы дела Авраамовы… Вы от отца вашего, диавола, и хотите делать похоти отца вашего». (Ин.8, 39, 44). Признак наследственности, так называемой национальной культуры никакого значения не имеет — имеет значение лишь то, чьи дела делает человек — дела Божии («Авраамовы») или дела дьявола. Христос освобождает людей от власти богатства. Не говоря уже о категорическом осуждении самого богатства, которое несовместимо со служением Богу (Мф.6, 24) и которое мешает человеку войти в Царствие Божие (Мф.19, 23, 24), осужден самый путь к богатству — воспрещено думать о завтрашнем дне, заботиться о том, что есть и что пить и во что одеться (Мф.6, 19–21, 25–33). Птицы небесные, вольные и беззаботные, — вот тот образ, который представляет человеку Христос. Христос освобождает человека от страха перед властителями, от того самого страха, который является основой всякого государства, всякого общественного строя (Мф.10, 18–20). Христос освобождает человека от страха смерти — самой мощной силы, на которую опираются тираны (Мф.10, 28). Освобождая человека в плане социальном, Христос освобождает его также в плане мистическом и космическом. Мистическая свобода — свобода от власти дьявола, от власти греха. Грех теряет всякую власть над человеком — надо лишь обратиться к Христу с верой, и человек обретает благодать, становится чистым, как новорожденный младенец. Мистическая свобода ведет к победе над природой, болезни уже не властны над человеком. И в этом значение чудес, которые творил Христос; он показал сверхчеловеческую власть над природой. И никто из христиан не может отныне признать ее власть над собой. И наконец, последняя, космическая свобода — победа над смертью, которую Христос показал, победив смерть и восстав из мертвых. Таким образом, Христос есть подлинный Сверхчеловек. Победитель мира. Победитель греха. Победитель смерти. И только Он есть единственный яркий Свет в человечестве. Он светит, и тьма Его не объяла.
H. А. Бердяев считает свободу изначальной точкой бытия. Для него свобода — это главный атрибут Божества. Не так говорит любимый ученик Иисуса Христа. Он определяет изначальную точку бытия в ясной и точной формуле: «Бог есть любовь» (I Иоанна, 4, 8). Свобода есть производное от любви; есть выражение Любви Божией. И в личности, и в учении Христа свобода органически сочетается с любовью. Более того, свобода есть форма проявления Любви Божией. Свобода сынов Божиих от государства, от национальности, от имущества, от власти темных стихий природы, от смерти — возможна лишь при Любви Христовой. «Если я языками человеческими говорю и ангельскими, но любви не имею, сделался я медью звенящею и кимвалом звенящим». (I Посл. Кор. 13, 1).
И свобода без любви — медь звенящая и кимвал звенящий. И даже еще хуже — разбой. Совершенное общество — там, где совершенная любовь и совершенная свобода. Царство Божие на земле.
Я не сумел бы выразить эту мысль с такой поразительной яркостью, как это сделал Пастернак. Но меня всегда поражала в Христе — ширь, безграничная и бескрайняя, всеобъемлющая и всепроницающая. Ширь Любви Христовой охватывает все прошедшее, настоящее и будущее. Любовь Христова охватывает и верующих и неверующих, и друзей и врагов. И здесь мы вплотную подходим к идее социализма. Социализм не есть Царствие Божие, он не является и самоцелью, он не может и обеспечить счастье человечеству. Социализм есть лишь подступ или, точнее, один из подступов к Царствию Божию на земле. Уничтожение богатства, имущественного неравенства; осуществление принципа апостола Павла: «Кто не хочет работать, пусть и не ест» (2 Фес. 3, 10). Создание такого общества есть одна из предпосылок Царства Божия на земле, один из подступов к нему.
Мне приходилось чуть ли не со дня рождения иметь дело с социализмом, опирающимся на идеологию Маркса и Энгельса. Поэтому мне уже в ранней юности необходимо было сформулировать свое отношение к марксизму. Как я определил его в те годы? Конечно, очень просто было бы объявить марксизм, так же, как дарвинизм и все прочие «измы», сплошной чепухой, позубоскалить, показав Марксу кукиш, и на этом покончить свои счеты с марксизмом. Но это означало показать кукиш прежде всего самому себе. Если существует учение, которое овладело сотнями миллионов людей, которое вдохновляет людей уже более сотни лет и которое до сих пор владеет умами, то отделаться от него ругательствами — это нечто совсем несерьезное. Между тем, все положения Маркса и Энгельса можно разделить на три части:
1. Неприемлемые безусловно. Таковая вся их материалистическая философия. Знаменитая формула «Религия есть опиум для народа», учение об экономическом базисе как основе исторического процесса и т. д.
2. Положения, приемлемые условно (имевшие большое историческое значение в их время, но теперь, в переменившихся условиях, утратившие свою силу). Таково учение о руководящей роли пролетариата. О необходимости революционного свержения капитализма. Таков великий лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», который сейчас может быть заменен другим лозунгом: «Все трудящиеся, соединяйтесь». И, наконец, термин «диктатура пролетариата», приобретший такое зловещее значение в коммунизме. Разумеется, совершенным анахронизмом является «Коммунистический Манифест», о котором, впрочем, и сами Маркс с Энгельсом, начиная с 60-х годов XIX века, уже нигде не упоминают.
3. Положения, приемлемые для христианина и вполне научные. Такова теория прибавочной стоимости, которая лишь переводит принцип апостола Павла на язык политической экономии. И тот вывод, который из нее следует, — что весь прибавочный продукт должен идти на пользу трудящимся. На наших глазах осуществляется сейчас предсказание об упадке капиталистической системы, и, видимо, предвидение Маркса о национализации крупной промышленности осуществится уже при жизни этого поколения.
Мне приходилось также сформулировать и свое отношение к Октябрьской революции, под знаком которой прошла вся моя жизнь. И здесь я всегда хотел быть максимально объективным и всегда остерегался впасть в какое-либо пристрастие. Разумеется, я всегда (как христианин) осуждал зверства большевиков, так же, как и зверства их противников. Я считал, что кардинальный принцип монопартизма Ленина и Троцкого неизбежно приводит к тирании. Обманный демагогический лозунг «диктатуры пролетариата», который ведет к диктатуре коммунистических нуворишей. Вся советская система, с террором, направленным против церкви, против свободы личности, против свободы слова, печати, собраний, была для меня неприемлема, и я с ней боролся всюду и везде, как только мог. За что боролся? Во всяком случае не за реставрацию старого режима и капитализма.
И опять мне хочется вспомнить один мой разговор с отцом. Отец сказал: «И главное, если бы ты действительно ставил перед собой благородные цели реставрации России, а то ведь одна ерунда… твои христианские социализмы». Я ответил: «Между тобой и мной разница: тебе не нравится советская власть, потому что она для тебя слишком демократична (дала дорогу „хамью“, как ты говоришь), а мне она не нравится, потому что она недостаточно демократична и не дает дороги „хамью“, а по-прежнему держит его в рабстве. Тебе не нравится советская власть, потому что она отняла у тебя деньги, а мне она не нравится потому, что эти деньги пошли не народу, а паразитам». Отец засмеялся: «Поздно я женился. Женился бы лет в 19. В гражданскую тебе было бы 20. Хорошим бы митинговщиком ты был. Солдатня слушала бы и хлопала в ладоши, а теперь этой чепухе, верно, даже твои сопляки в 10 классе не верят».
А я верю!
Последний год
Выше я говорил, что все годы, оканчивающиеся на «0» и на «5», для меня счастливые. 1940 год был удачливый. Окончил институт. Хотел поступить в аспирантуру при своей «alma mater», Василий Алексеевич отсоветовал. Сказал: «Отрежьте полу. Получайте диплом и сматывайтесь. На всех кафедрах Вас знают как идеалиста. Скажите спасибо, что не вытряхнули». Но в то время было легче куда-нибудь устроиться, чем сейчас. Иду я как-то по Исакиевской площади. Вижу на дверях одного из бывших особняков доска: «Научно-исследовательский институт театра и музыки». И тут же объявление: «Прием в аспирантуру». Зашел, справился. А через два дня подал заявление и стал готовиться к экзаменам. Экзамены: история русского театра, история западно-европейского театра, неизменный диамат и немецкий язык. Театр знаю с детства. Еще подчитал кое-что. Экзамены сдал на пятерки. Выдержал. Самое трудное было — немецкий. Сдавал плохо, но простили: все остальные знали не лучше. Этот последний предвоенный год был интересен: он дал мне, скромному учителю, возможность присмотреться к нашей тогдашней высокой интеллигенции: профессорам да театралам.
Институт Театра и Музыки (ныне Институт Театра, Кино и Музыки) имел своеобразную историю. И опять приходится начинать с матушки Екатерины. Особняк, в котором институт помещался, был построен императрицей для небезызвестного графа Платона Зубова. Правда, Зубов не успел еще в него въехать, когда его высокая покровительница умерла. Но Павел I, которому были иногда свойственны великодушные порывы, на свои средства завершил отделку великолепного дворца и подарил его своему старому врагу и одному из будущих своих убийц. Потомки фаворита Екатерины II были, не в пример своему блестящему предку, людьми тихими и мирно жили в особняке на Исакиевской площади вплоть до самой революции. Однако последний Зубов был своеобразным человеком: эстет, любитель живописи, меценат, он объездил всю Европу. Собрал ценнейшую коллекцию древних гравюр; его библиотека до сих пор считается одним из лучших в Советском Союзе собраний по искусствоведению. В начале XX века граф открыл в своем особняке лекторий для великосветской публики. Сам он читал историю античного искусства. Барон Врангель, талантливый искусствовед, безвременно умерший в 28 лет еще до революции, читал историю итальянского возрождения. Князь Волконский (драматург и романист) — историю театра. Но вот наступил 1918 год. Граф нашел ход к Луначарскому и добился того, чтоб его лекторий объявили сначала Институтом Живого Слова, а потом преобразовали в Государственную Академию Искусств (ГАИС). Граф, впрочем, вскоре уехал за границу, а ГАИС, сменив несколько названий, перед войной функционировал как «Научно-исследовательский институт театра и музыки».
Входим в институт. Пройдя великолепный, просторный вестибюль, свернем налево, в читальный зал. Здесь, в любое время (с 10 часов утра до 11 часов вечера), вы увидите в углу высокого седовласого старика, одетого в старинную облезлую шубу с поднятым воротником. Он сидит, подремывая, весь день. Если вам нужна какая-нибудь древняя редкая книга, подойдите к нему: «Владимир Владимирович! Мне нужно то-то…» Встряхнется, потянется, встанет с трудом. Подойдет к одному из шкафов, не глядя протянет руку, наощупь возьмет книгу. Но сразу вам ее не даст. Подержит в руках, откроет, задумчиво покачает головой, закроет, а потом уже медленно, с какой-то нежностью, протянет ее вам и пойдет опять дремать в углу. Иногда прибегут сверху: «Владимир Владимирович! Алексей Иванович (директор) просит зайти к нему». Так же не спеша встанет, пойдет на 2-ой этаж. Там ему скажут: «Владимир Владимирович! Из Швеции (или Норвегии, Дании, Индонезии, Бразилии, любой другой страны) пришло письмо. Прочтите, пожалуйста». Сядет, возьмет письмо, близоруко сощурится, поднесет письмо к глазам и глухим голосом (с небольшим иностранным акцентом) тут же прочтет это письмо, переводя сходу, по-русски a livre ouvert. Иногда его спрашивают: «Владимир Владимирович! На скольких же языках Вы говорите?» Лениво ответит: «Да на всех понемножку». И опять погрузится в дремоту.
Владимир Владимирович был в дореволюционное время очень богатым человеком, обладателем баронского титула (к сожалению, фамилию точно не помню, но как будто барон Остен-Сакен). Все свои огромные средства, поступавшие из остзейских имений, тратил на книги. Собрал исключительно ценную библиотеку (достаточно сказать, что в библиотеке Владимира Владимировича было несколько книг, набранных Гутенбергом), много путешествовал, побывал во всех странах мира. Но всюду, где бы он ни был, его интересовало только одно: книги и рукописи. И из каждого путешествия он привозил ящики рукописей и книг. Он не женился, жил отшельником, после смерти родителей близких людей у него не было. В жизни он знал только одно: книги. На вопрос одной дамы, как мог он посвятить жизнь книгам, он ответил: «Вы же любите своих детей? А у меня дети — книги». После революции, когда его выбросили из его особняка, встал вопрос: что делать с книгами? Пришел на помощь Зубов. Библиотеку перевезли во вновь образованный институт. И зачислили библиотекарем института Владимира Владимировича. В 1926 году институт с ним заключил договор: Владимир Владимирович остается пожизненно библиотекарем, ведая той частью библиотеки института, которая состоит из пожертвованных им институту книг. Ему назначается плата — 150 рублей в месяц. (По тем временам плата приличная, но стоимость библиотеки, подаренной Владимиром Владимировичем, исчислялась в несколько миллионов рублей).
Шли годы. Прошло 15 лет. 150 рублей превратились в гроши — рублей 15–20 по-нынешнему. А ему так и не прибавили ни одной копейки. (Нигде, кроме как у нас, такой наглый обман был бы немыслим). Как и чем жил старик — непонятно. У него была где-то недалеко от института каморка. Кроме шубы, ничего больше не оставалось — все было распродано. Сомневаюсь, чтоб у него было больше одной смены белья. Видимо, директор ему как-то изредка все-таки помогал: выписывал деньги за переводы. Из буфета ему иногда приносили винегрет и бутерброды. Он умер в ленинградскую блокаду. Тихо заснул в своем уголке в один из страшных, холодных дней в декабре 1941 года, среди своих любимых книг.
В те времена я знал много таких странных людей, оставшихся от старого Петербурга. Когда-нибудь, может быть, расскажу и о них. А теперь, пожелав Царство Небесное Владимиру Владимировичу, поднимемся по мраморной лестнице, на 2-ой этаж.
Вот он, наш институт. Первое впечатление ошеломляющее. Казалось, хозяин дома, граф Зубов, только что выехал и сейчас вернется. Все залы целы, вся мебель на месте. Старинные картины развешены на своих местах. Вазы, впрочем, без цветов, стоят по углам. Сохранился даже тот особый (несколько спертый) запах, который присущ старинным домам. (Заходил в наш институт два года назад, перед отъездом, во время своего последнего посещения Питера. Теперь уже не то. Все залы переделены перегородками, старой мебели уже нет. Атмосфера обычного советского учреждения). Итак, поднялись на 2-ой этаж. Проходим анфиладу старинных зал. Пусто. Нигде ни одного человека. Только в самом конце анфилады дверь с надписью «Канцелярия». Здесь сидят канцеляристки. Стучат на машинках. Обычная картина всех советских институтов. Научные работники — люди занятые, работают в пяти-шести местах, читают лекции. Пишут у себя дома. Бывают только в определенные часы. В институте два отдела: музыковедческий и театроведческий. Во главе института стоит директор Алексей Иванович Маширов.
Алексей Иванович принадлежал к тогда уже архаическому типу коммуниста-пролеткультовца, выдвиженца. Внешность типичного питерского рабочего: среднего роста, физически крепкий, с простым, совершенно неинтеллигентным лицом, он напоминал скорее завхоза, чем директора искусствоведческого института. В первые годы после революции он писал стишки под каким-то очень «революционным» псевдонимом — не то Наковальный, не то Серпин. Пробовал также свои силы и в живописи — но, кажется, ни в одной области особых талантов (даже с учетом пролетарского происхождения) не проявил. И в конце концов высокие власти, не зная, что с ним делать, направили его в наш институт директором. Надо, впрочем, сказать, что человек он был мягкий и довольно скромный: ни во что не мешался и никуда не лез; занимался только хозяйственными делами и был чем-то вроде конституционного монарха в парламентарном государстве. Я помню лишь два-три случая, когда он попытался показать, что и он «не лыком шит», и каждый раз получал по носу. Помню, он как-то пришел на семинар по истории западно-европейского театра и, прослушав доклад о commedia dell'arte одного из наших аспирантов, неожиданно заявил, что это «все списано». Когда его попросили сказать, откуда это списано, он лишь промямлил что-то невразумительное и под общий хохот удалился.
Когда я пришел в институт, я с первых же дней занял привычное для меня положение «enfant terrible». 15 сентября 1940 года, поздравив меня с поступлением в аспирантуру, наш заведующий аспирантурой Лебедев мне сказал: «Товарищ Левитин! Молодой научный работник должен держаться поближе к партии». «То есть как?» «Надо заниматься общественной работой, а там, может быть, окажется возможным дать Вам рекомендацию в партию». Я выслушал это заявление с каменным лицом и не ответил ни одного слова. Больше никто и никогда таких предложений мне не делал. Ко всем руководителям института я относился с пренебрежением: мне они казались беспринципными, бездарными; я обвинял их в холуйстве, в подлизывании к большевикам. Боже мой! Как я был не прав! И как жаль, что я не могу им принести своих извинений, т. к. теперь никого из них уже нет в живых. В труднейших условиях они делали свое дело, сохраняя традиции русской науки.
Тогда я еще не понимал великих слов апостола Павла: «Но есть различия в дарованиях, а Дух тот же. И есть различия в служениях, а Господь тот же. И есть различия в действиях, а Бог тот же, производящий все во всех». (I Кор. 12, 4–6). Это не значит, что я отрекаюсь от идеалов своей мятежной юности. Если можно было бы начать жизнь сначала, я действовал бы точно так же: занимался бы подпольной политической деятельностью и ходил по краю бездны. Но нужны не только бунтари-подпольщики и не только оппозиционеры. Нужны и добросовестные ученые, и скромные труженики-учителя, и набожные священники, и аскеты-монахи, и хорошие, простые труженики, воспитывающие своих детей, растящие честных людей. Только продажная сволочь, карьеристы, сексоты, подхалимы никому решительно не нужны. И им можно сказать старое студенческое: pereat! (Да погибнут!)
Расскажу о трех наших ученых, т. к. именно они воплощают тип интеллигента, который превалировал не только тогда, но с небольшими изменениями сохранился и теперь. Моим непосредственным научным руководителем был Сергей Сергеевич Данилов. Высокий, подвижный, суетливый, вежливый, с голосом как из бочки. Типичный интеллигент. Несравненный труженик. Он начал свою деятельность в 20-х годах. Начал с работы, отдающей «дланью времени» и явно ему навязанной: совместно со своим товарищем, Е. Булгаковым, он выпустил книжку «Государственный агитационный театр» — об одном из ленинградских рабочих театров. Однако и здесь проявилась главная черта С. С. Данилова — научная добросовестность. Я хорошо знаю этот театр, т. к. там после закрытия Передвижного театра работала моя мать. Сергей Сергеевич не упустил ни одного спектакля, ни одной детали из жизни театра. Здесь в основном факты и лишь минимум официального словоблудия. Впрочем, это была первая и последняя «актуальная работа» Сергея Сергеевича. Далее он никогда не переходил рубеж XIX века, и все попытки заставить его писать на советские темы оказывались тщетными. «Бывают у людей разные специальности: один шьет сапоги, другой готовит в столовых обеды, — а я занимаюсь театром XIX века, что Вы от меня хотите?» — таков был ответ Сергея Сергеевича на все приставания. В 30-е годы он написал великолепную работу «Сценическая история „Ревизора“». Никаких рассуждений — выводы делайте сами. Автор рассказал обо всех постановках «Ревизора», начиная с первой постановки — в 1836 году — в Александрийском театре, кончая последней, по тому времени, постановкой в Большом Драматическом театре в Ленинграде (режиссер Терентьев, 1930 год). Он не пропустил ни одной провинциальной постановки, снабдил все это богатым иллюстративным материалом, подробно разобрал игру каждого актера (по отзывам рецензентов и воспоминаниям очевидцев). Обрыскал все библиотеки, просмотрел все русские газеты за 100 лет — вот это, я понимаю, настоящий ученый! Вслед за этим последовали «Сценическая история „Женитьбы“ Гоголя» и ряд исследований, посвященных актерам XIX века: Сосницкому, Щепкину, Ленскому и другим. И все это при неутомимой текущей работе: заведование отделом Истории русского театра в нашем институте, чтение лекций в другом Театральном институте (на Моховой), где готовили актеров.
Самым неприятным для меня тогда было обязательное присутствие на научных заседаниях каждую неделю. Все, о чем там говорилось, мне представлялось ненужным, бездарным, мелкотравчатым. Через много лет после этого, в 1954 году, будучи в заключении в лагере под Куйбышевым, я неожиданно увидел в местной библиотеке книгу: С. С. Данилов «Очерки по истории русского театра». Я об этой книге знал; Сергей Сергеевич много раз мне говорил о своей работе над ней. Взял ее из библиотеки. Прочел и ахнул. Все эти заседания, казавшиеся мне ненужными, нудными, мучительно скучными, вдруг ожили: Сергей Сергеевич не упустил ни одной детали, ни одного доклада, ни одного, даже самого незначительного, изыскания из истории русского театра, разумеется, с ссылками на авторов. И все это вместе сложилось в единую яркую картину.
И ведь всю эту работу приходилось вести в обстановке непрерывной травли, неожиданных качаний из стороны в сторону политического корабля, когда от малейшей прихоти любого прохвоста зависела судьба ученого и сама его жизнь.
Все это не прошло даром: Сергей Сергеевич умер в 1959 году 53-х лет от роду, от гипертонии.
Профессор Данилов в какой-то мере символическая фигура. Часто упрекают нашу интеллигенцию за трусость, за молчание, за то, что она не нашла ответа перед лицом зверств. Неправда! Стиснув зубы, в тяжелых условиях, она продолжала свою работу, развивала русскую науку, русскую культуру. Это и был ее ответ.
Другой ученый — известный профессор Стефан Стефанович Мокульский. Это тоже крупнейший эрудит в области западно-европейского театра. Поляк по национальности, родом из Крыма, он начал свою научную деятельность во времена генерала Врангеля, в Новороссийском университете, эвакуированном в 1918 году из Одессы в Симферополь. После ухода белых некоторое время подвизался в Крыму. Затем перебрался в Питер. Полиглот, знавший почти все европейские языки, Стефан Стефанович был автором лучшей в России Истории западно-европейского театра, автором работ о Мольере, Расине, Гольдони. Он же перевел на русский язык «Театральные мемуары» Гольдони, под его редакцией вышло и полное собрание сочинений знаменитого итальянского драматурга. Человек красивый, симпатичный, умеющий очаровывать. И может быть (да простит мне Стефан Стефанович!), к нему в известной степени можно было бы применить известную характеристику Александра I, сделанную Наполеоном: «Остер, как сабля, тонок, как женщина, фальшив, как морская пена».
Он был остер — речь его была блестяща, насыщена каламбурами, цитатами, неожиданными сопоставлениями и метафорами. Он был тонок. И ему пришлось испить до дна всю ту чашу горечи, которая выпадает на долю всякого серьезного ученого в Советском Союзе. За что только не травили его в 20-е и 30-е годы: за формализм, за эстетство, за космополитизм, за идеализм, за буржуазную идеологию. И каждый раз он выкручивался: в чем-то немножко покается, что-то немножко признает и продолжает себе в том же духе. И все это грациозно, с юмором, с каламбурами, с метафорами, с цитатами. И наконец — насчет «морской пены». Да, пожалуй что и напоминал он «морскую пену». Самый удивительный всплеск Стефан Стефанович показал нам в 1939 году, когда он, «буржуазнейший из буржуазных», — вдруг вступил в партию. Все ахнули от неожиданности. А он ничего. Остался совершенно таким же. Только ходил на партийные собрания и числился где-то на учете. Зато его оставили в покое, и он сделал карьеру. В 1945 году был назначен директором ГИТИСа — Театрального института им. Луначарского (в Москве). Видимо, решил — зачем мне ходить под Машировыми, когда я сам могу быть Машировым. И все это время отводил душу: читал нам лекции по русскому театроведению, отпечатанные впоследствии на стеклографе. Здесь Мокульский был Мокульским: он рассказывал нам и о Ремизове, и о Вячеславе Иванове; старый, добрый, эстетствующий дореволюционный Петербург оживал перед слушателями. Но зоркие были очи у Сталина (в этом ему отказать нельзя). В 1948 году появилась в «Правде» статья: «Об одной антипатриотической группе театроведов». С этого и началась кампания против космополитов и низкопоклонства перед Западом. В числе главных космополитов был назван Стефан Стефанович. Из директоров его выкинули с треском, затем заставили покаяться. Он выступил в своем обычном изящном стиле. Но на этот раз оказалось мало: газеты на него ополчились с дикой руганью. Запахло арестом. Чудом, еле-еле продержался он до 1953 года. Тут стало легче. Но силы уже не те. Минуло 60-летие. Видел его в последний раз в 1957 году, в Институте истории искусств при Академии Наук, в Москве, в Подсосенском переулке. Принял меня с утонченной любезностью (я только что вернулся из лагеря), расспрашивал, видно было, что хочет искренно мне помочь вернуться к научной работе. (Он был добрый человек!) Но меня поразила его наружность — стеклянный взгляд, красное лицо, отсутствующее выражение. Через два года, в 1959 году, он умер на одной неделе со своим старым другом Сергеем Сергеевичем Даниловым.
И, наконец, третий, кого я хотел вспомнить, Михаил Васильевич Серебряков. Единственный «умный диаматчик» из всех, кого я знал. Тоже старый социал-демократ, как и Десницкий, примкнувший на каком-то этапе к большевикам (в 1905 году). Впоследствии примыкал к Рабочей оппозиции. Культурнейший человек, образованный философ, знаток Гегеля, он, видимо, не знал, что ему делать со своим большевизмом: выйти из партии — он же не самоубийца, посадят. Оставаться в партии — тошно. Помню, я с ним говорил раз на эту тему в буфете института, за чаем, в перерыве научного заседания. Михаил Васильевич рассказывал о А. А. Богданове, о том, как он умер, — во время операции по переливанию крови. Будучи директором Института переливания крови, решил полностью обменять все 5 литров крови с каким-то молодым человеком и умер во время операции. Затем разговор перешел на более современные темы. Михаил Васильевич очень едко высказался по поводу книги официального философа Александрова. А я, со свойственной мне бестактностью, брякнул (перед этим я был в ресторане Дома архитекторов и хватил, грешный человек, две рюмки коньяку): «А почему Вы не скажете об этом открыто, ex cathedra, Михаил Васильевич?» Пауза. Допил чай, кряхтя поднялся; уходя, бросил мне на прощание: «Я же не Богданов, чтоб делать эксперименты на собственной крови».
Читал он интересные, содержательные лекции по истории философии. Причем всегда заканчивал курс Фейербахом.
— этот завет А. К. Толстого свято соблюдается нашей академической интеллигенцией доселе.
Помню его докторскую диссертацию «Юность Маркса и Энгельса». Он анализирует все книги, которые читали Маркс и Энгельс, будучи гимназистами, все книги, которые они не читали, но могли читать, все книги, которые они не читали и не могли читать, но их читали авторы тех книг, которые они, может быть, читали. Затем он анализирует их школьные сочинения, приводит их мальчишеские стихи, рассказывает о Германии того времени. И обрывает свое повествование как раз перед самым 1847 годом — перед «Коммунистическим манифестом». Ничего не скажешь! Диссертация о Марксе и Энгельсе, без Маркса и Энгельса.
Но за 12 лет перед смертью, в 1947 году, пришлось Михаилу Васильевичу выступить все же с открытым забралом. Это было во время дискуссии по III тому «Истории философии» Александрова. Как известно, в это время «корифей науки» осчастливил нас очередным открытием, что философия Гегеля есть «аристократическая реакция на французскую революцию», а сам Гегель реакционер и к тому же немец. А немцам место, как известно, в Караганде. В Академии Общественных наук при ЦК была созвана конференция «диаматчиков», чтобы дать им инструкции о «перестройке преподавания в свете Постановления ЦК партии». С чисто фельдфебельской речью выступил на конференции Жданов, который в то время исполнял роль Гебельса при нашем «фюрере». И вот тут неожиданно выступил М. В. Серебряков с защитой Гегеля. Далее я передаю слово одному из учеников Михаила Васильевича: «Сидим мы вечером в гостинице „Москва“, тихо, мирно, Михаил Васильевич без пиджака, в подтяжках, рассказывает о конференции, о своей речи. Вдруг стук в дверь. „Войдите!“ И входит военный. Михаил Васильевич, бледный как смерть, дрожащий, встает. „Вы профессор Серебряков?“ „Я“. „Я из Академии Общественных наук. Будьте добры, просмотрите стенограмму Вашей речи и подпишите“. Михаил Васильевич просмотрел, подписал, а когда посетитель ушел, сказал: „Сколько лет готовлюсь, и все-таки струсил“».
Здесь мне хочется на время отвлечься от Михаила Васильевича, который умер летом 1959 года, и рассказать об аналогичном случае, произошедшем в 1935 году. Был у меня в то время в Ленинграде близкий друг, еще школьный товарищ, Дима Г. (он жив и сейчас). Дима был страстным поклонником Пастернака. И вот, пришлось ему быть в Москве, и он узнает, что в Доме ученых, на Пречистенке (ул. Кропоткина), должен состояться творческий вечер обожаемого всеми нами тогда поэта. Это было время опалы. И последний его творческий вечер. Побывал Дима, послушал стихи. Но поклоннику этого мало: надо познакомиться с Борисом Леонидовичем. Прошел за сцену, сунув сторожихе трешницу. Вышел с запасного хода на эстраду. Пастернак стоит, окруженный поклонницами, беседует. Как из-под земли вырастает Дима. Блондин. Простое русское лицо. Вздернутый нос. И к тому же еще в кителе (китель брата — летчика). Пастернак смотрит вопросительно. А Дима растерялся и не знает, как начать. Молчит. И вдруг Пастернак начинает бледнеть и отступает. Отступил на два шага, оперся о рояль. Поклонницы с ужасом смотрят на Диму. Немая сцена. Наконец, мой друг овладел собой, собрался с духом, начал: «Борис Леонидович! Я пришел сказать Вам, что мы, молодежь, Вас любим и ценим». У всех вздох облегчения. Пастернак, сияющий, подходит к Диме, крепко жмет руку, говорит: «Очень, очень рад!» В том, что он очень в данный момент был рад, можно не сомневаться.
Конечно, много было в интеллигентской среде и продажных людей, и беззастенчивых карьеристов, и сикофантов, и бездельников. Можно было бы рассказать и о них. Но только стоит ли? О них и так много писали. Лучше показать, под каким гнетом жили тогда честные и талантливые люди. Как они дрожали и извивались «под глыбами» и как все-таки делали свое дело, передавали эстафету русской науки будущим поколениям. Честь им за это и слава!
В это время мне пришлось вновь приобщиться к театру, т. к. мы обязаны были посещать все премьеры. Театр в Ленинграде понес сравнительно малые потери — большинство старых актеров уцелело, — однако принудительный репертуар, бездарные пьесы, которые приходилось играть, давясь от рвоты, — все это тяготило актеров. Но, конечно, это все были цветочки. Ягодки наступили после войны — время полнейшего удушения русского театра. В Ленинграде не было того разнообразия театров, которое было в Москве. В основном, было два драматических театра и два оперных. Центральным театром города была знаменитая «Александринка», переименованная в Академический театр им. Пушкина. Там еще сохранялись традиции старой дореволюционной Александринки. Было несколько актеров, оставшихся от императорских времен: Ю. М. Юрьев (трагик, лучший исполнитель роли Арбенина), известный, между прочим, тем, что это был человек, который последним получил от царя подарок. Незадолго до Февральской революции он сыграл Арбенина и Николай II, знавший и любивший его как актера, послал ему подарок: золотой перстень с двуглавым орлом. И Юрий Михайлович всегда надевал его, когда выступал в роли Арбенина. По этому поводу ему приходилось объясняться в ГПУ. «Это подарок зрителя», — ответил Юрьев. Самое высокое покровительство спасало артиста: ему, когда он, будучи в Москве, выступал в Малом театре, аплодировал сам Сталин.
Очень популярным актером был также комик Горин-Горяинов. От старого Петербурга остались также две актрисы: Мичурина-Самойлова и Тиме. Но были в это время и талантливые актеры, выросшие в советское время: Черкасов, Симонов, Корякина (эта жива и сейчас).
Что касается Большого Драматического театра, то там произошла трагикомическая история, как нельзя лучше характеризующая ту эпоху. Основателем и бессменным руководителем этого театра был знаменитый актер Николай Монахов. Николай Монахов был широко известен в Москве в дореволюционное время как популярнейший опереточный актер, смешивший всю Москву. После революции он переезжает в Питер, формирует труппу из актеров, которые не хотят идти служить к большевикам (в том числе Юрьев, Максимов и др.), и открывает в помещении бывшего Суворинского театра (на Фонтанке) на паевых началах Большой Драматический театр (впоследствии он стал, разумеется, тоже государственным). И тут происходит неожиданная метаморфоза: вчерашний опереточник вдруг становится трагиком (уникальный случай в истории театра): играет короля Филиппа в «Дон Карлосе», короля Лира, Ричарда III, Макбета. И как играет! Каждая роль — событие в истории театра. И наряду с этим срывает бурные аплодисменты в «Слуге двух господ» Гольдони (его коронная роль). И блестяще исполняет Егора Булычева (в одноименной пьесе Горького). Когда он умер в 1936 году, весь театральный Питер принимал участие в его похоронах. Похоронили его в самом что ни на есть почетном месте: на коммунистической площадке Александро-Невской лавры. В фойе Большого Драматического театра, на самом видном месте, был водворен его портрет. И вдруг (о ужас!) через год после его смерти, в 1937 году, кагебисты приехали в лавру, разрушили памятник на его могиле, могилу сравняли с землей. В то же время в Большом Драматическом театре срывают его портрет, а в газетах появляется зловещая формула: «враг народа Монахов». Никто ничего не понимает. Через некоторое время выясняется, что были арестованы жена и дочь Монахова, и, не выдержав пыток, несчастные женщины «сознались», что их муж и отец был… английским шпионом.
В 1939 году Большой Драматический праздновал свое 20-летие. И все находились в затруднительном положении. Имя основателя театра называть было нельзя. Кто же все-таки основал театр? Долго думали и придумали. Все мы из речей на торжественном заседании и из газетных статей узнали, что основателем театра был… А. А. Блок. Видимо, потому, что в театре некоторое время играла его жена, а сам он числился в числе «друзей театра».
Весь юбилей сосредоточился на Блоке. Вот уж, верно, не ожидал поэт, что на его долю выпадет столь своеобразный бенефис.
Самое яркое воспоминание тех дней — «вторники» в нашем институте. По инициативе Сергея Сергеевича в феврале и в марте 1941 года каждый вторник были доклады крупных театральных деятелей. Приглашали какого-либо крупного режиссера, публика была очень узкая — мы, сотрудники, аспиранты института, и человек 20 актеров, режиссеров, которым рассылались пригласительные билеты. И вот здесь иной раз звучали такие речи, что никто не верил своим ушам. Видимо, Берия, который тогда ходил в «либералах», хотел показать, что он чем-то отличается от Ежова, а что касается исчезновения Мейерхольда — это просто так, небольшое недоразумение.
Особенно мне запомнились два доклада: Николая Павловича Акимова и Соломона Михайловича Михоэлса.
Николай Павлович Акимов заслужил право на благодарную память потомства. Человек многообразных талантов, великолепный театральный художник и блестящий режиссер, он был в то же время на редкость смелым человеком. На этот раз он выступил с докладом на тему о советской драматургии. В тезисах его докладов, с которыми и мы, аспиранты, ознакомились раньше, обратил на себя внимание один странно звучащий пункт: «необходимость разграничения функций драматурга и цензора». В докладе Акимова это выглядело так: «У нас драматург, когда пишет пьесу, думает только об одном: это не пропустят, это не пропустят. И все вычеркивает, вычеркивает, вычеркивает. И когда эта пьеса приходит к цензору, тому уже с ней делать нечего: все уже вычеркнуто. Но точно так же нечего делать и актеру, и режиссеру, и зрителю». Все ахнули от изумления: о цензорах у нас говорить не принято — после принятия сталинской конституции, которая гарантирует свободу слова и печати, у нас цензоров, как известно, нет. Дальше пошло в том же духе. Акимов буквально не оставил камня на камне от официального репертуара.
Несколько в ином плане выступал Михоэлс. Должен признаться, что мне очень не хотелось идти на его доклад. Уж очень отталкивало название: «Искусство народов СССР». Тем не менее пошел. Опоздал минут на пять. Открыл дверь. Первое, что меня удивило, — многолюдство: весь зал был полон. Обыкновенно на докладах бывший бальный зал зубовского особняка был полон лишь наполовину. Говорит еврей, невысокого роста, очень некрасивый. Помню, мелькнуло в голове: «типичный коммивояжер». Но через минуту я уже перестал что-либо замечать. Я весь превратился в слух. Замечательно говорил этот человек. Без всяких внешних украшений, без всякого пафоса, покорял исключительно силой мысли. Он очень пренебрежительно отозвался об официальном искусстве, «национальном по форме и социалистическом по содержанию». О декадах среднеазиатских и закавказских «мастеров искусства», на которых присутствовал Сталин и о которых гремели за год перед этим все газеты, отозвался как о «выставке ковров». Затем стал говорить о национальной форме — как каждый человек воспринимает общечеловеческое в искусстве через призму национального. Рассказал о том, как он работал над ролью Лира. Он признался, что в ходе работы над Лиром он приходил в отчаяние, готов был отказаться от роли, никак не мог представить себе психологию легендарного английского короля, жившего в доисторические времена. И вот как-то вечером, когда он дома перечитывал (в который раз!) сцену бури, стенаний Лира, очутившегося в поле под открытым небом в непогоду, его вдруг осенило: да ведь это Иов, наш библейский Иов на гноище. И как только он это представил, для него все стало ясно. Так через национальное (еврейский библейский образ) он подошел к общечеловеческому.
И здесь мне хочется опять несколько отвлечься от тех времен. Сейчас, как никогда раньше, с невиданной остротой ставится вопрос: национализм или интернационализм. Разумеется, смешно отрицать категорию национальности или национальной культуры. И здесь, мне кажется, Михоэлс поможет нам нащупать какой-то правильный путь. Национальная культура имеет только тогда ценность, когда она открывает дверь к общечеловеческому. Таково, между прочим, и все мировое искусство. Сам Михоэлс, я помню, приводил пример Пушкина и цитировал:
И через русскую Татьяну Пушкин показывает нам торжество общечеловеческих начал: самоотверженности, чистоты, честности и благородства. Итак, мы можем договориться: хорош тот национализм, который ведет к братству, к любви, к сознанию себя (по выражению Достоевского) «всечеловеком». Отвратителен любой национализм, который сеет ненависть, разнуздывает звериные страсти, воздвигает преграды между людьми. Но вернемся к Михоэлсу.
Великолепный актер, он тут же, во время доклада, показывал мастерство актера; он говорил о роли жеста в актерской игре. Он вспоминал свою роль в пьесе «Путешествие Вениамина Ш». Герой пьесы — талмудист, возомнивший себя Мессией. Для него характерен жест от головы, от воспаленного воображения, — и в одно мгновение вы видели перед собой местечкового Мессию. А вот «Человек воздуха» — коммивояжер — из пьесы Шолом Алейхема. Для него характерны легкие, быстрые движения. И в мгновение ока перед вами возникал коммивояжер. Доклад Михоэлса был мне полезен еще в одном отношении. С детства мне был присущ некоторый больной национальный комплекс. Воспитанник русской церкви и русской литературы, я ощущал себя русским до мозга костей. В то же время черты физиономии, импульсивный, горячий темперамент, не говоря уж о фамилии, неизменно свидетельствовали о моем еврейском происхождении. Таким образом, я не был ни евреем, ни русским; ни те ни другие не считали меня своим. Помню, раз спросил я у Бориса полушутя: «Ты кто по национальности?» «Русский». «А я?» «А кто тебя знает, как там у тебя гены располагаются. Не знаю». И я тоже не знал. И после доклада Михоэлса мне стало приятно, что я сразу и еврей, и русский и как-то соединяю в себе эти два народа, хотя русский народ мне все-таки роднее и ближе всех.
Все сказанное выше показывает, что несмотря на ежовщину, на сталинские тиски, на прокрустово ложе советского государства, и в те тяжелые времена не заглохла ни живая мысль, ни жажда истины, ни чувство чести. И мы можем повторить вместе с поэтом:
Зимой 1941 года (3 февраля) умерла моя бабушка. Это было первое большое горе, в первый раз я столкнулся со смертью. Ей было уже 85 лет, и то, что она не дожила до войны, до блокады, можно считать особой милостью Божией. И все-таки до сих пор у меня сжимается сердце при мысли, что она умерла. Она сохраняла до самых последних дней ясный ум, живой интерес ко всему. Помню, за неделю до смерти она увидела у меня на письменном столе объемистый труд профессора Н. Петрова об испанской комедии XIV–XVIII веков. Этот чисто специальный труд ее заинтересовал. Когда я пришел домой, она меня стала расспрашивать про эту книгу и мы проговорили с ней до 2-х часов ночи. К скорби о бабушке у меня примешивались тогда и примешиваются теперь угрызения преступной совести. Я часто вспоминаю, как я был похамски груб с ней. Конечно, одна из причин — ненормальные советские условия жизни: 25-летний мужчина, который должен жить в одной комнате с 85-летней старухой. Но это, конечно, ни в малой степени не оправдывает подлеца и хама, каким я себя показал по отношению к самому близкому и любимому мною человеку.
Смерть бабушки снова возбудила во мне повышенную религиозность. Я все снова и снова читал в это время Евангелие, все больше размышлял о страшной тайне жизни и смерти.
К этому времени относится моя дружба с моим двоюродным братом Владимиром Гермогеновичем Романовым. Должен сказать, что я отдалился от своих двоюродных братьев: Сережа был техником на заводе «Вулкан», сугубо практическим человеком; его интересы были очень далеки от моих, и когда мы встречались, нам не о чем было говорить. А с другим братом, Жоркой, мы никогда дружны не были. Володя Романов был старше меня на 10 лет, поэтому в детстве у нас общего было мало. Но к этому времени разница в годах стерлась, и мы подружились. Личность Володи так хорошо вписывается в тогдашний Питер, что о нем надо рассказать подробнее. Как сын офицера, Володя учился в кадетском корпусе в Петербурге. Когда ему было 12 лет, разразилась революция, все перевернулось вверх дном. Отец Володи из крупного военного чиновника (начальника личного стола военно-учебных заведений) превратился в мелкого канцеляриста. Мать Володи, Валентина Викторовна, — из светской дамы в несчастную домохозяйку, едва сводящую концы с концами. А Володю пристроили в топографическое училище. И здесь у него неожиданно проявилась необыкновенная порывистая религиозность. Сначала он стал, как и я, рьяным адептом православной церкви. Однако в 17 лет неожиданно перешел в лютеранство. Надо сказать, что Питер тогда был город, населенный множеством иностранцев. Было в нем много лютеранских кирок и костелов. Владимир скоро поступил в богословский лютеранский институт, готовясь стать пастором. Блестящий лингвист, он в короткий срок овладел немецким, английским, латинским и греческим языками. В 1927 году, однако, произошел грандиозный скандал. Призванный в армию, он отказался от военной службы, мотивируя это религиозными убеждениями, хотя евангелическо-лютеранская церковь признает военную службу. Лютеранский епископ, перепуганный осложнениями с советской властью, тут же его исключил из института. Суд, впрочем, оказался довольно либеральным. Присудили Володю к штрафу и принудительным работам. А военный комиссар резюмировал кратко: «Зачем нам в армии такая сволочь?»
Женившись на энергичной, практичной женщине, польке, Володя стал переводчиком. Благодаря уединенной, замкнутой жизни, он уцелел в 30-е годы. В это время я часто к нему захаживал. Володя увлекался Кантом, Шеллингом, Фихте. Как богослов он считал себя последователем Гарнака. Но вот наступила война: Володя с женой и сынишкой эвакуировались в Буй, где его забрали в армию. В 1943 году он был тяжело ранен под Валуйками. Последнее письмо жена получила из Куйбышева. Он сообщал, что его эвакуируют в глубокий тыл, что он ранен в грудь, кроме того, пришлось ампутировать ногу. Сердечные перебои… С тех пор — ничего. Так и неизвестны точно обстоятельства его смерти. Мне ответили в министерстве обороны, что те, кто умирал в дороге, обыкновенно не учитывались. Но есть и другое объяснение. Когда после войны его жена Вероника Антоновна вернулась в Питер, оказалось, что на другой день после того, как они выехали из Ленинграда, пришли Володю арестовывать. Но вскоре наступила блокада, МГБ было не до Володи, его следы затерялись. Веронику Антоновну, однако, не хотели прописывать; она бегала по инстанциям и всюду доказывала, что муж ее погиб. В то же время в глубине души надеясь, что Володя жив где-нибудь в лагерях. В конце концов прописали. Характерно, что никому, даже сыну, никогда она не рассказывала о религиозности Володи, ни о перипетиях, связанных с его смертью. Только два года назад мой племянник узнал от меня о том, кем был его отец. У меня оставалась от него память: немецкая Библия в переводе Лютера. Ее у меня отобрали в 1949 году в МГБ. Он был человек скромный, застенчивый, малоразговорчивый, но со мной беседовал часами. Говорили мы долго, потом замолкали, погружались в мысли, навеянные беседой.
Между прочим, мы много обсуждали с Володей конфессиональные вопросы. Протестантом (несмотря на все свое уважение к сектантам и любовь к Володе) я, конечно, стать не мог. Протестантское богослужение меня не удовлетворяло — что-то среднее между клубом и концертом. Отсутствие таинств (главным образом, литургии) и молитвы за усопших меня отталкивало от протестантства в любых его формах. Я питал симпатии к католицизму, но выше я уже сказал о молитвах, которые делали для меня невозможным присоединение к католической церкви. Таким образом, я твердо зная, что останусь в православной церкви и умру православным. И в то же время прошлое русской церкви мне не внушало особых симпатий. Больше всего меня отталкивала ярко выраженная вражда русского духовенства к демократам. Я считал, что русская демократическая интеллигенция, с ее стремлением идти в народ, помогать народу, ближе к Христу, чем косное консервативное русское духовенство.
Диссертация моя называлась «Белинский и театр». Тема эта была избрана не случайно. Белинский для меня был воплощением свободолюбивой, ищущей правды русской интеллигенции, хотя его неверие в Христа меня, как когда-то Достоевского, глубоко огорчало. И сейчас я бесконечно люблю русскую демократическую интеллигенцию и считаю, что только она (от Радищева до Сахарова) по-настоящему любит русский народ и в ней одной спасение России.
Эти мысли ставили передо мной вплотную проблему обновления церкви, определили мое сближение с Введенским и принятие от него сана в военные годы.
А между тем наступила весна. Я принял экзамены у десятиклассников, выпустил совместно со своими коллегами 10-й класс. Сдал кандидатский минимум в аспирантуре. В мае по Ленинграду поползли тревожные слухи о войне, началась частичная мобилизация ленинградских резервистов. Смешно было слушать потом, что Гитлер напал на нас внезапно, когда все бабы в Питере только и говорили, что о предстоящей войне. Я помню, как в середине июня мы с Борисом у него дома обсуждали, что мы будем делать в будущую войну. Однако последовало опровержение ТАСС. Все стало опять на свои места. Приехал из Кемерова один наш товарищ по институту им. Герцена, «парень свой в доску», хотя в подпольные дела мы его не мешали. Он увлекался другим: вечно влюблялся и вечно с ним случались романтические истории. Помню, в субботу мы гуляли с ним в «Буфе» — увеселительном саду на Фонтанке. Он мне рассказывал о своей женитьбе. Уговорились встретиться на другой день. Прощаясь, он сказал: «Итак, до скорого!» Мы с ним встретились ровно через 33 года, в Вене, куда его занесло волнами войны, уже стариками.
В воскресенье я собирался к обедне, но не пошел, лень обуяла. Долго валялся в постели. Слышал, как по радио передают Утесова: «Раскинулось море широко»… Потом завтракали. Говорили с отцом. Он сидел в глубоком кожаном кресле, в бержере. Говорил о Гитлере; его он иногда шутя сравнивал с Мейерхольдом, по неожиданности и остроте его политических акций. Помню, отец сказал: «Что-то давно наш Мейерхольд ничего не ставил. Как ты думаешь, на кого он нападет теперь?» Я сказал: «Верно, на Сирию, чтобы оседлать Восток». И как раз в это время в радиоприемнике послышался голос диктора, который извещал, что сейчас выступит Молотов. Через несколько минут действительно послышался заикающийся от волнения голос. При первой фразе для меня стало ясно: война. Я бросил это слово отцу. Но он и сам понял, бледный и сосредоточенный, слушал голос неприятного человека, извещавшего нас о страшной трагедии. Я распахнул балконную дверь, вышел на балкон. Жаркий день. Набережная. Нева. По набережной шли празднично одетые люди, но лица у всех были перевернутые, слышно было, как у моста громкоговоритель отчеканивает все те же уже мною слышанные слова.
И для меня стало ясно. Жизнь кончилась. Та жизнь, которой я жил 25 лет. Наступает нечто новое, непонятное, страшное. И я перекрестился на Владимирский собор, который был виден из наших окон на другом берегу Невы.
Апрель 1975 — январь 1976 года,
Люцерн.
Приложение
Был в мое время такой писатель Юрий Олеша. Самое известное его произведение — повесть «Зависть». Зависть — это было основное содержание его жизни. И в сороковые годы, когда он был всеми забыт, спился и ходил обедать к знакомым, про него говорили: «Когда-то она (зависть) его кормила, теперь она его гложет». И сам он однажды признался, что это основное содержание его жизни.
В 1932 г., в журнале «30 дней», была помещена его статья, где он говорит, что завидует всем на свете; живым и мертвым. Завидует Пушкину, потому что он столько написал, а был, когда умер, еще молодым человеком. Завидует Олеша и Лермонтову, и всем другим писателям. Но доходит до Толстого. И здесь неожиданное признание: «Ему завидовать нельзя, как нельзя завидовать Монблану или нельзя завидовать способности магнитной стрелки поворачиваться на север…»
Он прав. Нельзя завидовать Толстому и понять его до конца тоже нельзя. Толстой имеет ту особенность, что сколько его ни определяй, все будет верно и все будет недостаточно. Гениальный писатель? Да, конечно! Так его никто не превзошел и никто с ним не сравнялся. И все претенденты на равенство могут вызвать лишь улыбку. Но мало ли было гениальных писателей? А ни один из них не вызывал такой пламенной любви и такой жгучей ненависти, как Толстой, еще и сейчас, через 65 лет после смерти.
Религиозный мыслитель, философ, моралист? Да, конечно! Но как только произносишь эти слова — сразу чувствуешь тошноту, уж очень они не подходят к Толстому: все равно, что подлить в родниковую воду патоку.
И даже знаменитое, известное в России всякому школьнику, определение «зеркало русской революции» нельзя сказать, чтоб было совершенно не верно: он все отражал, отразил, конечно, и надвигавшуюся революцию.
И вот перед нами еще одно определение, самое что ни на есть простое. Граф и пахарь.
И может быть здесь мы нащупываем какую-то скрытую пружину, которая поможет нам понять обаяние Толстого. «Аристократ, идущий в демократию, обаятелен», — замечает у Достоевского Верховенский.
Почему обаятелен? Потому что наиболее обаятельна самоотверженность, самопожертвование. Да и сам Толстой это как-то почувствовал. В один из своих юбилеев, просматривая газеты, полные восхвалений, сказал: «Пока жив, кричат, а умру, будут спрашивать: „Это какой Толстой? А, это тот граф, что сапоги шил?“» (Гольденвейзер, «Вблизи Толстого»).
После восстания декабристов Ростопчин — циник и остряк — заметил: «Во Франции революцию сделали сапожники; у нас революцию сделали баре. Уж не захотели ли в сапожники?»
И неожиданно он оказался пророком. Через 50 лет явился в России граф-сапожник, граф-пахарь.
Его образ стоит передо мной с детства непостижимой загадкой, и всю жизнь не мог я понять, кто он. Постараюсь разобраться в этом хоть сейчас.
Во втором томе «Войны и мира» есть такое место: с Николаем Ростовым стряслось страшное несчастье: он проиграл Долохову совершенно фантастическую сумму — 43 тысячи. Предстоит тяжелое объяснение с отцом. Он приходит домой в мрачном настроении, ничто ему не мило, но вот запела Наташа. «Что же это такое, — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза, — что с ней сделалось? Как она поет нынче, — подумал он. И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа. О, как задрожала эта терция, и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова, и это было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши и Долоховы, и честное слово!»
«Войну и мир» я читал тринадцать раз. Сейчас взялся читать в четырнадцатый. И так и не могу понять, в чем тут обаяние. Вот открываю наугад: «Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки-хитрою улыбкою, и как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке: „Семен! Данилу Купора знаешь?“ Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости (Данила Купор была собственно одна фигура англеза). „Смотрите на папа“, — закричала на всю залу Наташа, совершенно забыв, что она танцует с большим, пригибая к коленям свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале».
Помню, я читал это место на 12-ом лагпункте, в Каргопольлаге. Я сидел на верхних нарах, скрестив по-кавказски ноги; кругом слышался тяжелый лагерный мат, было трудно дышать от мокрых бушлатов, от махорки, от вонючего пота. Внизу шел спор. Началась драка.
«Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина. „Батюшка-то наш! Орел!“ — проговорила громко няня из одной двери».
«Левитин! Фан Фаныч! Ты что, спишь? Пайку бери, мать твою…» «Да, да, сейчас», — говорю я рассеянно и, слезая с койки, успеваю прочесть фразу: «Граф танцевал хорошо и знал это, но дама его вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать». И, поедая с жадностью хлеб, читаю дальше про Данилу Купора.
И теперь я, кажется, могу сказать, что такое искусство и кто такой Толстой. Искусство — волшебство, или его нет вовсе. Толстой — волшебник, очарователь. И имеет он ключи не от нашего мира. Все творчество Толстого — на стыке двух миров. Когда еще писал он «Детство, Отрочество, Юность», будучи никому не известным артиллерийским поручиком, вдруг почувствовал он дуновение высшей правды в главе «Гриша». Молитва юродивого Гриши заканчивается словами: «Великий христианин Гриша!» Плеханов правильно замечает, что эти слова не мог написать человек, равнодушный к христианству. Он и не был равнодушен к христианству. Он стоял где-то на грани христианства и безбожия, на грани двух миров. И палящее дыхание другого мира опаляло его.
Я сперва много писал о пограничных ситуациях у сумасшедших и перед смертью. Никто не открыл нам эти таинственные переживания на грани в такой мере, как Толстой.
Иногда говорят, что Толстой не мистик, что он выбросил из христианства всю мистическую сторону. Это неправда. Толстой, конечно, величайший мистик. Все его творчество — это раскрытие двух мистических планов: мистика любви и мистика смерти.
Константин Леонтьев, которому, конечно, нельзя отказать в тонком эстетическом чутье, написал блестящее исследование об изображении смерти у Толстого. Но и в этом очень глубоком, давно уже ставшем библиографической редкостью, исследовании далеко не достаточно раскрыта мистическая сущность творчества Толстого.
Обычно биографы Толстого, следуя за «Исповедью», делят его творчество на две части: до и после «кризиса» 1870-х годов. Нет ничего более неверного. До конца своей жизни Толстой так и не высказал ни одной идеи, которой не было бы уже в «Войне и мире». И именно в «Войне и мире» он впервые заглянул в тайну смерти.
Кто не помнит ее первого появления на поле битвы под Аустерлицем. Андрей Болконский тяжело ранен. Он ощутил дуновение смерти. «Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему… Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих»[23].
В этих нескольких фразах — ключ к Толстому. Прежде всего — мистический анархист. Ничтожество всякого земного величия, всякой власти перед лицом смерти. «Свобода, равенство и братство — в смерти», как говорил Кириллов у Достоевского. Смерть — победительница. «Какая ужасная, все нивелирующая сила смерть», как говорил мой отец, безумно боявшийся смерти. Смерть всемогуща: она сильнее Наполеона, гения, государства — сильнее всех и всего.
И вдруг — неожиданный взмах: последняя строчка из приведенной тирады перечеркивает начисто всемогущество смерти: «Андрей думал… о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих».
Величие смерти только кажущееся: на самом деле она еще более ничтожна, чем жизнь, ибо и она ничто в сравнении с тем, что открылось Андрею во образе высокого неба. Смерть перед ним столь же ничтожна, как жизнь. Здесь точно воспроизводится то, что часто переживают люди в предсмертные мгновения. Стремление ввысь, ощущение новой жизни — не жизнь, не смерть — характерные признаки переживаний многих умирающих. И выражают они это в загадочных символах… «Все вверх, вверх, по книгам», — говорил перед смертью Пушкин. И знаменитое гетевское «Mehr Licht!» символизирует то же стремление ввысь, к свету…
«Лестницу, лестницу! Несите лестницу!» — истошно кричит умирающий Гоголь. «Как хорошо! Но только что-то совершенно новое», — восклицает охваченная предсмертным томлением Елизавета Михайловна Платонова, умершая 31 октября 1933 г. в Ленинграде.
«Солнышко! солнышко! Кругом солнышко!» — восклицает перед смертью Анна Михайловна Крестьянкина, умершая в городе Орле в 1954 г. «Подними меня выше! Выше! Еще выше!» — просил перед смертью свою жену мой отец. И только Наполеон верен себе. Он и в предсмертные мгновенья твердит: «France! Garde! Avant-garde!»
Но отходит смерть, возвращается жизнь, и отходит далеко, далеко высокое небо…
А затем снова на страницах романа появляется смерть. Смерть маленькой княгини. Здесь смерть показана не изнутри, а извне; смерть, которая растерзала беззащитную жертву, как зверь, по слову св. Иоанна Дамаскина. И в ответ — тихая, беспомощная жалоба, и от этого — жалость, сознание вины, просветленность оставшихся. «И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. „Ах, что вы со мной сделали?“ — все говорило оно, и князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее восковую ручку, спокойно лежащую на другой, и ему ее лицо сказало: „Ах, что и за что вы это со мной сделали?“ И старик сердито отвернулся, увидев это лицо…»
Вопиет о помощи человек перед смертью, никто не может помочь! «Заступись, поручись Сам за меня перед Собою! Иначе кто поручится за меня?» (Иов. 17, 3).
Но у Толстого не только мистика смерти — у Толстого мистика любви. Любовь — ощущение универсальности, всеобщности, соборности, широта и глубина. И любовь воплощена с наибольшей силой в образе Платона Каратаева.
Смерть Каратаева написана скупыми, точными штрихами. «Пьер подошел к Каратаеву. „Прощевай, красно солнышко“, — сказал он торжественным голосом, перекрестился на все четыре стороны и опять сел. „Смерть пришла“, — сказал он». Это место есть только в черновой редакции (см. Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 137, Москва 1955 г.).
В окончательной редакции сказано: «Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидел Каратаева, которого он не видел еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности. Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и видимо подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видел его взгляда и поспешно отошел… Сюда, с того места, где сидел Каратаев, раздался выстрел». («Война и мир», т. 4, ч. 3, гл. 14).
Таким образом, Толстой испугался сусальности и вычеркнул «красное солнышко». Напрасно! Именно перед смертью русский крестьянин становится часто поэтом — выражает свою живую связь с природой.
«Прощай, белый свет, батюшка!» — сказала перед смертью моя нянька Пелагея Афанасьевна Погожева, умершая в мае 1967 г. в Ленинграде…
Любовь не к кому-либо и к чему-либо, а любовь как вселенское чувство, — приходит накануне смерти к чистым, не зараженным эгоизмом людям.
В том же Каргопольлаге, о котором я упоминал выше, в 1951 г., я наблюдал смерть 20-летнего мальчика Анатолия Слугина. Он был родом из Архангельска и попал в лагерь на 4 года за мальчишескую драку. В лагере он заболел раком прямой кишки. Ему сделали операцию и вывели через живот кишку. Запах был от него такой резкий, что в общей палате его держать было нельзя. Он лежал совершенно один, в небольшой комнате, причем даже в коридоре слышался запах. Его мать ничего не знала о болезни сына: сообщать о болезни и смерти было запрещено. Полгода мучился мальчик. И вот перед смертью пришло к нему чувство умиления и любви. Когда приходил к нему в палату врач, сестра, фельдшер (я тогда работал фельдшером), он, приняв лекарство, тянулся обеими руками и говорил: «Дайте вас обнять». И просветленное, тихое, спокойное было у него лицо. И тогда я понял смысл выражения просительной ектении: «Христианския кончины живота нашего безболезненны, не постыдны, мирны…» Мирная кончина не в смысле внешних обстоятельств, а в смысле состояния внутреннего мира и покоя, которое предвосхищает будущую жизнь. Да даст Господь и всем нам такую кончину.
Развернутую картину смерти Толстой показывает нам в третьем и четвертом томе «Войны и мира». Смерть князя Андрея. Здесь смерть показана изнутри (переживания Андрея) и извне (восприятие этой смерти окружающими). До ранения. Инстинктивный ужас перед смертью: «Неужели это смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь, на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух». («Война и мир», т. 3, ч. 2, гл. 36).
Затем, после ранения, затмевающая все духовное, животная боль. Потом блаженное успокоение, когда боль отпустила. И вдруг неожиданный просвет. Рядом с Андреем лежит Анатоль Курагин. Жалость невольная к нему. А через жалость любовь. Первая зарница: «Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между ним и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотрящим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнила его счастливое сердце». (Там же, гл. 38).
Далее идет воспоминание о княжне Марье, о любви к врагам; но это пока еще нечто головное, идущее от настроения, от минутного размягчения. Поправься от раны Андрей — и завтра ничего от этого настроения не останется. Но он не поправляется, страдания длятся. И он молодеет. Это неожиданно, странно, но так и должно быть. Под влиянием страдания люди, как это ни странно, молодеют, как бы возвращаются к детству. Это я наблюдал и во время войны, и в лагере. Все наносное отходит: опять становишься таким, каким был в детстве. Это бросилось в глаза Наташе, когда они встретили его в Мытищах: «…он был такой же, как всегда, но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности неясная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубахи, давали, ему особый, необыкновенный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее» (том 3, часть 3, гл. 21).
Это внешний образ. А затем Толстой показывает Андрея изнутри. Андрей в полубредовом состоянии. Все двоится, троится. Хаос представлений. Хаос вовне, хаос в нем. Весь мир хаос. Но в этом хаосе проступает неясная мысль. Проступает, опять обрывается.
И в этот момент приходит Наташа.
К такому же приему прибегает Толстой в 4-ом томе в изображении предсмертных минут Андрея. Как известно, княжна Марья, приехав в Ярославль, нашла Андрея совершенно отрешенным от жизни, готовым к смерти. Затем Толстой показывает, как пришел Андрей к этому состоянию. Он начинает с тех мгновений, когда Андрей еще любит жизнь, надеется на счастье с Наташей, цепляется за жизнь и спрашивает у Наташи: «„Ну как Вы думаете, как Вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как Вам кажется?“ „Я уверена, я уверена!“ — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки. Он помолчал. „Как бы хорошо!“ — и взяв ее руку, он поцеловал ее» (т. 4, ч. 1, гл. 16).
Князь Андрей и в это время думает о смерти, о Боге, но это мысли, самоуспокоение. Мысли не стали переживанием.
«Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней. „Любовь? Что такое любовь? — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику“. Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное, — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул». (Там же).
Ясность пришла во сне. Князь Андрей видел во сне, как кто-то ломится в дверь, он стремится не пустить, удерживает дверь, и тщетные усилия: дверь распахивается. «Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер». И хотя он умер только во сне, а потом проснулся, но с этого момента начинается та жизнь на грани, когда открывается человеку последняя реальность. Момент предсмертного озарения. «„Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть пробуждение“, — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение, прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его»…
На этом Толстой ставит точку. Он не может следовать дальше за Андреем Болконским. Пройдут десятки лет, будет прожита томительная, тяжкая, увлекательная жизнь, после которой проникнет Толстой и за эту последнюю завесу и откроет нам то, что таится за ней. Это будет в его повести «Смерть Ивана Ильича», которая является вершиной мирового искусства. Ее нельзя превзойти, ее невозможно достигнуть.
А сейчас Толстой, чувствуя свое бессилие, переключает действие во внешний план. Он показывает Андрея глазами Наташи и княжны Марьи. Его полную отрешенность от жизни, его уход от мира. «Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то, и обе знали, что это так и должно быть и что это хорошо».
Как известно, у Гегеля есть два понятия: действительность и мнимость. Белинский, пользуясь этими понятиями, считает мнимостью все то, что не отражает глубины жизни. Мнимостью является поэтому мир Хлестакова и гоголевских чиновников, мир Подколесина и героев комедии «Женитьба», мир Пирогова, героя «Невского проспекта», — вообще все то, что составляет область сатирической комедии.
Лев Толстой пошел еще дальше, намного дальше. Мнимостью является понятие военного и политического гения, мнимостью является идея государства, мнимостью является официальный патриотизм. Все это мишура, блестки, которыми тешатся люди. А что является действительностью? Действительность — это смерть, это любовь, это Бог.
Именно эта мысль выражена уже в «Войне и мире».
Л. Н. Толстой начинает с самого невинного — с высмеивания большого света. Это вполне в ключе «натуральной школы» 40-х — 60-х годов. Салон Анны Павловны Шерер, семья Курагиных во главе с князем Василием — мир мелко тщеславных, эгоистичных людей, «людей из бумажки», как говорил Достоевский. Этому великосветскому кругу противопоставлен князь Андрей, с его глубоким умом, жаждой подвига, энергией. Но вскоре выясняется, что и он (со своим культом Наполеона и тщеславным желанием спасти Россию) живет мнимостями.
Этому глупенькому светскому кругу противопоставлен старик Болконский со своей независимостью, широтой, властностью. Но оказывается, что и он всю жизнь служил мнимостям. Всего лишь несколькими строчками Толстой перечеркивает мнимую значительность старика Болконского.
За несколько дней перед смертью Болконскому в полубреду мерещится его молодость. И вот что оказывается: «Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как тогда, волнует его. И он вспоминает те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице, невысокая, толстая женщина — матушка императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его; и вспоминается ее лицо на катафалке, и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке» (т. 3, ч. 2, гл. 13).
Как, только и всего? Это и есть та высота, с которой так презрительно третировал князь всех его окружающих. Да ведь это тот же князь Василий, только чуть покрупнее — «сей остальный из стаи славной екатерининских орлов».
Поднимемся еще выше. Перед нами три императора: австрийский, русский и прославленный император французов. Австрийский император, который всегда во всех случаях жизни интересуется только одним: сколько часов и минут показывает стрелка его хронометра. Александр I — симпатичный, обаятельный, молодой, но и им владеют те же мелочные интересы.
Вот Александр I перед боем. Как он самоуверен, полон энергии, жажды успеха: «…как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи» (т. 1, ч. 3, гл. 15).
После Аустерлицкой битвы Толстой показывает Александра I побежденным, павшим духом, плачущим, — и Наполеона торжествующим, самоуверенным, самодовольным. Но, спрашивается, — победи русские, разве Александр I вел бы себя иначе? Точно так же «на лице его было бы сияние самодовольства и счастья».
Точно так же он, разыгрывая роль великодушного победителя, приказывал бы позаботиться о пленных и посылал бы врача к раненым, расточал бы снисходительные комплименты побежденному врагу. И точно так же за всем этим крылось бы упоение славой великого полководца, славою, о которой Александр I столько мечтал…
И наконец, Наполеон. Уже больше ста лет спорят с Толстым защитники и поклонники Наполеона. Но в этом ли дело? Для Толстого Наполеон не столько историческое лицо, сколько символ. И вглядываясь в этот символ, Толстой пророчески предвидел грядущее. До Наполеона был культ королей, культ патриархальный, который зиждится на наивной вере в Помазанника Божия, получающего власть свою по наследству. С Наполеоном в мир приходит новая власть, новый культ — культ политического вождя.
Но, впрочем, не угодно ли послушать: «Разве он не знал всей бури, которая поднимется против него за смерть герцога?.. Он знал, что ему придется за эту одну голову воевать со всей Европой, и он будет воевать, и опять будет победителем, потому что… он великий человек. Смерть герцога была необходима. Он гений, а гений тем и отличается от простых людей, что действует не за себя, но для человечества. Роялисты хотели опять зажечь внутреннюю войну и революцию, которую он подавил. Ему нужно было внутреннее спокойствие, и он казнью герцога показал такой пример, что Бурбоны перестали интриговать… Законна только народная воля, а она изгнала Бурбонов и передала власть великому Наполеону».
Это речь Пьера Безухова, тогда еще поклонника Наполеона, на вечере Анны Павловны Шерер[24].
Замените собственные имена — и ее может произнести поклонник любого из больших «гениев» — Ленина, Сталина, Муссолини, Гитлера, Мао Цзе-дуна. И любого из маленьких «гениев»: Франко, Тито, Насера. Или одного из новоявленных арабских спасителей человечества. Та же необходимость, якобы оправдывающая самые гнусные зверства, та же «народная воля», якобы избравшая вождя, то же понятие исторического величия, покрывающего всякую гнусность. И Толстой, провидя наступающий культ вождя, ищет противовес и находит: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (т. 4, ч. 3, гл. 1).
Толстой, однако, направляет свой удар не только против ложного величия политических вождей. Уже в «Войне и мире» он наносит удар по самому главному чудовищу, без которого политические вожди бессильны, наносит сильнейший удар по государству, по самой идее государства. Выше мы говорили, что государство по Толстому — это мнимость. Но это не просто «мнимость» — это бесовское наваждение, это дьявольщина, которая охватывает человека со всех сторон. Ссылкой на государственную пользу оправдываются самые невероятные преступления, самые невозможные злодейства. И первым, кто указал на это, был Л. Н. Толстой.
Вот из Москвы, охваченной паникой, уезжает граф Ростопчин. Только что он совершил преступление, за которое по законам Российской империи полагается 20 лет каторжных работ: по его приказу и под его предводительством озверевшая толпа убила беззащитного человека. Перед нами тягчайший преступник. Как он оправдывает свое преступление? «Граф! Один Бог перед нами!» вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Ростопчин презрительно улыбнулся сам над собой: «У меня были другие обязанности — следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага»… Мысль, успокоившая Ростопчина, была не новая. С тех пор, как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершал преступления над себе подобным, не успокаивая себя этою самою мыслью. Мысль эта есть lе bien public, предполагаемое благо других людей.
«Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно, но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо» (т. 3, ч. 3, гл. 25).
Но как и всякое здание, построенное на песке, на зыбкой почве, так и эта постройка, общественное благо, валится при первом дуновении ветра. В данном случае таким дуновением ветра явилась случайная встреча Ростопчина с сумасшедшим, выпущенным по случаю оставления Москвы из больницы. «…Шатаясь на своих длинных, худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Ростопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтоб он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам.
— Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то задыхаясь кричал с внушительными интонациями и жестами. Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом. — Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили камнями, распяли меня… я воскрешу… воскрешу… воскресну… — Граф Ростопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся. — Пошел скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом. Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный крик, и перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике. Как ни свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить это воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов: „Руби его, вы головой ответите мне!“ Зачем я сказал эти слова! Как-то нечаянно сказал».
Помню, в 1963 году, в Ленинграде, около Московского вокзала я взял такси. Шофер — солидный мужчина, прилично одетый, говоривший литературным языком. Я разговорился с ним. Заговорили о ежовщине. Шофер говорит: «Да что Вы мне рассказываете. Я это все знаю лучше Вас». «Почему?» «А потому что я тогда работал шофером в МГБ. Мне предлагали расстреливать людей. Давали 200 рублей (20 рублей по-теперешнему) за человека. Ну, я отказался, достал справку, что я нервнобольной. А мой товарищ расстреливал. Расстрелял, между прочим, Кадацкого — председателя ленинградского совета. Тот все говорил, что он болен, что у него повышенная температура — 38,5. А потом, когда повели его, говорил моему приятелю: „Ты меня не расстреливай. Я старый большевик. Меня сам Ленин знал“. Ну, расстрелял, конечно. Приказ есть приказ. Всего расстрелял он 20 человек. 4 тысячи заработал. А теперь места себе не находит. „Какой же я дурак был“, — говорит. По вечерам особенно тяжко: мерещатся ему расстрелянные, не спится ему ночами…»
Как и всякий мираж, чары государства рассеиваются. И тогда тем громче говорит голос совести. Наибольший протест против государства выражен в тех главах, где повествуется о пребывании Безухова в плену.
«Государство — самое холодное из чудовищ». Эти слова Ницше могли бы явиться неплохим эпиграфом к этим главам. Ленин называет государство машиной — тоже неплохо. Тем более, что говорит человек, знающий в этом толк. Ужасно государство именно тем, что это машина, и говорить с ним, взывать о помощи так же бессмысленно, как обращаться к любой машине.
Вот Пьера ведут, как он думает, на казнь: «Кто же, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его — Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями, кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, склад обстоятельств.
Порядок какой-то убивал его — Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его» (т. 4, ч. 1, гл. 10).
Безухова не казнили лишь случайно, но изображение смертной казни в главе 11-ой принадлежит к самым ярким страницам мировой литературы. Для Толстого, как и для Безухова, ясно, что смертная казнь — преступление. И не только потому, что смертная казнь представляет собой в данном случае репрессию со стороны завоевателя по отношению к побежденному, а именно в силу того, что это есть открытое, наглое лишение жизни человека, преступление, совершаемое людьми, которые сами являются лишь марионетками, винтиками какой-то огромной, чудовищной машины. «С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора» (там же, гл. 12).
И непосредственный вывод: неправость всякого человеческого суда. Сразу вслед за смертной казнью следует беседа Пьера с Платоном Каратаевым. И здесь характерный обмен репликами:
«— Я пошел на пожар, а тут они схватили меня, судили за поджигателя.
— Где суд, там и неправда, — вставил маленький человек» (там же, гл. 12).
И через несколько страниц слова Каратаева: «Я говорю — не нашим умом, а Божьим судом». Суд человеческий — суд не Божий. Это только подытоживает то впечатление, которое осталось у Безухова от первого его допроса. «Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтоб потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели… к обвинению…
Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы» (там же, гл. 9).
Здесь, по существу, мы уже видим как бы конспективное изложение тех мыслей, которые в развернутом виде появляются в романе «Воскресенье» и в последующих публицистических произведениях Толстого. Суд отвергается Толстым как составная часть государства, как функция власти, как проявление этой страшной, бездушной силы.
Толстой показывает затем колдовскую роль государства. Государство действует на своих слуг, как наркоз: лишает их воли, разума, каких бы то ни было человеческих чувств. Вот перед нами добродушные французские солдатики. Они дружески разговаривают с Пьером, один из них добродушно относится к Платону, которого фамильярно называет «солдат Платош», но отдан приказ перегонять пленных в другое место. Мгновенное превращение: «„Вот оно!.. Опять оно!“… сказал Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещеваниями к людям, которые служили орудием ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер» (там же, гл. 13).
Это одно из самых замечательных мест у Толстого (в смысле проникновения в человеческую психику). Мне приходилось много раз близко наблюдать во время пребывания в заключении лагерных офицеров, конвоиров и всяких других чинов (а один из них был даже моим учеником: он сдавал экзамены за десятилетку, и я его готовил к экзаменам). Среди них, конечно, попадаются пакостные люди, иногда и садисты, но таких меньшинство. Большинство — самые обыкновенные средние люди (а иногда попадаются даже и просто неплохие ребята). Но все это до тех пор, пока не прозвонит государственный колокол, и тут происходит мгновенная метаморфоза: их как будто подменили — все человеческое исчезло, как дым, как утренний туман. Перед вами человек-автомат, бездушная, бесчувственная машина.
Мой лагерный товарищ, Иван Васильевич Донец, рассказывал мне, как в эпоху относительного лагерного «либерализма» — в 1934–35 годах — он работал, будучи заключенным, в санчасти, преподавал офицерам физику (по профессии он тоже учитель) и был в лучших приятельских отношениях со многими из них. И потом, когда в 1936 году был приказ выгнать всех политических на общие работы, он проходил, буквально умирая от голода, валясь с ног от непосильного труда, мимо этих своих «приятелей», они смотрели на него холодными, безучастными глазами, не отвечали на его поклоны, — и ему не верилось, что это те же самые люди.
Одна моя московская знакомая рассказывала, что в начале 20-х годов она знала симпатичного еврейского юношу, который увлекался стихами, штудировал Гегеля, был в нее робко и нежно влюблен и подносил ей фиалки. Потом он был очень огорчен, что (по комсомольской путевке) его направили в органы ЧК. А теперь мы назовем имя этого милого, мечтательного мальчика. Генрих Ягода — создатель системы лагерей.
И еще одной стороны надо коснуться. Во всех учебниках (от хрестоматии моего деда «Русские писатели» до современных советских пособий по литературе) «Война и мир» характеризуется как великая патриотическая эпопея. Это, конечно, верно, но с той лишь оговоркой, что нет произведения, где с такой силой развенчивался бы официальный патриотизм, начиная от петербургской патриотки Анны Павловны Шерер, кончая самим Александром I. Стоит лишь вспомнить ту беспощадную иронию, с которой описывается Тильзитское свидание императоров — Наполеона, неожиданно превратившегося в лучшего друга России, и Александра I, — чтобы понять резко отрицательное отношение Толстого к официальному государственному патриотизму.
Другое дело — «дубина народной войны». Здесь взрыв вполне законного чувства — чувства обиды, возмущения несправедливостью. И представители официального патриотизма здесь не при чем — они только путаются под ногами и (своими хитроумными маневрами и сложными тонкими расчетами) способны лишь помешать проявлению этого чувства. Закономерность такого патриотизма Толстой признавал и гораздо позже, в период «непротивления». «Понятно, что при таком положении патриотизм, т. е. желание отстоять от нападения варваров, не только готовых разрушить общественный порядок, но угрожающих разграблениями и поголовными убийствами, и пленением, и обращением в рабство мужчин, и изнасилованием женщин, был чувством естественным», — писал Л. Н. Толстой в 1894 году в своей брошюре «Христианство и патриотизм» (Берлин, 1894, стр. 61–62).
И в этом смысле, конечно, «Война и мир» — патриотическая эпопея. Однако сторонник русской государственности не найдет в этой эпопее ни одной строчки в пользу своего мировоззрения. Государство отвергается Толстым целиком и полностью. И самые симпатичные для него люди те, кто далек от искусственных государственных и политических интересов: княжна Марья, Наташа Ростова и (в какой-то мере) Кутузов.
Ницше когда-то назвал филологию «искусством медленного чтения». Наш анализ романа «Война и мир» сделан на основе если не медленного, то длительного (продолжающегося всю жизнь) чтения романа. И вычитали мы в этом романе следующее:
1. Смерть, любовь, Бог — вот реальности.
2. При глубоком проникновении, однако, смерть тоже оказывается мнимостью, потому что она является лишь возвращением к любви — к Богу.
3. Только через любовь люди обращаются к Богу.
4. Всякое земное величие, не проникнутое любовью и далекое от Бога, есть глупость и мерзость.
5. Государство есть чародейство, проявление злой, вражеской, дьявольской силы.
6. Патриотизм закономерен только в одном случае: когда речь идет о защите своего народа от поработителей.
Все это я нашел на страницах «Войны и мира». Может быть, кто-нибудь не согласится со мной. Это будет вполне естественно: в духовной жизни, как в оптике, «угол падения всегда равен углу отражения».
Несколько лет назад один английский журналист, посетив Ленинград, очень подробно описал город и закончил сожалением: «Как хорошо они жили во времена Анны Карениной».
Действительно, ни в одном другом романе не описана так сочно дворянская домашняя жизнь. Дворянский быт так хорошо сколочен, так крепко спаян, что его чувствуешь почти физически: семья Щербацких, семья Облонских, «дворянское гнездышко» молодых Левиных… Трудно себе представить, что это мир не настоящий, не «всамделешный», что возможна еще какая-то другая жизнь. И вдруг! И вдруг мир этот рушится, и опять, как в «Войне и мире», под Аустерлицем, начинается ощущение нереальности окружающего мира. И там и тут в жизнь вторгается какая-то иная, могучая сила, которая переворачивает мир. Но там это высокое, чистое небо, там это мир, покой, любовь. Здесь это метель, кровь, страсть. Там — это Бог! Здесь — это дьявольщина.
Все было хорошо и просто и слажено — но заговорил могучий жизненный импульс — и тотчас смешались все грани, попадали все преграды. И вместо порядка — хаос, сумбур, метель: «Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются все больше и больше, что пальцы на руках и на ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыхание и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необыкновенной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? Что там на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» («Анна Каренина», ч. 1, гл. 29).
И символом этого духовного потрясения является метель, как в «Войне и мире» символом ощущения Андреем новой жизни, его умиротворения и приближения к Богу — высокое небо.
Лев Толстой величайший мастер того художественного метода, который в литературоведении называется методом психологического параллелизма. Параллелизм между явлениями природы и духовного мира дается ненатянуто, естественно, но несомненно.
«И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто бы ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее»… И она пошла навстречу буре, навстречу сопровождавшему ее Вронскому.
Так начинается роман. Предыдущие 28 глав — только вступление. Самое замечательное здесь это слова: «Я сама или другая?»
А затем, через много времени, в родильной горячке, в момент примирения всех троих у ложа, как думали, умирающей Анны, она говорит мужу: «Да, да, да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же. Но во мне есть другая, я ее боюсь — она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя, и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая. Я вся» (т. 4, гл. 17).
Что говорит об этом сам Толстой? «Анна говорила, что приходило ей на язык, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи… она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее» (ч. 2, гл. 9).
И опять через несколько страниц: «Но каждый раз, когда он начинал говорить с нею, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с нею совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить». (ч. 4, гл. 10).
Одержимость — вот что подчеркивает Толстой всякий раз, когда речь идет об Анне. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли» (Апокалипсис, 13, 11). Из земли, из самых недр природы, выходит этот зверь, — имя ему страсть. Это могучая, поистине непобедимая людскими средствами сила — никто и ничто не может противостоять ей.
Анна во власти всепожирающей, пламенной страсти. И это тоже есть нечто подлинное, животное, выходящее от земли.
И в этом страшное обаяние Анны. Какими мелкими, ничтожными кажутся перед ней все эти княгини, графини, Бетси, Мягкие, Каренин, да и сам Вронский. Потому что на Вронском только отблеск того пламени, на котором сжигает себя Анна. А все остальные? «Люди из бумажки». И живут они своими «бумажными», мнимыми интересами. И только один раз произошло преображение. Глава 17-я четвертой части — сцена у постели больной Анны — величайшее событие в истории мирового искусства. Здесь — духовное преображение, здесь выход в мир иной.
Известны слова Гете: «Мы удивляемся, что нет чудес. И не думаем о том, что Гомер и Шекспир — это величайшие из чудес». Глава у постели Анны такое чудо. Ни в какие рациональные рамки эта сцена не укладывается. Понять, как это написано, невозможно. Писал ее Толстой в момент особого пророческого озарения. Едет Каренин, жаждущий смерти своей жены. И жена его ненавидит и презирает и питает к нему отвращение. И вдруг увидел ее и простил и полюбил, и она полюбила, и любовник братается с мужем. Все необычно, невозможно, неправдоподобно. Необычно, невозможно, неправдоподобно — именно так, как бывает в жизни. Необычно, невозможно, неправдоподобно, как сама жизнь. И тут, быть может, мы попытаемся что-то понять в Анне.
В Анне — огромные потенциальные духовные силы. Она способна на необычные взлеты, на героические подвиги, на беспощадную искренность. В момент духовного озарения перед ней мелькнул образ святости: «Я ужасна, но няня мне говорила: святая мученица — как ее звали — она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыня, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку…» И святость в этот миг проникла в душу Каренина: «радостное чувство любви и прощения к врагам наполнило его душу».
«Открой лицо, смотри на него. Он святой», — говорит Анна. Это и есть одна из тех пограничных ситуаций между двумя мирами, о которых пишет Ясперс. Но длиться эта ситуация может только мгновение. Прошло мгновение, и то, что было возможно в момент преображения, стало опять немыслимым в рамках обыденной жизни.
Вся трагедия Анны в том, что середина ее удовлетворить не может. Тут что-нибудь одно: или совершенная святость — или адское сжигающее пламя! Если бы Каренин предложил ей в момент ее выздоровления какой-нибудь неслыханный подвиг для искупления содеянного греха: монастырь, пустыню, идти помогать в качестве сестры раненым, ухаживать за больными холерой, чумой — она все бы исполнила. Но вернуться опять к роли великосветской петербургской дамы, принимать, наносить визиты? На это Анна теперь органически не способна. И вот она опять, как тогда в Болагом, пошла навстречу буре. И порыв бури сразу задул тот тихий свет, который осиял ее душу в момент родильной горячки. Единственное, что осталось, — любовь к сыну. Сцена встречи Анны с Сережей — это последний большой всплеск человеческого чувства. Однако постепенно и материнское чувство замирает. Задушевный разговор с Долли в имении Вронского возбудил в ней острую тоску по сыну, затем и эта тоска рассеивается, и уже нет ничего, что как-то уравновешивало бы ее страсть. «Она знала, что теперь, с отъездом Долли, никто уж не растревожит в ее душе те чувства, которые поднялись в ней при этом свидании» (ч. 6, гл. 24).
У Достоевского в «Бесах» Шатов спрашивает у Ставрогина: «А что, это правда, Вы говорили, что между величайшим подвигом и какой-нибудь зверской штукой нет разницы?» Мысль, конечно, чудовищная, но есть в ней и некоторая доля истины. И религиозные взлеты, и сатанинские глубины есть выход за пределы этого мира; это есть пребывание в мирах иных. Об этом говорит и Евангелие. Как известно, бесноватые пророчествуют и видят ясно то, что от других сокрыто. (Мф.8, 29; Мрк. 1, 24, 34; Мрк. 3, 11; Мрк. 5, 7 и многие другие места).
Испепеляющая страсть Анны также выводит ее за пределы этого мира, и особенно ярко проявляется это на последних страницах романа. Еще в самом начале есть знаменательная фраза: «Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка, лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый — он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи». (ч. 2, гл. 9).
На последних страницах романа Анна вся охвачена адским пламенем. Главы 30 и 31 — последний день Анны — написаны вновь рукой ясновидца: так же, как тогда в родильной горячке, Анна на грани другого мира. При помощи рационального анализа тут ни объяснить, ни понять ничего невозможно. И в то же время тут не просто правдоподобие — это самая сущность жизни.
Между прочим, эти страницы являются примером того, как многогранен Толстой, как можно объяснять и определять его в различных терминах, и все эти объяснения будут правильны.
Академик И. П. Павлов собирался писать работу об «Анне Карениной» и объяснить все поведение Анны с точки зрения теории условных рефлексов. Любой врач скажет, что все поведение ее есть почти клиническая картина истерии; можно объяснить и последние главы с точки зрения психиатрического учебника, где есть специальная глава «Ясновидение истеричек». Но на вопрос, что такое истерия, ни один врач не сможет толково ответить.
Между тем, психиатрические объяснения вовсе не противоречат тому, что в духовной жизни называется беснованием. Ибо так же, как в физическом мире имеются бациллы, так и в мире духовном есть рассадники духовных болезней. И вспоминается таинственная страница Апокалипсиса, о которой упоминает Достоевский в «Преступлении и наказании». «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучать пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; и волосы у нее — как волосы у женщин, и зубы у нее были, как у львов; на ней были брони, как брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была — вредить людям… Царем над собой имела она ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион „Губитель“». (Апок. 9, 3–11).
Ангел бездны руководит стезями Анны. «Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя», — говорил Ницше. Анна видит то, что сокрыто от людей, она видит всю фальшь, всю нечисть окружающей жизни, — она видит и себя и Вронского, и все их прежние отношения, так, как не может видеть никто из смертных. Она видит внутренний мир всех, кто встречается с ней. Она стоит на грани всеведения — но это всеведение не от Бога, в нем нет того, что дается избранникам Божиим — дара любви. Анна полна злобы, ненависти ко всем и ко всему. Вот она в вагоне. Рядом пассажиры: «И муж и жена казались отвратительны Анне… и нельзя было не ненавидеть этих жалких уродов… Зачем этот кондуктор пробежал по жердочке, зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? Зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все обман, все зло…
Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе…»
Ее ясновидение — это не спасение, не мудрость. Это гибель. Ибо всеведение без любви — дьявольщина: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто». (1 Кор. 13, 2).
Ничем кончается сверхъестественное ясновидение Анны.
«И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким чем когда-нибудь светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».
«И свет во тьме светит» (Ин.1, 5).
И в романе Толстого свет во тьме, рядом с бездной — катарсис. Проблема катарсиса, духовного очищения — это известно еще Аристотелю — главная проблема трагедии.
И в творчестве Толстого проблема катарсиса всюду и везде. Обычно считают, что очищение — катарсис — возможно только путем страдания. Такое классическое разрешение этой проблемы мы находим в романе «Анна Каренина», в сцене родильной горячки. Парадоксальность романа «Анна Каренина», однако, в том, что здесь, вопреки обычному ходу вещей, в конечном итоге страдания приводят к духовной гибели. А очищение души приходит через радость. Катарсис не через страдания, а через радость в сцене бракосочетания Левина с Кити, и особенно в сцене родов. Радость брака приводит Левина к Богу. В этот момент он, неверующий, чувствует близость Бога и Божию помощь: «„О еже ниспослатися им любве совершенней, мирней и помощи, — Господу помолимся“, — как бы дышала вся церковь голосом протодиакона. Левин слушал слова, и они поражали его. „Как они догадались, что помощи, именно помощи? — думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, — думал он, — без помощи? Именно помощи мне нужно теперь“.
„Расстоящиеся собравый и соединение в союз любве положивый, — как глубокомысленны эти слова и как соответствуют тому, что чувствуешь в эту минуту! — думал Левин, — чувствует ли она то же, что и я?“ И оглянувшись, он встретил ее взгляд. И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он» (ч. 5, гл. 4).
«Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячество и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хоть это совершается над ним. В груди его все выше и выше поднимались содрогания и непокорные слезы выступали ему на глаза».
Ирония судьбы состоит в том, что никто так, как отлученный от церкви граф, не проник в самую сущность таинства брака, никто так не понял мистику брака (таинственного сочетания сердец).
И такое же потрясение произвело в Левине появление на свет его первого сына. Когда он, неверующий, стал молиться: «Господи, прости, спаси, заступи!»
И через эти два величайшие события в его жизни Левин приходит к Богу.
В последней части романа, в которой описываются религиозные искания Левина как обобщение его жизненного опыта, всплывает формула: «Мир как любовь и представление». И перекликается Левин с великим современником Толстого — Владимиром Соловьевым, который, примерно в это же время, в этой же самой Москве, писал:
Это есть конечный вывод романа «Анна Каренина».
До сих пор мы говорили о творчестве Толстого до так называемого кризиса. Толстой в эту эпоху еще не противопоставляет себя церкви. Хотя устами своего литературного alter ego Левина признается в своем неверии. Больше того, в этот период толстовского творчества у него проскальзывает сочувствие церкви. Церковность для него воплощена в образе княжны Марьи Волконской, прототипом которой является его мать, урожденная Марья Николаевна Волконская.
В 20-е годы в Ленинграде был издан дневник матери Л. Н. Толстого, который она вела еще до замужества. Из него видно глубокое внутреннее сродство Толстого с матерью. Это тем более удивительно, что матери своей он не помнил.
Глубокая религиозность, вечное недовольство собой, вечное желание быть чище, лучше — таковы особенности Марьи Николаевны. Интересно, что в образе княжны Марьи по сравнению с реальной Марьей Николаевной Толстым сознательно усилены элементы церковности. Марья Николаевна Волконская (судя по ее дневнику) — девушка глубоко религиозная, но мало церковная: ее религиозность ближе к протестантскому пиетизму или даже к Руссо, чем к православию. Княжна же Марья — глубоко церковный человек: юродивые, странники, странницы, монастыри, мечты самой идти странствовать — это основа ее религиозности. Княжна Марья немыслима вне православия. И Наташа Ростова находит после мимолетного романа с Анатолием Курагиным успокоение именно в церковной религиозности. Необыкновенно тонкое понимание именно церковного душевного строя обнаруживается в описании говения Наташи. Впрочем, еще раньше такое понимание церковного настроения обнаруживает Лев Николаевич в повести «Семейное счастье», написанной в 1860 г. Там имеется знаменательный эпизод: герой повести ездит к своей соседке по имению — хорошей, чистой девушке, на которой впоследствии он женится. Он любит слушать ее игру на рояле. Но вот он приехал к ней в тот день, когда она только что пришла от причастия. И герой повести, тоже alter ego Толстого, который как раз в это время мечтал о женитьбе, запирает рояль на ключ и говорит причастнице: «Не будем играть: у Вас сегодня в душе такая музыка, что Вам не до игры», — и она удивилась, как правильно он понял ее настроение.
И кто мог думать, что этот самый человек через 40 лет напишет свой грубо кощунственный шарж на обедню, а про верующих людей, идущих к причастию, скажет, что это все равно, что идти охотиться на зайцев. И самое невероятное, самое парадоксальное, что это произошло именно тогда, когда религия стала основным содержанием его жизни и когда эстетствующий аристократ превратился в страстного проповедника христианской любви.
Меня это всегда поражало с детства. Насмешки и глумления Толстого над причастием, которое с 6 лет является светочем моей жизни, доводили меня в детстве до слез. И сейчас я не могу без острой боли читать кощунственное описание обедни в романе «Воскресенье». В то же время не нравилось мне, как пишут церковники о Толстом: в их выискивании сучков в глазу чистейшего и благороднейшего человека, в их глупом зубоскальстве над обстоятельствами личной жизни Толстого, в их неумении понять нравственного величия предсмертного ухода Толстого из Ясной Поляны и его прекрасной смерти — мне чуется что-то мелкое, пошлое, недостойное. Тем более необходимо распутать этот узел, крепко завязанный жизнью, который никто еще пока не разрубил и не развязал.
Прежде всего, совершенно не правы, те, кто называет Толстого отступником от православия. Отступником от православия он не мог быть по той простой причине, что он никогда православным не был. «Метрическое», паспортное православие не имеет никакого значения, поскольку еще в ранней юности Толстой стал неверующим. Кратковременное увлечение православием в 70-х годах также не имеет никакого значения, потому что и в это время Толстой не верил в догматы церкви, не понимал их и лишь пытался искусственно возбудить в себе религиозные чувства. Выслушаем самого Толстого. Вот как описывает он свое духовное состояние в то время, когда он считал себя православным: «В обедне самые важные слова для меня были: „Возлюбим друг друга, да единомыслием…“ Дальнейшие слова: „едино исповедуем Отца и Сына и Святого Духа“ — я пропускал, потому что не мог понять их». (Л. Н. Толстой. «Исповедь», СПб, издание журнала «Всемирный вестник», 1906 г., стр. 52).
Далее: «То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к Богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресения назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно» (стр. 53, там же).
И, наконец, последнее признание — первое причастие после многих лет: «Но когда я подошел к царским дверям, и священник заставил меня повторять то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное Тело и Кровь, меня резануло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это — жестокое требование…» (стр. 5–3–54).
Итак, и в свой период увлечения православием Толстой не признавал догмата Троицы, догмата Воскресения Христова и отвергал таинство евхаристии. О каком православии может идти речь? Скорее, можно упрекать Толстого за то, что он, не веря в евхаристию, дерзнул подойти к Святой Чаше.
Искусственность этой попытки Толстого приблизиться к церкви, не разделяя ее верований, очень тонко подметил Святейший Патриарх Сергий (тогда епископ Ямбургский), опубликовавший в 1901 г. в «Церковном Вестнике» статью «Мысли православного епископа по прочтении новой исповеди графа Л. Толстого».
Святейший Патриарх (тогда епископ Ямбургский) сравнивает Толстого с умирающим Николаем Левиным, когда «этот давнишний невер, живший вдали от церкви, перед смертью вдруг решает служить молебен, думая, что у него вдруг появится в душе вера, которая исцелит его от чахотки. Он тупо и бессмысленно смотрит на икону, усиленно крестится, старается разгорячить себя, но, конечно, ничего из этого не получается, после молебна он со злостью велит убрать икону, разочаровавшись в ее чудодейственности». (Цитирую по книге архимандрита, ныне архиепископа, Иоанна «Толстой и церковь», Берлин, 1939 г., стр. 145)[25].
Итак, можно говорить лишь о попытке Толстого приблизиться к православию. Следовательно, Толстой не отступник от православной церкви, к которой он никогда не принадлежал, а неверующий человек, ищущий истину и идущий к Христу. В этом и есть коренное недоразумение, порожденное обстановкой официального православия: церковникам казалось, что он уходит от Христа, а он, наоборот, шел к Нему от неверия и остановился на полпути.
Каков путь Толстого к Христу?
«Между фарисеями был некто именем Никодим, один из — начальников иудейских, он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! Мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, как Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». (Ин.3, 2).
«Я естественно обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верой в искупление. Я ухватился за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни». (Л. Н. Толстой, «Исповедь», СПб, 1906 г., стр. 39).
Именно об этом спрашивал Никодим Христа. Но уже в начале беседы Христа с Никодимом становится ясно, что Никодим, признающий нравственное величие Христа и Его близость к Богу, может идти за Христом только до определенной черты. Уже с первых же слов беседа заходит в тупик: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?» (Ин.3, 5–9).
«Сильнее всего это отрицание происходило со мной при участии в самых обычных таинствах, считавшихся самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставлен в дилемму — или лгать, или отбросить». («Исповедь», то же издание, стр. 53).
Как видим, и Никодим и Толстой по строю мышления чужды Евангелию. Их мышление не может прорваться за рамки формальной, школьной логики. Их мышление сковано, связано, не диалектично. Евангелие окрыленно, вдохновенно, диалектично! И это типично для человека, идущего к Богу от ratio, от логических категорий. Это особенно подчеркивает Христос в ответе Никодиму на его скептическое: «Как это может быть?» «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» (Ин.3, 10). Подтекст этих слов Христа таков: «рыбаки, простые люди, никогда ничему не учившиеся, знают и понимают, а ты не понимаешь?»
«Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о Боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открывалось мне. Сближался я с народом, слушая суждения его о жизни, о вере, и я все больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи минеи и Пророков; это стало любимым моим чтением… Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление снова возникали во мне, и я чувствовал, что я чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти» (там же, стр. 54).
Почему так? Да потому, что простые люди говорили то, что они пережили, делились с Толстым итогом своего духовного опыта. Этот же духовный опыт был зафиксирован в Житиях Святых. И Толстой невольно попадал тут в круг духовной эманации так же, как он, человек тонко чувствующий и понимающий музыку, попадал в круг музыкальности, когда с упоением слушал Бетховена, Чайковского и других композиторов. Когда же он читал богословов, он невольно опять становился на путь рационалистических определений и категорий формальной логики. Так же, как князь Андрей мог иметь (выше мы цитировали это место) самые возвышенные мысли о Боге, о любви, о жизни и смерти, но пока он не соприкоснулся с миром иным, не стал на пороге вечной жизни — это были только мысли.
«Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете», — завершает Иисус Христос свой разговор с Никодимом. (Ин.3, 11).
Что, однако, привело Никодима к Христу? В синодальном издании слова Никодима передаются так: «Равви! Мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». (Ин.3, 2). Но это не точный перевод с греческого. В подлиннике сказано: «Равви! Мы знаем, что Ты от Бога пришел Учителем, ибо никто не может творить те знамения, которые Ты творишь, если Бог не с ним». («Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». Новый перевод с греческого с параллельными местами. Лондон, изд. Библ. Общества, 1970 г.).
Таким образом, Никодим признает Христа только учителем и говорит не о чудесах, а о знамениях, действиях[26].
В своей попытке заступиться за Христа перед фарисеями Никодим подчеркивает, что речь идет о человеке: «Разве закон наш судит человека, не выслушав его прежде и не узнав, что он делает». (Ин.7, 53).
И сто фунтов смирны и алоя, которые принес Никодим на погребение Христа, — это всего лишь надгробный венок, дань нравственному величию человека Иисуса. И все-таки. И все-таки Никодим, а не апостол Петр, пришел похоронить Христа с Иосифом, а Петр, исповедовавший великую истину Богочеловечества, отрекся от Христа и не решился даже близко подойти к осмеянному, побежденному, убитому Христу.
Ни Евангелие, ни церковь не осуждают Никодима за то, что он не познал божественности Христа; они лишь скорбят о его бескрылости, о его человеческой немощи, в то же время с любовью отмечают его искренность, его мужество, его стремление постичь истину. Толстой — Никодим. Как и для Никодима, Христос для Толстого — только учитель.
Он поражен нравственным величием Христа. Вместе с Никодимом он хочет выслушать Христа и узнать, что Он делает. Вместе с Никодимом он принес Христу 100 фунтов смирны и алоя — лучшие порывы своей души. И вместе с Никодимом сказал скептическое «как это может быть?», когда услышал главную истину Евангелия — истину Боговоплощения.
Истина Боговоплощения, которая открывается в духовном опыте, истина Боговоплощения, без которой нет Воскресения, нет откровения Бога живого в Евхаристии, которая преображает серую, безрадостную жизнь в Вечную Светлую Пасху, — эта истина была закрыта и для Никодима, и для Толстого; не нашли они ее и не приняли. Остановились на тонкой, едва заметной черте. И с ними миллионы людей.
Никодим, видимо, так и остался лишь сочувствующим Христу: нигде, ни в Деяниях Апостолов, ни в Посланиях, мы не встречаем его имени. Склонившись перед нравственной высотой Христа, не поняв Его божественной сущности и лишь послужив Ему при погребении, воздав Ему последнюю почесть, он смиренно отходит (как тот юноша, который испугался, что надо отдать имение) куда-то в личную жизнь. Таким был, видимо, и Иосиф Армафейский, и многие другие, те, которые встречали Христа с пальмовыми листьями, а потом отошли «в страну далече». Ни Евангелие, ни церковь их за это не осуждают, а, наоборот, с благодарностью вспоминают их малый подвиг. «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного»…
И Тот, Кто сказал, что всякий получит свою награду, даже давший нищему глоток холодной воды, — воздаст им за их любовь.
Но Толстой не таков. Склонившись перед нравственным величием Христа, он затем говорит, услышав мистическое учение о Тайнах Царствия Божия, не скептически-вопросительное «как это может быть?», а категорическое, страстное, порывистое — «этого не может быть!» И при этих словах происходит чудо: меркнет солнце любви. Старец остается во тьме.
Все, что пишет Толстой о церкви, совершенно лишено любви: все написано черными-черными чернилами, смешанными с желчью. К числу наиболее злобных страниц, направленных когда-либо против церкви, принадлежит глава 29-ая в романе «Воскресение». Всем известно знаменитое описание обедни, наполненное страстной, жгучей, неистовой злобой. Эту главу писал Толстой единым порывом, ни на минуту не оторвав пера от бумаги. Это видно хотя бы по тем грубым ошибкам, которые имеются в описании обедни и которые могли бы быть легко исправлены, если бы Толстой хоть заглянул в служебник или обратился с вопросом к любому священнику. Достаточно сказать, что он неверно определяет важнейший момент литургии пресуществление, относя его к тому времени, когда священник веет воздухом над Дарами (т. е. к моменту, когда поют Символ веры). «Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства. Об этом произносились молитвы вместе с другими молитвами или отдельно на коленях».
Все сказанное выше — абсолютно вздорный вымысел, который мог бы опровергнуть даже семилетний ребенок, которого брали в церковь. Во время православной литургии, длящейся 2 часа, имя государя поминалось лишь три раза: на великой ектении, на сугубой ектении и на великом входе. Никаких коленопреклоненных молитв о здравии государя не было. Видимо, у Толстого мелькнуло смутное воспоминание о том, как во времена Севастопольской обороны, когда он был офицером, во время литургии произносились особые молитвы о даровании победы войску.
Далее Толстой говорит, что все молитвы были совершенно непонятны арестантам, не нужны, и литургия являлась для них тягостной, досадной повинностью. Мы не будем возражать. Пусть возражает себе сам Толстой. Предоставляем ему слово:
«В церкви всегда было мало народа: Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой Божией Матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божьей Матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их… Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой, в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастья.
Когда молились за воинство, она вспоминала брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспоминала князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих, она придумывала себе врагов, чтобы молиться о них… Окончив ектенью, диакон перекрестил вокруг груди орарь и произнес: „Сами себе и живот наш Христу Богу предадим“. „Сами себе Богу предадим“, — повторила в своей душе Наташа. „Боже мой! Предаю себя Твоей воле“, — думала она. „Ничего не хочу, не желаю, научи меня, что мне делать, как употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня“, — с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков…». (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. II, Москва — Ленинград, 1932 г., стр. 73–74).
Почему и на каком основании не допускает Толстой, что такие же чувства могут быть у Масловой, у Кораблевой и у Хорошавки. Или у них нет братьев, которые тоже служат в армии (правда, не в офицерах, а в серой солдатне). Или у них нет родных в деревне, нет людей, которым они сделали зло на протяжении своей пьяной, разухабистой жизни. Или у них нет врагов, ненавидящих…
Есть, им незачем их придумывать, как Наташе, за примерами недалеко ходить: тот же Нехлюдов, который причинил когда-то Катюше столько зла, и те паршивые людишки, которые толкнули ее в публичный дом и которые оскорбляют ее сейчас названием «каторжной».
И кому, как не им, заблудшим, поруганным, пьяным, изведавшим и разврат и людскую жестокость, сказать сейчас, в тюрьме: «Боже мой! Предаю себя Твоей воле… ничего не хочу, не желаю, научи меня, что мне делать… да возьми же меня, возьми!»
Нет сомнения, что именно так молились многие арестанты и арестантки в той самой церкви в Бутырской тюрьме, которую описывает Толстой, и превращенной теперь в 2 камеры — 10-ю и 11-ю. Так молятся там, в этих камерах, многие и сейчас.
— писал некий арестант и развратник как раз в это время в своих «Балладах Редингской тюрьмы».
Но Толстой в романе «Воскресение» говорит не только о непонятности молитв: он едко осмеивает таинство евхаристии. Он называет его «кощунственным волхованием» и глумится над этим величайшим таинством. Пусть ответит себе сам. Предоставим опять ему слово: «В продолжение всей недели, которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщиться, как, радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось она не доживет до этого воскресения. Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресение, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойною и не тяготящейся жизнью, которая ей предстояла» (там же, стр. 70–71).
А не думает Толстой, что так же точно могли чувствовать себя и Катюша Маслова, и Кораблева, и Хорошавка. Правда у них не было белых кисейных платьев, не было галантного поклонника графа, как у героини рассказа «Семейное счастье», который запер бы на ключ фортепиано и сказал бы:
«У Вас в душе сейчас такая музыка, что лучше не играть». Но от этого не меньше, а больше, ярче была их радость от приобщения — сообщения с Христом, который был с ними и там, в Бутырках, в вонючих, прокуренных камерах. И там открывалась им новая, вечная, чистая жизнь… За что, за что Вы хотите, Лев Николаевич, совершить такое тяжкое преступление — отнять у Кати Масловой ее счастье, ее радость? Это большее преступление, чем преступление Нехлюдова.
Толстой в своих бесчисленных статьях, написанных после открытого разрыва с церковью, глумится над церковной обрядностью — над золотыми мешками священников, над иконами, над зажженными свечами. По его мнению это «колдовство»; это не приближает людей к Богу, а удаляет от него. Это все равно, что охота за зайцами.
Но вот Анна Каренина перед самоубийством. Темные силы владеют ею. «Чувство подобное тому, какое испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший все для нее, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями» (Анна Каренина, ч. 7, гл. 36).
И сколько людей, осеняя себя крестным знамением, чувствуют, что мрак, покрывавший их, разрывается, и они испытывают то же просветление, которое испытала, правда, на миг, в момент предсмертного томления Анна.
Но «Анна Каренина» написана до знаменитого «кризиса», до того, как Толстой открыто порвал с церковью. Послушаем, что говорит Толстой-художник, после того, как он стал открытым врагом церкви. Вот перед нами рассказ «Хаджи Мурат», написанный уже незадолго до смерти. Умирает от раны солдат Петр Авдеев. «Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серегин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.
— Ты, Петра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов. Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панова.
— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — сказал Панов, трогая его за холодную широкую руку. Авдеев как бы очнулся.
— А, Антоныч пришел!
— Да, вот пришел. Не прикажешь ли чего домой, Серегин напишет.
— Серегин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серегина, — напишешь? Так вот отпиши: сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал… Завиствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай Бог ему, я рад. Так и пропиши… Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.
В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.
— Что, брат, плохо? — сказал он. Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил, а только опять повторил, обращаясь к Панову:
— Свечку дай, помирать буду.
Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, ее вложили межу пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился»[27].
Зачем, Лев Николаевич, Вы хотите вырвать горящую свечку из холодеющих рук солдата: она больше приближает его к Христу, чем Вас все Ваши рассуждения.
Впрочем, и сам Толстой это признает. Вот перед нами другой его рассказ, «Алеша Горшок», написанный в эпоху наиболее яростных его атак против церкви. «Молитв он никаких не знал; как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром и вечером — молился руками, крестясь» (там же, стр. 103).
И через страницу — смерть Алеши. «Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет» (там же, стр. 105).
Значит все-таки можно молиться «руками и сердцем», а в «золотом мешке» и сердцем, а в храме и сердцем, почему нельзя молиться? А молитва сердцем — это и есть та молитва «духом и истиною», которую хочет от нас Господь.
А вот еще один рассказ, «Корней Васильев», этого же периода. Когда-то богатый крестьянин, в порыве ревности чуть не убивший жену, искалечивший дочку, приходит умирать (обнищавший и одряхлевший) в родную деревню. Умирает так, как мечтал умереть сам Толстой, в любви и смирении, примирившись со всеми.
Разговор Корнея с дочерью перед смертью:
«— Это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава Богу, развязались все грехи, — и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.
— Свечку, — проговорил он, не шевеля губами. Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем» (там же, стр. 118).
Рассказ «За что?». Один из самых последних. Здесь описывается жизнь сосланных в Сибирь польских повстанцев. Пытавшегося бежать из ссылки Серацинского проводят сквозь строй. «Последнего привели самого Серацинского. Я давно не видал его и не узнал бы: так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: „Miserere mei, Deus, secundam magnam misericordiam tuam“ („Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей“)» (там же, стр.156).
Расскажите, Лев Николаевич, Серацинскому, что публичная молитва — грех и что молиться словами псалмов не нужно, а церковь, научившая его этой молитве, ничего общего с Христом не имеет.
Но вот перед нами рассказ, которому Лев Николаевич придавал особое значение, — «Хозяин и работник». Этот рассказ, действительно великий, является как бы программой Толстого, выраженной в художественной форме. Умирает крестьянин Никита. Умирает просветленный, близкий к Богу человек. «Умер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми, с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью просил прощения у своей старухи и простил ее за бондаря». («Сочинения» Л. Н. Толстого, Москва, 1895 г., стр. 279–280).
Не странно ли все-таки, что просветленные, близкие к Богу люди тянутся к иконам, к свечкам, к церковным обрядам? Почему же, если это все так плохо? Но вот перед нами устный рассказ Толстого сотруднику «Русского слова» Спиро. «Я поздно ночью зимой пошел пройтись, и идя по деревне, где огни были потушены, проходил мимо одного дома, в котором светился огонь, заглянул в окно и увидел стоящую на коленях и молящуюся старуху Матрену, знакомую мне с ее молодости, одну из самых порочных, развратных баб деревни. Меня поразил этот внешний вид ее молитвенного состояния. Я посмотрел и пошел дальше, но вернувшись назад заглянул в окно и застал Матрену в том же положении. Она молилась и клала земные поклоны и поднимала лицо к иконам. Вот это — молитва! Дай Бог всем нам молиться так же, т. е. сознавать так свою зависимость от Бога, — и нарушить ту веру, которая вызывает такую молитву, я бы счел величайшим преступлением… Да это и невозможно. Никакие мудрецы не могли бы сделать этого». (Цитирую по книге архимандрита (ныне архиепископа) Иоанна «Толстой и церковь», Берлин, 1939 г., стр. 180–181).
А. С. Пругавин рассказывает, как, будучи гостем самарских молокан, Толстой выслушал иронический рассказ молоканина о монахе, который сорок раз повторял: «Господи помилуй!» «Ты, видно, Бога за глухого почитаешь!» — сказал ему молоканин. Реплика Толстого неожиданна: «В молитве самое важное не слова, а чувства, настроение. И в самые простые слова можно вложить искреннее и глубокое чувство». (см. А. С. Пругавин, «О Льве Толстом и толстовцах». Москва, 1911 г., стр. 46).
Но заглянем в дневник Льва Николаевича; там мы найдем еще более удивительные вещи: «Иногда молюсь, — писал он 24 августа 1906 г., — в неурочное время самым простым образом, говорю: Господи помилуй, крещусь рукой, молюсь не мыслью, а одним чувством сознания своей зависимости от Бога. Советовать никому не стану, но для меня это хорошо. Сейчас так вздохнул молитвенно». (А. Л. Толстая, «Отец», Нью-Йорк, 1952 г., т. 2, стр. 291).
Уж если для Вас (после всех Ваших обличений и высмеивания церковных обрядов) хорошо креститься рукой, так что же сказать о всех прочих. Читаем дальше, 1910 год: «Только-бы перед Богом быть чистым. И сейчас узнаешь радость жизни… Молился хорошо: „Господи, Владыко живота моего“, „Царю Небесный“…» (там же, стр. 377).
Вот тебе раз! Оказывается, в церкви не все поют только непонятное и ненужное! Довольно! Толстой сам осудил себя и сам опроверг свои теоретические рассуждения о том, что церковь, церковные обряды, таинства не нужны и лишь мешают духовной жизни.
Несколько лет назад, из изданной в Москве книги Булгакова «Последний год жизни Толстого» мы рады были узнать, что Толстой незадолго до смерти признал ошибкой свои грубые глумления над евхаристией в романе «Воскресение». «Да, глумиться не нужно бы», — сказал он. Об этом же свидетельствует и Н. Н. Гусев: «Я хотел передать Льву Николаевичу несколько экземпляров отпечатанных отдельно двух глав из „Воскресения“ о богослужении, — вспоминает Н. Н. Гусев, — но Лев Николаевич сказал: „Я едва ли буду их издавать“». (см. Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым», Москва, 1912 г., стр. 19).
Рассказ относится к 1907 году. В это же время Толстой говорил о православных: «Конечно, я к искренно верующим чувствую уважение» (там же, стр. 42).
И наконец, особый интерес представляет письмо Толстого княгине Марье Михайловне Дондуковой-Корсаковой, написанное в связи с его 80-летним юбилеем. Как известно, Марья Михайловна, старая, глубоко церковная женщина, протестовала против чествования Толстого, т. к. для православных людей это чествование человека, глумившегося над их верой, глубоко оскорбительно. Ответ Толстого следующий: «Постараюсь избавиться от этого дурного дела, от участия моего в нем, от оскорбления тех людей, которые, как Вы, гораздо, несравненно ближе мне тех неверующих людей, которые Бог знает для чего, для каких целей, будут восхвалять меня и говорить эти пошлые, никому не нужные слова» (там же, стр. 99).
Это все говорит о том, что к концу жизни Толстой значительно смягчил свое непримиримое отношение к церкви.
В этой связи интересен самый последний рассказ Толстого «Нет в мире виноватых». В рассказе выведены два учителя: Неустроев (революционер) и Соловьев (сын диакона), окончивший семинарию и сохранивший свою глубокую преданность православию. В рассказе приводится ночной разговор Неустроева с Соловьевым. Неустроев, когда Соловьев на минуту остановился, сказал: «— Все это хорошо тебе говорить, когда у тебя есть ожидаемая награда вот от них, — он указал на иконы, — а нашему брату надо делать только то, что можешь, пока живешь, и делать не для себя.
Соловьев в это время вертел папиросу.
— Ты говоришь, — горячо заговорил Соловьев, — награда моя там, — он указал на потолок, — нет, брат, награда моя вот где, — он кулаком ударил себя в грудь. — Тут она, и делать, что я делаю, я делаю не для других, — черт с ними, с другими, — а для Бога и для себя, для того себя, который заодно с Богом. — И он закурил папироску и жадно стал затягиваться.
— Ну, эта метафизика мне не по силам. Так я засну.
— Ложись, ложись…
Неустроев, как решил, рано утром послал сторожа за своими вещами и, получив их, нанял телегу и уехал на станцию. Соловьев же спал и не слыхал, как он ушел. Проснувшись же, он, как и всегда, встал перед иконами и прочел все с детства произносимые молитвы: „Отче наш“, „Верую“, помянул родителей (они уже умерли), „Богородицу“ и последнюю „Царю небесный“, которую он особенно любил: „Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша“ он произнес нынче с особым чувством, вспоминая свой разговор с Неустроевым». (Собрание сочинений Л. Н. Толстого, 1948 г., «Огонек», т. 12, стр. 204–265).
Рассказ «Нет в мире виноватых» остался неоконченным. Трудно сказать, как бы там развивалось действие, но образ православного учителя — как выразителя идей Толстого — это нечто новое. В какой-то мере это рука, протянутая церкви, или во всяком случае смягчение былой вражды.
Но, как известно, борьба Толстого с церковью не ограничивалась лишь отрицанием таинств и обрядности. Толстой вел резкую полемику против догматов церкви и эту полемику считал чуть ли не основным содержанием своей деятельности. Основополагающим произведением Толстого в этой области является его «Исследование догматического богословия», написанное в 1880 году. На первых страницах он утверждает, что выучил богословие, как «хороший семинарист». В этом есть доля истины. Он добросовестно проштудировал семинарские руководства (катехизисы и «Догматическое богословие» митрополита Макария) и написал на этой основе именно такую критику богословия, (хлесткую и плоскую), которую мог бы написать вольнодумный, развязный, озлобленный на начальство за порку тогдашний семинарист. Во всяком случае жаль, что Толстой не дошел до Духовной академии и не проштудировал хотя бы отцов золотого века церкви: Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и Кирилла Александрийского. Во всяком случае он нигде ни разу на них не ссылается. Правда, он ссылается на Оригена, но вряд ли он читал его, т. к. на русский язык Ориген был переведен лишь в 1895 году, а латинский первоисточник вряд ли был доступен Толстому, т. к. 1) он был библиографической редкостью, 2) Толстой латинским языком не владел в такой степени, чтобы читать Оригена. Греческий же подлинник, как известно, до нас не дошел. Таким образом, Толстой сосредотачивает свою критику на догматическом богословии митрополита Макария — великого церковного историка, замечательного иерарха, оставившего по себе светлую память, чудесного человека, но очень посредственного богослова.
Здесь надо сказать, что мы понимаем под богословием. Обычно считают, что богословие есть наука, исследующая или излагающая учение той или иной религии (в данном случае — православной церкви). Это, конечно, совершенно правильно, но в равной степени богословие есть искусство. Его задача в том, чтобы истины, добытые сокровенным религиозным опытом, перевести на язык понятий. Метод богословия творческий, исследующий самое глубокое, что есть в жизни.
Но именно митрополит Макарий этим методом не владел совершенно. Поэтому его богословие, как, впрочем, и все специальные руководства того времени, — мертвая схоластика, сухой перечень догматов церкви. Толстой почувствовал это самое слабое место официального богословия и непрестанно наносит по этому месту удары. И все-таки… и все-таки даже догматическое богословие Макария, подвергавшееся резкой критике архиепископа Никанора уже тогда, несравненно выше поверхностной критики Толстого.
Л. Н. Толстой прежде всего ополчается против самого понятия догмата. Особенно возмущает его формула: «Под именем христианских догматов разумеются откровенные истины, преподанные людям церковью». (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, Москва, 1957 г., т. 23, стр. 64). (Далее везде, где это не оговорено специально, цитируется это издание).
Толстой видит противоречие в том, что в то же время по словам митрополита, «с тех пор, как люди начали усвоять себе догматы, преподанные в откровении, и низводить их в круг своих понятий, эти истины неизбежно стали разнообразиться…» (стр. 64). «Очевидно, — говорит Толстой, — под словом „догмат“ разумеются два взаимно исключающих понятия» (стр. 65).
Детское возражение! Догматы есть благооткровенные истины, но истины, какие бы то ни было, не падают с неба. Их надо искать, их надо добиваться. Этот процесс искания истины раскрывает еще Соломон: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его знание и разум» (Притчи, 2, 1–6).
Бог открывается только ищущим — и искать богооткровенную истину надо так, как ищут серебра.
И Христос призывает к исканию истины: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его…» — говорит Он. (Мф.6, 33). «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его» (Мф.11, 12). Еще более колоритно звучит этот текст по-славянски: «От дней же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е».
У Луки подчеркнуто, что с пришествием Христа, когда упразднены все привычные рецепты и жизненные правила, эти поиски становятся еще более напряженными и интенсивными: «Закон и пророки до Иоанна, с того времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него» (Лк. 16, 16).
Христос пришел, чтобы зажечь огонь в сердцах людей. И результат этого огненного горения — богооткровенные догматы.
И вспоминается здесь великое слово великого современника Толстого, Владимира Соловьева: «богочеловечество». Догмат есть богочеловеческая истина, открытая Богом и найденная человеком. Для Толстого, однако, все догматы, начиная с бытия Божия, заранее под сомнением, «несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия Божия (Кант доказал мне, и я понял, что доказать этого нельзя), я все-таки искал Бога», — говорит он в «Исповеди» (т. 23, стр. 44).
Не в обиду будь сказано Льву Николаевичу, Кант ровным счетом ничего не доказал: его отрицание принятых богословием доказательств бытия Божия действительны только для тех, кто разделяет его агностическую систему, утверждающую, что мир непознаваем, что все вещи есть «вещи в себе». Для остальных сохраняют полную силу и космологическое доказательство бытия Божия, и онтологическое доказательство. Более того, если Толстой ссылается на Канта, мы берем себе в товарищи Гегеля: никто не сделал больше него для телеологического доказательства бытия Божия. Никто, так как Гегель, не показал разумной цели мировой истории; никто не показал, как сквозь кажущийся хаос мирового развития виднеется ведущая рука Божия. Толстой этого не видит, и отсюда сбивчивый, хаотический, сумбурный характер его собственного богословия.
Но обратимся опять к его критике догматического богословия митрополита Макария. Особую злобу Толстого вызывает догмат Пресвятой Троицы. Здесь Толстой дает полную волю своему страстному, порывистому темпераменту: «Это невозможно, и не только невозможно, но ясно, что это совсем не то, что я ошибся, думая найти у церкви ответ и разрешение на мои сомнения. Я думал идти к Богу, а залез в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования» (там же, стр. 121).
Догмат Троицы, конечно, не выдумка христианских богословов; он не выдуман и отцами церкви; он не впервые явился и в Священном Писании. Он всегда, повсюду и везде исповедовался человечеством. Он поистине вписан в сердца людей Божественной Рукой. И никто никогда не представлял себе Бога иначе, чем в Троице. И Толстой, как ни бился, как ни боролся с этим догматом, как ни оплевывал его, никуда от него не ушел.
Всякий человек, обращаясь к Богу, прежде всего представляет Его себе как Творца, как Источник, как Начало, как Перводвигателя. Он не познаваем для нас полностью, но мы знаем, что Он есть, ибо, если бы Его не было, не было бы ничего из того, что нас окружает. Он Отец, ибо все Им и все от Него. Толстой (в некоторых рассказах) называет Его по-крестьянски «Хозяином». Да, хозяин, строитель, отец, но такое представление о Боге не может удовлетворить полностью религиозного сознания, ибо в таком случае Бог есть лишь нечто внешнее, чуждое нам, лишь грозный повелитель, господин, деспот.
И вот, всегда, во все времена, возникало и другое представление, представление о мировой Душе, о мировом Разуме, о Премудрости, о Логосе, об абсолютном Духе. Ибо Бог — всяческое во всем. Он все зиждит, он все созидает, не только извне, но и изнутри, он все сохраняет, во всем проявляется. Это второе Лицо Божие (вторая ипостась), открытая человечеству. О нем знали древние, о нем говорит и Платон, и Аристотель; еще раньше, в наивных верованиях древних греков, его черты проступают в понятии Мойры, Судьбы, которая все двигает, во всем проявляется, и от которой никто не уйдет.
Толстой дожил до появления известной книги князя С. Н. Трубецкого «Развитие учения о логосе» и мог убедиться, что учение о логосе существовало задолго до Вселенских Соборов. В притчах Соломона говорится о мудрости как о самодовлеющей субстанции, как о явлении Божием в мире: «Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, — и блаженны, которые сохраняют ее! Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою» (Книга притчей, 3, 18–20). Еще более ясно выражено это понятие в назидательной книге «Премудрости Соломоновой».
Как показали недавние находки у Мертвого моря, писания иудейских богоискателей пронизаны верой в Премудрость Божию, в Логос, творящий, развивающий, созидающий мир.
И евангелист Иоанн Богослов дает этому извечному представлению о Боге-Слове, о Боге-Логосе четкие и ясные формулировки. Св. Афанасий Великий говорит о Логосе как о творческой Силе Божией, ибо творчество Божие — не механический акт, а внутреннее, пронизывающее все вещи, соединяющее воедино. Логос есть Мудрость Божия, ибо Она создает этот мир, переливается в мире и дает людям знание о Боге. «…Утверждающие, что было некогда, когда не было Сына… похищают у Бога Слово и прямо говорят, что был Он некогда без собственного Своего Слова и без Премудрости, что был некогда свет без лучей, был источник безводный и сухой». («Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, Архиепископа Александрийского». Св. Троицкая Сергиева Лавра, 1902 г., т. 2, стр. 195).
Логос извечен, ибо представить себе Бога без Логоса — все равно, что представить себе бессильного и немудрого Бога. Св. Афанасий сравнивает Бога-Отца с источником, а Логос с рекой, разливающейся в творении. Далее Афанасий Великий сравнивает Бога-Отца с Подлинником, а Божественный Логос с портретом, ибо только через него — через творящую силу — мы познаем Бога. И св. Афанасий здесь лишь развивает те мысли, которые выражены в 1-ой главе Евангелия от Иоанна.
«В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог». Этим торжественным аккордом начинает апостол Иоанн свое повествование.
В начале было Слово — в начале был Разум, была Мудрость, был Логос. Бог — свет, Логос — освещенность (Свет от Света). Бог — все рождающий, Логос — все время вновь и вновь рождающийся.
И наконец, раскрывается иная тайна — тайна, всегда волновавшая Толстого, — тайна жизни.
До сих пор человеческая мысль не может объяснить три тайны: как произошел мир, как возникла жизнь, как произошел человек.
Попытки объяснить тайну жизни при помощи естественных наук могут вызвать лишь улыбку своей наивностью.
Апостол Иоанн в краткой и точной формуле раскрывает тайну: «В нем была жизнь, и жизнь была свет людям». Именно творящая сила Божия возбудила в мире то, что называет Анри Бергсон «жизненным импульсом». Она сама является таким жизненным импульсом, и благодаря этому не угасает жизнь. «И жизнь была свет человекам». (Ин.1, 4).
И только потому, что жизненный импульс порожден Божественной, творящей силой, логосом, действующим не извне, а изнутри природы, — возможно человеческое сознание, возможно было то, что из перводанной слепой материи выделился человек, обладающий светом познания. На него обрушились все силы природы, весь первозданный хаос, чтобы сокрушить этот тлеющий огонек познания. Но огонек не погас именно потому, что человек имел в себе частицу Божественного Света, Логоса: «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла» (Ин.1, 5).
Однажды Толстой сказал, что самое великое и непостижимое для него чудо — это то, что «небольшое количество съеденной мною пищи» превращается в мысль (см. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого»). Но это и есть чудо Божественного Логоса, действующего в нас, в недрах природы.
Логос — Слово Божие — Сияние Славы Отчей — Премудрость Божия. Мировая Душа, как сказал бы Аристотель, Предвечная Идея, как сказал бы Платон, Абсолютный Дух, все движущий и все направляющий, как сказал бы Гегель, вечный Жизненный Импульс, дающий всему жизнь, как сказал бы Анри Бергсон. Но это не все! Далеко не все.
Ибо прежде всего Божественный Логос — это любовь. Когда-то Эмпедокл говорил, что мир держится любовью. Любовью небо притягивается к земле. Любовью атомы соединяются друг с другом. И все соединяет Божественная Любовь. Предвечный Логос. И отсюда понятие Сын. Бог Отец есть любовь, сокрытая от нас, непостижимая. Божественный Логос — любовь, открытая нам. И относится она к предвечному Богу, как Сын к Отцу. Логос есть Сын Божий, непрестанно рождающийся из недр отчих. Волна, исходящая из Вечного Источника — Бога. Откровение любви Божией. «Любовь Божия была явлена в нас в том, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин.4, 9). Это знали всегда все верующие в своем духовном опыте. Но здесь-то и проявляется трудность богословия.
Одно дело — принимать это в опыте, а другое дело — выразить духовный опыт на языке логических категорий. И этим вызвана церковная смута, сотрясавшая мир в течение IV века. Вульгарный богослов, хотя и блестящий оратор и поэт, Арий нашел из этой трудности самый простой выход: объявил Сына Божия посредствующим существом, старшим архангелом. Церковь, разумеется, отвергла это плоское, полуязыческое учение, которое зато с удовлетворением приняла императорская партия, видя в нем возможность компромисса с язычеством. Затем нестрогие ариане (типа придворного епископа Евсевия Никомидийского) решили исправить своего учителя: объявили Сына Божия равным Отцу, во всем Ему подобным. Но это не только не исправило арианство, а наоборот, ухудшило, ибо превращало христианство в заурядное языческое учение, имеющее двух богов. Ничто не мешало затем присоединить к ним всех богов Олимпа. Но церковь нашла формулу, резко отделяющую христианство от всех остальных учений — формулу единосущия. Это не было каким-либо новшеством, это лишь давало ясную и четкую установку сокровенному духовному опыту людей всех времен и всех религий.
И учение о Святом Духе. О Святом Духе (это уже никак не может отрицать Толстой) говорится на самой первой странице Библии: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1, 2).
Почему над водой? Потому что вода есть источник жизни, и Дух Божий там, где есть нечто живое. Ориген великолепно говорит, что сфера действия Святого Духа уже, чем сфера Отца и Сына, но и выше их сферы. Дух Святой — это то, что знает каждый человек по опыту: это совесть, это вдохновение, это стремление к красоте, это тяга к Богу. Но не только в людях действует Дух Святой: Он действует и во всем живом, ибо «всякое дыхание хвалит Господа». Он действует и в якобы мертвой природе, ибо и в ней есть, как учили зилозоисты, зачатки жизни. Он глаголал в пророках, в апостолах; Он вечно веет в церкви. Он подает благодать в таинствах, но не только в таинствах. Он подает благодать всякой душе человеческой, идущей к Богу. Он обновляет людей. Он исходит от Отца в души людей. Гений, вдохновение, праведность, святость — от Святого Духа: «И, как железо, положенное в середину огня, не перестает быть железом, но будучи раскалено до сильнейшего сходства с огнем и приняв на себя все свойства огня и цветом и действием подходит к огню, — пишет св. Василий Великий, — так и все святые силы, вследствие общения со Святым по естеству имеют в себе святыню». («Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийския», т. 1, книга 3, «Против Евномия», стр. 525).
Сын Божий, Премудрость Божия, творящая и созидающая мир, и Дух Святой, действующий в душах людей, — два Лица, — два вечных откровения Бога в мире.
Итак, Бог-Отец — Непостижимый, Источник, Творец. Сын, действующий в мире, все созидающий. Дух, сходящий в сердца, в души.
Церковь в своем догматическом творчестве никогда не шла по пути примитивизации и никогда не унижалась до дешевой популярности. Поэтому она одинаково отвергла полуязыческих богословов типа Ария, Евномия, Македония, желающих превратить Св. Троицу в маленький Олимп с Богом-Отцом вместо Зевса, Павла Самосатского (вульгарного богослова и вульгарного человека), уничтожавшего идею триединства и утверждавшего, что Бог-Отец страдал на кресте, и тонкого интеллектуала Савелия, находившегося под влиянием неоплатоников, сводящего Троицу к различным модусам Божества.
Церковь исповедовала Божественную Троицу так, как Она является в духовной жизни: как предвечный источник всего сущего — Непостижимого Бога, как Премудрость и Силу Божию (Сына), непрестанно действующую и творящую, как Духа Святого, сходящего в недра людских сердец, вдохновляющего, животворящего, озаряющего и очищающего нас от всякой скверны, Которому так проникновенно молился учитель Соловьев в последнем произведении Толстого «Нет в мире виноватых».
Толстой говорит, что в Троицу нельзя веровать, можно лишь сказать, что в нее веришь. Как раз наоборот: можно сказать, что ты не веришь в Троицу, в практическом духовном опыте всякий человек, устремляющийся к Богу, устремляется к Троице. Во всех других религиях, кроме христианства, Троица, однако, воспринимается в искаженном виде.
Есть религии, которые воспринимают Бога по преимуществу как Творца, Хозяина, Господина. Таковы строго монотеистические религии: иудаизм, магометанство. Есть религии, которые воспринимают Бога по преимуществу как любовь, разлитую в мире. Таковы пантеистические религии (типа индуизма и буддизма). Есть религии, которые воспринимают Бога в третьей Его ипостаси, как Дух, открывающийся в интимном соприкосновении с душой человека; таковы все «камерные» религии типа теософии, антропософии и т. д. Что касается Толстого, то он колебался всю жизнь между всеми этими тремя понятиями о Боге. Отсюда эклектический, вихляющий характер толстовского богословия (если это можно назвать богословием). Он то представляет Бога как Хозяина, который за все потребует отчет. То он представляет Его как некую безличную силу (любовь). То, наконец, он говорит о Боге «внутри нас», как о совести, как о чувстве справедливости, добра.
В результате получается нечто сумбурное, противоречивое, во много раз более непонятное, чем богословие митрополита Макария. Толстой сам лишил себя ясности и простоты в понимании Бога (к чему он так стремился), отвергнув всеобъемлющий догмат Божественного Триединства.
Мы так подробно проанализировали отношение Толстого к догмату Троицы, чтоб показать всю вульгарность и плоскость толстовского богословия. К сожалению, мы не можем следовать дальше за Толстым, за его критикой догматического богословия, не вызвав справедливого нарекания наших читателей, среди которых мы не рассчитываем найти много профессиональных богословов.
Укажем лишь на то, что и остальная критика Толстого носит столь же поверхностный характер: то он не может понять, почему Бог сотворил человека со свободной волей (т. е. не сотворил его марионеткой — чтобы мир был бы так же скучен, как советские пьесы, где все герои говорят фразами из газет), то он не может понять, почему не все люди спасаются (но ведь для того, чтобы спастись, соединиться с Богом, надо Его полюбить, как это неоднократно подчеркивал сам Толстой. А если этой любви нет, то «насильно мил не будешь», или, как еще говорят в народе, «невольник не богомольник»).
Но все это ничто перед главной, кардинальной ошибкой Толстого: неумением понять глубокой истины Боговоплощения, вследствие чего Христос превращается в шаблонного моралиста, а христианство из Светлой, Радостной Пасхи — в нудную, серую канитель с постоянным, надоедливым повторением все одних и тех же пресных истин.
К сожалению, Толстой не один. Есть очень много людей, которые, преклоняясь перед Евангелием, не могут принять Христа-Богочеловека. Такова почти вся русская интеллигенция. И от ее имени говорит поэт:
Мы назвали эту главу «Сумерки». Любовь — это солнце: закатывается солнце — и все тускнеет и меркнет, все погружается во тьму.
Закатывается солнце любви — и нет уже дня, наступает ночь. И это мы видим на примере Толстого. Он испытывает злобу к церкви — и померкло солнце. Даже такое яркое солнце, как толстовский гений; величайший из всех людей, которых имела Русь, вдруг превратился в заурядного, вольнодумного семинариста, выгнанного из последнего класса.
Но, к счастью, не навсегда. Рассеиваются тучи злобы, и снова блистает солнце, и вновь восходит над миром сияющий гений Толстого.
Есть примета: перед несчастьем в доме бьется зеркало. И на Руси разбилось зеркало. Давно-давно, невесть когда, на мелкие куски. Зеркало — это истина. Разбилась истина на Руси. И у всех находились лишь осколки истины. Церковь русская православная сохранила неповрежденными догматы, таинства, но давно уж потеряла живую правду евангельскую в жизни. Да и никогда ее не имела; еще из Византии восприняла кошмар цезарепапизма, соблазн подчинения государству. И отошла эта ревность о правде к людям иным.
В том числе и к Льву Толстому. Отвергнув все догматы и таинства церкви, Л. Н. Толстой, конечно, перестал быть ее членом (если считать, что когда-нибудь принадлежал к ней). Акт Святейшего Синода от 2 февраля 1901 года об отлучении Толстого от церкви лишь констатирует совершившийся факт, и никто (кроме людей, не понимающих, что такое церковь) не может осудить за это иерархов — членов Святейшего Синода.
На этом мы можем поставить точку, и теперь будем говорить о религиозно-философской системе Толстого, как и о всякой другой, независимо от отношения Толстого к церкви.
Не будем разделять системы Толстого, не будем опьяняться его гением и прежде всего не будем ему подражать в его озлобленно-пристрастном отношении к нашему церковному учению. Не будем ему платить той же монетой. Спокойно проанализируем все его мысли, и там, где он отступает от Евангелия, скажем: «Ложь!»
Там, где он говорит правду, скажем: «Это правда!»
Л. Н. Толстой неоднократно пытался выразить нравственное учение Христа в виде 5 заповедей. Рассмотрим эти заповеди.
«Первая заповедь — не обижать никого и делать так, чтобы ни в ком не возбудить зла, потому что от зла заводится зло». (Л. Толстой, «Жизнь и учение Иисуса», издание А. Черткова в Англии, 1900 г., стр. 17–18).
Правильно ли это? Правильно! Именно так всегда поступали угодники Божии, прославляемые нашей церковью.
«Вторая заповедь — не любезничать с женщинами и не оставлять той жены, с которой сошелся, потому что оставление жен и перемена их производит все распутство в мире» (там же).
Правильно ли это? Безусловно правильно. И наша церковь стоит именно на такой точке зрения и разрешает вступление в брак только лишь покинутому супругу или супруге и тому, кто не обещал вступить в брак другому.
«Третья заповедь — ни в чем не клясться, потому что ничего нельзя обещать, т. к. человек весь во власти Отца, и клятвы берутся для злых дел». Прав ли здесь Толстой? Приходится признать, что прав, т. к. слова его точно воспроизводят слова Христа (Мф.5, 33–37). Нельзя не пожалеть о том, что церковь не придерживалась этого правила; нельзя не порадоваться по поводу того, что теперь этот старый обычай уже всюду и везде оставлен, ибо немало злых дел оправдывалось «присягой». Особенно ужасно, когда человек обещался исполнять любые преступные приказания таких тиранов, как Иоанн Грозный, Филипп II, Генрих VIII.
Дальше идет четвертая заповедь. «Не противиться злу, терпеть обиду и делать еще больше того, чем то, что требуют люди; не судить и не судиться, потому что человек сам полон ошибок и не может учить других. Мщением человек учит только других тому же».
Если бы Толстой ограничился только такой редакцией и на этом поставил бы точку, с ним можно было бы согласиться. Но Толстой, как известно, страшно расширяет понятие непротивления. Именно эту заповедь о непротивлении злу насилием он сделал главным пунктом своего учения. Основываясь на ней, он отрицает не только войны, но и какое бы то ни было государство. «Я понял теперь, — пишет Толстой, — что говорит Христос, когда Он говорит: не противься злу, терпи его. Христос говорит: вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтоб силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, а я говорю: не делайте зла никому, даже тем, кого вы называете врагами». («В чем моя вера?» Л. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 328).
Здесь Толстой ставит столь серьезную проблему, что просто отмахнуться, ограничиться руганью нельзя. Надо внимательно рассмотреть учение Толстого и понять, в чем прав и в чем неправ Толстой.
Итак, Толстой утверждает, что заповедь о непротивлении злу (как он ее называет) — важнейшая заповедь Христа. Открываем Евангелие, читаем: «И вот, некто подошел к Нему и сказал: Учитель, что мне сделать благого, чтобы получить жизнь вечную?.. Он же сказал ему: Если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди. Говорит Ему: Какие? Иисус же сказал: Вот какие: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать; и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Говорит Ему юноша: это все я сохранил: чего еще не достает мне? Сказал ему Иисус: если хочешь быть совершенным, иди, продай имение свое и следуй за мной» (Мф.19, 16–21).
Как видит читатель, о непротивлении ни слова. Но, скажут почитатели Толстого, заповедь о любви к ближнему подразумевает закон непротивления злу насилием. Так ли? Вы уверены в этом? Открываем Евангелие в другом месте. Самый критический момент в жизни Христа. Христос после тайной вечери идет в Гефсиманию. Не пройдет и часа, как Его схватят и поведут на мучения. Что же говорит в этот момент Господь своим ученикам? «И сказал им: когда я послал вас без мешка и без сумы и обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они сказали: ни в чем. И Он сказал им: но теперь, у кого есть мешок, пусть возьмет также и суму; а у кого нет, пусть продаст одежду и купит меч… Они же сказали, Господи, вот здесь два меча. И Он сказал им: довольно» (Лк. 22, 35–38).
Поразмыслим над этим местом: прежде всего, почему и каким образом у учеников Христа, мирных рыбарей, оказались мечи. Ответ может быть только один — чтобы (когда они будут проходить по пустыне) обороняться от разбойников, чтоб не случилось с ними того, что случилось с одиноким путником, который по дороге из Иерихона в Иерусалим попался разбойникам: они его раздели и изранили, и ушли, оставив полумертвым (Лк. 19, 30).
Далее. Какой смысл имеет совет Христа купить меч? Сам он отдает себя на страдание и отвергает защиту. Отдает Себя на страдания. Но не других. Им он советует уходить и (в случае нападения) защищаться. Как раз полная противоположность Толстому. Тот советует другим идти на мучения и не защищаться. Открываем Евангелие в третьем месте. Евангелие от Луки, глава 19, стр. 11–27. Христос изображает Бога в виде царя, который пошел в далекую страну, а потом возвратился и спрашивает отчет. Заключительные слова: «А врагов моих этих, не пожелавших, чтобы я воцарился над ними, приведите сюда и заколите передо мной» (Лк. 19, 27).
В синодальном издании этот оборот значительно смягчен: «избейте передо мною». Но так или иначе — здесь речь идет о насилии, и Христос не только не осуждает его, но по смыслу притчи признает его справедливым. Нет ли здесь противоречия с Нагорной проповедью? Нет, никакого противоречия здесь нет: надо лишь читать Нагорную проповедь без всяких предвзятых мыслей, ничего не придумывая, читая лишь то, что там сказано: «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним тысячу шагов, иди с ним две. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отворачивайся» (Мф.5, 38–42).
Все это сказано. Но вот что не сказано: что не надо защищать свою жизнь (такая заповедь была бы равна заповеди самоубийства); и вот еще что не сказано: это то, что не надо защищать других, когда их обижают, потому что такая заповедь была бы равна проповеди эгоизма. Во всяком случае никто никогда иначе учения Христа не воспринимал.
Л. Н. Толстой в своей известной статье «Что такое искусство» очень критически отзывается о пьесах Ибсена. Между тем сам он в данном случае очень походит на героя одной из пьес Ибсена: на пастора Бранда, жизненным лозунгом которого всегда было: «все или ничего!» Но как и всякое предвзятое правило, этот лозунг упрощает многообразие жизни, обесцвечивает жизнь. Впрочем, сталкиваясь с жизнью, Толстой и сам чувствовал необходимость поставить какие-то границы своему «непротивлению». Гусев рассказывает, как Толстой привел такой пример: крестьянская женщина, озабоченная приготовлением обеда, удрученная всевозможными заботами, дала шлепок закапризничавшему ребенку. Это, однако, не будет насилием. «Насилие, — говорит Лев Николаевич, — будет тогда, когда это возводится в систему, когда сознательно наказываются проступки, и это очень дурно и развивает жестокость» (Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым». Москва, 1912 г., стр. 75).
Здесь Толстой нащупывает какой-то правильный метод. Плохо, когда насилие становится системой. Системой, законом жизни должна быть любовь, добро, непротивление. Насилие должно применяться в редчайших случаях, когда это совершенно необходимо. Там, где насилие становится системой, наступает всеобщее одичание, озверение. Печальным примером этому (увы!) служит Советский Союз. Именно потому надо поставить четкие и ясные границы насилию.
Возьмем прежде всего ту область жизни, где торжество насилия особенно страшно. Где и в каких случаях морально допустима война? На этот вопрос лучше всего отвечает сам Толстой своим романом «Война и мир». Война морально оправдана только тогда, когда народ обороняется против чужеземного поработителя — оборонительная, народная война. За свою тысячелетнюю историю Россия вела 5 таких войн. В XIV веке, когда Русь восстала против полуторасотлетнего господства татар. И тогда преподобный Сергий благословил эту справедливую борьбу. В XVII веке, когда Русь боролась против попыток поляков ее поработить. И тогда святой Патриарх Ермоген тоже благословил эту борьбу. Такой народной войной против иностранного поработителя является и война против французов 1812 года, нашедшая своего Гомера в Толстом. Следует упомянуть также о войне 1877–78 годов против турок. Это была поистине святая страница в истории русского народа, когда Русь освободила своей кровью порабощенные балканские народы от пятисотлетнего турецкого ига и тотчас ушла с Балкан, не взяв ни одной копейки денег, не присвоив ни одного вершка территории. Л. Н. Толстой не понял и не принял этой войны. Но православная церковь эту войну благословила, а в некоторых странах (таких, как Сербия и Черногория) и возглавила. И, наконец, такой справедливой войной является Отечественная война 1941–44 годов, когда Россия отражала немецко-фашистское нашествие. Мы не случайно поставили дату «1944», ибо только до этого года это была справедливая, действительно народная война. Последний год, 1944–45, когда Советский Союз сам становится на путь тиранических захватов и зверств над мирным населением, является одним из самых позорных моментов позорной эпохи сталинской тирании. Справедливым и морально оправданным является, конечно, всенародное восстание венгерского народа против иноземных захватчиков осенью 1956 года и то сопротивление, которое было оказано вторгшимся войскам в Чехословакии в августе 1968 года. Справедлива и благословенна от Господа всякая борьба, ведущаяся за освобождение порабощенного народа. Во всех других случаях — война тягчайшее, отвратительное преступление.
Другой вопрос. Вопрос о государстве. Л. Н. Толстой тысячу раз прав, когда отвергает тираническую власть государства, его идиотские претензии руководить жизнью людей, давать им моральные нормы. Священное Писание признает государство только в одном его аспекте, оставляет за ним только одно право — защищать людей от преступников, убийц, разбойников, воров. Только в этом своем качестве власть от Бога, только в этом своем качестве она заслуживает уважения. «Подчиняйтесь, — пишет Первоверховный апостол Петр, — ради Господа всякому человеческому установлению: царю ли как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым». Почему подчиняться и зачем? «…как от него посылаемым для наказания делающим злое и для похвалы делающим доброе» (1 Петра, 2, 13–14).
Та же мысль у апостола Павла: в Послании к римлянам он восстает против вульгарноанархических течений в христианской общине, отрицавших какие бы то ни было обязанности христианина по отношению к государству. Полемизируя с ними, он пишет: «Всякая душа да подчиняется высшим властям. Ибо нет власти, кроме как от Бога, а существующие поставлены Богом. Поэтому противящийся власти восстал против Божьего установления, а восставшие навлекут на себя осуждение…» Почему так? «Делай доброе, и будешь иметь похвалу от нее; ибо она Божий слуга, — тебе на благо. Если же делаешь злое, бойся; ибо она не напрасно носит меч, ибо она Божий слуга, тебе на благо». (Рим, 13, 1–4).
А если наоборот? Если власть требует от тебя злого? и использует свой меч на зло людям? Тогда (само собой разумеется) всякие обязательства по отношению к власти кончаются, «власть от Бога», но не тирания. Тирания от дьявола. Та же мысль и в послании апостола Павла к Титу: «Напоминай им (членам христианской общины) подчиняться начальствам, властям, повиноваться…» В чем повиноваться и для чего? «…повиноваться; быть готовыми на всякое доброе дело» (Титу 3, 1).
Ну а если власти требуют злого дела? Как тогда быть? Тоже повиноваться? Никогда и ни в коем случае! «Повиноваться должно больше Богу, чем людям» (Деяния 5, 29).
Каковы преступления, с которыми должна бороться власть? Можно установить четыре естественных категории таких преступлений:
1. Преступление против жизни людей (убийцы).
2. Преступление против собственности (разбойники, грабители, воры).
3. Преступление против здоровья, достоинства, чести (хулиганы, озорники).
4. Преступление против половой неприкосновенности (насильники, развратители).
Все, что сверх того, то от лукавого. И всякая власть, переходящая эти естественные пределы, неминуемо перерождается в тиранию.
Но и по отношению к преступникам не все дозволено. Должна быть безусловно отменена смертная казнь, потому что убийство безоружного, беззащитного и уже обезвреженного человека есть гнуснейшее преступление против Божественного закона. Заслуживают самого резкого осуждения те иерархи, подобные прославленному московскому митрополиту Филарету, которые осмеливались оправдывать смертную казнь фальшивыми ссылками на Новый Завет. Л. Н. Толстой тысячу раз прав в своих обличениях, направленных против них. Наконец, морально недопустимо зверское отношение к заключенным; обременение их непосильной работой, содержание их в голоде, в холоде, в условиях губительных для здоровья. Это тоже убийство, только медленное и иной раз еще более мучительное.
Лев Николаевич абсолютно прав, когда считает государство злом. Он совершенно обоснованно ссылается при этом и на Ветхий Завет (Первая Книга Царств, гл. 8), и особенно на Евангелие.
Действительно, в Евангелии от Марка содержится самое решительное осуждение самой идеи государства: «Вы знаете, что те, кто считается начальниками над народами, господствует над ними, и вельможи их показывают над ними власть, но не так между вами. Но, кто хочет быть великим между вами, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Марк, 10, 42–44). В Евангелии от Луки эта мысль еще более усилена: «Цари народов господствуют над ними, и имеющие власть над ними называются „благодетелями“. А вы не так, но больший между вами да будет, как младший, и начальствующий, как служащий» (Лк.22, 25–26).
Сомнения невозможны: в принципе самая идея государства осуждена Христом и допускается она только лишь как неизбежное зло, необходимое для обуздания убийц и разбойников, а также для защиты народов, которые подвергаются нападению. Можно указать также еще на одну функцию государства: заботу о материальном благосостоянии народов. Однако чем более совершенствуется народ, чем более он проникается христианскими началами, тем менее становится нужным государство.
И абсолютно прав Л. Н. Толстой, когда формулирует учение Христа в виде следующей заповеди: «Не делать различия между своим соотечественником и чужим, потому что все дети одного Отца». (Л. Н. Толстой, «Жизнь и учение Иисуса», 1906 г., стр. 6).
Эта заповедь была мне всегда особенно близка и понятна, потому что мне всегда была глубоко противна дикарская идеология шовинизма. Конечно, и я всегда желал счастья русским людям, среди которых провел всю жизнь, конечно, и мне бесконечно дорог мой родной Питер, где я знаю каждый камешек, но когда я слышу черносотенца (их есть еще немало в России и за ее пределами), который меня уверяет, что надо бить жидов и спасать Россию, когда я слышу сиониста, который мне рассказывает, какой великий народ евреи, а русский народ мертвый и народ без будущего, мне становится жутко: мне кажется, что я нахожусь в обществе опаснейших сумасшедших.
Но чего я уж совершенно не могу понять, когда ко всему этому припутывают христианство, хотя какое отношение имеет Галилеянин Христос к русскому шовинизму — этого никто и никогда в мире не объяснит.
Между тем, к каким только софизмам ни прибегают люди, чтобы соединить несоединимое: учение Христа, утверждавшего, что все дети одного Отца, и национализм. Договариваются до того, что сравнивают национальные различия с половыми. И ведь это пишут взрослые, интеллигентные, идейные люди. До чего могут довести национальные пристрастия! Не приходится серьезно опровергать этот довод. Укажем лишь на то, что девочку вы никогда не превратите в мальчика (этого не может сделать даже — вопреки пословице — английский парламент), а стоит лишь увезти русского двухлетнего ребенка в Швейцарию и поселить его в швейцарской семье — и через год его никто не отличит от самого настоящего швейцарского мальчонки. Такие метаморфозы я за последние 10 месяцев моего пребывания на Западе видел уже раз двадцать.
Патриотизм оправдан лишь в одном случае: когда что-либо угрожает твоему народу и когда необходимо его спасать. Во всех остальных случаях всякие национальные пристрастия играют самую страшную роль: они разделяют людей, сеют в мире вражду, ненависть, кровь. Каин, убивающий брата, — вот кто является прародителем всякого национализма. У Толстого есть прекрасные слова по этому поводу: «Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самое ужасное злодейство, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы люди были разделены на государства и народы, и чтобы им было внушено, что это разделение так полезно для них, что они должны жертвовать и жизнями и всем, что для них есть святого для вредного для них разделения…» (Л. Н. Толстой, «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». Берлин, 1909 г., стр. 1).
Всем этим, однако, совершенно не исчерпывается значение Толстого. О его значении лучше всего скажет он сам: «Пускай обладают правительства школой, церковью, печатью, миллиардами рублей и миллионами дисциплинированных, обращенных в машины людей — вся эта кажущаяся страшной организация грубой силы ничего перед сознанием истины одного человека и от этого одного сообщающегося другому, третьему, как одна свеча зажигает бесконечное количество других, стоит только загореться этому свету, и, как воск от лица огня, распадется, растает вся эта кажущаяся столь могущественной организация». (Л. Н. Толстой, «Христианство и патриотизм», Берлин, 1894 г., стр. 91).
Толстой и был таким человеком, единственным, кто во всей России говорил сильным мира сего горькую, открытую правду. Другого не было. Именно поэтому до сих пор Толстым не доволен решительно никто: его не любят коммунисты, и если все-таки вынуждены его проглотить, то лишь с большой неохотой. Отношение рядового коммунистического бюрократа к Толстому великолепно показывает Солженицын в своем «Раковом корпусе». «„Ч-черт его знает, чушь какая! — отозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая „ч“, — неужели другую пластинку завести нельзя? За километр воняет, что мораль не наша! И чем же там люди живы?“… „Живы чем? — Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. — Мол, любовью“. „Лю-бо-вью!.. Нет, это не наша мораль! — потешались золотые очки. — Слушай, а кто это все написал?..“ „Тол-стой…“ „Н-не может быть! — запротестовал Русанов. — Толстой? Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его не печатали. „Хлеб“, „Петр Первый“. Он — трижды лауреат Сталинской премии, да будет вам известно“. „Так это — не тот Толстой, — отозвался Демка из угла. — Это у нас Лев Толстой“. „Ах, не то-от? — растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. — Ах, это другой… Это который зеркало русской революции, рисовые котлетки? Так сюсюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренек, со злом надо бороться“». (Ал. Солженицын, «Собрание сочинений», том 2, Посев, 1959 г., стр. 123–24).
Консерваторы обычно бросают Толстому обвинение в том, что он потряс обветшалое здание старой Русской империи. Это так и есть, конечно, но и для советской системы нет писателя более опасного, чем Л. Н. Толстой. Достоевский, как это ни странно, менее опасен; с ним можно как-нибудь договориться. Он патриот, да еще какой. Он терпеть не может «полячишек» (и коммунистический бюрократ их не любит). Он, наконец, поклонник твердой власти. Это уж прямо здорово! А что он против революционеров — так и советская система их не переваривает! Но Толстой? Что делать с его проповедью любви, всеобщего равенства, с его отрицанием государства? Этого советский бюрократ уж совсем не понимает. И только твердит, как попугай, «зеркало русской революции». Почему зеркало и в чем выражается, что он зеркало, — это решительно никто не понимает. Значение Толстого в том, что он создал совершенно новый тип сурового обличителя, заступника за всех униженных и угнетенных, говорившего бесстрашно правду. И сильные мира сего впервые склонились перед величием гения и трепетали перед его обличениями.
Он нашел последователей: духовными наследниками Толстого являются Махатма Ганди и Андрей Димитриевич Сахаров, и все русские гуманисты и демократы, бесстрашно обличающие советское правительство, заступающиеся за всех гонимых и преследуемых людей. И советское правительство, стиснув зубы, а иной раз и скрежеща зубами, как когда-то царское правительство, вынуждено выслушивать эту суровую правду. И когда у нас спрашивают, кто наш родоначальник, мы смиренно и любовно указываем на Льва Толстого. Характерный пример: Вера Дашкова во время своего годичного заключения в Лефортовской тюрьме в 1967 году не читала ничего, кроме Толстого; прочитала все его сочинения, имевшиеся в тюремной библиотеке. Это вызвало тревогу тюремной администрации. «Сам» начальник тюрьмы Петренко ее допрашивал по этому поводу. «Уж не толстовка ли Вы?» — с ужасом воскликнул он.
Мало того, Л. Н. Толстой явился основоположником мирового течения, которому мы дадим название неогуманизм. Основой этого течения является борьба за права людей, пренебрежение к силе, презрение к мнимому всемогуществу государства. Могут спросить, почему именно Толстого мы считаем основоположником неогуманизма, ведь и другие писатели были гуманистами. В том-то и дело, что все остальные писатели и деятели были гуманистами с оговоркой. Только Толстой был гуманистом без оговорок. Он защищал решительно всех: и сектантов, и старообрядцев, и революционеров, и казненных народовольцев, и высеченных мужиков. Он не делал никаких исключений, никогда и ни для кого. Он не считался с тем, что ему приходится отрываться от своего творчества: его дверь была открыта всегда, всем и каждому. И только два человека могут с ним сравниться: Ганди и Сахаров.
«Новь надо вспахивать не легко скользящей сохой, а глубоко залегающим плугом», — говорит Тургенев. Глубоко залегающим плугом вспахивал заскорузлые людские сердца великий человеколюбец, великий труженик, граф и пахарь! И невольно приходят на ум евангельские слова: «А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! Пойди сегодня и работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду государь; и не пошел» (Мф.21, 28–30). Разбилось зеркало на Руси. Разбилась Истина; раскололась надвое истина во всем мире. Когда же она соберется воедино?
Когда церковь будет во всей вселенной добиваться справедливости, обличать сильных мира сего, бороться с ядовитой ложью государства и национализма и заступаться за обездоленных, за обиженных, так же бесстрашно и настойчиво, как это делал Толстой.
В начале этого очерка, представляющего собою попытку разобраться в творчестве Толстого, мы говорили о том, что в основе его творчества — две темы: любовь и смерть.
Любовь, и в том числе чувственная любовь. Нам казалось, что в «Анне Карениной» было сказано об этом последнее слово; так кажется многим и сейчас. Но нет! Последнее слово об этом — «Крейцерова соната» (написанная в конце 80-х годов).
По своему мастерству это одно из самых совершенных произведений Толстого. Можно было бы сказать, что Толстой уже в «Анне Карениной» предвосхитил Фрейда. В «Крейцеровой сонате» искусство психоанализа доведено до виртуозности, до филигранности. «Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку… И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это». (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, Москва-Ленинград, 1933 г., т. 27, стр. 59–60). Это только первый попавшийся пример. Такие строчки — на каждой странице. Каковы новые открытия Толстого? Уже начало вызывает изумление. Толстой подчеркивает, что плотская любовь всегда переходит в злобу. Позднышев уже в медовый месяц начинает ссориться с женой. «С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, т. е. чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить…» (стр. 33).
Дальше еще резче: «Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называем любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эти любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных сторон» (стр. 44–45).
Такой бесстрашной правды еще никто никогда не говорил. А действительно ли никто? «И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-либо сделать с ней… Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди. И Фамарь сказала ему: нет, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал надо мной. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту вот от меня вон и запри дверь за ней». (Вторая Книга Царств, 13, 1–2; 14–17).
И после этого еще кто-то хочет равняться с Толстым. Библия — вот куда надо обращаться, чтоб найти нечто равное по силе Толстому. Одна из самых потрясающих страниц мировой литературы — это ночь в вагоне, которую проводит Позднышев перед убийством. Никто так не передал состояние одержимости, беснования. Тут что-нибудь цитировать или анализировать бессмысленно; можно понять Софью Андреевну, которая была оскорблена повестью: Толстой достиг здесь такого полного перевоплощения, что порой кажется, что это он сам Позднышев, убивший свою жену.
И наконец, убийство. Я перечитывал эту повесть в Лефортове. Вместе со мной сидел Виктор — воришка с тремя судимостями; в конце концов он решил заняться продажей иностранцам золота и попал в тюрьму КГБ. Перечитав «Крейцерову сонату», я дал читать ее Вите. Он прочел ее взахлеб. И потом никак, ни за что не хотел мне поверить, что Толстой не убивал своей жены. «Не может быть», — отвечал он мне на все мои уверения, что Софья Андреевна пережила своего мужа ровно на десять лет.
Толстой проповедовал не только современникам: он обладал поистине пророческой интуицией. И он обращается к нам, живущим после него. Толстой предчувствовал наступление эпохи железа и крови, когда грубая сила, ложь и жестокость, воплощенная в государстве и зверином национализме, будет править миром. И он противопоставил этой грядущей силе свое решительное отрицание государства и национализма. Толстой предчувствовал наступающую эпоху разврата, одичания человеческого. И он противопоставил ей свое полное и безоговорочное отрицание чувственной любви. Он показал, что чувственная любовь таит в себе страшное, зверское, что она всегда идет об руку с жестокостью.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих…. И жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Апокалипсис, 17, 1–5).
«Крейцеровой сонатой» осуждена великая блудница — сексуальная революция, ныне «сидящая на водах многих», от Атлантического океана до Великого, от Рейна до Енисея, от швейцарских озер до Байкала.
И написанное Толстым в «Крейцеровой сонате» поистине написано на века.
И другое произведение, не уступающее по силе «Крейцеровой сонате», — «Смерть Ивана Ильича».
В начале этого этюда мы вспомнили, как Толстой оставил Андрея Болконского в тот момент, когда он перешел порог, отделяющий мертвых от живых, и за ним задернулась роковая завеса. Далее Толстой показывает его глазами живых, глазами княжны Марьи и Наташи. Прошло два десятка лет, и Толстой переступил этот порог. В повести «Смерть Ивана Ильича» он повел нас туда, где не бывал еще никто из живых. Поэтому мы и сказали, что «Смерть Ивана Ильича» — вершина мирового искусства, которая никем не была превзойдена. «Нисходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны. Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?» (Иов, 38, 16–17).
И лишь один Толстой мог при жизни ответить: входил и видел. Как и в «Крейцеровой сонате», Толстой достиг в повести «Смерть Ивана Ильича» полного перевоплощения. Это тем более удивительно, что речь идет о психологическом типе, абсолютно и во всем противоположном Толстому: если страстный, порывистый Позднышев, экстравагантный и эгоцентричный, в чем-то сродни Толстому, то уж с Иваном Ильичом Головиным, посредственным, благопристойным чиновником, у Толстого нет решительно ничего общего.
Службист, светский человек всегда представлял для Толстого решительно враждебный тип. А между тем, когда читаешь о жизни Ивана Ильича, опять-таки трудно поверить, что Толстой здесь пишет не о себе. Сюжет втиснут в рамки быта: все детали жизни среднего чиновника, в общем чуждой не служащему дворянину, помещику графу Толстому, показаны с необыкновенной точностью. Стоит лишь вспомнить о том, как Иван Ильич заботливо устраивает свою квартирку в Москве, стоит лишь перечитать разговоры, которые ведут между собой товарищи Ивана Ильича по Судебной Палате. Можно подумать, что Толстой сам провел всю жизнь в московском суде. Болезнь и предсмертное томление Ивана Ильича даны именно в таком ракурсе, как их должен переживать средний человек. Толстой проводит нас через все стадии предсмертных переживаний Ивана Ильича: борьба за жизнь, отчаяние, слабые попытки зацепиться, подобные движениям мухи, завязшей в клею, раздражение против живых и здоровых, мучительное ощущение окружающей фальши, жалость, щемящая жалость к себе, совершенный мрак, бездна отчаяния… Протяжный крик: «Не хочу-у-у!»
И вдруг свет, сначала неясный, потом все ясней и ясней. Первый проблеск света: «Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. Нравственные его страдания состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя сознательная жизнь была „не то“. И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы все было не то. Он попытался защитить перед собою все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать было нечего.
„А если так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне было дано, и поправить нельзя, то что же?“ Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то. Все это было ужасный, огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть… и за это он ненавидел их» (т. 26, стр. 110–111).
Но в этом отчаянии, в этом беспощадном осуждении своей жизни — первое дуновение Святого Духа, чуть брезжущий свет вдали. Затем причастие — слезы на глазах — кратковременное возвращение к жизни. А потом — опять бездна. «Выражение лица его, когда он проговорил „да“, было ужасно. Проговорив это „да“, глядя прямо жене в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:
— Уйдите, уйдите, оставьте меня! С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слушать его. В эту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и останется сомнением. Уу! У! — кричал он на разные интонации и так продолжал кричать на букву „у“» (там же, стр. 111–112).
И в этом отчаянии — проблеск надежды. Надо сделать усилие, всего лишь одно усилие. Нужен толчок. И толчок пришел. Извне. «Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько подкрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам, заплакал, и в это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же „то“, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его… Жена подошла к нему. Он взглянул на нее… Он указал жене взглядом на сына и сказал: — Уведи… жалко… и тебя… Он хотел сказать еще „прости“, но сказал „пропусти“, и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймет тот, кому надо… „Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль, — спросил он себя. Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?.. Он искал своего прежнего, привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что смерти не было. Вместо смерти был свет“» (стр. 112–113).
Эта страница более убедительна, чем тысячи доказательств бессмертия души. Свет рассеивает тьму. Любовь рассеивает смерть.
Я пишу эти строчки в Люцерне. У открытого окна. На столе, рядом, стоит диктофон. Я изредка отрываюсь от бумаги и говорю в диктофон, и он повторяет звук моего голоса, каждую интонацию, каждый нюанс. И кажется мне, что таким диктофоном является мой мозг, мое тело, мое сознание, я сам. И есть единая реальность — любовь и Бог. «Бог же любы есть» (I Ин.4, 8).
«„Кончено!“ — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. „Кончена смерть, — сказал он себе, — ее нет больше!“ Он втянул в себя воздух и умер» (стр.113).
Повесть «Смерть Ивана Ильича» была написана в 1886 году… Толстому 58 лет. Жизнь пройдена. На пороге смерть. «Про себя я знаю, что я Толстой. Писатель. Лицо некрасивое. А что я знаю про душу? Знаю одно: она хочет к Богу», — сказал однажды Толстой. (Гольденвейзер, «Вблизи Толстого»).
Веяла смерть. А вдали брезжил свет. Встреча со светом.
О смерти Толстого писали много; верно, будут писать еще и еще.
Вопреки всему, что говорят, смерть Толстого прекрасна. Ключ к ней — его самые последние слова: «Искать, все время искать!»
«Ищите Царствия Божия и правды Его и все приложится вам» (Мф.6, 33).
«Сережа! Истина… Я люблю много…» (Александра Толстая, «Отец», Жизнь Льва Толстого, Нью-Йорк, 1953 г., т. 2, стр. 404–405).
Он стремился к истине с самых первых дней своей жизни, когда вместе с братом Колей они искали в Ясной Поляне зеленую палочку, которая сделает всех людей счастливыми, — и до самых последних моментов, — и умер в пути, в поисках истины.
И еще одно высказывание о Толстом хочется вспомнить, слова, сказанные его сестрой, монахиней Марией Николаевной: «Брат заблудился. Но разве Бог не видел его искания, его муку, его искренность…» (М. В. Лодыженский, «Свет незримый», Петроград, 1915 г., стр. 304; фототипическое переиздание Ихфис, 1971 г.).
Он заблудился, как заблудились и его оппоненты — и церковники, и революционеры, — как заблудился весь мир.
Но и нашел — нашел и нам открыл любовь, справедливость, и хотя не всю и не во всем, но все же истину.
Я включил главу о Льве Толстом в мои воспоминания. И не мог поступить иначе. Толстой органически входит в мою биографию: без него я не был бы собой. И сколько людей во всем мире могут это сказать. И сколько людей во всем мире это ещё скажут. Ленин говорил о Толстом как о «великом художнике, срывающем все и всяческие маски», и сам не понимал, насколько он был прав. Толстой действительно срывает «все и всяческие маски», в том числе и ту, которую создал Ленин, маску «общественного блага», за которой так охотно прячет советский строй лицо зверя.
И значение Толстого будет являться ясней и ясней по мере того, как насилие будет уходить из мира и человек будет «выдавливать из себя капля-по-капле раба». И становиться человеком.
Когда мне было 10 лет, я не сумел бы все это сформулировать, но чувствовал уже тогда.
Всю жизнь я тянулся к Христу, к церкви, к таинствам, обрядам. И в то же время я отчетливо знал, что во властях, в государстве, в национализме, в идолах, придуманных людьми, нет и не может быть правды. И потому тянулся не только к В. С. Соловьеву, но и к Толстому.
Под их обаянием я остался на всю жизнь.