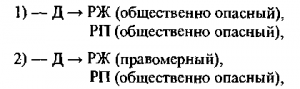
Редакционная коллегия серии «Теория и практика уголовного права и уголовного процесса»
Р. М. Асланов (отв. ред.), А. И. Бойцов (отв. ред.), Б. В. Волженкин, Ю. Н. Волков, Л. Н. Вишневская, А. В. Гнетов, Ю. В. Голик, И. Э. Звечаровский, В. С. Комиссаров, А. И. Коробеев, Н. И. Мацнев (отв. ред.), С. Ф. Милюков, М. Г. Миненок, А. Н. Попов, М. Н. Становский, А. П. Стуканов, А. В. Федоров, А. А. Эксархопуло
Рецензенты:
Н. И. Мацнев, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права СПбГУ
Н. А. Беляев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права СПбГУ
Вы открыли книгу, входящую в серию работ, объединенных общим названием «Теория и практика уголовного права и уголовного процесса».
Современный этап развития уголовного и уголовно–процессуального законодательства напрямую связан с происходящими в России экономическими и политическими преобразованиями, которые определили необходимость коренного реформирования правовой системы. Действуют новые Уголовный и Уголовно–исполнительный кодексы, с 1 июля 2002 г. вступил в силу Уголовно–процессуальный кодекс РФ.
В этих законах отражена новая система приоритетов, ценностей и понятий, нуждающихся в осмыслении. Появившиеся в последнее время комментарии и учебники по данной тематике при всей их важности для учебного процесса достаточно поверхностны. Стремление познакомить читателя с более широким спектром проблем, с которыми сталкиваются как теоретики, так и практики, и породило замысел на более глубоком уровне осветить современное состояние отраслей криминального цикла. Этой цели и служит предлагаемая серия работ, посвященных актуальным проблемам уголовного права, уголовно–исполнительного права, криминология, уголовного процесса и криминалистики.
У истоков создания настоящей серии книг стояли преподаватели юридического факультета Санкт–Петербургского государственного университета. Впоследствии к ним присоединились ученые Санкт–Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт–Петербургского университета МВД и других вузов России, а также ряд известных криминалистов, обладающих большим опытом научных исследований в области уголовного права, уголовно–исполнительного права, криминологии, уголовного процесса и криминалистики.
В создании серии принимают участие и юристы, сочетающие работу в правоохранительных органах, других сферах юридической практики с научной деятельностью и обладающие не только богатым опытом применения законодательства но и способностями к научной интерпретации результатов практической деятельности.
С учетом указанных требований формировалась и редакционная коллегия, которая принимает решение о публикации.
Предлагаемая серия основывается на действующем российском законодательстве о противодействии преступности и практике его применения с учетом текущих изменений и перспектив развития. В необходимых случаях авторы обращаются к опыту зарубежного законотворчества и практике борьбы с преступностью, с тем, чтобы представить отечественную систему в соотношении с иными правовыми системами и международным правом.
Подтверждением тому служат следующие вышедшие из печати работы Б. В. Волженкина «Экономические преступления», В. И. Михайлова и А. В. Федорова «Таможенные преступления», Е. В. Топильской «Организованная преступность», М. Н. Становского «Назначение наказания», В. Б. Малинина «Причинная связь в уголовном праве», Д. В. Ривмана и В. С. Устинова «Виктимология», В. М Волженкиной «Нормы международного права в российском уголовном процессе», Р. Д. Шарапова «Физическое насилие в уголовном праве», М. Г. Миненка и ДМ. Миненка «Корысть. Криминологические и уголовно–правовые проблемы», С. Д. Шестаковой «Состязательность в уголовном процессе», И. Ю. Михалева «Криминальное банкротство», Г. В. Овчинниковой, М. Ю. Павлика, О. Н. Коршуновой «Захват заложника», А. Н. Попова «Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах», О. В. Старкова и С. Ф. Милюкова «Наказание: уголовно–правовой и кримино–пенологический анализ», А. Л. Протопопова «Расследование сексуальных убийств», С. А. Алтухова «Преступления сотрудников милиции», В. Г. Павлова «Субъект преступления», Ю. Е. Пудовочкина «Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву», И. М. Тяжковой «Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности», В. М. Борисенко, К. И. Егорова, Г. Н. Исаева, A. В. Сапсая «Преступления против воинской службы», А. А. Майорова, B. Б. Малинина «Наркотики: преступность и преступления», Г. В. Назаренко «Невменяемость: уголовно–релевантные психические состояния», Б. В. Волженкина «Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления)» 2‑е изд., дополненное и расширенное, А. А. Струковой «Невозврсацение из–за границы средств в иностранной валюте: уголовно–правовая характеристика», С. С. Тихоновой «Прижизненное и посмертное донорство в РФ: вопросы уголовно–правового регулирования», А. В. Мадьяровой «Разъяснения Верховного Суда РФ в механизме уголовно–правового регулирования», Прохоровой М. Л. «Наркотизм: уголовно–правовая характеристика» в которых анализируются современные проблемы борьбы с преступностью.
Надеемся, что найдем в Вас взыскательного читателя, если Ваша принадлежность к юридико–образовательной или правоприменительной деятельности вызовет интерес к этой серии книг.
Редакционная коллегия
Июль 2002 г.
Введение
Понятийный аппарат в праве довольно часто страдает неоднозначностью толкования, что позволяет говорить о тех или иных понятиях «с одной стороны и с другой стороны», понимать их в широком и узком смыслах. «Оценочные признаки — достаточно сложное и противоречивое явление в праве. С одной стороны, целый ряд положительных качеств делает их очень “удобными” для законодателя, поскольку своей компактной формой они позволяют придать закону необходимые свойства (полноту, гибкость, динамизм), с другой же стороны, привнося в правоприменительный процесс известную неопределенность, затрудняют соблюдение основополагающих принципов при отправлении правосудия (законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности и др.)»[1]. Именно в силу того, что они «удобны» для законодателя, от оценочных категорий в праве никогда, вероятно, избавиться не удастся, хотя практическое применение таких понятий всегда чревато нарушениями справедливости и законности, а их теоретический анализ только с той или с другой стороны представляется нередко однобоким и подчас скрывает многие важные вопросы.
С подобным мы сталкиваемся при так называемых стадиях совершения преступления, которые вот уже более столетия имеют двойной смысл. До сих пор вопрос о жестком выделении каждой из них пока не разрешен только потому, что практика в целом верно понимает эти стадии и полное рассмотрение вопроса представляется теоретикам спором о терминах. И почти никого не беспокоит тот факт, что абсолютное большинство работ, посвященных стадиям, невозможно читать без осмысления того, на какой смысл (узкий или широкий) рассчитано то или иное положение, когда вывод автора в одном толковании понятия представляется абсурдным, зато в другом — вполне приемлемым. Особенно настораживает в этом плане то, что в УК РФ 1996 г. законодатель выделил главу 6, в которой регламентирует неоконченное преступление с его видами — приготовлением и покушением, а теоретики уголовного права с завидным упорством продолжают относить указанные виды неоконченного преступления к стадиям совершения преступления[2], основательно затрудняя их понимание. Естественно, настоящая наука и положительная практика не должны иметь ничего общего с таким положением вещей.
Серьезной попыткой размежевать широкий и узкий смыслы стадий совершения преступления явилась работа Н. Ф. Кузнецовой[3]. Однако удивительно, что именно она, будучи одним из авторов указанного выше учебника, называет приготовление и покушение стадиями, не видя в смешении терминологии ничего из ряда вон выходящего. Наше исследование — логическое продолжение указанной работы, где жестко разделяются стадии совершения преступления и неоконченное преступление, возможности их наличия в умышленных и неосторожных преступлениях, их специфики в продолжаемых и длящихся преступлениях, при действии и бездействии и т. д. В этом исследовании автор столкнулся с некоторыми сопутствующими проблемами (характером и количеством объективных связей между деянием и преступным результатом; опосредованного причинения, критериев определения начала исполнения преступления и т. д.) и попытался их разрешить.
И последнее. Автор является противником состава преступления как юридической категории[4], но использует данный термин в работе по двум причинам: 1) его широко используют другие авторы и из их контекста термин выбросить нельзя и 2) чтобы каждый раз не вступать с другими авторами в дискуссию по данному поводу.
Раздел I
Стадии совершения преступления в уголовном праве
Глава 1
Разграничение стадий и неоконченного преступления
Первый вопрос, который возникает при рассмотрении стадий совершения преступления, — нужны ли они, есть ли смысл выделять их. Данный вопрос особо в теории уголовного права не рассматривается, обычно авторы исходят из аксиомы, что не всегда преступления завершаются результатом, требуемым законом для оконченного преступления. Одним из немногих авторов, которые очень глубоко исследовали данную проблему, является А. Н. Круглевский[5], который в итоге пришел к выводу о необходимости разделения приготовительных действий и покушения и обстоятельно проанализировал эти две формы «предварительной преступной деятельности»[6]. В новейшее время предпринята еще одна попытка рассмотреть стадии на концептуальном уровне: «При этом в решении данных проблем (наказуемости неоконченного преступления, критериев разграничения отдельных стадий, негодного покушения, окончания преступления и т. д. — А. К.) представителями дореволюционной, советской и постсоветской школ уголовного права сформулированы положения нередко противоположного содержания и уголовно–политического значения, что позволяет выделить ряд вопросов института стадий (неоконченного преступления) (курсив наш. — А. К.), решение которых возможно только на концептуальном уровне»[7]. Можно согласиться с тем, что здесь существует множество проблем, что нет единства взглядов по тем или иным вопросам, что все это нужно решать на концептуальном уровне. Однако сразу же возникает сомнение в возможности такового, поскольку автор отождествила стадии и неоконченное преступление. Не исключено, что Т. Г. Понятовская не читала работу вашего покорного слуги[8], изданную малым тиражом. Но она явно знакома с вышеприведенной книгой Н. Ф. Кузнецовой, поскольку ссылка на нее в цитируемой работе имеется, в которой жестко, однозначно и верно разведены стадии и неоконченное преступление. У Т. Г. Понятовской об этом не сказано ни слова. Автор не заметила того, что концепция Н. Ф. Кузнецовой была закреплена (и справедливо) в новом УК РФ. В результате такого недосмотра сами концептуальные основы, которые отождествляют, а не разграничивают стадии и неоконченное преступление, едва ли могут оказаться в действительности полезными.
Тем не менее попытаемся понять, в чем же состоит «концептуальная обусловленность содержания института неоконченного преступления». Прежде всего, автор опирается на небесспорное положение о том, что уголовное право Российской империи исходило из концепции естественного права[9], тогда как советское право носило репрессивный характер[10]. Интересно, исходя из чего Т. Г. Понятовская сделала вывод о естественном праве применительно к праву дореволюционной России. Ведь достаточно посмотреть Уголовный кодекс Франции 1810 г., рожденный естественным правом, господствовавшим тогда во Франции, и сравнить его со всеми законами дореволюционной России, как флёр естественного права соответственно спадет с тоги российского уголовного права. В УК Франции нет защиты веры от посягательств на нее, зато есть защита публичного порядка от посягательств на него служителей культа (отделение третье главы третьей Особенной части УК). Кодекс в основном посвящен защите государства, общественного спокойствия и прав личности. Все российские уголовные законы (их Особенная часть) начинаются с преступлений против веры (ст. 35, 36 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.; раздел второй Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.; глава вторая Уголовного Уложения 1903 г.), хотя также защищают государство, общественной спокойствие и в меньшей степени интересы личности. Только в Манифесте об усовершенствовании Государственного порядка 17 октября 1906 г. под давлением революционных настроений было указано: «П. 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Вот только когда появились в Российской империи зародыши естественного права. При этом просим обратить внимание на термин «даровать» — о каком естественном праве может идти речь в условиях, когда те или иные свободы и права дарованы сюзереном? Кроме того, Т. Г. Понятовская либо не обращала внимания, либо не желала обращать внимание на извечную форму изложения воли монарха в России; в качестве примера привожу Именной Высочайший Указ 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка»: «По священным заветам Венценосных Предков Наших, непрестанно помышляя о благе вверенной Нам Богом Державы, Мы…». Фактически до конца своего существования Российская империя опиралась на божественное происхождение государства и власти, о чем цивилизованные страны не упоминали уже в течение столетия (начиная с XVIII в.). Так что естественное право применено к Российской империи явно не по адресу. И поскольку вся теория концепции уголовного права построена автором именно на указанном противостоянии русского «естественного» права и советского репрессивного, то указанная попытка автора представляется явно необоснованной, а все выводы — несостоятельными.
Действительно, советское право в целом было репрессивно. Но, во–первых, из таких же репрессий, густо замешанных на Гражданской войне и в последующем на массовых казнях бывших сторонников (достаточно вспомнить уничтожение якобинцев, а затем и жирондистов), возникло и естественное право Франции (ничем не отличаются баржи, затопленные в Сене и, если не ошибаюсь, возле Дувра с аристократами и другими сторонниками монархии в конце XVIII в., от барж, затопленных в Волге и у Архангельска с аристократами и другими сторонниками монархии в начале XX в.). Другое дело, что Наполеону удалось довольно быстро (в течение 10–15 лет) перевести гражданскую войну в общеевропейскую, заняв тем самым умы французов и обратив агрессивные устремления в другом направлении; Сталину же более длительное время этого сделать не удавалось и он «вынужден» был искать врагов внутри государства даже после окончания Второй мировой войны. Во–вторых, как правило, нет никакой связи между уголовным правом и репрессиями; уголовные кодексы не закрепляют репрессий (исключением, едва ли не единственным, являются Чрезвычайные законы Германии 30‑х годов XX в. с закрепленным в них геноцидом), они отражают лишь наказания, которые являются примерно одинаковыми по тяжести и во Франции, и в США, и в России. Репрессивный характер права обычно переносится на уголовный процесс, например, закрепление расправ без суда и следствия («тройки», особые совещания, запрещение адвокатов по отдельным делам, «эскадроны смерти» и т. п.). Попытка Т. Г. Понятовской перенести дискуссию о репрессивном характере уголовного права в русло спора об общественной опасности, на наш взгляд, является деструктивной, но об этом ниже.
Вообще у Т. Г. Понятовской довольно странное отношение к праву и государству: «Решение этого вопроса (“подвластно ли опасное лицо человеческой юстиции или нет”. — А. К.) имело концептуальное значение, служило воплощению уголовно–правовой идеи об ограничении репрессивной власти государства правом»[11]. Вне всякого сомнения, красиво сказано — право ограничивает репрессивную сущность государства, но такое в принципе невозможно, поскольку любое государство в лице его властных органов создает право под себя, под свои представления об обществе, его нуждах, его сущности; как только право начнет вмешиваться в государственные дела, так сразу либо изменяется государство, оно перестает быть тем, чем было ранее, либо старается изменить право в целях сохранения себя. История пока знает второй вариант исхода противостояния государства и права. И никакие силы не способны изменить данной сущности государства — стремления к самосохранению. Захотелось государству в США запретить употребление спиртных напитков — и оно внесло в Конституцию поправку в виде «сухого закона». Но не прошел данный закон проверки жизнью — отменили соответствующую поправку к Конституции. Однако это были изменения в праве, которые в общем не изменяли сущности государства, его репрессивного характера. Но пусть право попробует вторгнуться в репрессивную сущность данного государства; любопытно посмотреть, что от него останется.
На этом фоне Т. Г. Понятовская предпринимает еще одну попытку разграничить отношение к стадиям в русском и советском праве. Она считает, что при оформлении стадий «классическая Российская уголовно–правовая доктрина избрала объективное направление, а советская — субъективное»[12]. При этом в объективном направлении превалируют формальные признаки, само преступление, а вторичным является личность, в субъективном направлении превалирует личность преступника, тогда как деяние, преступление остается на втором уровне[13]. Идея не нова, еще А. Н. Круглевский анализировал субъективные и объективные подходы при установлении правовой сущности покушения и признал их несостоятельными[14]. Полагаем, что Т. Г. Понятовская не права и в следующем. Она пишет о весьма редких случаях «фактической наказуемости приготовительных действий» в советском праве[15]. Если бы в советском праве превалировала личность преступника, субъективное направление, такое в принципе не было бы возможно, поскольку при приготовлении, как и при покушении, личность преступника устремлена к совершению преступления, и только внешние обстоятельства не позволяют ей довести преступление до конца. Только объективно меньшая вредоносность приготовления позволяла и в советское время уменьшать или даже исключать наказуемость приготовления, но никак не опора на личность преступника. Представляется вообще непонятным деление на объективное и субъективное направление применительно к учету стадий совершения преступления. Так, Н. С. Таганцев писал: «Рассматривая различные ступени, которые проходит в своем развитии преступная деятельность, мы можем свести их к трем категориям: воля обнаруженная, но не начавшая осуществляться; воля осуществляющаяся или покушение, и воля осуществившаяся или оконченное преступление»[16]. К воле обнаруженной автор относил, кроме всего прочего (мнимых преступлений, признаков умысла), приготовление[17]. Чего здесь больше — объективного или субъективного? Автор опирался на то и другое, однако при дифференциации видов неоконченного преступления («ступеней развития преступной деятельности») отдавал все–таки предпочтение субъективным моментам (воле). Учитывая, что Н. С. Таганцев оставался одним из влиятельнейших фигур в теории уголовного права царской России, можно вполне обоснованно сказать, что теория уголовного права тогда избирала не объективное, а субъективное направление. Очень похоже на то, что Т. Г. Понятовская стремится вывести социальную сущность стадий (неоконченного преступления) через уяснение противостояния русского и советского уголовного права, при этом русское право выступает в качестве эталона, который автор лишь изредка мягко журит, советское же уголовное право представлено в качестве монстра, не годящегося в принципе. Мы не готовы идеализировать ни русское, ни советское уголовное право, поскольку первое также далеко было от естественного права, как и второе. Именно поэтому, на наш взгляд, они соотносятся как более и менее древнее; все–таки хотим мы того или нет, но зачаточное состояние науки русского уголовного права конца XIX — начала XX в. и соответствующее ему законодательство получили свое естественное (хотя иногда — и неестественное, особенно в первые революционные годы) развитие в советском уголовном праве, которое многие законодательные формулировки, саму структуру уголовного права сделало более четким и ясным. Отсюда более продуктивным является не противопоставление советского и русского уголовного права, а их анализ в развитии. На этом фоне социальная и правовая сущность неоконченного преступления заключается лишь в том, что оно в той или иной степени отдалено по своим объективным и субъективным свойствам от возможного оконченного преступления.
В уголовном праве стадии совершения преступления традиционно связаны с возникновением умысла, обнаружением его, приготовлением к преступлению, покушением на преступление и оконченным преступлением. Подобный взгляд на стадии совершения преступления сложился в России довольно давно. Позднее самый широкий объем стадий совершения преступления предлагал А. А. Герцензон, который относил к ним возникновение умысла (намерение), подготовку преступного деяния, само преступное деяние и результат[18]. К этой точке зрения присоединились и другие авторы[19]. Однако критическое отношение к возможности признания той или иной стадии криминально значимой привело сокращению элементов, составляющих традиционно понимаемые стадии совершения преступления: к ним относили обнаружение умысла, приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление[20]; приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление[21]; а некоторые теоретики, отбрасывая и оконченное преступление, относили к ним только приготовление и покушение[22].
Как видим, разнобой в определении количества стадий совершения преступления весьма широк, но это не насторожило научную общественность; в последние годы работ по данному вопросу написано очень мало, стадии в них рассматриваются, как правило, с традиционных позиций, которые не привели к единому решению существующих проблем. Подобное происходит, по–видимому, потому, что при анализе стадий авторы имеют в виду различные явления.
Одним из первых, кто обратил на указанное внимание, был А. Чебышев–Дмитриев, который писал: «Под общим именем вопроса о покушении разбирается обыкновенно в науке уголовного права вопрос не только о покушении в собственном смысле этого слова, но и вообще о степенях осуществления преступного умысла»[23]. Приведенная робкая попытка разграничить стадии совершения преступления (степени осуществления преступного умысла) с покушением была довольно четко, на наш взгляд, закреплена. Так, согласно позиции А. Н. Орлова «преступник может быть прерван при начале, в середине, в каждой, одним словом, стадии своей деятельности (курсив наш. — А. К.), которая без того должна была бы осуществить его преступный замысел»[24]. Об этом же писал и С. В. Познышев: «Со стороны внешней преступление обыкновенно представляет собою более или менее сложную, постепенно развивающуюся деятельность. Как по внутренним, так и по внешним причинам эта деятельность может остановиться на той или иной ступени своего развития (курсив наш. — А. К.)»[25].
В приведенных высказываниях отчетливо выделены два явления: постепенное развитие преступной деятельности до ее логического завершения и прерывание данной деятельности на каком–то этапе. Позднее на указанное прямо обращает внимание Н. Д. Дурманов: «Термин «стадии совершения преступления» нередко употребляется в двояком значении: 1) для определения тех этапов, которые проходят оконченные преступления, 2) для определения особенностей ответственности за преступное деяние в зависимости от этапа, на котором было прекращено совершение преступления»[26]. Достаточно четко разделила стадии совершения преступления и виды неоконченной преступной деятельности Н. Ф. Кузнецова, выделив подготовительные действия и исполнение преступления (стадии) и приготовление с покушением (виды неоконченной преступной деятельности)[27]. И хотя на протяжении всей своей работы Н. Ф. Кузнецова строго выдерживает принятое ею деление на стадии совершения преступления и виды неоконченного преступления, тем не менее и она не смогла выйти за рамки традиционно сложившейся жесткой связи между стадиями и прерыванием преступления на одной из них и формулировала стадии совершения преступления, так или иначе соответствующие видам неоконченной преступной деятельности (подготовительные действия и приготовление, исполнение преступления и покушение)[28], а в последнее время, как указано выше, старается сгладить различия между ними. В подобном подходе содержится несколько ошибок: во–первых, количество стадий совершения преступления значительно шире, нежели количество видов неоконченного преступления; во–вторых, исполнение преступления не является чем–то единым; и теоретически, и практически в нем можно выделить деяние и последствие; в-третьих, стадий и неоконченное преступление — все же различные уголовно–правовые явления.
В настоящее время позицию Н. Ф. Кузнецовой поддерживает М. П. Редин, который разграничивает стадии и неоконченное преступление. При этом он говорит о «стадиях осуществления преступного намерения» и ими признает два этапа: подготовки к преступлению и совершения преступления[29]. Что касается самого наименования стадий, оно не ново и в литературе уже было использовано[30]. Но Н. С. Таганцев употребил данный термин лишь вслед за самим законом, который он комментировал и в котором шла речь о преднамеренности (ст. 10 Уложения о наказаниях…). Однако в Уголовном Уложении 1903 г. законодатель не давал определения оконченного преступления и, толкуя закон, Н. С. Таганцев уже данного термина не употребляет, говоря об осуществлении преступной воли вовне[31]. Тем не менее М. П. Редин старается вновь ввести анализируемый термин в научный и законодательный оборот. Благодаря такому изменению наименования стадий, автор, во–первых, вроде бы ушел от стадий совершения преступления и, во–вторых, ограничил совершение преступления выполнением объективной стороны вида преступления. Несмотря на кажущуюся новизну, на самом деле и теория уголовного права, и уголовный закон идут именно по этому пути (именно отсюда приготовление к преступлению, покушение на совершение преступления), который нам представляется абсолютно порочным. Прежде всего, такое решение создает опасную иллюзию того, что на стадии «подготовки к преступлению» преступление еще не совершается; логичный вывод из этого — прерывание деятельности на данной стадии (приготовление) также преступлением не является, поскольку сама деятельность не признается преступлением, а уж неоконченная — тем более. Но сам автор относит приготовление к видам неоконченного преступления и не исключает его наказуемости. И тогда возникает вопрос, если преступление еще не совершается, нет еще преступления, на каком основании за ту или иную деятельность следует наказание? Подобное противоречит в целом основам уголовного права, поскольку нет наказания без преступления. Поэтому хочет того автор или нет, но он просто обязан признать приготовление специфическим видом преступления, каким–то частичным совершением преступления, из чего всегда и исходило уголовное право. И только в таком случае становится естественной уголовная ответственность за него.
М. П. Редин и сам это отлично понимает, поскольку указывает, что «положительное понятие “преступление оконченное” (оставим на совести автора само представление об оконченном преступлении как положительном понятии. — А. К.) и отрицательное понятие “преступление неоконченное (приготовление к преступлению, покушение на преступление)” исчерпывают весь объем родового понятия “преступление”: любое преступление является либо оконченным, либо неоконченным (приготовлением к преступлению или покушением на преступление)»[32]. Из этого следует единственный вывод: и приготовление, и покушение в отдельности являются преступлением. Отсюда стадия, на которой деятельность прерывается (то ли создание условий, то ли исполнение преступления), не может не быть совершением преступления. Так ради чего запущена карусель с выделением совершения преступления за пределы подготовки преступления, с непризнанием последней совершением преступления?
Вместе с тем предложенное выделение подготовки за пределы совершения преступления создаст определенные преграды для формулирования самостоятельных видов преступления, составляющих именно данную стадию (например, ношение или хранение оружия, создание банды и т. д.), поскольку их нельзя признать преступлением в связи с непреступностью самой стадии, что едва ли окажется приемлемым на фоне постоянной борьбы государства с незаконным обращением с оружием и организованной преступностью.
Кроме того, едва ли следует признавать позитивным использование фразы «преступные намерения». Уголовное право не знает такой категории, как «намерение»; в нем есть место «вине», «мотиву», «цели», «субъективной стороне», но «намерение» там отсутствует. Положительным во всем этом является лишь то, что автор признал субъективную категорию как нечто предшествующее реальным действиям, однако и это позитивное он свел на нет, поскольку выбросил из структуры стадий все, что связано с возникновением и обнаружением умысла. В результате он оставил субъективную сторону в подвешенном состоянии, не определив ее место в динамике преступления, а именно это рассматривается стадиями совершения преступления, оставив субъективную сторону за пределами преступления. Из всего сказанного следует, что «новеллы», предложенные М. П. Рединым, не могут быть приняты, поскольку попытаться разрушить традиционное представление о стадиях можно, а вот создать отдельную новую теорию, которая бы заменила ее с новой стыковкой всех ее элементов нельзя, так как традиционная теория выверена в целом веками, суть стадий определена максимально точно — это стадии совершения преступления, это этапы развития преступления — предмета уголовного права, помимо которого в уголовном праве ничего нет в качестве криминально значимого поведения — во времени и пространстве.
Таким образом, следует признать, что однозначное понимание стадий совершения преступления, разделение стадий и неоконченной преступной деятельности — факт в теории уголовного права устоявшийся и едва ли может быть подвергнут сомнению. Однако если неоконченная преступная деятельность, ее отчетливо выраженное практическое значение постоянно исследуются в уголовном праве, то стадии остались в тени из–за их якобы незначительного практического влияния[33], хотя с ними, и только с ними связана неоконченная преступная деятельность со всеми сопутствующими институтами. И не только она, поскольку весь институт соучастия построен именно на разделении деятельности на двух стадиях — создания условий и исполнения преступления. Зависят от рассмотрения стадий и завершения преступления институты укрывательства и деятельного раскаяния и т. д. Поэтому говорить о незначительности стадий в уголовном праве едва ли следует.
Несколько ранее при сохранении в целом традиционного понимания стадий Л. М. Колодкин предпринял еще одну попытку разделить стадии деятельности, направленной на достижение преступного результата (формирование умысла, приготовление, покушение, оконченное преступление, завершение преступной деятельности), и стадии преступления (приготовление, покушение и оконченное преступление)[34]. Оставим пока в стороне терминологическую путаницу, свойственную данному высказыванию, и обратим внимание на главное достоинство позиции автора, которое заключается в стремлении размежевать стадии совершения преступления и прерванную деятельность. К сожалению, в основной массе работ проблемы дифференциации стадий и неоконченного преступления остаются без должного внимания и развития.
Так ли безразлично для уголовного права раздельное рассмотрение тех этапов, которые проходят преступления? В работах, связанных с квалификацией преступления, авторы вынужденно исследуют два варианта квалификации: для оконченного преступления и неоконченной преступной деятельности[35]. При этом, считая, что выделение отдельных стадий не имеет практического значения[36], они тем не менее дифференцируют в рамках оконченного преступления отдельные его этапы, терминологически оформляя их так же, как и виды неоконченной преступной деятельности[37]. Если этапы оконченной преступной деятельности не имеют практического значения, зачем говорить о них, теоретически их вычленять? По–видимому, определенная необходимость этого имеется.
Очевидным для всех специалистов является то, что стадии совершения преступления представляют собой поступательное, непрерывное развитие преступной деятельности во времени и пространстве. Именно этот смысл заложен даже в традиционном понимании стадий совершения преступления, однако только заложен, но не реализован до конца. Не менее явно и то, что определенный этап развития оконченного преступления (например, этап подготовки преступления) имеет объективно большую общественную опасность по сравнению с неоконченным преступлением соответствующего характера (приготовлением); поскольку за указанным этапом следует логическое завершение преступления, он с необходимостью вызывает наступление общественно опасных последствий, чего нет при неоконченной преступной деятельности. Необходимость сопоставления — лишь одно из многого, что объективно требует вычленения отдельных этапов оконченного преступления.
Попытаемся углубить изучение проблемы анализом отдельных этапов. Как уже указывалось, в теории нет однозначного мнения по поводу значимости стадий возникновения (формирования) умысла и обнаружения его. Одни считают их криминально значимыми и выделяют в качестве стадий совершения преступления[38]. Другие же, напротив, не относят их к числу криминально значимых явлений: «Процесс создания преступного умысла, обдумывание способов и путей его реализации есть внутренний процесс, протекающий в психике лица. О нем не знают окружающие до тех пор, пока он не выявился вовне. Создание преступного умысла не может рассматриваться как стадия в развитии преступной деятельности»[39]. Кто из них прав? В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, в которой оказываются истинными выводы и тех, и других в какой–то части, несмотря на их кажущуюся противоречивость.
При исследовании этапов оконченного преступления мы с необходимостью приходим к решению о максимальной значимости для уголовного права и возникновения, и (тем более) обнаружения умысла, которые достаточно полно помогают раскрыть сущность преступления в динамике, степень его общественной опасности. Совсем другое решение возникает тогда, когда мы имеем дело с прерыванием деятельности преступника на стадии возникновения умысла или его обнаружения. Как правильно указывается в литературе, не должно быть ответственности только за мысли человека, если они не проявились в конкретном деянии. В связи с этим прерванная на стадии возникновения или обнаружения умысла деятельность сознания не имеет самостоятельного уголовно–правового значения.
Таким образом, при раздельном рассмотрении этапов развития оконченного преступления и разновидностей неоконченной преступной деятельности сам по себе исчезает дискуссионный вопрос, теория становится яснее и определеннее.
При анализе приготовления к преступлению возникают не меньшие сложности. Согласно (ст. 15 УК РСФСР 1960 г. «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для совершения преступления». В какой–то степени схоже регламентировалось приготовление и в законодательстве России конца XIX в. Так, согласно (ст. 8 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. «Приискание или приобретение средств для совершения преступления признается лишь приготовлением к нему». Схоже определяет приготовление и законодательство других стран. Например, согласно § 1 ст. 16 УК Республики Польша «приготовление имеет место только тогда, когда лицо с целью совершения запрещенного деяния предпринимает деятельность по созданию условий для совершения деяния, непосредственно направленного на его исполнение, в особенности, если с той же целью вступает в сговор с другим лицом, приобретает или подготавливает средства, собирает информацию или составляет план действий»[40]. Во многих странах приготовление как преступление вообще отсутствует в законе (например, в УК Франции, в УК ФРГ), хотя конструкция некоторых из них позволяет привлекать за покушение лиц, фактически совершивших приготовление[41].
Тождественность всех приведенных и других определений приготовления мы видим в том, что все они рассматривают его как стадию совершения преступления, как этап поступательного развития преступления и ничего не говорят о неоконченной преступной деятельности. Лишь в ч. 2 ст. 50 Уголовного Уложения 1903 г. предусмотрена наказуемость приготовления как неоконченной преступной деятельности.
В судебной практике приготовление всегда рассматривается в качестве разновидности неоконченного преступления. Например, в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 26 января 1972 г. по делу Л. М. Тимохина и других констатируется, что «прибытие Тимохина к месту совершения преступления с целью изнасилования З. не может рассматриваться как обнаружение умысла, не влекущее уголовной ответственности. Эти действия были направлены на обеспечение возможности совершения изнасилования З., и поэтому их следует расценивать как приготовление к изнасилованию»[42]. Из данного определения следует, что задержание Тимохина в момент его прибытия к месту совершения преступления квалифицируется как приготовление. Однако особый интерес вызывает указанное определение в связи с тем, что в нем существенное внимание уделяется установлению стадии развития преступной деятельности, на которой преступная деятельность прерывается (Верховный Суд указывает: нет обнаружения умысла, имеется конкретная деятельность иного рода — другая стадия, которую следует расценивать как приготовление). Вот та практическая значимость стадий совершения преступления, благодаря которой мы находим криминальную значимость прерванного преступления.
В теории уголовного права приготовление к преступлению также рассматривается фактически в качестве разновидности неоконченной преступной деятельности.
Возникает обоснованный вопрос: не было ли противоречия между законодательной формулировкой приготовления в УК РСФСР 1960 г. и его пониманием судебной практикой и теорией? Думается, что такое противоречие имелось, и оно весьма существенно.
Противоречие заключалось в игнорировании законодателем различия между стадиями развития преступления и неоконченной преступной деятельностью, которое базируется на самостоятельных правовых основаниях наличия каждого этапа совершения преступления и разновидности прерванной преступной деятельности. Если основанием наличия стадии подготовки к совершению преступления (назовем ее стадией создания условий, поскольку это прямо вытекает из определения указанной стадии, данного законом) является соответствующее поведение виновного лица — приискание, приспособление орудий или средств или иное создание условий для совершения преступления, то для неоконченной преступной деятельности в виде приготовления подобного поведения явно недостаточно, а точнее, оно вообще является лишь основанием наличия приготовления как неоконченного преступления — деятельности уголовно наказуемой. Об этом писал Н. Д. Дурманов: «Создание условий при выполнении объективной стороны не может рассматриваться как акт приготовления, так как является частью действий по совершению преступления»[43].
Кроме того, если мы попытаемся определить приготовление в качестве разновидности неоконченного преступления через стадию, на которой деятельность прервана (приготовление — это прерванная на стадии приготовления…), то на традиционном уровне понимания стадий совершения преступления мы столкнемся с тавтологическим определением, что в принципе неприемлемо. Следовательно, и в данном плане (в плане терминологического размежевания стадий совершения преступления и разновидностей неоконченной преступной деятельности) требуется самостоятельный различный подход, в связи с которым предлагаем стадию подготовки преступления назвать стадией создания условий, а разновидность неоконченной преступной деятельности — приготовлением.
Ситуация существенно изменилась в связи с принятием и вступлением в силу Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г., согласно которому приготовление прямо введено в ранг видов неоконченного преступления. Так, в ч. 2 ст. 29 УК РФ «неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению…», а в ч. 1 ст. 30 УК необходимым условием (признаком) приготовления выступает недоведение преступления до конца по причинам, не зависящим от воли виновного, что в принципе должно было снять все проблемы размежевания приготовления с той стадией, на которой деятельность прерывается. Однако и на основе нового УК происходит в теории смешение стадий и неоконченного преступления.
Так, Н. К. Семернева пишет, что новый Уголовный кодекс применяет термины «неоконченное» и «оконченное» преступление». «Соглашаясь с такой законодательной трактовкой понятий, считаем возможным в теоретическом анализе сохранить устоявшийся и достаточно четко характеризующий этапы развития умышленной преступной деятельности термин “стадии”»[44]. Странная позиция — мы соглашаемся с законом, который иначе, нежели господствующая теория уголовного права, понимают некоторые институты, но тем не менее исповедуем старую теорию, с которой не согласны, поскольку согласны с законом. Это что, детское ребячество или серьезное научное отношение? Если мы согласны с законом, необходимо преобразовать теорию применительно к законодательным положениям; если же поддерживаем теорию, противоречащую закону, нужно обосновать свой выбор и доказать необходимость изменения закона. Понятно, что сидение на двух стульях, позиция «и нашим, и вашим», весьма удобны, да вот только к науке они не имеют никакого отношения.
По мнению Э. Ф. Побегайло, «законодатель (ст. 29 УК) различает три стадии реализации умысла виновного на совершение преступления: а) приготовление к преступлению; б) покушение на преступление; в) оконченное преступление»[45]. Здесь высказана абсолютно неприемлемая позиция. Во–первых, законодатель не употребляет в ст. 29 УК термина «стадии», таким образом, автор выдает желаемое за действительное. Во–вторых, закон абсолютно однозначно говорит о неоконченных или оконченных преступлениях. В-третьих, из какого–то необъяснимого упрямства без какой–либо аргументации автор признает неоконченное и оконченное преступление стадиями, даже выделяет сказанное, и это на фоне абсолютной аксиоматичности законодательного решения. Так же считает и Р. И. Михеев: «Новому уголовному законодательству РФ, как и прежнему, известно три стадии совершения умышленного преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление (ст. 29, 30 УК РФ)»[46].
Правда, необходимо отметить, что Н. Ф. Кузнецова по–прежнему остается на своих позициях разделения стадий и неоконченного преступления[47]. Хотя даже она иногда допускает ошибки, сводящие на нет высказанную ею же идею о разграничении стадий и неоконченного преступления. Так, в другом учебнике она пишет: «Иными словами, если лицом вначале совершены приготовительные действия, затем он покушается на жизнь человека и убивает его, он будет привлечен к ответственности за совершенное убийство, которым поглощаются и приготовление, и покушение»[48]. Если лицо совершило убийство, то в таком случае уже невозможны ни приготовление, ни покушение как виды неоконченного преступления, и, соответственно, оконченное убийство будет охватывать собой действия–создание условий и действия–исполнение, но не приготовление и покушение.
Рассмотрим еще позицию. По мнению Б. В. Здравомыслова, «непосредственно из закона вытекает наличие трех стадий совершения преступления: приготовления к преступлению, покушения на преступление и оконченного преступления»[49]. Явление, когда лицо признает красный цвет черным, в медицине называется дальтонизмом. В законе (ст. 29 УК 1996 г.) прежде всего речь идет о классификации преступлений по степени их завершенности и на этом основании выделены оконченное и неоконченное преступления (ч. 1 ст. 29 УК), далее закон выделяет два вида неоконченного преступления — приготовление и покушение (ч. 2 ст. 29 УК). Непонятно, где автор увидел в тексте закона стадии, почему из закона стадии вытекают, почему виды неоконченного преступления и стадии тождественны. Аргументов в пользу подобного у автора нет. Кроме того, критикуя позицию авторов учебников МГУ, которые признают «стадиями преступления исполнение состава преступления и наступление преступных последствий», Б. В. Здравомыслов опирается на закон, поскольку «эта позиция прежде всего не соответствует закону, который не называет таких стадий»[50]. А стадии приготовления и покушения сегодня закон называет? Воистину, закон нам нужен, пока он нам выгоден.
Несколько иначе обстоит дело с покушением на преступление. В ч. 2 ст. 15 УК РСФСР 1960 г. покушением на преступление признавалось «умышленное действие, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного».
Традиционно подобное понимание покушения восходит к русскому праву начала XX в.: «Действие, коим начинается приведение в исполнение преступного деяния, учинения коего желал виновный, не довершенного по обстоятельству, от воли виновного не зависевшему, почитается покушением» (ч. 1 ст. 49 Уголовного Уложения 1903 г.). Похожее определение покушения имеется в уголовных законах других стран. Так, по УК штата Огайо (США) «никому… не дозволено осуществлять поведение, которое, будь оно успешным (доведено до конца), составило или вылилось в посягательство»[51]. Согласно § 1 ст. 13 УК Республики Польша «ответственности за покушение подлежит тот, кто с намерением совершить запрещенное деяние направляет свои действия непосредственно на его выполнение, которое, однако, не доводится до конца». В приведенных определениях покушения общим является то, что законодатель понимает его как неоконченную преступную деятельность, поскольку отражает и стадию совершения преступления (действия, направленные на совершение преступления), и прерывание деяния на данной стадии («преступление не доведено до конца», «будь оно успешным»), и причины прекращения преступной деятельности (не зависят от воли виновного), хотя и не по всем законодательным актам. Например, по УК штата Пенсильвания «лицо совершает покушение, если с намерением совершить преступление оно совершает какое–либо действие, которое способствует совершению данного преступления»[52]. Здесь явно видно, что покушение по определению совпадает с приготовлением в нашем понимании и не рассматривается как неоконченное преступление. Необходимо отметить, что и в некоторых других уголовно–правовых системах на указанное внимания не обращали. Например, согласно п. 22 УК ФРГ «покушается на уголовно наказуемое деяние тот, кто по его представлению о деянии переходит непосредственно к осуществлению состава деяния»[53]. Примерно так же формулировалось покушение и в (ст. 9 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.
Позиция, отраженная в первой группе законодательных актов, представляется более оправданной, поскольку она позволяет четко и недвусмысленно разграничить стадии совершения преступления и виды неоконченного преступления, размежевать этапы развития преступления во времени и пространстве вплоть до его совершения и прерывание преступной деятельности на каком–то из этих этапов.
В качестве неоконченного преступления рассматривает покушение и судебная практика. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. «О судебной практике по делам о хищении государственного и общественного имущества» п. 16 указывает на то, что «если при совершении хищения умысел виновного был направлен на завладение имуществом в значительном, крупном или особо крупном размере и он не был осуществлен по независящим от виновного обстоятельствам, содеянное надлежит квалифицировать как покушение (курсив наш. — А. К.)» на преступление[54]. Такое же понимание покушения мы находим и в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 27 июля 1975 г. «О судебной практике по делам об умышленном убийстве», в п. 5 которого сказано: «Покушение на убийство возможно лишь… когда действия виновного свидетельствовали о том, что он предвидел наступление смерти, желал этого, но смертельный исход не наступил в силу обстоятельств, не зависящих от его воли (курсив наш. — А. К.)»[55]. Указанная формула покушения была отражена и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об умышленных убийствах» от 22 декабря 1992 г.[56]
В то же время, как и в случаях с приготовлением, требуется терминологическое размежевание анализируемой разновидности неоконченного преступления с соответствующими стадиями совершения преступления. Подобное тем более необходимо, что покушение возможно и при частичном, и при полном выполнении деяния, составляющего объективную сторону того или иного вида преступления, и даже при частичном достижении преступного результата. Эта возможность квалификации как покушения деятельности, прерванной на различных этапах развития одной стадии правонарушения, требует самостоятельного терминологического оформления данной стадии.
Традиционное деление покушения на неоконченное и оконченное в указанном плане неприемлемо, поскольку, во–первых, покушение — не стадия развития преступной деятельности, а разновидность неоконченного преступления; во–вторых, само по себе оконченное покушение может иметь место и на этапе полного выполнения деяния без наступления результата, и на этапе частичного достижения результата, т. е. оно не выполняет функций размежеваний двух этих важных и достаточно самостоятельных этапов; в-третьих, стадия совершения преступления, на которой возможно покушение, и собственно покушение, неравнозначны по объему действий, составляющих их.
В связи с изложенным предлагаем не только выделить следующую за созданием условий стадию совершения преступления, проведя четкое ее размежевание с прерванной деятельностью, но и максимально полно разделить данную стадию на те или иные самостоятельные этапы в зависимости от возможности возникновения на них прерванной преступной деятельности и других уголовно–правовых институтов.
Решение о жестком разделении стадий преступной деятельности и видов неоконченного преступления не противоречит теории уголовного права. Ведь зачатки такого понимания стадий и видов неоконченного преступления уже содержатся в высказываниях некоторых ученых: «Понятия приготовления и покушения в ст. 15 Основ и УК означают не сам процесс развития преступной деятельности, предшествующей оконченному преступлению, а такую преступную деятельность, которая была прекращена вопреки воле действующего лица либо во время выполнения действий по созданию условий для совершения преступления, либо во время выполнения действий, непосредственно направленных на совершение преступления (покушение)»[57]. Из данной позиции следует, что коль скоро приготовление и покушение не являются самим процессом развития преступления во времени и пространстве, то они не могут быть и стадиями этого процесса.
Указанный вывод вытекает и из признания условности понятия предварительной преступной деятельности, обобщающего приготовление и покушение[58], хотя применительно и к новому УК некоторые авторы продолжают называть приготовление и покушение предварительной деятельностью: «Первые две стадии — приготовление и покушение — в теории уголовного права принято объединять понятием “предварительная преступная деятельность”. Такое их наименование представляется обоснованным. Они имеют место до окончания преступления, т. е. предваряют его совершение и осуществляются не как самоцель, а для его успешного завершения»[59]. Удивительно и абсолютно алогично видеть за видами прерванной деятельности возможность будущего преступного последствия, ведь в случае наличия приготовления и покушения нет и быть не может предварительной преступной деятельности, поскольку они ничего не предваряют, ничего объективного за ними более не следует и следовать не может в силу прерванности преступления.
Необходимо понять, что предварительность характеризует собой только стадии совершения преступления, когда преступление логично развивается во времени и пространстве и каждый ранний этап предваряет собой более поздний этап, поскольку он и существует для того, чтобы более поздний этап состоялся. И так — до окончания преступления. Но подобному нет места в неоконченном преступлении, поскольку ни за приготовлением (прервано на стадии создания условий), ни за покушением (прервано на стадии исполнения) ничего не следует. Правда, необходимо отметить, что при покушении может иметь место предварительная стадия создания условий, но это именно стадия, а не вид неоконченного преступления — приготовление. Таким образом, стадии характеризуются предварительностью деятельности, к ним анализируемый термин вполне применим, а вот к видам неоконченного преступления его применять нельзя; следовательно, ни приготовление, ни покушение нельзя называть предварительной деятельностью.
К сожалению, даже сторонники жесткого разделения стадий и неоконченного преступления не всегда это понимают. Так, М. П. Редин, с одной стороны, критикует сторонников полного признания приготовления и покушения предварительной деятельностью, с другой — также подвергает критике и позицию В. Д. Иванова, считающего, что «приготовление и покушение не предшествуют преступной деятельности», поскольку они являются самостоятельными преступлениями[60]. Следовательно, его не устраивают две крайние позиции; по его мнению, приготовление — это предварительная деятельность, но покушение таковой не является[61]. Интересно, что предваряет собой приготовление, являющееся, и по мнению М. П. Редина, видом неоконченного преступления? Какая преступная деятельность возникает на основе прерванной на стадии создания условий деятельности? Указанный вывод автор ничем не аргументирует. Подобное решение вопроса было бы приемлемо со стороны тех авторов, которые смешивают стадии и неоконченное преступление, но не в позиции сторонника их жесткого разделения.
Последней стадией совершения преступления традиционно считают оконченное преступление, хотя в литературе уже высказывалось мнение о том, что оконченное преступление не может выступать в качестве стадии совершения преступления[62]. Данную позицию нужно признать вполне уместной и оправданной, поскольку оконченность преступления — это констатация юридического признания завершенности преступления на определенной (опять какой–то) стадии совершения преступления. Ведь закон признает оконченными не только те преступления, которые завершились материализованно выраженным преступным последствием (имущественным или физическим вредом), но и преступления, выраженные в конкретных действиях (бездействии), являющиеся той или иной стадией совершения преступления. Например, бандитизм считается оконченным либо на стадии создания условий (при организации банды и участие в банде), либо на стадии частичного или полного выполнения действия, составляющего объективную сторону определенного вида преступления (при участии в совершаемых бандой нападениях).
Таким образом, признание возможности окончания преступления на различных стадиях совершения его приводит нас к необходимости самостоятельного изучения и стадий совершения преступления, и оконченного преступления как констатации его завершенности, т. е. к признанию относительной самостоятельности анализируемых явлений.
Требование самостоятельного исследования стадий совершения преступления помимо приготовления и покушения как видов неоконченной преступной деятельности вытекает и из анализа некоторых смежных институтов уголовного права. В частности, при исследовании добровольного отказа от доведения преступления до конца мы привыкли к расхожим фразам о возможности добровольного отказа на стадии приготовления и неоконченного покушения и невозможности его на стадии окончательного покушения. Кроме того, в ч. 1 ст. 31 УК 1996 г. законодатель прямо признает добровольным отказом «прекращение лицом приготовления к преступлению». При этом законодателем не замечены противоречия, которые заложены в данных фразах. Ведь разрешая вопрос о возможности или невозможности добровольного отказа при покушении, мы с необходимостью входили и входим в формально–логическое противоречие с законом, поскольку согласно ч. 2 ст. 15 УК РСФСР 1960 г. и ч. 3 ст. 30 УК РФ 1996 г. покушением признавалось и признается прерванная помимо воли лица преступная деятельность, тогда как по ст. 16 УК РСФСР и (ст. 31 УК РФ под добровольным отказом понимается прекращенная по воле лица деятельность. Особенно нелепо выглядит данное противоречие в действующем уголовном законе, поскольку сам же законодатель признает приготовлением прерванную по не зависящим от лица обстоятельствам деятельность (ч. 1 ст. 30 УК РФ 1996 г.) и здесь же в ч. 1 ст. 31 УК считает возможным добровольный отказ при приготовлении. Так возможно ли прекращение преступного поведения по воле лица на стадии, прерванной помимо воли лица деятельности? Даже постановка такого вопроса — нонсенс, не говоря уже о его разрешении. И хотя в теории уголовного права указывалось на выведенное противоречие: «Понятие покушения и добровольного отказа от преступления — это взаимоисключающие друг друга понятия», поскольку различны притоны прекращения преступной деятельности[63]; «…представляется противоречащим законодательному пониманию покушения (ст. 15 Основ) употребление… терминов «добровольное оставленное покушение», «добровольный отказ на стадии покушения»[64], тем не менее теория уголовного права традиционно рассматривает вопрос о соотношении добровольного отказа со стадиями совершения преступления с позиций приготовления и покушения. Как видим, это нашло отражение и в новом УК.
Здесь мы сталкиваемся с попыткой обосновать понимание приготовления и покушения в двух смыслах: как стадий совершения преступления и в качестве видов неоконченной преступной деятельности. Однако такой подход неприемлем ни теоретически, ни практически, так как: а) теряется однозначность понимания того или иного термина, которая так важна и для теории, и для практики; б) указанные явления (стадии совершения преступления и виды неоконченной преступной деятельности) столь существенно отличаются друг от друга правовой природой, что одинаковое терминологическое оформление их представляется необоснованным; в) на примере соотношения добровольного отказа и других правовых институтов с приготовлением и покушением видна приемлемость самой постановки вопроса, в зависимости от того, что мы имеем в виду — стадии или неоконченную преступную деятельность.
Именно поэтому о добровольном отказе от доведения преступления до конца следует говорить лишь применительно к стадиям совершения преступления: созданию условий, частичному совершению деяния–исполнения, полному совершению деяния–исполнения, частичным последствиям, что необходимо требует самостоятельного рассмотрения стадий совершения преступления и их отдельных этапов.
Такой же вывод исходит и из анализа соотношения стадий совершения преступления с некоторыми видами соучастия. Например, в уголовном праве выделено соучастие с предварительным сговором и без такового. Возникновение предварительного сговора тесно связано со стадиями совершения преступления, поскольку оно возможно до начала исполнения преступления, но в качестве их не могут выступать ни приготовление, ни покушение как виды неоконченной преступной деятельности, поскольку не бывает сговора во время прерывания преступной деятельности. Следовательно, для более четкого понимания предварительности сговора также необходимо самостоятельное изучение стадий совершения преступления за рамками приготовления и покушения — разновидностей неоконченного преступления.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что стадии совершения преступления и виды неоконченной преступной деятельности — различные явления, что приготовление и покушение не есть стадии совершения преступления. «Целесообразно различать стадии развития преступной деятельности и виды неоконченного преступления»[65]. Имеется в теории и несколько иное терминологическое определение этих двух институтов уголовного права. Мы уже упоминали, что Л. М. Колодкин предлагает выделять стадии деятельности, направленной на достижение преступного результата, и стадии преступления. Под последними он и понимает виды неоконченной преступной деятельности[66]. Думается, позиция его менее предпочтительна. Во–первых, различные явления определены одним термином «стадии». Непонятно, почему этот термин обозначает и целостную динамическую деятельность, и прерванное поведение. Во–вторых, едва ли можно найти что–либо плодотворное в разграничении деятельности, направленной на достижение преступного результата, и преступления, поскольку та и другая — синонимические понятия.
Именно поэтому нам представляется более обоснованной и приемлемой позиция Н. Ф. Кузнецовой, согласно которой произведено сущностное и терминологическое размежевание непрерывного развития преступления и прерванной преступной деятельностью. В связи с этим требуется дать понятие и определить признаки стадий совершения преступления.
Прежде всего, как правильно было отмечено в теории уголовного права[67], стадии совершения преступления являют собой определенные этапы, составляющие преступление от его начала до логического завершения. Указанные этапы могут быть дифференцированы относительно условно: условность связана с тем, что трудно провести жесткие границы в целостной структуре преступления; относительность условности заключается в возможности выделения некоторых стадий достаточно четко (например, разграничить деяние и последствие).
Этапы характеризуют развитие преступной деятельности во времени и пространстве, определяют динамику преступления, при которой идет постепенное наращивание общественной опасности преступления[68]. Именно поэтому, говоря об этапах развития преступной деятельности, мы имеем в виду поступательное движение преступления, характеризующееся постепенным увеличением значимости каждого последующего этапа в развитии преступной деятельности.
Кроме того, преступная деятельность развивается по общему правилу непрерывно: от возникновения психического отношения до наступления преступного результата. Здесь непрерывность вовсе не означает, что при совершении преступления отсутствует какой–либо временно–пространственный разрыв между отдельными этапами в развитии преступления. Разумеется, такие интервалы между этапами, как правило, имеют место, однако подобное свидетельствует не о том, что преступная деятельность прерывается (при прерывании преступной деятельности последующие за прерванным этапы преступной деятельности вовсе не возникают), а лишь о том, что она приостанавливается на время. В данном случае нет никаких субъективных или объективных причин, которые препятствовали бы наступлению последующих этапов.
И последнее, на чем необходимо остановиться, давая определение стадий совершения преступления, это их границы. Начальным этапом преступной деятельности выступает возникновение определенного психического отношения; в теории таковым традиционно признается возникновение умысла, и только прямого. Полагаем, что, в исследовании с позиций только прямого умысла и заключается еще одна из негативных сторон традиционного рассмотрения стадий совершения преступления как видов неоконченной преступной деятельности. При таком понимании стадий совершения преступления логичен вопрос: разве преступления, совершенные с косвенным умыслом, при легкомыслии либо небрежности не проходят в своем развитии соответствующие этапы, разве преступная деятельность указанных разновидностей развивается не динамично? Представляется, ответ на него может быть только положительным: любая преступная деятельность вне зависимости от специфики психического отношения развивается динамично и проходит те или иные этапы. Отрицание данного вывода приведет к рассмотрению указанных преступлений как статичных, застывших во времени и пространстве явлений. Абсурдность подобного очевидна.
Чем же аргументируют свою позицию сторонники традиционного подхода к пониманию стадий совершения преступления? «Общественно опасная умышленная деятельность по совершению преступления, поскольку она представляет собой процесс, протекающий в объективном мире, характеризуется тем, что лицо, совершающее умышленное преступление, еще до начала действия, направленного к совершению преступления, уже имеет результат в своем представлении (курсив наш. — А. К.). Процесс преступной деятельности является реализацией этого представления… Таким образом, только преступление, являющееся реализацией умысла, может проходить определенные стадии»[69]. Следует полностью согласиться с первой частью высказывания автора, здесь все отражено верно (до фразы «таким образом»). Однако верный анализ развития преступной деятельности при умысле вовсе не доказывает невозможности стадий развития иной преступной деятельности.
Обратим внимание на выделенную часть цитаты и попытаемся ответить на вопрос, только ли при умысле виновный имеет представление о преступном результате своего поведения? Ответ должен быть отрицательным: предвидеть наступление преступного результата виновный способен и при неосторожном совершении преступления. Об этом прямо было сказано в ст. 9 УК РСФСР 1960 г.: «Преступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия», и говорится в ч. 2 ст. 26 УК 1996 г.: «Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий…».
Не исключено возражение, что при легкомыслии (преступной самонадеянности) предвидение носит абстрактный характер, тогда как при умысле — конкретный. Но, во–первых, даже абстрактное предвидение есть предвидение преступного результата, в чем оно не отличается от предвидения при умысле. Во–вторых, практика знает достаточно много случаев абсолютно конкретного предвидения возможности наступления конкретного преступного результата при легкомыслии. В-третьих, если при умысле есть предвидение (представление о преступном результате), значит оно имеется и при косвенном умысле, из чего следует наличие стадий не только при прямом, но и при косвенном умысле. В-четвертых, учитывая основные характеристики результата при косвенном умысле, и при неосторожности (последствие всегда нежелательно, побочное), нужно признать, что и при неосторожном отношении к последствиям существуют стадии совершения преступления, коль скоро они есть при косвенном умысле. По крайней мере, данный факт бесспорен по отношению к легкомыслию (преступной самонадеянности). Следовательно, если факт наличия представления о преступном результате имеет главное значение в деле обоснования стадий совершения преступления, то и при легкомыслии (преступной самонадеянности), не говоря уже о косвенном умысле, имеются стадии совершения преступления.
Более серьезным аргументом невозможности стадий при совершении преступлений с косвенным умыслом, при легкомыслии (преступной самонадеянности) и небрежности является то, что при их совершении «волевая деятельность субъекта не направляется на достижение данного последствия…. Ни одного действия в направлении этого последствия виновный не совершает»[70]. Анализ данной позиции прежде всего наталкивает на мысль об отсутствии в указанных преступлениях такого самостоятельного этапа, как совершение направленного на преступный результат деяния. А если деяния нет, ни о каких этапах не может идти речи. Внешне все выглядит обоснованно и бесспорно.
Однако внимательный анализ открывает некоторые изъяны приведенного аргумента. Во–первых, побочный результат причинно связан с деянием, совершаемым в направлении желаемого последствия. Совершая преступление, виновный действует и в направлении данного побочного результата, поскольку он не исключается объективно. Во–вторых, деяние не столь цельно и неделимо, чтобы говорить о нем как о какой–то глыбе, которую нельзя поставить одновременно в двух местах. Ведь деяние может состоять из множества отдельных актов, и в конкретной ситуации с побочным результатом может быть связана только часть данных актов, т. е. деяние в целом направлено на достижение желаемого результата, и лишь часть телодвижений, составляющих деяние, причиняет побочный вред. Дифференцировать указанную часть деяния крайне важно, особенно в тех случаях, когда желаемый результат правомерен, а побочный — общественно опасен. В-третьих, если бы при неосторожности волевая деятельность не была направлена на преступный результат, не было бы необходимости выделять при легкомыслии (преступной самонадеянности) волевой момент — самонадеянный (легкомысленный) расчет на предотвращение последствий. Именно поэтому следует рассматривать деяние и в качестве этапа развития преступления, совершенного с косвенным умыслом или неосторожно. Учитывая динамичность любого преступления, самостоятельность психического отношения к побочным последствиям, объективную направленность поведения лица на побочный результат, считаем вполне правомерным наличие стадий в любом (умышленном или неосторожном) преступлении. Собственно, это также высказывалось в теории советского уголовного права: «Каждое преступление, в том числе и совершенное с косвенным умыслом и по неосторожности, развивается во времени и пространстве, проходит определенные стадии развития от возможного к действительному»[71].
При таком подходе возникают некоторые сложности в определении первых двух этапов совершения преступления. Ведь коль скоро мы говорим о преступлениях, совершенных по неосторожности, то термины «возникновение умысла» и «обнаружение умысла» становятся неприемлемыми. Поэтому предлагаем пользоваться терминами «возникновение психического отношения» и «обнаружение психического отношения».
На основании вышеизложенного можно определить и стадии совершения преступления. Представляется, стадии совершения преступления — этапы поступательного непрерывного развития преступной деятельности во времени и пространстве с момента возникновения соответствующего психического отношения к деянию и результатам своего поведения до наступления преступного последствия или прерывания преступной деятельности.
Глава 2
Стадии развития преступления
Любое преступление в развитии проходит определенные этапы. И совсем не обязательно, чтобы в каждом преступлении количество этапов было полным, исчерпывающим. «Отнюдь не всякое преступление, при совершении которого возможна предварительная преступная деятельность по подготовке или совершению преступления, проходит все или даже какую–то ни было стадию предварительной преступной деятельности»[72]. Принимая к сведению данные положения, мы должны помнить о смешении в теории понятий стадий и видов неоконченной преступной деятельности, отсюда высказывание Н. Д. Дурманова об отсутствии стадий вообще нужно соотносить только с видами неоконченного преступления. Прав автор в одном: конкретное преступление не обязательно должно проходить все этапы, количество стадий в конкретных преступлениях может быть достаточно разнообразным. Однако два этапа непременно присутствуют в каждом преступлении — возникновение психического отношения, обязательно предшествующее преступному поведению, и деяние, которое создает условия либо причиняет вред общественным отношениям или ставит их под угрозу причинения вреда. Остальные стадии могут либо быть, либо отсутствовать в совершенном преступлении.
Дифференциация стадий совершения преступления связана с двумя основными факторами: субъективным (психическим отношением) и объективным (действием или бездействием по подготовке или исполнению преступления и общественно опасным результатом). Психическое отношение к содеянному может быть в целом социально негативным (общественно опасным), например, при прямом умысле или при других видах вины, но связанных с совершением преступления с прямым умыслом; либо социально негативным лишь частично, с чем мы сталкиваемся при социально позитивном или нейтральном поведении лица, вызывающем желаемые социально позитивные и побочные социально негативные последствия, то есть в известных случаях совершения преступления с косвенным умыслом, при легкомыслии (преступной самонадеянности), а также преступной небрежности. Необходимо запомнить, что выделение психического отношения в целом или частично социально негативного имеет место только при изолированном рассмотрении поведения человека, необходимо связанного с совершенным им преступлением, и расчленении поведения на отдельные телодвижения (их группы).
Специфика частично негативного психического отношения к содеянному как раз и заключается в наличии жестко связанного с ним социально полезного или нейтрального психического отношения, которое нельзя сбрасывать со счетов, анализируя негативное отношение при выделении стадий совершения преступления. Вследствие этого возникает необходимость терминологического оформления и социально позитивного или нейтрального, и социально негативного отношений. Для первого из них мы предлагаем избрать термин «позитивное психическое отношение» (ППО), а для второго — «замысел» (З), который охватывает психическое отношение, свойственное любой форме и любому виду вины.
Исходя из особенностей вида преступления, формы и вида вины, различным образом развивается и преступная деятельность. Специфику дифференциации стадий совершения преступления, связанную с прямым заранее обдуманным, прямым внезапно возникшими косвенным умыслом, с легкомыслием (самонадеянностью) и небрежностью, попытаемся рассмотреть ниже.
2.1. Стадии совершения преступления при наличии прямого умысла
При совершении преступления с прямым заранее обдуманным умыслом стадии традиционно начинаются с возникновения замысла; отличие от привычного оформления анализируемой стадии заключается лишь в терминологическом определении психического отношения (умысел — замысел), что вызывается необходимостью анализа стадий совершения не только умышленных, но и неосторожных преступлений. Под возникновением замысла обычно понимают «процесс обдумывания и принятия решения в преступной деятельности»[73]. Подобное понимание данной стадии преступления является очевидным и обоснованным как для прямого, так и для косвенного умысла и легкомыслия (самонадеянности), поскольку при всех указанных видах вины преступник предвидит возможность наступления общественно опасного результата, т. е. обдумывает и принимает общественно вредное решение. Несколько сложнее обстоит дело с преступной небрежностью, при которой отсутствует предвидение общественно опасных последствий и вроде бы должен отсутствовать процесс обдумывания и принятия общественно опасного решения. Однако этот процесс остается в полном объеме и при преступной небрежности, так как и здесь внешне социально позитивное обдумывание и принятие решения в силу невнимательности и поверхностного отношения лица к окружающей его действительности становятся в определенной части негативным психическим процессом — ненадлежащие обдумывание и принятие решения.
Возникновение замысла традиционно не признают самостоятельной стадией преступления в связи с тем, что о такой деятельности никто еще знать не может[74]. «Все, что не выражается в деянии (действии или бездействии), находится вне сферы уголовно–правового регулирования»[75]. Оправданно ли подобное? Полагаем, нет. Ведь говоря о возникновении замысла, мы имеем в виду возникновение антисоциального отношения лица к соответствующим общественным отношениям, выраженного в социально негативных мотивах, целях и вине. Принять решение действовать можно только на основе постановки целей, при наличии определенных побуждений и вины, установление которых в определенных случаях крайне важно, так как невозможно без мотива и цели точно разобраться в совершенном преступлении, поскольку они в конкретных ситуациях корректируют степень общественной опасности содеянного. А вина — одна из основополагающих категорий уголовного права: с обязательным ее присутствием мы связываем наличие преступления вообще, и не случайно она введена в качестве признака преступления в законодательное понятие преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ); не случайно действующий уголовный закон запрещает объективное вменение (ч. 2 ст. 5 УК РФ), что означает требование только субъективного вменения, т. е. вменения с обязательным учетом вины; и не случайно традиционно выделяют заранее обдуманный и внезапно возникший умыслы, из чего следует, что время возникновения умысла имеет все–таки значение при определении опасности преступления. И вообще трудно представить специалиста в области уголовного права, который бы сегодня исключил вину из содержания преступления, однако почти все специалисты с необыкновенной легкостью исключают ее из стадий развития преступления, хотя здесь речь идет о том же содержании преступления, но только с другой стороны — с позиций развития преступления во времени и пространстве, когда очень важно бывает знать момент возникновения субъективного отношения. Именно поэтому стадия возникновения замысла имеет место во всех преступлениях. При возникновении замысла разрушается идеологическая сфера общественных отношений; личность пока лишь в сознании выделяет себя из собственного окружения, становится по другую сторону «баррикады». Об этом писал еще Ратовский[76]. Вне зависимости от нашего осознания общественно опасная личность возникла и продолжает существовать объективно[77]. Ведь знаем мы об этом или не знаем, но на стадии возникновения замысла (ВЗ) создается (при умысле или легкомыслии) либо должна и могла быть создана (при небрежности) модель будущего общественно опасного деяния и результата его. В последующих стадиях эта возникающая общественная опасность все более объективируется в поведении лица и все более усиливается.
В теории уголовного права идут поиски и иной практической значимости данного этапа развития преступной деятельности, хотя и не во всем они удачны. Так, по мнению В. Д. Иванова, «сформирование умысла на совершение преступления, являясь внутренним (психологическим) процессом, не находит внешнего проявления. Однако для органов, ведущих борьбу с преступностью, представляет определенный интерес выявление лиц, намеревающихся совершить преступление, так как это дает возможность проводить необходимую работу по предотвращению преступлений»[78]. Автор, похоже, упустил из виду, что речь идет только о возникновении замысла (сформировании умысла), который еще вовне не проявился. Вполне очевидно, что в тех случаях, когда психологический процесс не проявлен вовне, не может идти речи ни о его выявлении, ни о профилактической работе.
В то же время следует согласиться с В. Д. Ивановым в том, что ретроспективный взгляд на возникновение замысла «имеет большое криминологическое значение для изучения личности преступника, для выявления причин и условий, способствующих совершению преступления»[79].
Все сказанное свидетельствует о необходимости выделения возникновения замысла в качестве самостоятельной стадии совершения преступления. Завершая рассмотрение данной стадии, обращаемся к противникам подобного подхода: не нужно ссылаться на невозможность ответственности за мысли, невозможность привлечения к уголовной ответственности на этой стадии, поскольку в таком случае вы смешиваете предметы дискуссии: проблемы динамики развития преступления и проблемы ответственности за неоконченное преступление, переводите дискуссию в плоскость видов неоконченного преступления, начинаете смешивать стадии и виды неоконченного преступления.
Указанный замысел в последующем обнаруживается, объективируется в устной или письменной речи, в жестикуляции. Обнаружение замысла (ОЗ) может предшествовать общественно опасному деянию, но довольно часто совпадает с ним. В последнем случае замысел обнаруживается либо при создании условий, либо при исполнении преступления. Обнаруживая замысел, виновный намерениями, отношением к собственным действиям, пониманием объективного развертывания преступления от деяния к последствиям делится с родственниками или знакомыми, с лицами, которых он прочит в соучастники, надеясь таким образом определить их отношение к будущему деянию.
Является ли обнаружение замысла самостоятельной стадией совершения преступления? По этому вопросу в теории уголовного права нет однозначного решения. Еще в XIX в. в русском праве ученые вели дискуссии о том, имеет ли место обнаружение умысла и каково его правовое значение. Определенные их результаты были отражены в Уложении о наказаниях 1845 г., который в (ст. 7 указал, что «изъявление на словах, или письменно, или же иным каким–либо действием намерения учинить преступление почитается признаком умысла. К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы и предложение сделать какое–либо зло». Это нашло отражение и на формировании некоторых видов преступления в Особенной части Уложения. Так, в (ст. 176 было предусмотрено наказание тому, «кто дерзнет публично в церкви с умыслом возложить хулу на славимого в Единосущной Троице Бога, или на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и присно-Деву Марию, или на честный Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на бесплотные Силы Небесные или на Святых Угодников Божиих и их изображение». Конечно, подобное можно признать своего рода оскорблением, однако должна же быть какая–то специфика и у оскорбления, а не просто порицание указанного в статье, которого было вполне достаточно для вменения (ст. 176. Особенно наглядно обнаружение умысла проявилось в ст. 241, 242, 244 Уложения: «Всякое злоумышление и преступное действие против жизни, здравия или чести Государя Императора и всякий умысел свергнуть Его с Престола, лишить свободы и Власти Верховной, или же ограничить права оной, или учинить Священной Особе Его какое–либо насилие (ст. 241)… когда… через словесное или письменное изъявление своих о том мыслей и предположений…(ст. 242)». Все это имело глубокие исторические корни: в Уложении 1649 г. было сказано о тех, «кто на царское величество злое дело мыслил и делать хотел» (гл. 2 ст. 1); в Артикулах Петра I — «которого преступление хотя к действию и не произведено, но токмо его воля и хотение к тому было» (Арт. 19) и т. п. Естественно, на фоне законодательного урегулирования обнаружения умысла как преступного явления теория русского уголовного права просто обязана была дать толкование подобному. Н. С. Таганцев по данному поводу пишет: «Да и можно ли себе представить, как справедливо замечает профессор Кистяковский, иную постановку этого вопроса в эпоху слова и дела, Преображенского застенка; в эпоху, когда смертная казнь грозила тем, кто хулительными словами против особы его величества погрешит или непристойным образом об его действиях рассуждать будет, когда, наконец, наказуемость голого умысла за политические преступления были общим явлением во всей Европе»[80]. На этом фоне вполне понятно мнение большинства русских правоведов о том, что обнаружение умысла не наказуемо за редким исключением[81]. На этом фоне вполне понятно и последующее резко отрицательное отношение науки уголовного права к обнаружению замысла.
В советский период развития уголовного права также большинство авторов не признавало обнаружения замысла этапом развития преступной деятельности[82]. Н. Д. Дурманов, например, считал, что, «основываясь на материальном понятии преступления как общественно опасного действия или бездействия, обнаружение умысла не может быть признано стадией развития преступления»[83].
Данный аргумент не выдерживает критики. Во–первых, сознательно или неосознанно, но автор не упомянул о виновности — важнейшем признаке преступления. Если виновность является признаком преступления (подобного не отрицает и Н. Д. Дурманов, хотя и включает виновность в противоправность[84]), то не логично ли предположить, что преступление начинается с возникновения вины (замысла) — первого этапа совершения преступления, тогда как все последующие этапы, вне сомнения, представляют собой стадии совершения преступления. Во–вторых, Н. Д. Дурманов опирается на общественную опасность как материальное основание признания деяния преступлением. Однако общественная опасность личности появляется при возникновении замысла и сохраняется при его обнаружении, т. е. в определенной части общественная опасность уже существует.
Более развернутую аргументацию того, что обнаружение замысла не является стадией совершения преступления, дает Н. Ф. Кузнецова. По ее мнению, при обнаружении умысла не создается никаких благоприятных условий выполнения преступления; обнаружение умысла не находится «ни в обусловливающей, ни тем более в причинной связи с совершенным преступлением»; единственное последствие обнаружения замысла — то, что посторонние узнают о намерении виновного; при обнаружении умысла виновный не приближает последствия, а отодвигает их, так как ставит себя под угрозу разоблачения[85]. Попытаемся во всем разобраться.
1. Автор абсолютно права, отрицая возможность наличия каких–либо благоприятствующих совершению преступления условий объективного плана при обнаружении умысла; однако нельзя отрицать наличия благоприятных условий субъективного плана (проявление общественно опасного замысла вовне). Кроме того, данным аргументом Н. Ф. Кузнецовой доказано лишь то, что обнаружение замысла не есть создание условий, так как это само собой разумеется.
2. Небесспорно и отсутствие обусловливающей или причинной связи обнаружения замысла с совершением преступления. Думается, не следует так категорично отрицать наличие объективной связи. Ведь если бы не возник преступный замысел, то не было бы совершено преступление; если бы не обнаружился замысел, невозможно было бы соучастие. Не свидетельствует ли сказанное о существовании обусловливающей связи?
3. Следует согласиться с мнением Н. Ф. Кузнецовой об отсутствии правовых последствий обнаружения умысла. Раскрывая стадии совершения преступления, мы не сводим их к правовым последствиям. Главное для нас при этом — получить четкое представление о развитии преступления во времени и пространстве, о непрерывном развитии, при котором правовыми последствиями может «похвалиться» лишь преступление, доведенное до логического конца. Отсутствие последствий вовсе не исключает наличия таких стадий, при достижении которых ни о каких последствиях (материальных, юридических) и речи быть не может. Ведь стадия создания условий сама по себе также не приближает последствий, однако ни у кого не возникает сомнения по поводу того, что создание условий — самостоятельная стадия совершения преступления. Вполне понятны причины, заставляющие Н. Ф. Кузнецову выдвигать названные аргументы. Автору необходимо было закрепить в работе свою генеральную позицию жесткой связи стадий совершения преступления с прерванной преступной деятельностью (возможна наказуемая прерванная преступная деятельность на каком–то этапе — есть соответствующая стадия совершения преступления; невозможна — стадий нет). Именно эта позиция привела Н. Ф. Кузнецову к двум стадиям совершения преступления, которым соответствует два вида прерванной преступной деятельности. Подобная жесткая связь в принципе неверна, поскольку преступление развивается во времени и пространстве по своим законам, в целом не схожим с основаниями прерванной преступной деятельности.
Можно согласиться и с тем, что при обнаружении замысла преступник ставит себя под угрозу разоблачения. Но, во–первых, выполняя действия, составляющие объективную сторону преступления. виновный также ставит себя под угрозу разоблачения, однако это не сказывается на признании исполнения преступления самостоятельной стадией[86]. Во–вторых, только при обнаружении замысла становится возможным соучастие, помощь со стороны других лиц при совершении преступления, т. е. во многих случаях риск разоблачения для преступника оправдан. Следовательно, и данный аргумент вовсе не свидетельствует о невозможности признания обнаружения замысла стадией преступления.
Возникают и другие аргументы в теории уголовного права по поводу неприемлемости обнаружения умысла в качестве стадии совершения преступления. «Как говорит в “Борисе Годунове” А. С. Пушкин: “Слова твои, деянья — судят люди, но помышления единый видит Бог”. Общепризнан классический принцип уголовного права: coqitationis poenam nemo patitur (мысли ненаказуемы)»[87]. Как видим, для аргументации задействовано тяжелое оружие в виде А. С. Пушкина и бессменных законов римского права. Разумеется, наш великий поэт был прав, но если мы будем следовать его формуле, то современная юстиция просто рухнет, поскольку за пределами доказывания и правовой значимости останется субъективная сторона с ее виной, мотивами и целями, ведь из слов поэта следует, что мысли лица другому человеку не подвластны. В то же время надо указать, что Э. Ф. Побегайло просто не должен был приводить А. С. Пушкина, так как это работает против него. Ведь аргумент предложен при анализе обнаружения умысла, когда уже имеются как минимум слова, а именно их–то поэт и относит к тому, что судят люди. Нет никакой возможности оспаривать и извечный римский аргумент, да вот только и он не по адресу, поскольку у сторонников обнаружения умысла как стадии совершения преступления и мысли нет говорить о его наказуемости. Они говорят лишь о развитии преступления во времени и пространстве со всеми его этапами. На наш взгляд, как и при возникновении замысла, здесь главными проблемами являются: возможно ли прерывание преступления на данной стадии и при положительном ответе на данный вопрос — имеет ли какое–либо правовое значение такое прерывание.
За всеми высказанными Н. Ф. Кузнецовой и другими авторами и изложенными выше аргументами скрывается один серьезный довод, более открыто предложенный Н. Д. Дурмановым: «Действия, которыми обнаружен умысел, по общему правилу не направляются на тот же объект, что и объект замышляемого преступления, а единство объекта — характерная особенность всех стадий совершения преступления»[88].
Иными словами, нужно ли выделять обнаружение замысла в качестве самостоятельной стадии развития преступления при том условии, что действия по обнаружению замысла почти всегда не имеют никакого отношения ни к самому замыслу, ни к объекту посягательства, ни к будущим преступным последствиям? И это действительно так, указанные действия существуют в стороне от развития преступления, обособлены и в целом с ним не связаны. Думается, даже при данных условиях обнаружение замысла имеет право на существование в качестве условной стадии совершения преступления, поскольку оно приобретает самостоятельное правовое значение, имеющее непосредственную связь с общим развитием преступления во времени и пространстве и отраженное Н. Д. Дурмановым, Н. Ф. Кузнецовой, другими авторами. Например, Н. Д. Дурманов признавал, что обнаружение замысла иногда создает условия для предотвращения преступления (чего еще нет на стадии возникновения замысла) или разоблачения преступника после совершения преступления[89] (и это невозможно на стадии возникновения замысла). В подобном же русле высказывает свое мнение и Н. Ф. Кузнецова: «Обнаружение умысла тем лишь и интересно, что доказывает наличие у лица умысла»[90]. Только напрасно автор преуменьшает значение исследуемого фактора («тем лишь»), потому что обнаружение замысла способствует правильной квалификации во всех без исключения преступлениях и особую важность приобретает при квалификации преступлений в самых сложных ситуациях, когда совпадают признаки объективной стороны преступления и квалификация зависит только от обнаружения замысла. Немаловажную роль играет и истинность определения времени обнаружения замысла, поскольку оно помогает разобраться в действительной опасности личности преступника (случайный преступник или нет).
И последнее. Выше уже неоднократно указывалось на связь между обнаружением замысла и соучастием. Во многих случаях обнаружение замысла является не только границей, за которой следует соучастие, но и прелюдией, подготовкой соучастия.
Поэтому мы согласны с теми авторами, которые признают обнаружение замысла самостоятельной стадией совершения преступления[91]. И под обнаружением замысла как стадией мы понимаем извещение определенных окружающих лиц, выраженное в различных формах, о возникшем у виновного общественно опасном замысле.
Далее замысел все более объективируется. И следующая стадия совершения преступления заключается в создании условий (СУ). Под стадией создания условий понимают такой этап развития преступной деятельности, при котором «умышленные действия виновного выражаются в приискании орудий, выработке плана, приискании соучастников и в других подобных действиях, направленных на создание условий совершения преступления, но не входящих в объективную сторону состава данного преступления»[92]. В целом предложенное определение соответствует истине, поскольку в нем не только раскрыты действия, составляющие создание условий, но и предпринята попытка провести разграничение с последующей стадией совершения преступления.
Некоторые авторы несколько иначе терминологически оформляют данную стадию. Так, Н. Ф. Кузнецова, М. П. Редин называют ее стадиен подготовки к преступлению[93]. По сути данное терминологическое оформление нареканий не вызывает, поскольку показывает действия, предваряющие исполнение преступления. Однако считаем, что логичнее было бы использовать термин «создание условий». Во–первых, его употребляет закон в ч. 1 ст. 30 УК; во–вторых, к нему с необходимостью обращаются и указанные авторы; например, М. П. Редин пишет: «Подготовка к преступлению — это такая стадия осуществления преступного намерения, в процессе которой лицо умышленно создает условия (курсив наш. — А. К.)…»[94]; «Приготовлением к преступлению признается умышленное создание условий (курсив наш. — А. К.)…»[95]; в-третьих, в такой ситуации мы обойдемся без слов–посредников, напрямую от закона к практике через «создание условий».
В законодательной формулировке видится еще одно противоречие, которое заключается в следующем. Закон говорит о создании условий для совершения преступления. Таким образом, создание условий и совершение преступления логически разрываются во времени и пространстве. Получается, что сейчас, например, существует создание условий, а совершение преступления — категория будущего, предстоящего, т. е. совершение преступления выводится за пределы создания условий в качестве самостоятельного уголовно–правового явления. Выше мы уже писали о неприемлемой позиции М. П. Редина, которая напрямую выведена из существующего законодательного определения. В то же время, анализируя стадии совершения преступления, мы говорим об этапах совершения преступления, о поступательном развитии преступления от самого начала до его логического завершения:
преступление = возникновение замысла + обнаружение замысла + создание условий + исполнение преступления.
При этом создание условий включается в совершение преступления, становится в определенных ситуациях неотъемлемым элементом совершения его.
Думается, исследуемая законодательная формулировка в указанном плане неверна еще и потому, что создание условий часто бывает высоко общественно опасным и игнорировать данный факт просто невозможно, общество не может безразлично относиться к имеющейся более или менее высокой общественной опасности создания условий. Именно поэтому, в частности, невозможно ограничить стадии совершения преступления только исполнением его. Кроме того, при прерывании преступной деятельности на стадии создания условий виновного привлекают к уголовной ответственности в качестве преступника, в том числе и по совокупности преступлений, когда создание условий объявляют самостоятельным преступлением, и виновному часто назначают наказание, как и любому другому лицу, совершившему преступление. Следовательно, создание условий уже само по себе является преступной деятельностью.
И последнее. Нельзя забывать о субъективном моменте — виновном психическом отношении лица к содеянному им, с которого начинается преступная деятельность и которое сопровождает во времени создание условий. Нам не встретилось ни одного высказывания, в котором бы создание условий не признавалось стадией совершения преступления. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что создание условий является стадией совершения преступления и потому оно не может существовать для совершения преступления. Скорее всего, при создании условий лицо готовится не к совершению преступления, а к чему–то иному, к последующей стадии совершения его, т. е. к исполнению преступления. Отсюда и законодательная формулировка в указанной части должна быть изменена: «… Создание условий для исполнения преступления». Именно к этому пониманию стадии создания условий подошло в начале XX в. законодательство дореволюционной России: согласно ч. 1 ст. 50 Уголовного Уложения 1903 г. таковым признавалось «приобретение или приспособление средств для приведения в исполнение умышленного деяния…». Только при таком изменении закон станет ясным, четким и недвусмысленным. Указанное изменение также ранее было предложено автором[96], но осталось невостребованным законодателем.
Отторжение очевидного происходит на фоне того, что достаточно давно было предложено Н. Ф. Кузнецовой и другими авторами — выделить стадию исполнения преступления. И действующий уголовный закон уже вводит в оборот термин «исполнение», правда, не относительно стадий совершения преступления, где ему место и откуда он должен шествовать по всем другим нормам УК, а применительно к соучастию — организатором признается, в частности, лицо, руководившее исполнением преступления (ч. 3 ст. 33 УК). Вполне понятно, почему подобное происходит — определенной группе авторов, способных оказывать влияние на законодателя, очень не хочется выводить исполнителя и, соответственно, исполнение за рамки соучастия, словно от этого рухнет мир или закон станет менее ясным и четким. В действительности сохранение исполнения только в рамках соучастия уже в УК 1996 г. привело к необоснованному введению опосредованного исполнения, которое в принципе не может быть соучастием в силу отсутствия надлежащих как минимум двух субъектов преступления, в раздел соучастия (ч. 2 ст. 33 УК) — соучастием признано то, что соучастием не является. Вот цена, которую мы платим за обыкновенное упрямство.
Законодатель должен понимать простую истину — он создает дефиниции, которые в последующем будет толковать правоприменитель. Если же в законе сказано, что создание условий существует для совершения преступления, то правоприменитель и будет ограничивать совершение преступления его исполнением, выводя создание условий и все с ним связанное за пределы преступления. И это будет правильным и точным толкованием закона. Весьма сомнительно, что законодатель стремился к подобному толкованию. Мы убеждены, что совершение преступления — категория более широкая, чем исполнение его, которое является лишь стадией совершения преступления; что стадия создания условий существует не для совершения преступления, поскольку она сама — часть совершения преступления, а для исполнения преступления — для осуществления следующей за созданием условий стадии.
Однако в теории уголовного права было сказано, что «полный перечень таких действий не может быть дан в законе»[97]; «охватить все разнообразие видовых приготовительных действий невозможно»[98]. Не исключено, что именно такой подход был положен в основу Теоретической модели нового уголовного закона, согласно которой анализируемую стадию определяли как «действие или бездействие, создающее условия для совершения умышленного преступления»[99]. Подобная конструкция преподносится как достижение, «поскольку охватить все реальное многообразие приготовительных к преступлению действий в законе невозможно, в ст. 32 была принята конструкция нормы с обобщенным родовым понятием»[100]. Из этого же исходит и М. П. Редин при определении неоконченного преступления[101].
Такое понимание в законе стадии создания условий представляется сомнительным. Ведь конкретизация законодательных положений заставляет суд более детально рассматривать их, следовательно, более обоснованно подходить к квалификации содеянного, и наоборот, обобщенные законодательные характеристики ведут к поверхностному исследованию, при котором судебные ошибки становятся более возможными. Думается, в данном случае не было необходимости отходить от законодательных завоеваний и нужно было сохранить существовавшую в УК РСФСР 1960 г. терминологию формулирования стадии создания условий: «… приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий…» (ст. 15 УК), которая в целом была приемлемой, потому что, хотя и в частично обобщенном варианте, конкретизировала разновидности создания условий. Похоже, указанная формулировка устраивала и законодателя, ибо в ст. 17 Основ 1991 г. он сохранил указанную формулировку в законе, и практику, и теоретиков, поскольку в ст. 22 ч. 1 Проекта УК России, представленном Министерством юстиции России и опубликованном в специальном приложении к «Известиям» в начале 1992 года, было предложено такое же определение стадии создания условий. Мало того, новый Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 1 ст. 30 расширил круг деяний, относящихся к созданию условий, и признал в качестве таковых «приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления». Все это мы считаем оправданным, поскольку для произвольного толкования на практике остается более узкий круг создания условий («иное создание условий»), что в общем уменьшает судебный произвол.
Недостатком данного определения является, на наш взгляд, некоторая стилистическая шероховатость: неоднократное повторение слова «или», переходящее из одного законодательного акта в другой. Представляется, более приемлемым было бы несколько иное формулирование стадии создания условий в законе — следовало разделить термины «изготовление» и «приспособление» запятой и тогда определение стало бы более выдержанным стилистически. Об этом автор писал в 1993 г.[102], но, похоже, законодателю пока не до стиля.
Создание условий заключается в определенных деяниях. И если на предыдущих стадиях имела место только общественная опасность личности, то с начала совершения деяния по созданию условий замысел виновного проявляется уже в конкретных действиях или бездействии и общественная опасность резко возрастает за счет появления конкретного деяния, связанного с будущим последствием.
Деяние при создании условий носит различный характер. Уголовный закон выделяет несколько основных форм (приискание средств или орудий, изготовление средств или орудий, приспособление средств или орудий, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, иное создание условий), в рамках которых и находит конкретные проявления создание условий в тех либо иных преступлениях.
Под приисканием средств или орудий исполнения преступления традиционно понимали «изготовление, похищение или приобретение этих предметов у других граждан»[103]. Поскольку в новом УК изготовление орудий и средств обоснованно выведено за пределы приискания и выделено в самостоятельную форму создания условий, приискание согласно приведенной позиции ограничено похищением или приобретением. Однако приискание заключается не только в них. Например, лицо случайно нашло какой–либо предмет, с применением которого можно исполнить преступление. Признавать ли подобные действия созданием условий? Думается, лишь при одном условии — при возникновении замысла на исполнение преступления до присвоения данного предмета. Собственно, данное условие характеризует и все другие случаи проявления приискания: ни изготовление, ни похищение, ни приобретение соответствующих предметов не должны признаваться созданием условий исполнения преступления, если не будет доказано, что замысел на их применение в преступных целях появился до указанных действий.
Здесь существует и проблема признания созданием условия для исполнения преступления использование при исполнении преступления имеющегося у лица в собственности и используемого им в быту предмета (машины, кухонного ножа и т. д.). Скорее всего, превращение целей использования предмета из общественно полезных или нейтральных в преступные и возникновение вины у лица изменяет и социальный статус предмета, который становится орудием или средством исполнения преступления. Следовательно, действия по дальнейшему пользованию таким предметом (с момента возникновения замысла до начала исполнения преступления) необходимо признавать преступным созданием условий для исполнения преступления (выехал на машине к месту исполнения преступления, положил в карман нож и пошел «на дело» и т. д.).
Отсюда вполне обоснованно «под приисканием понимается любой способ, законный или незаконный, добычи средств или орудий преступления: поиск, покупка, обмен, получение на время, похищение и пр…. К приисканию относится также находка и присвоение какого–либо предмета в подобных целях. Приисканием, наконец, является и подготовка к такому использованию бытовых предметов (автомашины, кухонного ножа и пр.), находящихся в собственности субъекта»[104].
По поводу изготовления средств и орудий совершения преступления проблем не должно возникать, поскольку таковым признают создание абсолютно нового предмета, который призван облегчить исполнение преступления или причинить вред.
Законодательный термин «приспособление» говорит сам за себя. Под приспособлением понимается «обработка соответствующих предметов, в результате которой их удобно использовать при совершении преступления»[105] (заточка отвертки под шило, превращение большого кухонного ножа в финку и т. д.).
Поскольку приискание, изготовление или приспособление касается средств и орудий совершения преступления, возникает необходимость толкования тех и других. В теории уголовного права понимание их достаточно устоялось, хотя и представляет некоторую сложность. Под средствами исполнения преступления «надо понимать предметы и приспособления, необходимые для совершения преступления или хотя бы облегчающие совершение преступления (лестница для совершения кражи, снотворные вещества для усыпления жертвы и т. д.)»[106]. Следовательно, средствами совершения преступления признают предметы материального мира, облегчающие причинение вреда, создающие условия для причинения вреда (нож при хищении, автомашина для транспортировки похищенного).
Под орудиями исполнения преступления «понимаются предметы, непосредственно используемые исполнителем преступления для совершения действий, образующих состав оконченного преступления. Таковы, например, нож или огнестрельное оружие, которым совершается убийство или причиняется телесное повреждение, горючие вещества, которыми совершаются поджоги, и т. д.»[107], т. е. это любой предмет материального мира (вещь, животное, человек, не являющийся субъектом преступления), «удлиняющий руку» виновного при непосредственном причинении вреда. Орудиями совершения преступления обычно считают те предметы материального мира, которые используют непосредственно для причинения вреда (нож при убийстве). Хотя применительно к отдельным предметам не все так просто. Например, Э. Ф. Побегайло относит к орудиям «отмычки, “фомки” и другие орудия взлома для совершения кражи, горючие вещества при поджоге…»[108]. Таким образом, он признает, что данными предметами непосредственно причиняется вред, «исполняется задуманное преступление»[109]. Соответствует ли это действительности? Весьма проблематично, поскольку заданная в конце прошлого века задача, является ли взлом двери началом исполнения преступления, не разрешена до сих пор в связи с отсутствием в теории уголовного права четких критериев разграничения стадий создания условий и исполнения преступления. К данному вопросу мы еще вернемся, пока же не согласимся с Э. Ф. Побегайло, так как применение отмычки, «фомки» не является причинением имущественного вреда, а разлитие горючего вещества не является причиной уничтожения или повреждения имущества. Все указанные действия, на наш взгляд, лишь создают условия для последующего исполнения преступления.
Главное отличие средства от орудия заключается в том, что орудие — предмет, используемый в процессе исполнения преступления, тогда как средство — предмет, используемый на стадии создания условий или после достижения преступного результата и необходимый лишь для облегчения исполнения преступления в относительно отдаленном будущем. Вполне естественно признание орудия более опасным предметом по сравнению со средством. Отсюда вывод: приискание, изготовление и приспособление орудий более опасная разновидность создания условий, нежели приискание, изготовление и приспособление средств, что непременно должно сказаться на степени ответственности виновных, особенно при соучастии. Таким образом, опасность создания условий зависит от нескольких факторов: от значимости этих условий для исполнения преступления (более или менее значимы); от назначения соответствующих предметов, составляющих орудия или средства преступления[110].
УК РФ 1996 г. выделил еще две формы создания условий, которые традиционно рассматривала наука уголовного права, но в пределах иного создания условий. В УК РФ 1960 г. они не находили самостоятельного отражения. Речь идет о приискании соучастников и их сговоре. «Под приисканием соучастников понимается вербовка исполнителей и пособников для последующего криминального деяния»[111]. «Под сговором понимается организация группы, в которой участвуют не менее двух лиц, заранее договорившихся о совместном совершении конкретного преступления»[112]. На первый взгляд, здесь мы действительно столкнулись с двумя видами самостоятельного поведения — вербовкой и завершенной организацией группы. Однако с подобным мнением едва ли следует соглашаться, ведь очевидно другое — сговор не возможен без инициативы одной из сторон по совместному совершению преступления; вербовка является этапом сговора и в этом плане самостоятельного значения не имеет. И не случайно автор высказанной позиции правильно ограничивает рамки приискания соучастников только приготовлением, «когда преступление по тем или иным причинам не доводится до конца, прерываясь на стадии разработки условий…»[113], поскольку за рамками неоконченного преступления смысл в выделении вербовки как самостоятельной категории уголовного права теряется. Подобное прямо вытекает из общепризнанного понимания сговора в соучастии, из того, что в соучастии вербовка возможна только как элемент предварительного сговора, за пределами последнего вообще нет вербовки. Поэтому для сохранения единого терминологического оформления предварительного сговора применительно к стадиям совершения преступления и к соучастию следует отказаться от выделения приискания соучастников и сговора в качестве самостоятельных уголовно–правовых явлений, хотя вербовку необходимо оставить как первоначальный этап сговора, на котором также возможно прерывание преступной деятельности. На наш взгляд, в законе нужно отразить только сговор на совершение преступления и определить его следующим образом: «Под сговором понимается вербовка соучастников и достижение соглашения о совместном совершении преступления». С этих позиций абсолютно верно поступили авторы Модельного уголовного кодекса (рекомендательного законодательного акта для Содружества Независимых Государств), закрепив в ст. 31 его только сговор и не упоминая при этом о приискании соучастников преступления[114].
При этом возникает проблема разграничения данного подэтапа создания условия от обнаружения замысла. Вербовка имеет свои два подэтапа — сообщение кем–то кому–то о возможном преступлении и прямое предложение о совместном совершении преступления. В первом случае речь идет только о «прощупывании» другого лица, об определении степени готовности его к преступной деятельности. Именно здесь наиболее проблематично отличие обнаружения замысла от такого «прощупывания», которое заключается не только в сообщении другой стороне о намерении совершить преступление, но и в том, чтобы проследить за реакцией другого лица, «вытянуть» из него сведения об отношении того к преступной деятельности вообще и конкретному виду преступления в частности, определить уровень его неприятия тех общественных отношений, которым возможно причинение вреда, и т. д. Таким образом, в первом случае у лица, подыскивающего соучастника, должен быть умысел не только на разглашение определенных своих желаний, но и на возможную совместность преступного поведения; без последнего приискания быть не может. Во втором случае все гораздо проще: одно лицо прямо предлагает другому объединить усилия для совершения преступления, что совсем не похоже на обнаружение замысла.
Под иным созданием условий следует понимать все остальные разновидности создания условий, располагающиеся за пределами исследованных выше. В связи с достаточно широким объемом их детальная классификация крайне затруднена.
Создание условий, как стадия совершения преступления, может носить более или менее сложный характер: в одних преступлениях стадия эта может быть достаточно простой (покупка ножа для совершения убийства), в других — более сложной (определение точного времени исполнения преступления, подготовка автотранспорта, изучение места исполнения преступления, связанного с наличием в сейфе крупной суммы денег, приискание инструмента для вскрытия сейфа и т. д.). В последнем случае создание условий для исполнения преступления (кражи из сейфа предприятия) будет полным при наличии всей совокупности подготовительных действий, выполнение же отдельных из них следует считать лишь частичным созданием условий, что также должно влечь за собой дифференциацию ответственности лиц, создающих условия.
М. П. Редин анализирует особенности (объективные и субъективные) стадии подготовки к преступлению (создания условий. — А. К.). К объективным он относит следующие.
«1. Действия (бездействие) по подготовке к преступлению направлены на создание условий для совершения преступления, для достижения в итоге (на стадии совершения преступления) преступного результата.
2. Действия (бездействие) по подготовке к преступлению являются началом осуществления преступного намерения, но не началом совершения преступления.
3. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения преступления во времени предшествуют действиям (бездействию) по совершению преступления.
4. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения преступления в отличие от действий (бездействия) по совершению преступления, зачастую отдалены в пространстве от конкретного предмета посягательства.
5. В результате совершения действий (бездействия) по подготовке к преступлению создается возможность для причинения вреда объекту посягательства, но сами они еще не создают для объекта непосредственной опасности. Она возникает в результате дальнейших действий (бездействия) лица по осуществлению преступного намерения на стадии совершения преступления»[115].
При этом непонятно, почему автор выделяет только пять особенностей, тогда как в более ранней работе при обособлении особенностей приготовления он выделил восемь признаков (ниже они будут приведены), которые можно по их сущности отнести к особенностям создания условий. Однако и указанные признаки при исключении соответствующих, указанных выше недостатков и словесной шелухи можно свести к следующему: при создании условий а) создается база для облегчения исполнения преступления; б) возникает возможность доведения преступления до конца и достижения преступного результата: в) соответствующие деяния создают реальную угрозу причинения вреда общественным отношениям, т. е. суть общественно опасны; г) соответствующие деяния являются объективным началом преступления; д) соответствующие деяния отделены во времени и пространстве от исполнения преступления и, как правило, предшествуют ему.
К субъективным особенностям анализируемой стадии совершения преступления М. П. Редин относит следующие: «1. Наличие у лица прямого умысла на совершение действий (бездействия), создающих условия для последующего (на стадии совершения преступления) исполнения конкретного оконченного преступления: лицо сознает, что выполняемые им действия (бездействие) создают условия для совершения конкретного оконченного преступления, и желает совершить эти действия (бездействие). 2. Наличие у лица ближайшей цели — умышленное создание условий для совершения конкретного оконченного преступления и конечной цели — осуществление в последующем (на стадии совершения преступления) конкретного оконченного преступления с прямым умыслом»[116].
На первый взгляд здесь все верно. Однако мы не готовы согласиться с автором в обособлении субъективного момента применительно к данной стадии. Дело в том, что он не знает, куда девать этот субъективный момент, поскольку ограничил стадии совершения преступления только объективными категориями создания условий и исполнения преступления, отсюда и привязка субъективных моментов к каждой отдельной стадии и каждому отдельному виду неоконченного преступления. В реальности все обстоит иначе: до возникновения поведения человек, как правило, обдумывает ситуацию, принимает решение действовать; именно здесь зарождается и его вина, его мотивы, его цели; при этом указанные субъективные элементы как бы раздваиваются, поскольку имеются доминирующие субъективные элементы (доминирующая вина, связанная с конечным результатом; доминирующая цель, связанная с ним же, и доминирующие вспомогательные субъективные элементы (вина, мотивы, цели), которые связаны с выбором создания условия, с выбором характера и способа исполнения. Указанные доминирующие и вспомогательные субъективные элементы могут возникать в разное время, т. е. моменты возникновения доминирующих и любой из вспомогательных сфер могут не совпадать друг с другом, однако очевидно и то, что вспомогательные существуют параллельно с доминирующими и практически не исчезают до достижения результата ил» прерывания преступления. Вспомогательные субъективные элементы по созданию условий также существуют параллельно с доминирующими и не исчезают при исполнении преступления, поскольку здесь виновный использует созданные условия. Проблема заключается лишь в моменте возникновения и исчезновения этих самых вспомогательных элементов. Что касается создания условий, то таковую характеризуют и доминирующая, и соответствующая вспомогательная сферы. Сказанное, на наш взгляд, подтверждает еще раз необходимость выделения самостоятельной стадии возникновения замысла, ее описания и отсутствие необходимости анализировать применительно к каждой стадии субъективные моменты.
За созданием условий следует стадия исполнения преступления[117], которая достаточно сложна по своей структуре (совершение того или иного деяния тем или иным способом, наступление преступного результата) и поэтому требует дополнительной дифференциации, в связи с чем необходимо выделить этапы выполнения деяния и наступления общественно опасных последствий. Довольно обширную характеристику исполнению преступления дал А. Н. Круглевский[118] и особенно ценно в его анализе то, что он признав исполнение «общим для всех формул покушения понятием. В этом общем признаке формул покушения и заключается ключ к уразумению существа покушения»[119]. По существу, на наш взгляд, он первый обратил столь серьезное внимание на исполнение преступления как стержень покушения, пока не разделяя стадии и неоконченное преступление и не представляя исполнение в качестве стадии совершения преступления. Автор выделяет три смысла понимания исполнения: «Исполнение явления может означать или его осуществление, в смысле воплощения признаков явления вовне; или его становление, в смысле процесса приобретения явлением признаков реального явления; или исполнительное действие, т. е. действие, предпринятое с намерением вызвать реализацию преступления[120], иначе говоря, исполнение можно понимать в трех смыслах — либо как факт достижения преступного результата; либо как стадию преступления, включающую в себя и преступный результат, т. е. развитие последней стадии преступления; либо как только действие–исполнение. Анализируя уголовно–правовые теории и законы того времени, автор приходит к выводу, что «в основу своих определений покушения современные законодательства кладут понятие об исполнении преступления либо в смысле становления преступления, либо в смысле исполнительного действия. Преобладающим приемом определения покушения должен быть признан первый метод. Большинство уложений, формулируя покушение, прибегает именно к понятию о становлении преступления»[121], т. е. он признает исполнение процессом становления преступления, «поскольку под становлением преступления мы разумеем реальный процесс образования преступления, последовательное возникновение отдельных его признаков»[122]. Мы полностью согласны с таким решением, но не только потому, что так поступали законодательства многих стран прошлого времени, но и потому, что подобное абсолютно верно с позиций формально–логического рассмотрения стадий совершения преступления: 1) мы имеем стадии совершения преступления как процесс развития преступления во времени и пространстве; 2) мы имеем создание условий как процесс развития одной из стадий совершения преступления, в который входит и его результат (например, передача изготовленного оружия по назначению); 3) мы имеем исполнение преступления как процесс развития последней стадии совершения преступления, в который входит и его результат (например, причинение вреда общественным отношениям). Вот эта логическая последовательность и составляет суть совершения преступления и каждой его стадии.
К сожалению, кроме понимания исполнения преступления как процесса создания преступления, другого более точного определения исполнения мы у А. Н. Круглевского не нашли. Но он предложил общее понятие исполнения: «Под исполнением или осуществлением следует разуметь воплощение представляемого явления в действительности или факт существования реального явления, соответствующего признакам представляемого явления»[123]. Пожалуй, первым, кто, дал определение данной стадии, является М. П. Редин, который назвал ее совершением преступления[124]; в результате он оторвал создание условий от совершения преступления, выведя тем самым и возможное приготовление за пределы преступного. Разумеется, здесь он поддержал позицию законодателя, чего не должен был делать вообще из–за слишком высокой фиктивности законодательных положений, тем более, что подобное в целом деформирует представление о стадиях совершения преступления. По его мнению, «совершение преступления — это такая стадия осуществления преступного намерения, в процессе которой лицо нападает на объект преступления и непосредственно приводит преднамеренное в исполнение»[125]. О нашем отношении к «преступному намерению» мы уже писали выше, и нам непонятно стремление автора уйти от традиционного рассмотрения стадий как этапов совершения преступления, что является вполне естественным, простым и аксиоматичным; нам непонятно желание автора «накрутить» сложности, создать фикции в общем–то простом и ясном вопросе.
Здесь же автор пытается отождествить любые действия–исполнение с нападением. Точка зрения не нова, ее высказывал вслед за германскими учеными Меркелем и Майером[126] еще С. В. Познышев: «Покушение существует во всех тех случаях, когда виновный, по крайней мере, начал нападение (курсив наш. — А. К.) на намеченный им объект, т. е. или начал тот ряд действий, который образует содержание известного преступления, или начал задуманное им причинение известного преступного результата…»[127]. Как видим, понятие нападения не было столь очевидным в начале XX в., и С. В. Познышев вынужден был в даваемом определении дополнительно толковать его. Против использования данного термина решительно возражал А. Н. Круглевский[128]. Тем более сегодня он прижиться не может, поскольку в Особенной части существуют нормы с данным термином, применительно к которым «нападение» толкуется довольно однозначно как насилие или угроза насилия[129]. Правда, необходимо признать, что имеются и противники подобного[130]. При этом любопытно поглубже рассмотреть позицию противников. По мнению В. А. Владимирова, поскольку закон (ч. 1 ст. 146 УК РСФСР) говорит о нападении, соединенном с насилием, то это доказывает их самостоятельное значение и ложность отождествления нападения и насилия[131]. Но вот изменен уголовный закон и в действующем УК речь уже идет о нападении, совершенном с применением насилия или его угрозы, что уже позволяет отнести насилие к нападению. Можем ли мы сегодня сделать это? Как видим опора на закон иногда бывает достаточно непрочной. Здесь же он вынужден абсолютно тесно связать нападение с насилием: «В уголовно–правовом смысле нападение — это агрессивное противоправное действие, совершаемое с какой–либо преступной целью и создающее реальную и непосредственную опасность немедленного применения насилия как средства достижения этой цели»[132], т. е. без насилия нападения он не видит. Несколько позже В. А. Владимиров и Ю. И. Ляпунов, анализируя момент окончания разбоя, признают, что моментом окончания его являются нападение и применение физического и психического насилия[133]. И уж совсем неприемлемую точку зрения высказали указанные авторы в другой своей работе. «Нападение — это процесс, началом которого является момент создания реальной опасности применения насилия, а завершением — полное овладение имуществом с получением возможности распорядиться им по своему усмотрению…»[134]. Таким образом, нападение будет признано оконченным с момента завладения имуществом и сам факт завладения входит в структуру нападения. Но в таком случае разбой ничем не отличается от других хищений, оформленных в законе как преступления с материальной диспозицией. Мало того, нигде в законе не указано, что оконченным разбой будет в самом начале нападения; речь там идет о нападении как таковом; и тогда мы можем сказать, что разбой считается оконченным с момента завершения нападения, т. е. с момента завладения имуществом. Однако подобное противоречит закону, который выделяет завладение лишь как цель нападения и признает достаточным для окончания его наличия самого нападения без достижения данной цели. Очень похоже на то, что попытка быть оригинальным в данном случае ни к чему не привела, как, впрочем, и М. П. Редина. На наш взгляд, нет ни малейшего смысла отождествлять все преступные действия с нападением и использовать данную фикцию в качестве признака стадии исполнения преступления. Но нет необходимости и в обособлении насилия за пределы нападения, поскольку в нападении как элементе исполнения при таковом ничего не остается. Кстати, сам автор при анализе разбоя выводит нападение за пределы насилия, признает нападением «действия, создающие реальную возможность применения насилия», т. е. при нападении лишь создается возможность будущего применения насилия[135], придавая тем самым нападению эфемерный, с трудом определяемый или даже вовсе не определяемый характер.
Последним недостатком определения исполнения преступления, предложенного М. П. Рединым, является то, что он ограничил совершение преступления только действиями, выведя преступный результат за пределы оконченного преступления: «Выполнение умышленных действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение оконченного преступления и доведение преступления до конца»[136]. Очень похоже на то, что автор разделил совершение оконченного преступления и доведение преступления до конца, по существу выделив два этапа и соответственно два возможных варианта развития оконченного преступления — с доведением его до конца и без такового, отнеся первый к стадии исполнения, но лично для меня остается загадкой, как можно совершить оконченное преступление и тем не менее не довести его до конца, как можно доведение преступления до конца (скорее всего — это преступный результат) не ввести в оконченное преступление.
Таким образом, позицию по определению стадии исполнения, предложенную М. П. Рединым, необходимо в целом признать неприемлемой.
Здесь же автор предпринимает попытку вычленить особенности (объективные и субъективные) стадии исполнения. К объективным он относит следующие особенности:
«1) Действиям (бездействию), непосредственно направленным на совершение преступления, во времени предшествуют действия (бездействие) по созданию условий для совершения преступления (в чистом виде это не является особенностью исполнения преступления, это признак, разграничивающий исполнение и создание условий, т. е. определяющий их соотношение; напрасно автор вслед за законом использует фразу “непосредственно направленным на совершение преступления”, поскольку она неверна по сути в связи с тем, что действия–исполнение не “направлены на совершение преступления”, а сами по себе есть уже часть преступления. — А. К.).
2) Эта стадия начинается с момента начала нападения на намеченный виновным объект (да, стадия исполнения начинается с ее начала; и что это доказывает; любое явление с чего–то начинается и главной проблемой применительно к исполнению преступления является установление этого момента начала, выработки критериев его, чтобы было понятным разграничение с созданием условий, чего у автора нет; с данной особенностью можно было бы примириться, если бы “нападение ” носило столь очевидный характер, что применение данного термина снимало бы все проблемы установления начала исполнения; но как выше уже было сказано, до сих пор теоретики спорят о сущности и структуре нападения, которые остаются абсолютно неясными; именно поэтому указание на то, что исполнение начинается с момента начала нападения, ничего не проясняет, а лишь делает более туманным само исполнение. — А. К.).
3) В момент окончания нападения на намеченный виновным объект образуется, по нашему мнению, посягательство на объект преступления. Посягательство — это всякая деятельность, при помощи которой преднамеренное должно быть непосредственно приведено в исполнение (прошу читателя обратить внимание на данную словесную несуразность; если исходить из мнения самого автора, изложенного выше, то следует признать моментом окончания нападения нечто эфемерное, не включающее в себя даже насилие, однако в таком случае на примере разбоя становится очевидным, что за пределами нападения будут находиться не только насилие или его угроза, но и все действия по завладению имуществом; применительно к краже за пределами нападения должны также находиться действия по завладению имуществом, что же тогда остается на долю нападения; к такому же решению подталкивает и то, что автор выделяет за пределы нападения посягательство как деятельность по исполнению преступления; в результате получается занимательная картина — исполнение представляет собой нападение + посягательство, последнее суть обычная часть объективной стороны вида преступления, например, тайное похищение имущества и тогда чего же будет недоставать в исполнении, если мы признаем его только посягательством; мало того, чуть раньше автор писал, что “действия (бездействие), создавшие условия для совершения преступления, представляют собой посягательство на объект преступления”[137], т. е. завершенное создание условий по своей сути и есть посягательство, относя тем самым посягательство к созданию условий; похоже, это же следует и из другого его высказывания о том. что “покушение на преступление охватывает не только действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, но и предшествующую им оконченную подготовку (т. е. посягательство на объект преступления)”[138], где автор вывел посягательство за пределы действий, непосредственно направленных на совершение преступления, и отнес его к подготовке, т. е. к созданию условий; скорее всего, автор абсолютно не дружит с формальной логикой да и с обыденной тоже; из анализируемой особенности нельзя признать позитивным ничего. — А. К.).
4) Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, могут иметь место как при наличии у лица непосредственного соприкосновения с предметом преступления, так и без такового, в отличие от действий (бездействия) по созданию условий для совершения преступления, когда лицо зачастую отдалено от предмета преступления в пространстве (предложенная особенность ничего не дает, поскольку сам автор признает, что и при исполнении преступления также может не быть соприкосновения с предметом, как и при создании условий, т. е. данная особенность не носит абсолютного характера. — А. К.).
5) Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, причиняют вред объекту преступления, т. е. являются причиной наступления общественно опасных последствий (абсолютно верно, если помнить, что бездействие только в исключительных случаях носит причиняющий характер; но как все это соотносится с третьим пунктом, что носит причиняющий характер — нападение или посягательство либо их совокупность, и тогда что это такое. — А. К.)»[139].
В результате можно определенно сказать, что автору в качестве специфических признаков стадии исполнения удалось представить только одну особенность — способность деяния–исполнения причинять вред объекту преступления.
Здесь же автор представляет и субъективные особенности стадии исполнения. К ним он относит следующие.
«1. Наличие у лица прямого умысла на совершение оконченного преступления, задуманного им: лицо сознает, что его действия (бездействие) непосредственно направлены на совершение определенного общественно опасного деяния, оно желает выполнить указанные действия (бездействие) и довести преступление до конца. Если же лицо совершает преступление с материальным составом, то содержанием его умысла охватывается предвидение возможности или неизбежности наступления задуманных им общественно опасных последствий и желание их наступления.
2. Наличие у лица цели — полное осуществление своего преступного намерения (выполнение умышленных действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение оконченного преступления и доведение преступления до конца»[140].
По существу, автор попытался обособить вину и цели при исполнении, придать им какой–то самостоятельный характер, отличный от вины и целей при создании условий. По этому поводу выше уже были высказаны критические замечания и повторять их нет смысла.
Однако следует помнить и о том, что деяние как часть объективной стороны преступления носит относительно сложный характер, поскольку оно может быть одномоментным (состоящим из одного телодвижения) или многомоментным (состоящим из нескольких телодвижений). Представляется, что первые из них достаточно редки и при их наличии начало деяния–исполнения сливается с его окончанием (в качестве примера можно привести изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей), вторые же превалируют и для них характерно самостоятельное поступательное развитие телодвижений, составляющих деяние–исполнение, во времени и пространстве, т. е. наличие определенных этапов, при этом, естественно, начало и окончание деяния исполнения различны. Отсюда в определенных ситуациях вполне правомерно выделение частичного исполнения деяния (ЧД) и полного исполнения деяния (ПД) как условных самостоятельных стадий совершения преступления, поскольку и при частичном, и при полном выполнении деяния возможно прерывание преступной деятельности, общественная опасность которого в каждом из указанных вариантов различна. Именно поэтому мы должны выделить в исполнении и данную особенность — одномоментный или многомоментный характер выражения деяния, что позволит позже уточнить и возможности прерывания преступления на этой стадии.
Традиционно деяние подразделяется на непосредственное (выполняемое самим виновным) и опосредованное (осуществляемое с использованием других сил). Последнее чаще всего называют посредственным исполнением. Учитывая, что термин «посредственный» имеет двоякий смысл: совершение деяния с использованием каких–то средств и средний, незаметный, серенький; такой, как все; мы предпочитаем пользоваться термином «опосредованное», лишенным второго смысла. При указанной дифференциации возникает проблема определения непосредственного и опосредованного исполнения, которой теория уголовного права уделяет мало внимания при анализе объективных признаков преступления. Более глубоко исследовано опосредованное исполнение в работах, посвященных соучастию, что нужно признать очевидно неприемлемым, поскольку при опосредованном исполнении действует только один субъект и потому соучастие в традиционном понимании при нем отсутствует.
Существует ли вообще опосредованное исполнение? Попытаемся рассмотреть это на конкретных примерах. Даже очевидный факт (например, удушение жертвы руками) не столь уж обоснован в качестве непосредственного исполнения, так как собственно причиной смерти будут повреждения организма, не совместимые с жизнью, т. е. существующий закон природы (чтобы жить, нужно дышать; отсутствие дыхания влечет смерть) используется виновным для лишения жизни. Здесь уже присутствуют какие–то элементы опосредования достижения результата (через законы природы). Дальше еще сложнее. С развитием техники человек постепенно «удлиняет» свою руку: убийство ножом, копьем, стрелой из лука и арбалета, пулей из ружья, снарядом из орудия, ракетой. Мало того, человек для исполнения преступления использует иногда животных и людей, разнообразя тем самым «удлинение» руки. Где кончается непосредственное и начинается опосредованное исполнение и почему? Как отличить одно от другого? Ответить на вопросы, что видно из примеров, достаточно трудно, а искать ответ нужно, поскольку закон уже регламентирует опосредованное исполнение (ч. 2 ст. 33 УК РФ) и при применении закона крайне важно в определенных случаях устанавливать наличие исполнения преступления либо отсутствие такового. Скорее всего, по характеру применяемых средств нельзя разграничить непосредственное и опосредованное исполнение.
Значит, если различия между ними есть, их нужно искать в чем–то ином. Необходимо помнить, что исполнение — всегда причинение какого–то общественно опасного вреда. Возможно, различие между непосредственным и опосредованным исполнением коренится в особенностях объективной связи между деянием и результатом? Для начала разберемся в проблеме причинной связи вообще, перенося ее решение на интересующий нас предмет. Согласно диалектическому материализму причинность характеризуется несколькими основными чертами: она объективна, всеобща, непрерывна в пространстве и во времени, безначальна и нескончаема, имеет строго необходимые связи между причиной и следствием[141]. Почти все эти черты для нас пока значения не имеют, потому что установление причинной связи в уголовном праве базируется на обязательном вычленении определенного звена из всеобщей причинной связи. И только необходимая связанность причины и следствия может помочь в определении причинной связи.
Поэтому обратим внимание на последнее свойство, которое показывает: «Если есть причина и налицо соответствующие условия, то следствие возникает неизбежно и является таким, каким оно порождается данной причиной при тех же условиях во всех других случаях»[142]. Отметим, что причина порождает следствие, благодаря причине следствие возникает. Превращение следствия из возможного в действительное имеет место лишь при наличии «соответствующих условий», отсутствие которых оставляет следствие в категории реально возможного. Значит, причина делает следствие реально возможным (при отсутствии условий) либо действительным (при их наличии), т. е. причиной нужно признавать явление, способное по своим объективным качествам вызвать к жизни следствие, а условием — помогающее развиваться причине во времени и пространстве. «Условия — это совокупность тех независимых от причин явлений, которая превращает в действительность заключенную в причине возможность порождения следствия. Если причина непосредственно обращена к следствию, то прямое воздействие условий направлено не на следствие, а на причину; они определяют способ действования причины. В природе условий нет того, что само по себе могло бы породить данное следствие»[143]. Отметим, что условие направлено на причину, а не на следствие.
Мало того, «в процессе причинения неизбежно происходит перенос материи и движения от причины к следствию. Причинение вообще невозможно без такого переноса и совершается только на его основе… Такой перенос далеко не всегда наблюдается непосредственно, он часто бывает завуалирован рядом привходящих обстоятельств. Нередко его мешает обнаружить и неправильное представление о том, что именно составляет причину рассматриваемого явления»[144]. Отсюда ясно: причина передает свое материальное содержание следствию, последнее же принимает его в качестве своего содержания, но уже в измененном виде, т. е. происходит трансформация материального содержания в ходе развития явления во времени и пространстве. Центральной задачей здесь представляется правильное определение собственно причины, отделение ее от условий. В этом помогает следующее: наличие материального содержания у причины, передача его следствию, изменение материального содержания при передаче, что свидетельствует о специфической тождественности материального содержания причины и следствия.
Попытаемся проиллюстрировать изложенное традиционным примером: обходчик железнодорожных путей увидел поломанный рельс и, несмотря на это, показал машинисту состава зеленый флажок, в результате состав сошел с рельсов, при крушении погибли люди и причинен материальный ущерб. В чем выражены в данном случае причина и условие? Перед нами два фактора, в совокупности вызвавшие крушение поезда: а) движение поезда, управляемого машинистом; б) поведение обходчика, заключавшееся в показе зеленого флажка и разрешении следовать дальше. Рассмотрим последнее и попробуем ответить на вопрос, порождает ли оно крушение поезда. На первый взгляд, ответ должен быть положительным, ведь, благодаря разрешению действовать в заданном направлении, машинист, естественно, ослабил внимание, не притормозил, поезд продолжал двигаться с прежней скоростью. Но такое решение неверно. Во–первых, если мы признаем поведение обходчика причиной крушения, то оно должно само по себе представлять реальную возможность крушения, оно с необходимостью должно привести к крушению. Однако сколько бы обходчик ни стоял с зеленым флажком, вызвать крушение только своим поведением он не способен. Другое дело — движение состава, которое способно породить крушение, даже если обходчика не будет вовсе. Во–вторых, материальное содержание поведения обходчика абсолютно не соответствует материальному содержанию следствия; никакой трансформации материи от поведения обходчика к результату не происходит. Совсем иное мы видим при сравнении движения поезда и крушения, при котором материальное содержание первого с необходимостью переходит в измененном виде в материальное содержание второго. Но ведь состав начал двигаться не сам по себе. Чтобы силы природы, механизмы, животные, иные люди начали действовать в требуемом направлении, их нужно «завести», возбудить в них энергию к действию.
В приведенном примере эшелон начал двигаться потому, что в локомотиве находился машинист, возродивший энергию движения, т. е. материальное содержание поведения машиниста, тысячекратно увеличенное массой и энергией движения состава, передается следствию, становится материальным содержанием результата. По существу, последнее представляет собой сумму материального содержания поведения машиниста, материального содержания массы состава и энергии движения поезда. Отсюда причиной крушения являются действия машиниста, а условием — поведение обходчика, которое направлено на причину (введение в заблуждение машиниста) и через нее — на следствие.
Но если поведение обходчика не является причиной результата, следовательно, не находится с ним в причинной связи, то оно не должно быть признано уголовно значимым, поскольку традиционно теория уголовного права считает таковыми лишь причинно связанные с результатом факторы. Приемлемо ли подобное? Разумеется, нет, поскольку общественная опасность поведения обходчика настолько высока, что уголовное право бездействовать в такой ситуации не может. Остается единственный выход — признать криминально значимой, наряду с причиной, еще и обусловливающую связь, о которой вскользь упоминают теоретики[145].
Сказывается ли наличие двух объективных связей деяния–исполнения с преступным результатом на дифференциации исполнения на непосредственное и опосредованное? По общему правилу непосредственное исполнение связано всегда с возбуждением, возрождением, возникновением энергии сил природы, механизмов, животных. Здесь нет и не может быть опосредованного исполнения, так как в подобных случаях непосредственный причинитель лишь «удлиняет» свою руку, делает ее более сильной с более интенсивным воздействием.
Несколько иначе смотрятся ситуации, когда одно лицо порождает, создает энергию поведения другого лица для достижения общественно опасного результата. Тут уже не всегда надо говорить о поведении второго лица как о простом «удлинении руки» первого, потому что существует бесспорное уголовно–правовое правило, согласно которому каждый гражданин отвечает лишь за содеянное им самим, а не другим лицом. Скорее всего, речь должна идти о двух вариантах совместного поведения и их правового разрешения: а) оба лица являются субъектами преступления, и тогда исполнителем признается лицо, которое подталкивали к совершению преступления, а лицо, породившее исполнителя, — иным соучастником (подстрекателем), и б) субъектом преступления является только лицо, возбудившее в несубъекте преступления направленность на совершение преступления, в таком случае совокупное поведение обоих лиц признается исполнением преступления первым лицом и в качестве исполнителя выступает лишь субъект преступления. При наличии главного направления (а) мы всегда сталкиваемся с непосредственным поведением первого лица, которое носит самостоятельно преступный характер (соучастие в преступлении) и в котором нет места опосредованному исполнению в силу действия правила самостоятельной ответственности каждого человека. Но и при ином направлении (б) не может быть, на наш взгляд, опосредованного исполнения, поскольку, используя в целях совершения преступления людей–несубъектов преступления (малолетних, душевнобольных, невиновно действующих), лицо лишь удлиняет свою руку, усовершенствует способ исполнения преступления, являясь обычным непосредственным исполнителем. Такой оправданный подход нашел отражение, например, в ч. 1 п. 22 УК бывшей ГДР: «Как исполнитель подлежит уголовной ответственности тот, кто сам осуществляет преступное деяние или осуществляет его через другое лицо, которое само не подлежит за это уголовной ответственности». Надо сказать, что слово «как», использованное в приведенной формулировке, характеризующее тождественность (иногда условную), но не идентичность, здесь явно не причем. Думается, было бы более оправданным признать таких лиц исполнителями без данного слова. По этому пути пошло уголовное законодательство России. В ч. 2 ст. 33 УК сказано: «Исполнителем признается… лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом». Однако и здесь имеется два существенных недостатка: 1) исполнение с использованием людей–несубъектов преподносится в качестве специфической разновидности исполнения, хотя мы убедились, что ничего специфичного здесь нет — имеется обычное использование тех или иных средств для исполнения преступления (это традиционно признается теорией); 2) внесение данной специфики в уголовный закон делает неприемлемым определение исполнителя в разделе, регламентирующем соучастие, потому что в анализируемой ситуации идет речь об индивидуальном исполнении и отсутствии соучастия.
Указанное позволяет отметить, что проблема опосредованного исполнения создана в теории уголовного права искусственно. С ней можно было бы согласиться как с теоретической конструкцией, в какой–то мере детализирующей понятие исполнения, если бы она не влекла за собой наращивания уголовно–правовых недоразумений (выведения группового преступления за рамки соучастия и признания его способом совершения преступления, признание нескольких несубъектов преступления создателями группового преступления и т. д.). Следовательно, в уголовном праве есть только непосредственное исполнение, есть непосредственный исполнитель и орудия, им используемые; за их пределами исполнения нет, есть иная деятельность и самостоятельная ответственность иных субъектов.
Тем не менее следует сказать, что отсутствие опосредованного исполнения вовсе не исключает опосредованного причинения в целом. Ведь опосредованно причиняет вред и подстрекатель, и организатор, и пособник, хотя никто и никогда не признавал их по общему правилу соучастия опосредованными исполнителями. При опосредованном причинении и происходит дифференциация двух разновидностей указанных объективных связей, поскольку довольно часто опосредованное деяние вызывает к жизни, порождает непосредственное деяние (подстрекатель создает исполнителя, организатор порождает в других лицах решимость совершить преступление), а иногда опосредованное деяние лишь помогает развиваться во времени и пространстве непосредственному деянию, возникшему помимо и за пределами опосредованного деяния (пособник помогает исполнителю; подстрекатель порождает пособника, который помогает исполнителю и т. д.). Об этом писал еще С. В. Познышев: «…причиною посредственною является и причина его (явления. — А. К.) причины»[146]; иными словами, причина причины есть причина следствия, а условие причины признается только условием следствия, условием возникновения результата, но не его причиной. Отсюда и связи между опосредованным и непосредственным деянием и, соответственно, преступным результатом, могут быть либо причинными (причина причины), либо обусловливающими (условие причины). Опосредованное причинение всегда находится за пределами исполнения преступления.
Продолжая анализ деяния–исполнения, необходимо остановиться на еще одном сложном вопросе, не разрешенном в теории уголовного права и вызывающем массу ошибок в судебной практике. Речь идет о проблеме установления начала деяния–исполнения, определение которого очень важно для разграничения деяния — создания условий и деяния–исполнения. «Установление границ между ними, а в особенности последней из них (между покушением и приготовлением. — А. К.), составляет основной вопрос в учении о покушении, с разрешением которого выяснятся и существенные моменты самого разбираемого института»[147]. Когда же начинается деяние по исполнению преступления? К разрешению данного вопроса можно было отнестись снисходительно, пока жесткое размежевание создания условий и исполнения преступления даже на уровне их прерывания не приобретало какого–либо уголовно–правового значения: существуют пограничные между созданием условий и исполнением явления, которые трудно отнести и к первым, и ко вторым; при отсутствии жесткой регламентации различий в ответственности за приготовление и за покушение их можно отнести или к тем, или к другим без особой боязни за правовые последствия такого шага. Но, похоже, времена изменились в сторону более четкого формулирования в уголовном законе ответственности за приготовление и покушение. Так, согласно ст. 22 Проекта УК России «уголовно наказуемым является только приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению». Данная конструкция в несколько измененном виде отражена и в новом уголовном законе: «Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению» (ст. 30 ч. 2 УК). Подобное изменение в законе представляется обоснованным и своевременным, так как оно позволяет уйти от неопределенности в сфере наказуемости приготовления, в целом наименее опасного из всех преступных проявлений (неоконченных или оконченных). В то же время, объявив ненаказуемым приготовление к преступлению небольшой или средней тяжести, закон, естественно, требует четкого размежевания стадии создания условий и стадии исполнения, поскольку от такового будет зависеть уже отсутствие или наличие наказуемости прерванной преступной деятельности. Признав указанную новеллу оправданной, теория вынуждена будет искать четкие критерии разграничения создания условий и исполнения преступления.
В теории русского уголовного права данный вопрос стоял достаточно остро: считать ли взлом двери началом исполнения преступления или еще не считать, является ли взмах ножом над потерпевшим началом исполнения преступления или нет и т. д.[148] И в последующем данный вопрос без внимания не остался. Не только зарубежные, но и русские криминалисты постоянно сталкивались с указанной проблемой и постоянно пытались ее разрешить, к чему подталкиваю непреходящее желание декриминализировать приготовление и необходимость избегнуть ошибок при такой декриминализации. Об этом писали Н. С. Таганцев, Н. Д. Сергеевский, С. В. Познышев, А. Н. Круглевский и многие другие. Явным противником поиска таких различий, вслед за некоторыми германскими учеными, выступал Н. Д. Сергеевский: «В действительности, однако, такое деление предварительной преступной деятельности на две части — приготовление и покушение — по нашему мнению, невозможно; предварительная деятельность столь разнообразна по содержанию, что не может быть уложена в два какие–либо типа с определенным, в законе описанным, содержанием. Как бы мы ни определяли приготовление и покушение, всегда останутся в конкретных случаях такие формы, которые не подойдут ни под то, ни под другое определение, или наоборот одинаково будут приближаться и к тому, и к другому определению… Мы думаем, что прием старого права, не отделявшего приготовления от покушения формальными признаками и рассматривавшего всю предварительную деятельность как одно целое, заслуживает предпочтение перед ныне господствующим»[149]. В приведенном высказывании так и сквозит безысходность, невозможность жесткой классификации разнообразных уголовно–правовых фактов и стремление все взвалить на плечи правоприменителя. Откровенно говоря, странно видеть такого рода теорию, без нее практики могут обойтись сами. Вне всякого сомнения — это не научный подход.
На наш взгляд, теория для того и существует, чтобы помочь применителю сделать практику более точной и менее связанной с произволом; теория должна быть настолько глубокой, чтобы практик находил в ней ответы на основную массу вопросов, которые ставит перед ним жизнь. Вот я подверг резкой критике М. П. Редина, но преклоняюсь перед его стремлением максимально глубоко исследовать фикции, заключенные в уголовном законе, доводя их до абсурда и давая понять тупиковый характер этих положений. Именно поэтому более верно поступают те ученые, которые все–таки барахтаются в мутных водах жизни, пытаясь сбить их в «масло». Указанная позиция, сторонником которой являлся Н. Д. Сергеевский, была подвергнута критике уже в русском уголовном праве: «Такое разрешение вопроса, представляя в действительности простой обход затруднений, едва ли можно считать удовлетворительным. Понятие покушения, как первого приступа к нарушению требований норм права, имеет юридический характер, стоит в прямой зависимости не только от основных условий, определяющих понятие преступления, но даже от самого принципа, определяющего существо и основания карательного права, так что перенесение разрешения этого вопроса на практику равносильно устранению от разрешения вопроса о том, что подлежит наказанию и в каком объеме»[150]. Об этом же писал и С. В. Познышев: «Будь разбираемый взгляд усвоен законодательством, он привел бы к крайне нежелательной пестроте и шаткости судебной практики; один суд принял бы один общий принцип, другой — другой, при одном личном составе или по одной группе дел приводилась бы одна точка зрения, при–другом или по другим делам — совершенно иная и т. д. Наука не вправе обходить так затруднение, сбрасывая с себя тяжесть вопроса и оставляя практику без руководящих указаний»[151].
И основная масса ученых все–таки пыталась найти критерии разграничения покушения и приготовления, а точнее — начала исполнения преступления. При этом в русском уголовном праве выделяли субъективные и объективные теории установления начала исполнения. Под субъективными теориями понимались те, в которых авторы делали попытки развести покушение и приготовление по субъективным моментам — умыслу, целям, воле, намерениям и т. д. Вслед за большинством криминалистов мы не готовы согласиться с таким подходом, потому что, во–первых, отдаем себе отчет в том, что по доминирующим субъективным моментам мы в принципе не можем дифференцировать приготовление и покушение; по вспомогательным — можем, но они сами по себе не могут быть конкретизированы и жестко обозначены, поскольку установление субъективных моментов всегда зависит от объективных факторов, именно последние предоставляют более или менее ясную картину того характера и вида субъективных моментов, с которыми столкнулись в каждом конкретном случае; отсюда, во–вторых, только характер деяния позволяет нам разграничить покушение и приготовление. Да по существу и сами сторонники субъективного подхода не способны были полностью оторвать субъективное от объективного, с необходимостью опираясь на последнее.
Отсюда с необходимостью возникла объективная теория разграничения, к которой примкнул и Н. С. Таганцев. Он обстоятельно анализирует одного из основоположников данной теории германского криминалиста Захариа и при определенном толковании признает основательной его позицию о том, что главным разграничивающим покушение и приготовление признаком является законный состав преступления со всеми его элементами[152], т. е. со всеми особенностями построения видов преступления в Особенной части уголовного закона. Вполне естественно, что сторонники объективного подхода не могут обойтись в своем анализе и без субъективных признаков, без которых преступление и, конечно же, «законный состав» существовать не могут.
Как видим, противоречия между изложенными двумя крайними позициями весьма условны и во многом надуманы; на наш взгляд, они и возникли лишь потому, что криминалисты не сумели достичь соглашения по вопросу о сравнительной наказуемости оконченного и неоконченного преступления и видов неоконченного преступления, т. е. что ставить в основу наказуемости — деяние или субъективный момент; которого, как уже убедился, по–видимому, читатель, мы тщательно избегаем, дабы не смешивать проблемы квалификации с проблемами наказуемости, чем особенно грешит теория уголовного права до сих пор, хотя, признаемся, испытываем острейшее желание вернуться к своей излюбленной теме общих начал назначения наказания[153]. По существу, и те, и другие не могут обойтись ни без объективных моментов (первые), ни без субъективных моментов (вторые). Как правильно отметил С. В. Познышев, «рассматривая изложенные субъективные и объективные теории в их целом, нельзя не заметить, что точка зрения ни той, ни другой группы не может быть принята в качестве исключительного принципа, но каждая из них заключает в себе зерно истины»[154].
Именно поэтому, скорее всего, более точна смешанная теория, в которой авторы попытались объединить и субъективные, и объективные начала в одно целое. Между тем отметим, что С. В. Познышев пытался выделить помимо субъективных, объективных и смешанных теорий еще «особую группу соединительных или синтетических, объединяющих субъективное и объективное направления»[155], особо не заботясь о разграничении синтетических и смешанных теорий. По крайней мере, попытка автора развести синтетическую и смешанную теории тем, что «смешанные теории указывают два самостоятельных отличительных признака покушения — объективный и субъективный. Согласно же излагаемому взгляду покушение характеризуется известным внешним признаком (автор старательно избегает определения внешнего признака как объективного. — А. К.), но основание, почему избирается этот признак, субъективное, — постоянное соединение с ним известного настроения деятеля»[156], нам представляется абсолютно неудачной и неприемлемой. Именно поэтому мы используем термин «смешанные теории» установления границ между исполнением и созданием условий. Хотя сразу признаемся, что первые опыты подобного удручают своей расплывчатостью и неточностью. Так. А. Чебышев–Дмитриев считал, что для признания действий покушением необходимо, 1) чтобы действие было предпринято с целью совершить задуманное преступление; 2) чтобы оно было подозрительно; 3) чтобы оно или начинало воспроизведение состава преступления, или непосредственно предшествовало действиям, воспроизводящим этот состав, служа средством его совершения[157]. Как видим, автор уже вводил и субъективные признаки, и говорил о составе, хотя с сегодняшней точки зрения на состав подобное бессмысленно, поскольку состав включает в себя и субъективный момент. Но поражает здесь то, что автор использовал для разграничения покушения и приготовления (обнаружения умысла по тогдашним временам. — А. К.) абсолютно неприемлемую, абсолютно размытую, абсолютно не правовую категорию подозрительности, за что сразу же «уцепились» его противники: «Очевидно, что построенные на таких положениях и окончательные выводы автора должны являться крайне шаткими»[158].
В свою очередь С. В. Познышев предлагал в качестве оснований такого разграничения наличие действий, которые уже являются причиной результата (отметим при этом два момента: а) автор разводит преступления формальные и материальные и причинную связь соотносит только с последними, тогда как и в первых действие также является причиной, хотя и возможного результата; б) он достаточно верно понимает причину как таковую[159]. — А. К.), называя подобное началом нападения, и соответствующее настроение деятеля, характеризующее его готовность причинить вред[160]. К данной позиции можно было бы присоединиться, если бы не ее некоторые недостатки. Так, причина несомненно играет важную роль в разграничении исполнения и создания условий, поскольку объективная сторона вида преступления предусматривает, как правило, причиняющее деяние, однако, во–первых, подобное имеет место не всегда (незаконное хранение оружия само по себе обладает причиняющим свойством или становится либо не становится причиной при применении его); во–вторых, даже при наличии явного причинения момент начала его остается подчас весьма и весьма проблематичным; в-третьих, оперирование термином «начало нападения» свело на нет предложение автора, поскольку слишком притянутым за уши к характеристикам видов преступлений оказывается «нападение» (уклонение как нападение, нарушение правил как нападение и т. д.). Ну а что касается «настроения» виновного, то здесь можно только развести руками, поскольку о какой–либо приемлемой конкретизации данного субъективного момента даже мечтать не приходится, следовательно, мы не достигаем того, к чему стремились — выработать критерии, которые позволили бы максимально точно определить начало исполнения преступления. Таким образом, мы видим, что русскому уголовному праву не удалось найти сколько–нибудь приемлемых критериев разграничения исполнения преступления и создания условий. Если такие попытки и осуществлялись, то на уровне чего–то общего, не помогающего конкретизировать соотношение данных стадий, т. е. в русском уголовном праве проблема так и осталась нерешенной.
В советском уголовном праве резко критически отнеслись к поискам начала деяния по исполнению преступления, признавая их антидиалектическими[161]. Вместо поиска моментов начала и окончания деяния–исполнения предлагался, как видим, не впервые, в качестве универсального средства разграничения состав преступления, его признаки и элементы: «При покушении имеются все элементы состава преступления, кроме преступного результата, предусмотренного законом»[162]. Не желая вторгаться в проблему состава преступления именно здесь, ограничимся лишь тем, что даже полностью став на позицию его приемлемости, нельзя четко и ясно отнести конкретные телодвижения к созданию условий или исполнению, особенно те из них, которые непосредственно граничат и с тем, и с другим, например, взлом замка чужой двери для совершения преступления. Именно поэтому такой подход, имеющий глубокие исторические корни, лично меня не устраивает. Тем не менее поиски начального и конечного моментов деяния–исполнения не прекращаются[163]. Так, Г. В. Тимейко пишет: «…начальным моментом преступного действия является тот момент, когда совершенные телодвижения приобретают черты общественной опасности и уголовной противоправности… Телодвижения, направленные на создание условий для совершения преступления (при приготовлении), либо телодвижения, направленные непосредственно на причинение вреда объекту (при покушении)»[164]. В общем все верно, однако проблема установления начального момента исполнения преступления так и осталась нерешенной; из предложения Г. В. Тимейко также не вытекает установление того, является ли взлом двери началом исполнения преступления, как и из конструкции состава.
На существующую проблему разграничения приготовления и покушения обращает внимание и Т. Г. Понятовская[165], однако оставляет эту сложнейшую проблему без решения, обходит ее, хотя при серьезной озабоченности концептуальным подходом, последний должен был дать инструмент данного разграничения.
Ставит специально вопрос о разграничении приготовления и покушения в своей работе и М. П. Редин[166]. Он приходит к верному первоначальному выводу, «что проблема разграничения видов неоконченного преступления (приготовления к преступлению и покушения на преступление) сводится к проблеме разграничения стадий осуществления преступного намерения»[167]. Из этого, собственно, всегда исходил и ваш покорный слуга[168]. По мнению М. П. Редина, стадии подготовки к преступлению и совершения преступления «различаются между собой объемом выполнения данного замысла, характером совершаемых при этом действий (бездействия), отсутствием или наличием вредных последствий»[169]. Вызывает сомнения последний критерий, поскольку вредные последствия могут отсутствовать и на стадии создания условий, и на стадии исполнения; в то же время последствия возможны и на стадии создания условий (незаконно изготовленное оружие — это вредное последствие действия–создания условия, однако это еще не исполнение, поскольку оружие должно еще «выстрелить»), и на стадии исполнения; так что по данному основанию едва ли возможно разграничение. Можно согласиться с объемом выполнения данного замысла как критерием разграничения создания условия и исполнения преступления, хотя нужно признать, что он носит максимально общий характер, требующий конкретизации. Такая конкретизация предложена во втором критерии — характере совершаемых деяний, с чем также можно согласиться, хотя при этом возникает некоторая двойственность понимания, поскольку под характером деяния можно понимать особенности деяния в каждом виде преступления и особенности действия (бездействия) применительно к созданию условий и к исполнению преступления. Похоже, автор понимает под анализируемым критерием второе его прочтение, что вполне приемлемо.
В подтверждение этого он выделяет особенности объективного и субъективного свойств, характеризующие эти две стадии совершения преступления. Выше мы обо всех этих особенностях писали, но здесь вынуждены вернуться к ним, чтобы показать возможности их сопоставительного анализа в плане разграничения анализируемых стадий, и сразу отметим, что приведя данные особенности, М. П. Редин их не развел, не объяснил, в чем же состоит разграничение, а все перевел на конкретные примеры из практики. Итак, объективными особенностями подготовки к преступлению автор признает: 1) действия (бездействие) направлены на создание условий для совершения преступления, для достижения в итоге (на стадии совершения преступления) преступного результата (согласимся с этим, но остается неясным, как мы определим, что это действия по созданию условий; взлом двери квартиры — это создание условий или начало исполнения? — А. К.); 2) действия или бездействие являются началом осуществления преступного намерения (отметим сразу, что это верно, но нас интересует не создание условий как объективное начало совершения преступления, а последнее действие–создание условий, граничащее с исполнением. — А. К.); 3) действия (бездействие) во времени предшествуют действиям (бездействию) по совершению преступления (верно, но для определения этого предшествования мы должны иметь четкое представление о начале исполнения, только тогда мы можем установить, предшествует ли действие–создание условий действию–исполнению или сливается с ним. — А. К.); 4) действия или бездействие по подготовке к преступлению в отличие от действий или бездействия по совершению преступления зачастую отдалены в пространстве от конкретного предмета посягательства (признаем, что верно, но отдалены от предмета посягательства и действия–исполнение; весь смысл их разграничения в том, насколько отдалены; ответа пока нет. — А. К.); 5) в результате совершения действий (бездействия) по подготовке к преступлению создается возможность для причинения вреда объекту посягательства, но сами они еще не создают для объекта непосредственной опасности (тоже верно, однако неплохо бы знать, где заканчивается опосредованная и начинается непосредственная опасность? — А. К.)[170].
Предварительный вывод, который можно сделать из анализа уже приведенного, заключается в том, что автор изложил почти все правильно, однако критериев разграничения как не было, так и нет.
Посмотрим теперь на действия по исполнению (совершению, с точки зрения М. П. Редина) преступления, может быть, в них и заключается разграничение создания условий и исполнения преступления. По мнению автора, объективными особенностями действия по совершению преступления являются: 1) действиям (бездействию) по совершению преступления предшествуют действия (бездействие) по созданию условий (это мы уже выше проходили, но с другой стороны. — А. К.); 2) эта стадия начинается с момента начала нападения на намеченный объект (о слишком высокой фиктивности применения термина «нападение» мы уже писали и возвращаться к этому вопросу не видим необходимости, скажем только, что использование термина ничего автору не дает при разграничении создания условий и исполнения преступления, особенно в ситуации, когда нападение имеется и в создании условий, например, использование психического насилия для завладения сведениями, составляющими государственную тайну. — А. К.); 3) в момент окончания нападения на намеченный объект образуется посягательство на объект (и об этом мы уже писали; все это к разграничению создания условий и исполнения никакого отношения не имеет, поскольку для нас важно установить начало действия–исполнения, по терминологии автора — нападения, а не эфемерного посягательства, которое характеризует момент окончания действия, но о нем пока не сказано ни слова. — А. К.); 4) действия (бездействие) по совершению преступления могут иметь место как при наличии у лица непосредственного соприкосновения с предметом преступления, так и без такового, в отличие от действий (бездействия по созданию условий, когда лицо зачастую отдалено от предмета преступления (даже если данное положение признать верным, что будет делать правоприменитель в тех ситуациях, когда и действие–создание условий, и действие–исполнение не соприкасаются с предметом преступления; нужны какие–то иные критерии разграничения, которых, как мы видели выше, у автора нет; мало того соприкосновение с предметом обычно происходит не в самом начале действия–исполнения, а именно оно–то нас и заботит. — А. К.); 5) действия (бездействие) по совершению преступления причиняют вред объекту преступления, являются причиной последствий (верно, но как на практике разграничить действие–создание условий, не являющееся причиной, и действие–исполнение — саму причину, какие телодвижения входят в первые и не входят во вторые; отсюда деление на причину и непричину мало что может дать автору по исследуемому вопросу. — А. К.)[171].
Подводя итог анализу объективных особенностей создания условий и исполнения преступления, приведенных М. П. Рединым, нужно признать, что автору удалось создать в тезисном варианте довольно точное общее представление о структуре стадий создания условий и исполнения преступления, но все это ни на шаг не приблизило его к раскрытию критериев разграничения данных стадий, при применении которых можно было бы жестко и однозначно на уровне конкретных телодвижений отнести те или иные из них к созданию условий или исполнению преступлений.
На наш взгляд, ему не удалось это сделать и при применении субъективных особенностей стадий подготовки и совершения преступления. К ним отнесены: 1) наличие у лица прямого умысла на совершение действий по созданию условий для выполнения конкретного оконченного преступления, а при исполнении преступления наличие прямого умысла на совершение оконченного преступления и 2) наличие у лица ближайшей цели — умышленное создание условий для совершения конкретного преступления и конечной цели — осуществление в последующем конкретного оконченного преступления, а при исполнении преступления — наличие цели полного осуществления преступления[172]. И в данном случае мы видим, что с начала создания условий умысел лица направлен на достижение конечного преступного результата; этот же результат является и целью преступного поведения с самого начала создания условий. Интересно, каким образом на этом фоне автор разграничит создание условий и исполнение преступления? Подобное просто невозможно. Согласимся с другим — с момента начала создания условия параллельно с основным умыслом существует еще и умысел на совершение действий по созданию условий, а также параллельно с основной целью еще и промежуточная цель — создать условия для исполнения преступления. Хорошо, мы доказали и параллельный умысел, и параллельную цель: что из того. Мы способны в общем разграничить создание условий и исполнение преступления как институты уголовного права, но на конкретном уровне, на уровне конкретных телодвижений все по–прежнему остается непознанным; по–прежнему остается загадкой объем создания условий и объем исполнения преступления по конкретным телодвижениям. В результате и позиция М. П. Редина, максимально точно отражающая признаки создания условий и исполнения преступления, оказывается малопригодной для конкретизации разграничения их. Отсюда абсолютно неприемлемое решение им всех пяти случаев из судебной практики, приведенных в работе[173].
Разумеется, в Общей части уголовного права нет возможности рассмотреть момент начала и окончания деяния конкретного вида (кражи, убийства) — это заботы Особенной части уголовного права, анализирующей и дифференцирующей структуру каждого вида преступления. Но ведь применительно к стадиям совершения преступления вопрос упирается вовсе не в то, считать ли конкретный взлом началом исполнения преступления, важна выработка определенных критериев вычленения начала и окончания деяния по исполнению преступления, при котором стало бы очевидным соотнесение конкретного телодвижения (в том числе и взлома двери) к созданию условий или к исполнению преступления. Важность же установления границ между ними, думается, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. «Определение начального и конечного моментов преступного действия имеет важное значение. От правильного установления границ преступного действия зависит определение стадий развития умышленного преступления (приготовления, покушения, оконченного преступления), решения вопросов о добровольном отказе, о соучастии в преступлении и прикосновенности, о необходимой обороне и крайней необходимости, об амнистии и давности уголовного преследования, а также определения характера и степени тяжести содеянного и меры наказания виновному лицу»[174].
Естественно, разработка в Особенной части уголовного права вопросов, связанных с началом и окончанием деяния как составной части конкретного вида преступления, многое может дать для уяснения стадий совершения данного вида преступления. Однако в теории уголовного права и этого пока нет, в Особенной части почти не уделяется внимания рассмотрению начала деяния, в лучшем случае можно найти указание на окончание преступления. Отсюда ясно видно, что теория уголовного права на сегодня не способна очертить пределы деяния–исполнения, одномоментно оно или многомоментно. Получается, что специалисты в области Общей части уповают на состав преступления, а последний либо спорен как надлежащая категория, либо в должной мере не разработан.
Но даже и возможная достаточная степень разработанности структуры преступного деяния конкретного вида в теории Особенной части вовсе не заменяет собой обобщенного отражения этой структуры (этапов развития деяния, в частности начала и окончания исполнения) в Общей части, например при анализе стадий совершения преступления, т. е. поисков критериев, по которым следовало бы в Особенной части определять начало и окончание деяния–исполнения.
Такими критериями, на наш взгляд, могут служить следующие факторы. Первый заключается в том, что деяние по исполнению преступления должно отражать специфику вида преступления, составлять его сущность. Ведь ни для кого не секрет, что виды преступления отличаются друг от друга своими особенностями: деяние при краже не то же самое, что при убийстве, последнее отличается от деяния–хулиганства и т. д. Именно поэтому каждое деяние объективно специфично. Указанный критерий в определенной мере уже помогает разрешить проблему установления начала исполнения. Так, взлом двери с последующей кражей имущества может быть поставлен под сомнение в качестве начала исполнения, но взлом двери для совершения убийства хозяина квартиры однозначно определяется как создание условий.
Однако иногда мы сталкиваемся со смежными видами преступления: причинением легкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, совершением убийства. В подобных случаях одни и те же действия могут составлять объективную сторону каждого из указанных видов преступления (предположим, удар ножом в грудь человека), при этом на объективном уровне практически невозможно установить вид преступления, которому соответствует данное деяние.
Поэтому необходим второй критерий — деяние должно соответствовать специфике замысла лица. Субъективное отношение лица к содеянному им начинает корректировать принадлежность деяния тому или иному виду преступления. Об этом уже издавна писали правоведы, связывая деяние с энергией воли[175]. С включением субъективного критерия соответствие деяния определенному виду преступления становится достаточно очевидным (в зависимости от вида вины удар ножом в грудь человека может быть целым деянием — по причинению легкого, средней тяжести, тяжкого вреда здоровью; либо частью соответствующего деяния — покушением на причинение тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшему).
Тем не менее оба данных критерия являются достаточно общими, дают только общую направленность в определении принадлежности деяния и пока не отвечают на главный вопрос: с какого же телодвижения следует считать начавшимся исполнение преступления? По мнению С. В. Познышева, «покушение начинается, например, как скоро намеревающийся убить замахивается ножом или целится из револьвера, как скоро вор запускает или протягивает руку к чужому карману, лезет или вползает в помещение, где находится вещь, которую он хочет украсть и т. д.»[176]. Примерно так же понимает начало исполнения и А. Н. Круглевский: «Акт прицеливания из ружья представляет собой несомненную часть акта реализации убийства… должно быть признано составной частью убийства»[177]. На таких же позициях стоит и М. П. Редин: сидение лица в засаде с целью убийства является исполнением; взлом двери с целью хищения имущества является исполнением; прибытие к месту совершения преступления с целью изнасилования является уже исполнением; прибытие к проходной фабрики с целью хищения является исполнением; приближение с ружьем со взведенным курком и с целью убийства к человеку является исполнением; соответственно, при прерывании данной деятельности оно автоматически становится покушением[178]. Мы не готовы с этим согласиться и считаем, что более точно поступили суды, рассматривая все вышеприведенные случаи как приготовление[179], т. е. понимая деяния как создание условии, а не исполнение. Приведенное показывает, насколько зыбки даже сегодня границы между исполнением и созданием условий.
Таким образом, без поиска иных критериев разграничения исполнения и создания условий нам не обойтись. Третьим критерием может выступать начало деяния, которым виновный собирается причинить вред, установление начала деяния–причины. Не думаю, что по данному поводу нужно спорить или что–то доказывать, поскольку традиционно и верно основу объективной стороны вида преступления создает именно деяние как причина реального или возможного вреда. Вот эту причину, точнее, начало ее и нужно установить, чтобы разграничить анализируемые стадии, помня о том, что деяние–создание условий не обладает причиняющим свойством относительно конечного результата. Отсюда мы сразу можем с достаточной долей точности обособить данное деяние: при краже причиняющим свойством обладает завладение имуществом; при убийстве — действия по причинению смерти (введение ножа в тело потерпевшего, затягивание веревки на шее его и т. д.); при изнасиловании — введение полового члена в область больших половых губ жертвы и т. д. Все остальное, предшествующее указанному поведению, не способно ни реально причинить вред, ни стать фактором возможного причинения вреда. Отсюда ни сидение в засаде, ни прибытие к месту изнасилования, ни прибытие к проходной фабрики и другие подобные действия не могут считаться исполнением соответствующего преступления. Тем не менее, определенные сомнения по определению момента начала исполнения все–таки остаются.
Следовательно, необходимы еще какие–то критерии, которые все расставили бы по своим местам. Попытаемся их найти. Возьмем в качестве примера взлом двери квартиры — эту притчу во языцех в течение последних почти 150 лет. Является ли он исполнением преступления? При сопоставлении с первыми двумя критериями видно, что в определенных случаях (при умысле, например, на причинение физического вреда личности, на изнасилование и т. д.) взлом двери не входит в объективную сторону преступления, не составляет исполнения преступления, находится за рамками исполнения, является созданием условий исполнения преступления. А при умысле на изъятие имущества? Изменяется ли здесь сущность взлома как фактора, облегчающего дальнейшее продолжение преступления? Едва ли. С очевидностью такое изменение не следует. При сопоставлении с третьим признаком проблема еще более проясняется, но необходимо уточнение анализируемого момента в связи с некоторыми сложностями, сопутствующими те или иные виды преступления.
Рассмотрим данный вопрос более углубленно. Сравним кражу квартирную, связанную со взломом двери, кражу карманную и кражу путем свободного доступа (вещей на вокзале) — все они суть кража. Но при сопоставлении оказывается, что при свободном доступе возможна кража и без взлома двери, кража оконченная, кража без каких–либо изъянов как преступление, кража со всеми объективными признаками ее. Сразу же возникает вопрос: деяние–исполнение определенного вида преступления стабильно или «плавающее» в зависимости, скажем, от способа исполнения преступления (способ кражи один — исполнение по структуре вот такое, способ другой — и исполнение иное)? Думается, ответ на него может быть только однозначным: деяние–исполнение, составляющее преступление определенного вида, должно быть стабильным. Лишь в этом залог соблюдения законности и справедливости в судопроизводстве. Стабильность границ деяния в рамках вида преступления — четвертый критерий установления начала деяния. При этом и карманная кража, и кража путем свободного доступа, и кража с проникновением в жилище по объему деяния–исполнения должны быть одинаковы.
Отсюда же следует и другое. Деяние определенного вида в обрамлении способов совершения, применяемых средств, телодвижений представляет по своей структуре ту или иную степень сложности (на примере краж это видно). И тем не менее можно предложить пятый критерий определения начала исполнения — деянием считается самое простое по структуре из всех имеющихся преступлений данного вида. Например, «эталоном» неквалифицированной кражи является кража путем свободного доступа как самостоятельное оконченное преступление, по ней определяют момент начала всех неквалифицированных краж (взял чужую вещь в руки, естественно, при доказанной вине). Именно данный момент отграничивает ранее имеющееся создание условий от исполнения. Если не согласиться с этим, придется доказывать необходимость «плавающего» деяния–исполнения, что выше было признано недопустимым. Ведь вовсе не случайно В. Н. Кудрявцев, раскрывая признаки, характеризующие объективную сторону преступления, не выделяет способа совершения преступления[180]. Правильно разрешает на конкретном материале данную проблему Р. А. Сабитов[181].
Изложенное рассчитано на телодвижение самого человека. Естественно, иначе решается проблема наибольшей простоты деяния при использовании виновным для исполнения преступления каких–либо средств, без которых в данной ситуации преступление не было бы возможным (механизмов, сил животных, людей–несубъектов преступления), когда преступное деяние слагается из двух факторов, деяния виновного по приведению в действие сил, направленных на причинение вреда общественным отношениям, и деятельности этих сил. Здесь началом исполнения преступления будут считаться те привычные телодвижения, благодаря которым используемая сила становится «самостоятельно» действующей. Их специфика зависит от характера используемой силы (включение часового механизма мины, нажатие на спусковой крючок ружья, сбрасывание поводка с шеи собаки, направление человека–несубъекта преступления на место совершения преступления и т. д.).
Не является исключением и использование предметов, в которых отсутствует внутренняя энергия, необходимая для «собственного» их поведения. Например, для удара ножом необходимо им размахнуться либо ударить по неподвижному ножу рукой. Только при передаче энергии движения ножу может последовать его удар и соответствующий физический вред. Следовательно, началом исполнения преступления будет телодвижение виновного, благодаря которому возникает энергия движения орудия совершения преступления. Отсюда выводится еще один критерий (шестой) установления момента начала исполнения преступления: при использовании механических орудий совершения преступления, сил животных либо людей–несубьектов преступления началом исполнения преступления признается момент приведения в движение указанных сил по направлению причинения вреда.
Вместе с тем нужно учитывать и тот факт, что способы совершения преступления не однозначны. Для начала обратимся к двум их разновидностям: а) способы, непосредственно «спаянные» с деянием–исполнением, самостоятельно не выражающиеся в каком–либо действии (самостоятельно не объективируемые), не вычленяемые за рамки исполнения (тайное завладение, открытое завладение и т. д.) и б) способы, самостоятельно выраженные в тех или иных действиях (например, путем насилия, с проникновением в жилище и т. д.). Очевидно, что первые из них не способны деформировать деяние–исполнение, потому что они осуществляются в его границах. Вторые же вполне способны изменить пределы деяния–исполнения. Но, на наш взгляд, не всегда.
Необходимо помнить еще и о том, что способы бывают обязательными и факультативными. Наглядным примером подобного служат кражи с проникновением в жилище, в помещение или иное хранилище, в которых способ (проникновение в соответствующее помещение) до Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г. был факультативным, т. е. безразличным для квалификации и назначения наказания, а данным Указом превращен в обязательный в связи с введением признака в диспозиции соответствующих статей. При этом взлом двери максимально приближается к проникновению в жилище. Если мы признаем, что проникновение в жилище или хранилище (в данном случае — при краже) как бы удлиняет объективную сторону, входит в объективную сторону соответствующего квалифицированного вида преступления, то мы должны признать исполнение преступления данного квалифицированного вида более обширным, соответственно в качестве первого телодвижения, представляющего собой начальный момент исполнения деяния и составляющего неотъемлемую часть проникновения, считать нечто иное за пределами чистого завладения, чего не могло быть до указанного изменения в законе. Разумеется, данное «исполнение» нужно признать несколько условным, так как безусловным является понимание того, что проникновение в жилище все–таки по своей сути — создание условий и включение его в структуру объективной стороны квалифицированного вида этой сути изменить не может. В то же время такое включение создает новое искусственное исполнение с более широкой структурой. Является ли началом такого исполнения взлом двери? Проблема решается максимально просто: если проникновение представляет собой сам факт вторжения, то начальным моментом такового может выступать только первый шаг через порог жилища; если же проникновением признаем процесс вторжения, то начальным моментом следует считать первое телодвижение по вторжению, т. е. начало взлома двери. Коль скоро мы избрали для себя рассмотрение стадий как процесс развития преступления во времени и пространстве и поскольку проникновение в жилище является этапом между предшествующим созданием условий и завладением имуществом, то более точным, на наш взгляд, будет признание его процессом вторжения и отсюда признание взлома двери началом проникновения и соответственно, искусственно созданного законодателем Исполнения преступления.
То же самое видно и на примере насилия. Так, для убийства характерно насилие, способное по своим субъективным свойствам вызвать смерть потерпевшего. Естественно, насилие путем удержания за руки не способно само по себе вызвать смерть потерпевшего и потому не может быть признано исполнением преступления, исполнение убийства лежит за пределами удержания за руки. Другое дело при изнасиловании. В ч. 1 ст. 131 УК РФ введен признак «насилие», под которым понимается любое насилие, кроме определяющего причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшей. И потому удержание за руки как насилие — обязательный признак изнасилования, соответственно, удержание за руки потерпевшей при изнасиловании может выступать в качестве начального момента изнасилования, связанного с насилием. Здесь важно отметить следующее: вводя в ч. 1 ст. 131 УК РФ три формы изнасилования (с использованием беспомощного состояния потерпевшей, путем угрозы насилия и с насилием), законодатель тем самым ввел в закон три разновидности деяния–исполнения: при использовании беспомощного состояния потерпевшей исполнение одномоментно, где начало и окончание изнасилования сливаются (по крайней мере подобное толкование следует из разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР от 5 августа 1967 г., согласно которому «изнасилование считается оконченным с момента начала полового сношения»[182], все же остальные действия располагаются за пределами исполнения изнасилования); использование при изнасиловании угрозы насилия расширяет деяние–исполнение и объективная сторона изнасилования начинается с момента произнесения угрозы насилия; использование насилия также делает более широкой объективную сторону изнасилования, поскольку оно предполагает начальным моментом исполнения первое насильственное телодвижение.
Отсюда следует седьмой критерий определения начала исполнения преступления: способы совершения преступления, самостоятельно выраженные в действиях и признанные законом обязательными для вида преступления признаками, являются составной частью деяния–исполнения и расширяют его за границы простейшего исполнения. При этом возникает любопытный вопрос о влиянии такого способа на установление конечного момента деяния–исполнения. Очень похоже на то, что анализируемые способы бывают двух видов: способствующие эффективному исполнению преступления, всегда (и только) предшествующие исполнению (угроза насилия, насилие) или сопровождающие все исполнение и даже существующие после него (проникновение в жилище остается опасным и после исполнения собственно кражи). Поэтому первые из них влияют только на момент начала исполнения, переносят его на более раннюю стадию; вторые же — на момент начала и на момент окончания преступления (кража с проникновением в жилище окончена будет только после завершения проникновения).
Указанные критерии в совокупности помогают установить начало исполнения преступления. Они же в своей основе могут быть применены и при определении момента окончания деяния–исполнения. Здесь ситуация даже несколько упрощается тем, что при анализе некоторых разновидностей преступлений (с усеченным и формальным составами) теория обычно раскрывает момент окончания преступления, естественно понимая под таковым момент окончания деяния–создания условий или деяния–исполнения. При этом, конечно, речь должна идти не о первом, а о последнем телодвижении соответствующего деяния, в том числе связанного со способом совершения преступления, о котором сказано выше. Некоторые сложности возникают в установлении окончания деяния–исполнения в преступлениях с материальным составом, поскольку при их исследовании окончание преступления теория уголовного права обычно связывает с наступлением того или иного объективированного вреда, в результате момент окончания деяния–исполнения теорией не изучается. Поэтому предлагаем дополнить указанные критерии восьмым, традиционно излагаемым теорией уголовного права и специально рассчитанным на установление момента окончания деяния–исполнения: под таковым понимается единственное либо последнее телодвижение из их совокупности, объективно необходимое для наступления общественно опасного результата.
Последним подэтапом стадии исполнения преступления выступает наступление преступных последствий, которое также для дифференциации общественной опасности можем разделить на частичное достижение преступного результата (Чр) и полное достижение Преступного результата (Пр).
Таким образом, этапы развития преступного действия во времени и пространстве имеют следующее схематическое изображение:
Вз → Оз → Су → Чд → Пд → Чр → Пр.
Нечто иное возникает при бездействии. Для того чтобы понять развитие стадий в таком случае, необходимо разобраться в механизме уголовно–правового действия и бездействия, их общих и отличительных чертах. Противоправно действуя, человек вторгается в окружающий его мир, изменяя его, создавая социально ненужное либо разрушая социально полезное. Именно в этом заключается и общественно опасное последствие, и причинная связь между поведением и результатом, и социальная значимость действия. Здесь все достаточно очевидно. С несколько другой картиной сталкиваемся при бездействии, когда наличие общественно опасного результата еще не свидетельствует о криминальной негативности поведения виновного.
В чем же дело? Обратим внимание на различия данных видов деяния, заключающиеся в характере поведения (пассивное — активное) и социально–личностном статусе, который привязывает поведение к общественным интересам (при бездействии — неисполнение обязанностей по изменению существующих отношений и возможность исполнения; при действии — указанные создание или разрушение). Вот две главные черты, разграничивающие бездействие и действие в их сущностном понимании.
Из них вытекает проблема, решение которой также может стать дополнительной отличительной чертой. Речь идет о причинной связи. Если при действии она раскрывается относительно просто, то при бездействии — не совсем. Довольно обширно и глубоко указанный вопрос изучен в работах Т. В. Церетели, А. А. Тер–Акопова, В. Б. Малинина[183] и других авторов, в которых приведены позиции сторонников и противников причинной связи при бездействии и высказываются аргументы в пользу наличия ее. Однако вопрос предельно ясным так и не стал.
Каждому здравомыслящему человеку понятно, что чистое «ничегонеделание» не может ни созидать, ни разрушать окружающий мир, не способно что–либо причинить. Не менее очевидно и другое: наличие социально–личностного статуса, привязка «ничегонеделания» к социуму через обязанности и возможности действовать также ничего создать в нем не могут (то, что человек должен был и мог действовать, само по себе не способно что–либо изменить в объективном мире), поскольку отражает лишь социальную значимость, но не причинность. Т. В. Церетели вполне обоснованно писала: «Установление того, что лицо в силу своего положения в сфере общественных отношений должно было действовать определенным образом, еще не достаточно для утверждения причинной связи между его бездействием и наступлением общественно опасных последствий (курсив наш. — А. К.)»[184].
Но, оказывается, возможность действовать все меняет и при ее наличии возникает причинная связь[185]. Интересно, что меняет в объективном мире тот факт, что лицо могло действовать? Возможность действовать способна сама по себе что–то создавать? Едва ли. Ни раздельно, ни в совокупности долженствование и возможность действовать не изменяют сущности бездействия как невторжения в ход событий. Поэтому все попытки обосновать причинную связь при бездействии посредством социально–личностного статуса заведомо обречены на неудачу.
Почему же мы все–таки говорим о причинной связи при бездействии, почему право обоснованно требует изыскивать в бездействии те элементы, которые связаны с преступным результатом, и отбрасывать как несущественные не связанные с последствием невыполнения обязанностей? В этом плане выглядят внешне убедительными примеры, приведенные Т. В. Церетели (с машинистом и обходчиком, со слепым и поводырем): «Нет никакой разницы менаду тем случаем, когда железнодорожный сторож выставляет зеленый флаг, указывающий на то, что путь безопасный, в то время как на самом деле опасен, и тем случаем, когда он не выставляет красного флага»[186], устанавливающие причинность при бездействии. Однако она не права уже в том, что не видит различий между соответствующими действием и бездействием. Ведь получив разрешающий сигнал, свидетельствующий о проверке и надлежащем состоянии пути, машинист вправе уменьшить внимание и при крушении на данном отрезке пути, связанном с поведением обходчика, не может быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку ответственный за состояние пути обходчик указал ему на безопасность дальнейшего движения. При неполучении никакого сигнала (не выставлен красный, но нет, и зеленого) в том месте, где он должен быть, машинисту следует удвоить внимание, снизить скорость поезда; при крушении ответственность с него не снимается. Мотивирующее влияние на других лиц имеется, но оно не столь однозначно (деятельность их продолжается одинаково направленно и интенсивно), как это пытается представить Т. В. Церетели[187], поскольку способствует и торможению развития действия иных лиц, и даже его приостановлению.
Ответ на вопрос о связи бездействия с результатом найдем, если посмотрим на причинение со стороны последствий: почему все они появились, хотя бездействие не могло их вызвать. Анализ последствий при бездействии показывает, что они возникают благодаря иным силам. И. Реннеберг считал, что «при преступном бездействии преступник путем опущения определенной общественно необходимой деятельности поставляет условия (курсив наш. — А. К.) для того, чтобы определенные, уже действовавшие или позднее привступившие естественные, технические или общественные процессы создали для общества вред или опасность вреда»[188]. С ним солидарна и Т. В. Церетели: «Развязав эти силы и представляя их своему течению, человек, таким образом, объективирует свою волю, и его поведение становится необходимым условием определенного результата (курсив наш. — А. К.)»[189]. По мнению А. А. Тер–Акопова, «общественно опасный результат иногда не связан непосредственно с поведением бездействующего, он является производным от действия каких–либо внешних по отношению к бездействующему лицу сил»[190]. Отметим, во–первых, что преступный результат не «иногда», а как правило, не связан непосредственно с поведением бездействующего; во–вторых, единодушие в теории уголовного права мнения о том, что бездействие является условием наступления общественно опасного результата. Вместе с тем Т. В. Церетели признает бездействие причиной последствия[191].
Так с условием или причиной мы здесь сталкиваемся? Очевидна несостоятельность выводов Т. В. Церетели. Чтобы доказать свое мнение, она признает непригодным для права общепринятого («механического») понимания причинности[192].
Данный вывод не аргументирован, ссылка на Н. Д. Дурманова и А. А. Пионтковского[193] ничего не проясняет и не обосновывает, тогда как следует считать аксиомой, что «нет и не может быть особых учений о причинной связи в отдельных научных дисциплинах. Не может быть поэтому особого учения о причинной связи и в советском уголовном праве»[194]. Вполне естественен следующий шаг Т. В. Церетели и ее сторонников: коль скоро причинность в праве специфична, можно отождествить условия и причины, размыть границы между ними, поскольку «неправильно при установлении ответственности противопоставлять причины условиям. Это привело бы к необоснованному ограничению ответственности»[195]. Думается, автор правильно предвидела возможность ограничения ответственности при разделении причин и условий. Только напрасно она определяла их как необоснованные. Подобные ограничения обоснованы уже самим фактом наличия условий, а не причины наступления результата.
Несколько запутала соотношение причины и условия и философия, указав, что «различие между причиной и условием относительно. Каждое условие в определенном отношении является причиной…»[196], т. е. в процессе развития какого–либо явления те или иные условия могут становиться причинами, а причины — условиями. Условия, превращаясь в причины, перестают быть условиями, так как приобретают черты причин. На самом деле это глубочайшее заблуждение, поскольку никогда условие не превращается в причину и наоборот. Что имеют в виду философы? Каждую причину сопровождает какая–то масса условий, которые помогают развиваться причине во времени и пространстве, подталкивают причину к развитию в определенном направлении в зависимости от значимости и степени влияния условий. При этом некоторые факторы (обстоятельства, явления), выступающие как условия данного причинного ряда, могут быть причиной другого следствия, т. е. создавать другой причинный ряд. Одно и то же явление выступает и в качестве причины, и в качестве условия, но в различных причинных рядах. Поэтому не условие становится причиной или причина условием, а какой–то фактор выступает в двух ролях — причины и условия. И здесь причина остается причиной, а условие — условием, они не могут подменять друг друга в связи с различием их свойств. Именно указанного не увидели или не захотели увидеть Т. В. Церетели и ее сторонники по формальному признанию условия причиной. И в этом заключается их ошибка в вопросе наличия причинной связи при бездействии.
Очень похоже на то, что при бездействии непосредственной причиной, первопричиной возникновения преступного результата выступают иные силы (природы, механизмов, животных, иных лиц). Однако это пока не решает проблемы объективной связи бездействия с преступным последствием. Ведь выше уже было сказано, что причина причины признается причиной следствия. Именно поэтому возникает вопрос: может ли бездействие вызвать к жизни, породить иные силы? По общему правилу, нет, поскольку нельзя бездействием запустить в движение механизм, нельзя, бездействуя, заставить животное причинить вред и т. д. Следовательно, по общему правилу бездействие не способно выступать в качестве причины причины и поэтому быть причиной следствия.
Подобный вывод может показаться неоправданным, особенно в такой ситуации, как некормление новорожденного или парализованного, повлекшее их смерть, когда вроде бы прослеживается необходимая связь бездействия и результата. Здесь появляется какое–то несоответствие между естественным представлением о сущности бездействия, неспособного к причинению, и, похоже, жесткой связью, не исключено — причинной, между бездействием и результатом, которое настолько контрастно, что некоторые ученые пытались доказать наличие в приведенных случаях действия, а не бездействия[197]. Конечно же, в таких ситуациях нет действия, однако и непосредственность причинения проблематична. Ведь необходимые причинные связи характеризуются в основном закономерностью развития преступления от деяния к последствию (от конкретного деяния должен возникнуть или возникает именно этот, а не какой–то другой результат); в самой причине должна быть заложена возможность наступления следствия. Некормление новорожденного, похоже, также несет в себе закономерное развитие события. Но давайте уточним, что же все–таки влечет за собой последствие: не предоставление пищи, специфика жертвы (новорожденный, парализованный, связанный) или непреложный закон природы (систематическое непоступление пищи в организм влечет смерть человека). Скорее всего, результат возникает необходимо в связи с законом природы, который действует в зависимости от того, имеется ли некормление, либо невозможно достать пищу, либо отказ самого лица от принятия пищи, т. е. бездействие вызывает к жизни закон природы, а тот в свою очередь — преступный результат. Схематически это изображено ниже:
Питание → норма → жизнь
Отсутствие пищи → патология → смерть
Здесь два противоположных поведения (действие и бездействие) являются элементами двух противоположных законов (нормальное функционирование организма или его истощение), куда включаются и два противоположных результата (жизнь или смерть). При этом действие абсолютно исключает смерть, а бездействие — жизнь. И все сказанное, по существу, представляет собой жесткое единство противоположностей — закон сохранения жизни, т. е. жесткая безальтернативная связь двух противоположностей, объединенных общим законом природы, который не знает также альтернативы, влечет за собой признание бездействия причиной причины и, следовательно, причиной результата.
Возможно, в указанном случае мы имеем единственное или одно из немногих исключение из правила признания бездействия условием, а не причиной. Именно поэтому весьма спорно высказывание Т. В. Церетели о тех вариантах, когда бездействие признается причиной результата. «Это происходит в тех случаях, когда силы, непосредственно воздействующие на какой–либо объект, находятся в сфере власти человека и человек своим невмешательством представляет им возможность действовать в определенном направлении. Развязав эти силы и предоставляя их своему течению, человек объективирует свою волю и его поведение становится необходимым условием наступления определенного результата»[198]. В приведенном высказывании представляются спорными несколько моментов: 1) непосредственно воздействующие силы не просто находятся во власти человека, но последний их еще и порождает в той или иной ситуации, до этого они существуют гипотетическй; 2) используя свою власть над иными силами и порождая их, лицо не «предоставляет им возможность действовать», а направляет их действие в нужное ему русло; 3) здесь нет необходимого условия, поведение лица представляет собой причину результата.
Непосредственное причинение путем бездействия встречается, по–видимому, крайне редко и оно всегда напрямую связано с объектом посягательства, т. е. объект должен быть идентичен характеру деяния, когда наличие причинной связи с результатом с необходимостью влечет за собой строго определенную квалификацию (причинение физического вреда — преступление против личности, имущественного вреда — против собственности).
Отсутствие причинения при бездействии по общему правилу ведет к связи с иным объектом (не случайно один и тот же вред, например лишение жизни, является преступлением и против личности, и против интересов государства, и против трудовых и иных прав граждан, и против общественной безопасности и т. д.). В последнем варианте лицо не порождает иные силы, а лишь помогает развиваться имеющимся силам в определенном направлении, т. е. лицо своим бездействием создает лишь условия для развития существующих сил и при выполнении своих обязанностей оно могло бы нейтрализовать действия иных сил. Отсюда следует, что особенности объективной связи позволяют различным образом квалифицировать преступление, совершенное путем бездействия. Саму связь отрицать здесь нельзя, поскольку «связь — специфированное отношение, при котором наличие (отсутствие) или изменение одних объектов есть условие наличия (отсутствия) или изменения других объектов»[199]. Но чаще всего при бездействии она носит обусловливающий характер в пределах «бездействие — иная сила», вместе с тем становится опосредованной с позиции «бездействие — преступный результат». Таким образом, при бездействии превалирует связь обусловливающе–опосредованная, а не причинная. Поэтому прав А. А. Тер–Акопов, утверждавший, что «механизм причинения при бездействии иной, чем при действии»[200]. Изобразим указанную связь схематически:
Вз → Оз → СУ → Д → Пр,
где поведение бездействующего ограничивается созданием условий, далее — действие иных сил. Подобный подход, оставляющий за рамками исполнения (Д) бездействие, может показаться странным, поскольку мы привыкли считать бездействие элементом объективной стороны преступления. И все же он представляется верным.
Проиллюстрируем сказанное конкретным примером: заведующий складом воинской части оставил на ночь окна склада открытыми, в результате ущерб причинен а) действиями других лиц, похитивших товары по сговору с заведующим складом, или б) дождем, залившим товары через открытые окна, из–за чего они были повреждены или уничтожены. В первом случае бездействие квалифицируется как пособничество (создание условий в чистом виде) хищению, во втором (при наличии существенного вреда) как халатность (бездействие признается исполнением). В чем же дело? Ведь в обоих вариантах мы имеем дело с одним и тем же бездействием и обусловливающе–опосредованной связью, но с различной субъективной стороной, при различных иных силах и с различной оценкой (созданием условий или исполнением преступления). Дело в том, что здесь в чистом виде исполнения преступления нет, так как объект посягательства (нормальная деятельность по управлению хозяйством, осуществляемая должностными лицами) и результат (имущественный вред) идентично не совпадают. Соответствующее объекту создание условий лишь объявляется законодателем исполнением преступления, но не против собственности, а против указанной нормальной деятельности, т. е. специфическим исполнением, при котором результат связан с деянием не причинно, а обусловливающе–опосредованно.
2.2. Стадии в продолжаемых преступлениях
К разновидности преступлений, совершенных с прямым, заранее обдуманным умыслом, относится продолжаемое преступление, хотя в теории высказана точка зрения, согласно которой продолжаемым может быть и неосторожное преступление[201].
Под продолжаемым преступлением судебная практика понимает неоднократное совершение преступления, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, имеющих общую цель, которые охватываются единым умыслом виновного и составляют в своей совокупности одно преступление[202]. В целом теория уголовного права давно поддерживает изложенную позицию[203]. Особенностями данного вида преступления является следующее: а) оно представляет собой единичное преступление с общим результатом; б) продолжаемое преступление состоит из ряда отдельных частей, как правило, с самостоятельными действиями и самостоятельным результатом каждая; в) каждая часть является минипреступлением; г) с самого начала совершения продолжаемого преступления умысел виновного направлен на общий результат; д) с самого начала совершения данного преступления виновный понимает, что для достижения общего результата ему необходимо совершение нескольких отдельных минипреступлений; е) кроме умысла на общий результат у виновного существуют отдельно умыслы на совершение каждой части продолжаемого преступления: ж) умысел на общий результат называется единым, потому что он объединяет в нечто целое все умыслы относительно отдельных частей; з) общий результат является целью поведения лица с начала совершения продолжаемого преступления; и) данная цель называется общей, потому что она представляет собой цель всех отдельно совершенных частей анализируемого преступления; к) общая цель в продолжаемом преступлении обязательно должна быть конкретизирована по объему, весу, размеру и т. д. Таким образом, продолжаемое преступление — это система отдельных преступных актов, представляющая собой единичное преступление.
Если мы выделяем продолжаемое преступление как нечто особенное среди других видов преступлений, то должны понять и разграничение его с другими преступлениями. Представляется, существует достаточно стройная система видов преступлений, основанная на количестве актов поведения и их результатов, признанных самостоятельными преступлениями: а) одномоментные (одно телодвижение и одно криминально значимое или не значимое последствие); б) многомоментные (ряд актов поведения при одном криминально значимом или не значимом последствии); в) повторные (несколько актов поведения и несколько последствий, каждый из которых составляет самостоятельное преступление)[204]; г) продолжаемые (ряд актов поведения и ряд последствий, объединенных общим для них результатом). Вот цепочка преступлений от простых к сложным.
При выделении продолжаемого преступления в самостоятельную правовую категорию возникает необходимость в разграничении продолжаемого преступления и смежных видов преступлений (многомоментного и повторного). Мы избрали только смежные виды преступлений по одной причине — одномоментное поведение ничуть не похоже на продолжаемое, у данных видов преступления нет ничего общего, кроме того, что они суть преступления. Определенную сложность представляет собой отграничение продолжаемого от многомоментного преступления. Дело в том, что в многомоментном преступлении, как и продолжаемом, имеется единый замысел и, в определенных случаях, общая цель, которые соединяют ряд актов поведения и обусловленный ими результат (например, для производства выстрела из винтовки необходимо передернуть затвор, загнать тем самым патрон в патронник, нажать на курок). На этом фоне различие между указанными видами преступлений заключается в том, что в многомоментных преступлениях имеется один результат, тогда как в продолжаемом — единый результат, объединяющий несколько последствий. В многомоментном действии каждый акт поведения специфичен, не тождествен другим актам поведения, и все отдельные акты создают некоторое единство специфичных актов. В продолжаемом преступлении, как правило, имеются тождественные акты поведения, каждый из которых мы можем признать самостоятельным преступлением, и не делаем этого только из–за объединенности их умыслом и целью. Разумеется, при этом трансформируется и характер единого замысла, который только объединяет в себе отношение к последствию, общему для ряда актов поведения, но уже и отношение к единому результату, синтезирующему отдельные последствия[205]. Однако это сущностное отличие единого замысла в первом и втором вариантах не выходит на терминологический уровень, благодаря чему различие по субъективным моментам затушевывается.
Еще сложнее разграничение продолжаемого и повторного преступлений. Подобное пытался осуществить еще Н. С. Таганцев, однако, похоже, он сам не смог до конца разобраться в сущности продолжаемого преступления и потому не смог внятно разграничить его с совокупностью (необходимо помнить, что во времена Н. С. Таганцева множественность преступлений имела два вида — повторение как множественность с судимостью и совокупность как множественность без судимости. — А. К.). Чтобы не быть голословным, приведем цитату из его работы: «Точно так же поджог остается единичным преступлением, хотя бы сгорело несколько домов разных владельцев или в одном доме имущество разных квартирантов. А с друтой стороны, поджог домов, принадлежащих одному владельцу, но находящихся, например, в разных частях Петербурга, или кража у одного лица, но в разное время, — составят, конечно, не единичное преступление, а совокупность (курсив наш. — А. К.)»[206]. Во–первых, автор смешал в понятии продолжаемого преступления два самостоятельных вида преступления — единичное с двумя и более последствиями (они характеризуются одним деянием и несколькими последствиями) и продолжаемое преступление (несколько действий и несколько последствий). Во–вторых, если виновный решил сжечь дома одного владельца, находящиеся в разных частях города, то здесь в чистом виде имеется именно продолжаемое, единичное преступление, поскольку существует единство умысла и общая цель. На этом фоне, естественно, автор не смог однозначно развести продолжаемое и повторное преступление. В повторном преступлении, в отличие от продолжаемого, отсутствует единый результат, благодаря чему каждое последствие и связанные с ним акты (или один акт) поведения становится самостоятельным преступлением. Таким образом, единый результат выступает в качестве объективного фактора, разграничивающего продолжаемое и смежные с ним виды преступления. И в тех случаях, когда единый результат наступил, мы сталкиваемся с оконченным продолжаемым преступлением, а при его ненаступлении — с неоконченной преступной деятельностью, поскольку единый результат — обязательный признак продолжаемого преступления. Думается, это бесспорный факт, в противном случае вся теория продолжаемого преступления теряет свою специфичность. Очевидным примером продолжаемого преступления служит доведение до самоубийства.
Опираясь на предложенную систему видов преступлений, попытаемся определить в ней место тех видов преступлений, которые признаются в теории продолжаемыми преступлениями, несмотря на их неосторожный характер: загрязнение водоемов и воздуха, загрязнение моря, преступно–небрежное использование или хранение сельскохозяйственной техники и другие[207]. Начнем с загрязнения водоемов, воздуха и моря. Загрязнение приобретает правовое значение лишь после того, как оно выходит за пределы санитарных норм. При этом уже малейший выход за пределы данных норм есть правонарушение. Преступлением же становится не всякое загрязнение, а лишь существенное нарушение указанных норм. Однако и существенное нарушение неоднозначно, поскольку есть какой–то минимум и максимум существенности. И интервал между ними может быть достаточно широким. Какое существенное загрязнение окружающей среды следует признавать единым результатом: минимальное, в рамках интервала или максимальное? Ответ может быть только один: любое загрязнение в равной мере будет признано оконченным преступлением в конкретных случаях, что свидетельствует об отсутствии единого результата. Кроме того, по достижении преступного результата продолжаемое преступление прекращает свое существование. Загрязнение окружающей среды не прекращается ни при минимальном, ни даже при максимальном загрязнении (скажем, уничтожении биологической жизни в каком–либо озере), загрязнение будет длиться до тех пор, пока не будет уничтожен источник загрязнения. И это также свидетельствует о невозможности признать загрязнение окружающей среды продолжаемым преступлением.
На наш взгляд, загрязнение окружающей среды — повторное преступление в виде систематичности, так как каждый значительный выброс газа или отравленных отходов производства есть загрязнение окружающей среды — самостоятельное преступление; и продолжение во времени создает систему таких актов поведения и наступивших результатов — систематическую повторность преступлений.
Исходя из изложенного, считаем, что продолжаемое преступление — всегда умышленное, заранее обдуманное преступление, так как достижение единого результата, возникновение общей цели возможны только при целенаправленной деятельности.
Как уже было сказано, специфика продолжаемого преступления заключается в том, что оно состоит из нескольких преступных актов, направленных на единый результат, который является общей целью всех актов. Отсюда и особенности стадий совершения данного преступления. Прежде всего, особенность стадий проявляется в наличии возникновения замысла, обнаружения его и создания условий, относящихся только к единому результату. Вместе с тем, такие же стадии имеются и в каждом отдельном преступном акте, составляющем продолжаемое преступление. В связи с этим схема развития продолжаемого преступления несколько иная:
ВЗ → ОЗ → СУ → вз1 → су1 → чд1 → пд1 → чр1 → пр1 …
… взн → озн → сун → чдн → пдн → чрн → прн → ПР
При этом интересно посмотреть на соотношение этапов развития преступления, относящихся к окончательному преступному результату и к каждому отдельному преступному акту. Так, возникновение замысла относительно конечного результата (ВЗ) всегда будет предшествовать отдельному преступному акту и равняться в продолжаемом преступлении сумме возникающих замыслов по каждому отдельному преступному акту (ВЗ = вз1 + … взн). При этом виновный, не имея четкого представления о количестве совершаемых отдельных актов, твердо знает, что преступление будет совершено по частям. Несколько иначе решается вопрос со стадиями относительно создания условий: общее создание условий применительно ко всему преступлению не исключает возможности существования отдельных фактов создания условий по тем или иным преступным актам, составляющим продолжаемое преступление (СУ + су1 +… сун). Таким образом, возможно какое–то суммарное создание условий. Конечный преступный результат (ПР) представляет собой обязательно сумму преступных результатов, достигнутых совершением каждого отдельного преступного акта (пр1 + … прн = ПР).
Подобное рассмотрение стадий совершения продолжаемого преступления имеет большое практическое значение. Возьмем, например, стадию создания условий, относящихся ко всем преступлениям в целом (СУ). Предположим, работник завода, изготавливающего телевизоры, договорился с вахтером о том, что тот будет всегда пропускать его без осмотра. И в первом варианте уточнил конечную цель — сборку телевизора дома из похищенных деталей, а во втором — нет. В любом случае вахтер будет отвечать за всю совокупность совершаемых действий, но в первом случае в качестве соучастника продолжаемого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 158 УК РФ 1996 г.), а во втором — повторного (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК). Если же рассмотрим стадию создания условий, относящуюся к каждому отдельному преступному акту (су), и предположим, что при совершении каждого отдельного преступного акта были задействованы различные вахтеры без знания конечной цели хищения, то каждый из них будет нести уголовную ответственность только за те последствия, которые наступили в результате совершения данного отдельного преступного акта (пр).
При совершении преступления с прямым внезапно возникшим умыслом, как правило, отсутствует стадия обнаружения замысла и не всегда присутствует стадия создания условий; стадия возникновения замысла довольно часто граничит со стадией исполнения или даже совпадает с ней при механических рефлекторных движениях, переходящих в осознанные. В остальном схема развития преступной деятельности совпадает с той, которая имеется при совершении преступления с прямым заранее обдуманным умыслом.
2.3. Стадии при наличии косвенного умысла и неосторожности
Некоторую сложность представляет собой анализ стадий совершения преступления с косвенным умыслом. Не совсем ясно, какие же деяния к таковым относятся, поскольку в теории уголовного права высказана точка зрения, согласно которой при осознании неизбежности наступления результата следует говорить не о косвенном, а о прямом умысле[208]. На основе данной позиции ее сторонники иногда могут расценить последствия как неизбежные (например, раздевать пьяного на улице в 40-градусный мороз означает предвидеть неизбежность его замерзания), т. е. признать их несовместимыми с косвенным умыслом. В подобном подходе наблюдаются следующие недостатки:
1. Указание на неизбежность в определенной части противоречит диалектике. Вспомним язвительно–острую критику Ф. Энгельсом неизбежности последствий, предлагаемой представителями механистического материализма: «Что в этом стручке пять горошин, а не четыре или шесть, что хвост этой собаки длиною в пять дюймов, а не длиннее или короче на одну линию… что в прошлую ночь меня укусила блоха в 4 часа утра, а не в 3 или в 5, и притом в правое плечо, а не в левую икру, — все эти факты вызваны не подлежащим изменению сцеплением причин и следствий, незыблемой необходимостью и притом так, что уже газовый шар, из которого произошла солнечная система, был устроен таким образом, что эти события должны были случиться так. а не иначе»[209].
Именно потому, что любое последствие в самых, казалось бы, неизбежных ситуациях может быть отклонено случайностями, едва ли нужно связывать его с неизбежностью. История знает множество случаев, когда даже падение с очень большой высоты заканчивалось для падающего легкими царапинами. Так, несколько десятилетий назад печать сообщила об удивительном случае: человек падал с километровой высоты, попал сначала на пластиковую крышу завода, которая проломилась, но, спружинив, смягчила удар, а затем он приземлился на кучу обтирочного материала, завезенного в цех незадолго до его падения. Всем памятен случай, когда в Южной Америке в воздухе взорвался самолет, но одна девушка осталась жива и смогла после этого преодолеть километры джунглей. В начале 1987 г. газеты сообщили о тренировочном прыжке с парашютом с высоты около трех километров, при котором у парашютистки не раскрылся парашют; инструктор специально затянул прыжок, догнал и поймал в воздухе парашютистку, раскрыл свой и ее парашюты; оба благополучно приземлились.
С позиции сторонников неизбежности во всех этих и многих других подобных ситуациях результат должен наступать неизбежно, но его не было и при возникающих случайностях быть не должно. Здесь нужно говорить не о неизбежности, а о необходимости наступления последствий, которая может быть изменена случайностями, поскольку необходимость — всегда совокупность случайностей; необходимость выступает как признак причинения, как закономерное существование следствия в самой причине, а случайность — лишь форма выражения необходимости, лишь соотношение двух необходимостей между собой. Именно в этом заключается суть соотношения необходимого и случайного в диалектическом материализме[210]. А это уже в корне меняет решение анализируемых случаев совершения преступления с косвенным умыслом.
2. Соотнесение приведенных и подобных примеров только с прямым умыслом некорректно. Вообще надо отметить, что необходимость и случайность как категории сугубо объективные никоим образом не зависят и не могут зависеть от вины — субъективной категории, так как при их определении разрешается один относительно простой вопрос, следует ли с необходимостью или случайно за одним явлением другое. В свою очередь и вид вины не зависит от необходимости и случайности (например, необходимые причинные связи возможны и при умысле, и при неосторожности).
3. Неверно было сопоставлять на одном уровне виды умысла с неизбежностью (прямой умысел) или возможностью (косвенный умысел) наступления последствий[211], поскольку неизбежность и возможность не являются одноуровневыми категориями. Возможности можно противопоставить только действительность, но никак не неизбежность. Уголовный кодекс РФ сделал замечательный шаг вперед, связав в отличие от УК РСФСР 1960 г. предвидение применительно к прямому, косвенному умыслам и легкомыслию с возможностью наступления преступного результата, так как нельзя предвидеть действительность, которая уже есть, существует и ее можно только наблюдать, осязать и т. д., но не предвидеть. Однако при этом законодатель наряду с предвидением возможности наступления преступного результата вводит предвидение неизбежности его наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ), повторяя ту же самую теоретическую ошибку, выводя уголовно–правовую терминологию за пределы философских категорий, разрушая ту непрочную основу терминологии, которая у нас пока существует. Если окружающий мир представлен либо как возможный, либо как действительный, где здесь место неизбежности? Сторонники критикуемой позиции могут сказать, что речь идет только о предвидении неизбежности, о создании в сознании виновного образа результата как неизбежного: «Лицо, намеренное причинить определенные последствия, убеждено в реальном осуществлении своих намерений, мыслит их в идеальной форме как уже наступившие и, следовательно, представляет их себе как неизбежные»[212]. Нужно отметить, что в данном случае мы сталкиваемся с определенным теоретическим изыском: виновный никогда не думает о неизбежности последствий. Да, он стремится к желаемому результату, да, он видит этот результат в качестве реально возможного, но он не задумывается о «неизбежности».
4. Если прямой умысел связывать с предвидением «неизбежности», то такое положение войдет в противоречие с волевым моментом прямого умысла, заключающемся в желании наступления преступного результата, при котором последствие становится нужным, необходимым виновному, целью его поведения. Но не всякий, пусть даже «неизбежный», результат выступает в качестве подобной цели; к «неизбежному» результату можно относиться и безразлично, вовсе не желая его. По–видимому, в волевом моменте и кроется основное отличие прямого и косвенного умыслов. Игнорировать — это значит, затушевывать указанное различие, делать волевой момент (желание, стремление к определенной или неопределенной цели) «плавающим», относящимся и к прямому, и косвенному умыслу, поскольку судебная практика будет по–разному толковать «неизбежность»; признавать наличие прямого умысла при результате, не нужном виновному, побочном по существу[213]. Возможно, подобное было оправдано при правосудии с обвинительным уклоном, когда главным было как можно более жестко наказать лицо, совершившее преступление (именно оттуда пришла позиция, согласно которой следовало относить предвидение «неизбежности» к прямому умыслу, вопреки логике классификации видов вины); в обществе же, стремящемся к правовому государству, такого быть не должно.
5. Если прямой умысел мы будем связывать с предвидением неизбежности, то тем самым создадим неприемлемое. Ведь неизбежность не может быть отклонена случайностями[214], следовательно, при ней невозможна прерванная преступная деятельность (покушение). Рискнут ли сторонники критикуемой позиции выделить категорию преступлений, по которым невозможна прерванная преступная деятельность в силу неизбежности их результата (например, сбрасывание с вертолета с большой высоты, бросание в реку связанного и т. д.)? Полагаем, едва ли.
Исходя из изложенного, думается, категория неизбежности и ее предвидения вообще не имеет уголовно–правового значения, как и философского вообще. Отсюда неприемлемы и попытки соответствующих ограничений косвенного умысла.
Рассмотрение этапов развития преступной деятельности, осуществляемой с косвенным умыслом, представляет известную сложность. Во–первых, совершение преступления при его наличии является лишь частью определенной человеческой деятельности, которая вызывает два результата: желаемый и побочный; именно побочный результат и имеет место при косвенном умысле, если говорить точнее — косвенный умысел всегда связан только с побочным результатом и отношение косвенного умысла — это отношение к побочному результату; во–вторых, достижение желаемого результата может быть само по себе преступно (совершается преступление с прямым умыслом) и непреступно (желаемый результат правомерен), т. е. возникает два варианта совершения преступления с косвенным умыслом:
где Д — совершаемое деяние, РЖ — результат желаемый, РП — результат побочный. И если в первом варианте деятельность лица в целом преступна, то во втором преступна лишь частично и здесь стадии достижения желаемого результата в целом нельзя признать стадиями совершения преступления, поскольку желаемый результат правомерен. Но с определенного момента, а именно с возникновения замысла в отношении побочного преступного результата стадии достижения желаемого результата в их части становятся преступными стадиями постольку, поскольку они участвуют в возникновении побочного преступного результата.
Однако в обоих вариантах общественная опасность побочного результата либо увеличивает общественную опасность деяния на какой–то объем (при полностью преступном поведении), либо создает общественную опасность какого–то объема.
И в первом, и во втором случаях мы имеем как бы два уровня развития преступной деятельности: на первом — стадии развития преступления, совершаемого с прямым умыслом, или правомерной деятельностью лица; на втором — стадии развития преступления, совершаемого с косвенным умыслом. Разумеется, эти два уровня можно выделить с трудом, так как стадии того и другого уровней тесно связаны друг с другом; и только на стадии последствий указанные уровни зримо разделяются.
Итак, в первом варианте стадии развития преступной деятельности можно изложить следующим образом:
(РЖ) ВЗ → Оз → СУ → Чд → Пд → Чр → Пр,
(РП) ВЗ → Оз → СУ → Чд → Пд → Чр → Пр.
При изучении двух уровней в их взаимосвязи возникает несколько вопросов: а) когда, на какой стадии первого уровня возникает замысел на побочный результат; б) насколько самостоятельны стадии, связанные с побочным результатом; в) какова значимость выделения стадий, связанных с побочным результатом?
Представляется, замысел на достижение побочного результата может возникнуть на различных стадиях совершения преступления с прямым умыслом: то, что наступит побочный результат, виновный предвидит и тогда, когда возник замысел на достижение желаемого результата (оба замысла возникают одновременно); и тогда, когда замысел на достижение желаемого результата обнаружился (замысел на побочный результат сдвинут по схеме вправо); и тогда, когда создавались условия для. достижения преступного результата, и даже при исполнении деяния в направлении желаемого результата. Сдвиг во времени возникновения замысла в отношении побочного результата имеет свои границы, самый ранний момент — возникновение замысла на желаемый результат; раньше он возникнуть не может в силу того, что косвенный умысел напрямую связан с желаемым результатом, с достижением которого виновный связывает возможность наступления от его действий и побочного результата; крайний момент возможного возникновения замысла в отношении побочного результата — полное совершение деяния (Пд), направленного на достижение желаемого результата. Более раннее или позднее в указанных пределах возникновение замысла в отношении побочного результата зависит от конкретных обстоятельств каждого преступления: характера преступления, обстановки его совершения, состояния виновного, его мыслительных способностей и т. д.
При этом не вызывает сомнения тот факт, что возникновение замысла в отношении побочного результата и его обнаружение — абсолютно самостоятельные стадии по сравнению с соответствующими стадиями по достижению желаемого результата, поскольку, во–первых, осознание общественной опасности содеянного и предвидение наступления желаемого результата отличаются от осознания общественной опасности деяния и предвидения наступления побочных последствий и по степени вероятности осознания (от возможного до действительного), и по степени достоверности предвидения (от абсолютно ложного до полностью адекватного); во–вторых, указанные стадии могут сосуществовать друг с другом разорванно во времени (сдвинуты во времени по различным этапам).
Последующие стадии совершения преступления (создание условий, частичное выполнение деяния–исполнения, полное выполнение деяния–исполнения) могут быть общими и для достижения желаемого, и для наступления побочного результата. Здесь возможны три варианта: 1) действия по созданию условий в направление желаемого результата порождают побочный результат, и тогда деяние–исполнение, направленное на желаемый результат, характеризует только преступление с прямым умыслом; общим для обоих уровней останется только стадия создания условий в направлении желаемого результата, признаваемая стадией исполнения по достижению побочного результата; 2) деяние–исполнение, направленное на желаемый результат, порождает и побочный результат, и тогда общим для обоих уровней будет деяние–исполнение (целиком или в определенной части); 3) создание условий и деяние–исполнение, направленные на достижение желаемого результата, в совокупности порождают побочный результат (являются совокупным исполнением в направлении побочного результата), в таких случаях общими для обоих уровней будут обе стадии совершения преступления. По существу, смысл косвенного умысла и заключается в том, что из одного и того же (одних и тех же) деяния (деяний) вытекают и желаемое, и побочное последствия.
На стадиях частичного и полного наступления результата развитие преступной деятельности, осуществляемой с косвенным умыслом, т. е. направленной на достижение желаемого и побочного результата, вновь дифференцируется; частичное и полное наступления результата становятся абсолютно самостоятельными стадиями по отношению к желаемому и побочному результатам, т. е. желаемое последствие никогда и ничего не способно породить (если оно не выражено в самостоятельных действиях — последствие–действие, либо в бездействии, причинно связанном с иным результатом). Поэтому представляется достаточно странным традиционное признание того, что тяжкий вред здоровью как последствия может повлечь за собой смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Во–первых, указанное последствие (тяжкий вред здоровью) не выступает в качестве самостоятельного действия или бездействия, способного повлечь иной вред, а без этого последствие не может причинять вред. Во–вторых, подобное традиционное толкование указанного вида преступления противоречит закону, который говорит о тех же действиях (по причинению тяжкого вреда здоровью), повлекших смерть потерпевшего, т. е. от деяния–исполнения исходят два последствия: желаемое и побочное. Последнее возникает только потому, что деяние–исполнение несколько «богаче» по своей структуре, нежели это необходимо только для причинения тяжкого вреда здоровью; в нем заложена большая энергия поведения по сравнению с требуемой для причинения тяжкого вреда здоровью, именно потому возникает и может быть вменен виновному побочный результат. И именно потому нет и быть не может двойной формы вины как теоретической[215] и тем более законодательной (ст. 27 УК 1996 г.) конструкции. Есть просто две различные вины по отношению к желаемому и побочному результатам.
Таким образом, полностью самостоятельными стадиями наступления побочного результата в соотношении со стадиями развития преступной деятельности в направлении желаемого результата следует признать возникновение и обнаружение замысла и частичное или полное наступление последствий.
Подобное исследование стадий совершения преступления с косвенным умыслом имеет существенное теоретическое и практическое значение, заключающееся главным образом в более четкой дифференциации общественной опасности содеянного в связи с дополнительным возникновением побочных последствий и соответствующим увеличением объективной общественной опасности содеянного, кроме того, в изменении общественной опасности личности виновного в зависимости от момента возникновения замысла в отношении побочных последствий (чем раньше возник замысел по отношению к ним, тем опаснее личность виновного, так как он не использовал предоставленной ему во времени возможности предотвратить наступление не нужного ему общественно опасного побочного результата).
Возможно, это не особенно заметно на фоне преступной деятельности, осуществляемой с прямым умыслом (хотя и здесь довольно часто вред, причиняемый при наличии косвенного умысла, более значительный, чем причиненный связанным с ним преступлением с прямым умыслом (поджог дома с прямым умыслом и причинение смерти проживающим в нем — с косвенным; естественно, подобное требует и более детального исследования последнего). Однако является важным рассмотрение второго варианта развития преступной деятельности, осуществляемой с косвенным умыслом, когда она связана с правомерным достижением желаемого результата. Схематически это выглядит следующим образом:
(РЖ) Ппо → ОППо → СУ → Чд → Пд → Чр → Пр,
(РП) Вз → Оз → СУ → Чд → Пд → Чр → Пр.
Все сказанное выше в определенной степени применимо и к данному варианту развития преступной деятельности. Но необходимо помнить о том, что в направлении желаемого результата осуществляется правомерная деятельность и сам желаемый результат — правомерен. И она становится преступной лишь после возникновения замысла в отношении побочного результата, являющегося общественно опасным (если, скажем, замысел возник на стадии исполнения, то создание условий (СУ), сколь значимо бы оно ни было, не может иметь криминального значения).
При этом с возникновением замысла объективно существующие стадии ранее правомерной деятельности, охваченные замыслом, становятся противоправными полностью или частично. В тех случаях, когда они лишь частично становятся противоправными, возникают проблемы вычленения именно этих частей в общих объемах создания условий и деяния–исполнения и определения их причинной связанности или связанности обусловливающе–опосредованной с наступлением побочного результата.
В целом так же, как и при косвенном умысле, развивается неосторожная преступная деятельность (в двух вариантах и на двух уровнях), поскольку и здесь мы сталкиваемся с развитием побочной деятельности на фоне деятельности по достижению желаемого результата. Однако существуют и некоторые особенности развития неосторожного преступления.
Особенности динамики преступлений, совершенных с легкомыслием (преступной самонадеянностью), исходят из специфики данных преступлений. Дело в том, что при легкомыслии лицо, анализируя развитие причинной связи между деянием, направленным на достижение желаемого результата, и побочным последствием его, приходит к выводу, что указанное деяние может вызвать и общественно опасный побочный, ненужный ему результат. Но поскольку данный результат ему не нужен, виновный стремится избежать его и исследует конкретные, имеющие место в жизни обстоятельства, способные исключить возникновение побочного результата. Обнаружив такие обстоятельства и относительно правильно оценив их способность к предотвращению нежелаемых последствий, виновный начинает выполнять деяние, направленное на достижение желаемого результата, считая при этом, что преступный побочный результат не наступит вовсе. Тем не менее, вопреки расчету, побочный результат в се–таки наступает, так как виновный не учел влияния иных обстоятельств либо неверно рассчитал влияние допущенных обстоятельств, что в конкретной обстановке нивелирует и изменяет существенно значимость взятых в расчет обстоятельств; здесь же изменяется и развитие причинной связи, вызывая к жизни нежелаемый результат.
Анализируя изложенный механизм совершения преступления при наличии легкомыслия, с необходимостью приходим к выводу: к началу выполнения деяния виновный уже отбрасывает прочь свои сомнения по поводу побочного результата, перестает предвидеть его наступление и его общественную опасность. Таким образом, во–первых, при совершении преступления с легкомыслием замысел в отношении побочного результата может возникать лишь на стадиях деятельности, направленной на желаемый результат, которые предшествуют началу выполнения деяния. На более поздних стадиях совершения правомерного деяния его возникновение невозможно, тогда как при совершении преступления с косвенным умыслом замысел в отношении побочного результата может возникать на всех стадиях развития деятельности в направлении желаемых последствий, кроме стадий наступления последствий. Во–вторых, при совершении преступления с легкомыслием замысел, связанный с осознанием и предвидением, возникнув, исчезает до начала частичного совершения деяния, тогда как при совершении преступления с косвенным умыслом указанный замысел в отношении побочного результата, возникнув даже на самых ранних стадиях достижения желаемого результата, длится во времени, сопровождая всю деятельность вплоть до наступления последствий. В-третьих, после принятия решения действовать замысел виновного совершенно изменяется, принимая форму, не предусмотренную законодательством, поскольку здесь лицо уже не осознает и не предвидит возможность наступления преступного результата, хотя должно было и могло предвидеть. При косвенном умысле подобного, похоже, не бывает. Таким образом, при легкомыслии с начала исполнения деяния по причинению или обусловливанию побочного результата замысел виновного не оформлен законодательно.
Несколько иначе выглядят стадии совершения преступления при преступной небрежности. В теории уголовного права и в законе преступная небрежность связывается не с предвидением, но с долженствованием и возможностью предвидения возможности наступления преступного результата. Подобная формулировка преступной небрежности наводит на мысль об отсутствии при ней какого–либо психического отношения лица к наступившим общественно опасным последствиям. Данный вывод признается в теории неверным, поскольку преступная небрежность свидетельствует о том, что «лицо не проявило необходимой предусмотрительности, бережного отношения к чужим интересам, заботливости о соблюдении правил социалистического общежития и т. п.»[216], «о пренебрежении лица требованиями закона, правилами социалистического общежития, интересами других лиц»[217], в чем и проявляется психическое отношение лица к содеянному. Однако не в нем заключается основа вины лица в виде преступной небрежности. Ведь в известных случаях лицо может и проявлять указанное пренебрежительное отношение к результатам своего поведения и тем не менее не быть виновным. Подобное особенно ярко проявляется тогда, когда какое–либо лицо на основании обязанностей должно было предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий, но в силу создавшейся ситуации не могло их предвидеть.
Значит, главным в определении вины в виде небрежности является вовсе не психическое отношение лица к результатам содеянного, которого нет, а предписываемое лицу обществом надлежащее отношение к окружающему миру, которое заключается в долженствовании и возможности предвидения. По существу, при преступной небрежности общество наказывает соответствующее лицо не за реальное психическое отношение (оно не всегда виновно), а за отсутствие должного психического отношения, которое всегда имеется в преступной небрежности. Объективный (должен предвидеть) и субъективный (мог предвидеть) критерии небрежности в каждом конкретном преступлении могут возникать на различных стадиях достижения желаемого результата, кроме стадии наступления его. Кроме того, указанные критерии в силу их самостоятельности по существу и по основаниям возникновения способны появляться раздельно друг от друга во времени (скажем, долженствование предвидения возникает на стадии создания условий наступления желаемого результата, а возможность предвидения — на стадии частичного выполнения деяния и т. д.), отсюда и вина в полном объеме определяется лишь со стадии появления возможности предвидения. При этом объективный и субъективный критерии сопровождают все последующие стадии преступной деятельности, что характерно и для прямого, и для косвенного умысла.
Глава 3
Оконченное преступление
Традиционно оконченное преступление признают стадией совершения преступления. И хотя изредка раздавались критические замечания в отношении такого подхода (например, Миттермайера)[218], тем не менее до сих пор большинство авторов считают оконченное преступление этапом развития преступной деятельности. Так, в учебнике по Общей части уголовного права Н. Ф. Кузнецова пишет о трех стадиях: «подготовительные к совершению преступления действия, исполнение объективной стороны состава и наступление общественно опасных последствий»[219]. Редакторы учебника правят данное высказывание: «В теории эти стадии обычно именуются так: приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление»[220]. Такого же мнения придерживался и Н. Д. Дурманов[221]. Но любопытно проследить его позицию по вопросу о последовательности рассмотрения стадий при их изучении. Критикуя М. Д. Шаргородского и Н. С. Алексеева за их предложение анализировать стадии совершения преступления, начиная с обнаружения умысла, продолжая приготовлением и покушением и заканчивая оконченным преступлением[222], он писал, что вначале нужно анализировать оконченное преступление, а уж затем — приготовление и покушение[223].
Для чего понадобилась ему такая непоследовательная последовательность? Ведь логика анализа стадий действительно требует поступательного изучения их от более ранних к более поздним. И все же такая логика не устраивает Н. Д. Дурманова, и вполне обоснованно и оправданно. Дело в том, что в оконченном преступлении наиболее полно выражены качества преступления: «оконченное преступление — это стадия, характерная для любого вида преступного деяния, оконченное преступление всегда влечет уголовную ответственность, ответственность за предварительную преступную деятельность тесно связана с ответственностью за оконченное преступление»[224]. Изложенные аргументы свидетельствуют в первую очередь о необходимости самостоятельного, раздельного рассмотрения оконченного преступления и неоконченной преступной деятельности; о тесной связи оконченного преступления с истинными стадиями совершения преступления, а не с приготовлением и покушением, которые сами по себе довольно часто признаются законодателем оконченными преступлениями; о том, что оконченное преступление завершает исследование именно истинных стадий, а не приготовления и покушения как разновидностей неоконченной преступной деятельности. Поэтому определено и соответствующее место оконченного преступления в структуре изучения стадий — после анализа этапов развития преступной деятельности.
Однако подобное пока не решает вопроса, признавать или не признавать оконченное преступление самостоятельной стадией совершения преступления. Думается, традиционное признание его стадией совершения преступления неверно, поскольку с причинением вреда общественным отношениям, с наступлением преступного результата в его широком понимании (вред, причиненный общественным отношениям) заканчивается преступная деятельность, прекращается развитие преступления во времени и пространстве. Оконченность преступления при этом является лишь констатацией завершенности преступления, признанием оконченности посягательства и необходимости соответствующей квалификации содеянного непосредственно по той или иной норме Особенной части уголовного права без соотнесения ее с нормой о неоконченной преступной деятельности.
Кроме того, сторонники оконченного преступления, связываемого с наступлением вреда, как завершающей стадии, следуемой за исполнением–деянием, во–первых, противоречат себе, поскольку признают оконченным преступление, «если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК (ст. 29 УК)»[225]. «Преступление будет оконченным, когда налицо все четыре элемента конкретного состава (объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект). Наличие оконченного преступления определяется прежде всего тем, что его объективная и субъективная стороны получают полную реализацию»[226]. Соответственно, нет оконченного преступления без деяния–исполнения как элемента объективной стороны преступления, т. е. оконченное преступление — это не последняя стадия, а нечто более глобальное.
Во–вторых, сторонники оконченного преступления как стадии придают ему более существенное значение, поскольку при анализе оконченного преступления говорят об оконченности на стадии приготовления (имея в виду создание условий), покушения (подразумевая под ним деяние–исполнение). При этом ни у кого из них не возникает критического отношения к «стадии», кочующей по различным стадиям. Оконченность преступления как факт его завершенности имеет огромное правовое значение и для квалификации преступления, и для назначения наказания. Именно поэтому ему уделяется и должно уделяться значительное внимание правоведов.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. «преступление почитается совершившимся, когда в самом деле последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло» (ст. 10). Комментируя данное положение закона, Н. С. Таганцев предпринял попытку отделить намерение от цели: «Совершением преступления должно почитаться осуществление преступного намерения, а не достижение цели…»[227]. Несколько ранее он писал следующее: «С практической точки зрения преступление считается оконченным, как скоро виновным воспроизведен его законный состав, а с теоретической, как скоро нарушена норма в ее реальном бытии. Это последнее определение имеет значение не только для законодателя, но и для судьи, помогая ему в разъяснении законодательных определений»[228]. Хотя и в продолжение этой темы, он вновь обращается к законодательному определению оконченного преступления с уточнением того, что осуществление намерения — это характеристика оконченного преступления с субъективной стороны, как осуществление умысла[229]. На этом фоне становится понятным отношение Н. С. Таганцева к оконченному преступлению как поведению, в котором заключаются все требуемые законом признаки[230]. Однако так и остается неясным, каким образом автор отделяет намерение от цели. Углубляться в эту материю нет необходимости, поскольку намерение как категория мало интересно, но в первом приближении, представляется, вообще бессмысленно пытаться отделить намерение от цели, так как в самой этимологии слова скрывается целеполагание, намерение без цели существовать не может, поэтому нельзя отделить элемент от общего, нельзя разграничить род и вид.
Примерно так же, но уже без применения термина «намерение», определяли оконченное преступление С. В. Познышев: «Для оконченного преступления… необходимо только, чтобы в самом поведении лица были все существенные признаки того или иного преступления»[231], и Н. Д. Сергеевский: «Преступное деяние считается совершенным, когда действительно выполнены все элементы специального состава известного преступного деяния»[232].
Нельзя сказать, что уголовный закон в советский период существования России отказался совсем от анализируемого термина. Так. в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР было сказано: «Преступление считается оконченным, когда намерение совершившего преступление осуществилось до конца» (ст. 17). Похоже, что опора в основном на субъективный элемент (намерение), трудности доказывания его и возникающие в связи с этим сложности борьбы с контрреволюцией, подвигли законодателя отказаться от регламентации оконченного преступления в законе, в результате ни в УК РСФСР 1922 г., ни в Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., ни в УК РСФСР 1926 г., ни в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., ни в УК РСФСР 1960 г. не было определения оконченного преступления.
Несмотря на это, теория уголовного права постоянно возвращается к проблемам оконченного преступления. Так. Н. Д. Дурманов видит основное разграничение преступлений в зависимости от стадии в делении их на оконченные и неоконченные[233], при этом оконченным преступлением «уже причинен существенный вред объекту, охраняемому советским правом, т. е. причинен вред государственным или общественным интересам или гражданам или этот объект поставлен в опасность причинения вреда (когда закон считает преступление оконченным уже в этом случае)»[234].
И лишь в УК РФ 1996 г. такое определение вновь дано: «Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 29 УК). В целом же подобное определение оконченного преступления предлагают и некоторые уголовные кодексы наших ближних соседей ч. 1 ст. 15 Уголовного закона Латвийской республики, ч. 1 ст. 13 УК Украины, ст. 33 УК Республики Таджикистан, (ст. 27.1 УК Азербайджанской республики). На этой основе возникли и соответствующие теоретические определения оконченного преступления. Так, соглашаясь с мнением М. Д. Шаргородского, М. П. Редин считает, что «преступление признается оконченным, если в деятельности лица по реализации преступного намерения содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного Особенной частью уголовного закона»[235]. Примерно так же определяют оконченное преступление и другие авторы с теми или иными излишествами[236]. Примером таких излишеств является позиция Р. И. Михеева, по мнению которого, «преступление считается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все объективные и субъективные признаки состава преступления, установленные уголовным законом и указанные в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса, на совершение которого был направлен умысел виновного»[237]. Во–первых, нет смысла упоминать о составе преступления, достаточно того, что объективные и субъективные признаки указаны в законе; во–вторых, нет необходимости отдельно указывать на соответствующие статьи Особенной части, поскольку это и не совсем верно, так как субъективные и объективные признаки указываются не только в нормах Особенной, но и Общей части; и излишне — достаточно того, что эти признаки установлены уголовным законом; в-третьих, нет никакого смысла при упоминании о субъективных признаках писать в определении еще о том, что на совершение преступления был направлен умысел лица, так как умысел является составной частью субъективных признаков.
Подводя некоторый итог сказанному, можно сделать вывод, что а) в целом и закон, и теория уголовного права точно отражали и отражают суть оконченного преступления, которая заключается в том, что сам закон, описывая в диспозиции вид преступления, указывает на границы преступления, в том числе — на момент его окончания; б) этого должно быть достаточно для определения оконченного преступления; в) едва ли следует вводить в определение преступления субъективный момент в виде намерения, внося тем самым неопределенность в понимание оконченного преступления; г) не следует оперировать и термином «состав преступления», поскольку он вносит лишь ненужные дополнительные проблемы, связанные с его пониманием.
Отсюда достаточно ясно и определение оконченного преступления, под которым следует понимать совокупность объективных и субъективных признаков, предусмотренных уголовным законом для конкретного вида преступления, отраженного в Особенной части УК. Таким образом, если есть вся совокупность признаков — имеется оконченное преступление, нет хотя бы одного оговоренного законом признака — отсутствует оконченное преступление со всеми вытекающими отсюда последствиями (признанием преступления неоконченным или признанием отсутствия преступления). При этом нет смысла выделять законодательное, практическое и доктринальное определения его, поскольку два последних не могут противоречить первому, должны полностью ему соответствовать и исходить только из него. В этом плане мы полностью согласны с М. П. Рединым[238].
На фоне достаточной ясности сути оконченного преступления, особых теоретических проблем в отношении его не возникает. Именно поэтому работ, анализирующих вопросы оконченного преступления, чрезвычайно мало, соответственно и авторов, занимающихся этими проблемами. Не случайно при обсуждении УК РСФСР 1960 г. и УПК РСФСР 1960 г. ни один из выступающих не коснулся проблем оконченного или неоконченного преступления, а Г. З. Анашкин, перечисляя основные вопросы, которые необходимо изучить, не включил в него проблем оконченного преступления[239]. Разумеется, по сравнению с такими институтами уголовного права, как причинная связь, субъективная сторона, соучастие, множественность преступлений, назначение наказания, оконченное преступление представляется достаточно беспроблемным, что в целом соответствует действительности. Однако и здесь возникает множество проблем, на которых теория не акцентирует внимание, старается уйти от них или переносит их на Особенную часть, представляя в качестве частных проблем отдельных видов преступления. О некоторых из них мы и поговорим.
Так, до сих пор не снят с обсуждения вопрос о том, все ли преступления могут быть оконченными? Казалось бы, ответ должен быть однозначным: разумеется, кроме неоконченной преступной деятельности. Но такое простое и очевидное решение некоторых авторов не устраивает. Так, несмотря на констатацию наличия оконченного преступления в преступлениях любого вида[240], Н. Д. Дурманов отрицал возможность признания оконченным неосторожного преступления, так как в таковом не может быть приготовления и покушения[241]. Это по существу является господствующей точкой зрения. Многие авторы отрицают возможность констатации оконченного преступления и при косвенном умысле: «Нельзя готовиться к преступлению и начать его выполнять не только по неосторожности, но и с косвенным умыслом»[242]. Парадоксальная ситуация. Сначала ученые создают терминологию (подготовка к преступлению, предварительная преступная деятельность и т. д.), затем вводят ее в закон, а потом начинают этим аргументировать несоответствие чего–то всему этому. А если заменить «подготовку» «созданием условий», может быть, это в корне все упростит? На наш взгляд, даже использование термина «подготовка» не исключает неосторожного преступления, поскольку можно умышленно готовиться при наступлении неосторожного результата. Тем более изменение данного термина на «создание условий» с необходимостью изменяет ситуацию, поскольку создавать условия можно и неосторожно, что вовсе не исключает преступности подобного (например, неосторожное оставление склада открытым, что способствовало хищению из него ценностей). И действия по исполнению преступления могут быть совершены неосторожно; и вред может быть причинен неосторожно. Почему же неосторожности и даже косвенному умыслу отказано в праве создавать оконченное преступление? Ларчик открывается гораздо проще: оконченное преступление в качестве стадии не вписывается в существующую догму о невозможности стадий в неосторожных преступлениях и потому объективные истины нужно подвести под догму, деформировать их так, чтобы они вошли в прокрустово ложе догмы, хотя для этого пришлось бы их исказить.
Вывод о невозможности наличия оконченного преступления в неосторожных преступлениях представляется неприемлемым. Сам Н. Д. Ду рманов, как мы видели, старался ранее «оторвать» оконченное преступление от неоконченной преступной деятельности, теперь снова пытается их жестко связать. Кроме того, очевидный факт зависимости неоконченной преступной деятельности (приготовления и покушения) от возможного оконченного преступления и при квалификации, и при назначении наказания вовсе не свидетельствует о зависимости обратной, т. е. оконченного преступления от неоконченной преступной деятельности, которой нет и быть не должно. Вместе с тем неосторожное преступление также может быть завершено вплоть до наступления преступного результата, теория уголовного права и практика твердо стоят на позиции того, что неосторожные преступления криминально значимы, как правило, при наступлении вреда, именно это доказывает возможность признания его оконченным. Из сказанного следует, что не может быть сомнений по поводу наличия оконченного преступления и в преступлениях неосторожных; указанные сомнения возникают только по конкретным преступлениям, которые признают либо оконченными, либо неоконченными.
Вообще вопрос об окончании преступления весьма и весьма проблематичен, особенно применительно к отдельном видам преступления, но сначала рассмотрим общие проблемы. Оконченность преступления наступает с момента, определение которого связано с критериями, указанными выше как критерии нахождения начала и конца исполнения преступления. Прежде всего, момент окончания связан с причинением вреда общественным отношениям, с наступлением преступного результата, который может быть материализован либо нет.
Сущность оконченного преступления, его особенности в различного вида преступлениях главным образом и определяются так называемыми материальными, формальными и усеченными составами. Предложенное деление составов преступления имеет довольно длительную историю. Еще в начале XX в. А. Н. Круглевский выделил в русском праве усеченные составы[243] и материальные составы[244]. Формальные составы, полагаем, были выделены теорией советского уголовного права. Указанная триада составов, влияющая на момент окончания преступления, традиционно изложена в теории уголовного права, но не является бесспорной.
Первой точкой столкновения позиций в теории уголовного права служит само терминологическое оформление данных составов. Некоторые криминалисты считают неудачным термин «усеченный состав», поскольку все преступления материальны и выделение усеченных преступлений извращает действительное положение вещей[245]. При этом Н. Д. Дурманов пытается обойтись без данного термина и дает развернутую характеристику явлений, охватываемых им. Однако пользоваться развернутой характеристикой вместо одного термина неудобно, это понимает и сам автор, продолжая пользоваться термином «усеченный состав». Подвергает критике термины «материальный состав» и «формальный состав» И. С. Тишкевич, одобряя между тем термин «усеченный состав»[246]. И подобное в определенной степени оправданно, ведь в нашем случае мы столкнулись с двойственностью термина «материальный»: с одной стороны, он показывает сущность преступления, которая главным образом выражена в общественной опасности, с другой — юридическую форму данного выражения. И поэтому в первом варианте признание преступления материальным не будет зависеть от преступного результата (любое преступление — общественно опасно, значит, содержит материальный признак, следовательно — материально), а во втором — состав преступления будет материальным только при наличии преступного результата (в иных преступлениях последствия не материализованы). Спор вокруг этого не прекращается до сих пор[247].
Как видим, в теории уголовного права отсутствует единство взглядов на терминологическое оформление разновидностей преступлений. И со всеми критическими замечаниями в указанном плане можно согласиться. Действительно, анализируемые термины не совсем удачны, и можно попытаться их заменить. Например, вместо термина «материальный состав» применить термин «законодательно–результативный состав» или «составы с реальным вредом и созданием угрозы его причинения»[248]. Однако суть явлений, скрытых за приведенными терминами, не изменится, останется той же самой, а в новых терминах обнаружится масса своих недостатков. А суть заключается в следующем: 1) в диспозициях норм Особенной части УК все преступления урегулированы в двух вариантах — с признанием оконченными только при наличии материализованных последствий и 2) с признанием оконченными только при совершении действия (бездействия), когда последствия для квалификации значения не имеют; мало того, последний вариант не представляет собой нечто единое, поскольку в одних видах преступления оконченным преступлением признаны действия по созданию условий для причинения вреда, а в других — действия по причинению вреда (действия–исполнение); при этом деление на те и другие имеет огромное значение, в частности при создании системы санкций. Отсюда очевидно, что не столь однозначна и указанная классификация составов вообще. Выделяя указанные три вида оконченного преступления, теория, с одной стороны, вроде бы исходит из одного основания классификации — той стадии, при достижении которой закон признает преступление оконченным (либо создание условий — и тогда состав усеченный; либо деяния–исполнения с возникновением формального состава; либо преступного результата — и тогда состав материальный). Но с другой стороны, два первых и третий виды (усеченный + формальный и материальный) выделены на основании отсутствия или наличия последствия, тогда как два первых (усеченный и формальный) дифференцированы в зависимости от стадии совершения преступления. Можно сказать, что одна классификация базируется на двух основаниях, что противоречит правилам формальной логики. В анализируемой классификации, похоже, не хватает еще одного элемента, который охватывал бы собой усеченные и формальные составы, т. е. нужно создать классификацию на двух уровнях: на первом располагаются какой–то состав, включающий в себя усеченный и формальный составы, и материальный состав, а на втором — усеченный и формальный составы как разновидности обобщенного первого. Этим недостающим элементом могут быть, скажем, «нематериальные» составы. В таком случае все становится на свои места: нематериальные и материальные составы выделяются по признаку обязательного наличия или отсутствия в оконченном преступлении преступного результата; в свою очередь нематериальные составы подразделяются на формальные и усеченные по признаку удаленности стадии, признаваемой оконченным преступлением, от предполагаемого преступного результата. И хотя большого практического значения предложенная двухуровневая классификация не имеет, тем не менее теоретически она представляется более приемлемой, поскольку позволяет обобщенно отразить усеченные и формальные составы. И это истина, с которой спорить невозможно, по крайней мере, до радикального изменения закона, которое вряд ли возможно в указанном направлении. Именно поэтому, полагаем, нет необходимости в дальнейших спорах о терминах «материальный», «формальный», «усеченный», так как и теоретики, и практики достаточно ясно представляют себе суть тех явлений, которые обобщены данными терминами, и каких–либо недоразумений по их практическому применению не отмечается. Просто нужно признать, что при всей неоднозначности они довольно точно отражают сущность определенных разновидностей оконченных преступлений, и согласиться с их наличием в теории.
Все преступления с нематериальными составами можно разделить на две группы: 1) преступления, в которых преступный результат носит моральный, политический характер (измена государству, шпионаж, клевета и т. д.) и 2) преступления, в которых физический или имущественный вред для вменения преступления не обязателен.
В первых из них вред, причиняемый теми или иными деяниями, чрезвычайно трудно вычленить, формализовать и оценить, хотя он, несомненно, присутствует, так как общественным отношениям причиняется тот или иной ущерб. Преступления данной группы считаются оконченными тогда, когда деяния доведены до логического конца, когда деяние и вред общественным отношениям совпадают. Здесь прерванная преступная деятельность не может быть признана оконченным преступлением, так как в подобных преступлениях деяние и ущерб сливаются в одно целое и прерванная деятельность находится всегда за пределами этого сплава и составлять его не может. Формулирование подобных разновидностей преступлений в законе вполне оправданно.
Вторую группу нематериальных составов можно еще дифференцировать на два класса: 1) преступления с прогнозируемой возможностью наступления преступного результата или его реальным наступлением (бандитизм, диверсия и т. д.); 2) преступления, по которым преступный результат вообще невозможен, поскольку он вынесен за рамки нормы (нарушение правил безопасности — ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 220 УК РФ; заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией — ч. 1 ст. 122 УК РФ и другие).
Преступления первого класса интересны прежде всего потому, что некоторые из них вроде бы материализованы в последствиях. Так, при диверсии реально гибнут люди, животные, разрушаются сооружения, и тем не менее все указанные последствия носят промежуточный характер, поскольку желаемый результат не достигается, остается целью поведения виновных (цель подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации носит лишь гипотетический характер). С подобной же ситуацией мы сталкиваемся при разбое.
В анализируемых преступлениях возникает еще одна любопытная ситуация. Рассмотрим ее на примере бандитизма. Закон признает оконченным данное преступление с момента организации (не процесса, а состоявшегося факта) банды. Однако за этим оконченным преступлением скрывается неоднозначная преступная деятельность, которую можно разделить на несколько видов. Дело в том, что организация банды как оконченное преступление будет иметь место в преступлениях: а) доведенных до логического конца (например, при систематическом совершении участниками банды нападений); б) прерванных после первого акта реализации замысла (например, после первого нападения); в) прерванных на стадии исполнения первого преступления, когда оно еще не окончено; г) прерванных на стадии участия кого–либо в банде, когда данное лицо в организации банды не участвовало; д) прерванных непосредственно после организации банды. Указанные случаи составляют разновидности оконченного бандитизма.
Во всех приведенных видах преступной деятельности фактическая завершенность преступления (а) или прерывание фактической преступной деятельности (б, в, г, д) значения для квалификации не имеет, поскольку преступление объявляется оконченным с момента организации банды. Исключение из этого правила сначала было сделано Пленумом Верховного Суда РФ только для тяжких преступлений, последствия которых при бандитизме требуют дополнительной квалификации[249]. Однако довольно скоро Верховный Суд РФ пересмотрел свою позицию; согласно постановлению Пленума «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 г. «статья 209 УК РФ, устанавливающая ответственность за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с чем в этих случаях следует руководствоваться положениями (ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ»[250], т. е. наказание по совокупности должно наступать всегда. Если учесть прежние постановления Пленума Верховного Суда СССР, в которых речь идет о том, что все преступления охватываются бандитизмом[251], то необходимо отметить радикальное изменение позиции высшей судебной инстанции, источником которого являются существенные изменения в законе (ослабление санкции за бандитизм и увеличение наказания по совокупности преступлений).
Насколько приемлем данный радикальный подход? На наш взгляд, для его реализации необходимо устранить несколько препятствий. Прежде всего, непонятно, как быть с совокупностью преступлений при квалификации убийства, сопряженного с бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Нужна ли здесь совокупность со ст. 209 УК? Верховный Суд РФ в своем постановлении «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. указал, что и здесь требуется квалификация по совокупности[252]. Однако в таком случае либо абсолютно бессмысленно отражение в уголовном законе (ч. 2 ст. 105 УК) бандитизма как одного из квалифицирующих признаков убийства, давайте уберем из п. «з» ч. 2 ст. 105 УК признак бандитизма и в плане квалификации по совокупности ничего не изменится; либо бессмысленна квалификация по совокупности ст. 105 и 209 УК, которая ничего не дает в плане наказания, поскольку в санкции ч. 2 ст. 105 УК заложен максимум возможного (пожизненное лишение свободы и смертная казнь), ведь нельзя назначить два пожизненных лишения свободы или две смертных казни по совокупности преступлений. Мы помним, что там есть еще срочное лишение свободы, которое может «сработать» в данной ситуации, но тем не менее не всегда. Очень похоже на то, что санкция ч. 2 ст. 105 УК охватывает собой санкцию ст. 209 УК и потому смысла в квалификации по совокупности нет. Но это еще не все.
Гораздо серьезнее вопрос другой. Дело в том, что Верховный Суд РФ определяет банду как «организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан и организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения»[253]. Отметим здесь два момента. 1) Данное определение максимально схоже с определением организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК); тем не менее, поставив в один ряд организованность, устойчивость, вооруженность, объединенность группы, Верховный Суд РФ деформировал закон, поскольку вывел за пределы организованной группы остальные указанные признаки, и в таком случае в нем абсолютно излишни почти все отраженные признаки; достаточно было соблюсти закон и сказать, что бандой признается организованная группа, это автоматически отразило бы и устойчивость, и объединение, и прочее. 2) Кроме признаков организованной группы здесь еще имеется специфический признак банды — вооруженность, что придает двусмысленный характер ситуации, так как создает неясность в соотношении банды и организованной группы. Сразу оговоримся, что, на наш взгляд, банду нужно относить не к организованным группам, а к преступному сообществу[254], и это сразу снимает поставленный вопрос, поскольку характерным признаком преступного сообщества является наличие внутренних систем безопасности, в основание которых естественно положена вооруженность. Если же признавать банду организованной группой, то вооруженность естественно выходит за се (организованной группы) пределы и полностью обособляет банду в качестве самостоятельного вида преступления, характеризующегося двумя основными признаками: это — организованная группа и это — вооруженная группа. Выступают ли данные признаки в структуре банды как равнозначащие или один из них превалирует? По нашему твердому убеждению, признаки (элементы) вида преступления не могут быть равнозначащими, поскольку в таком случае невозможно будет выработать общий механизм построения санкций[255]. И применительно к банде, похоже, они не равнозначны, поскольку вооруженность одного или даже двух или более лиц еще не ставит вопроса о наличии банды, и только наличие организованной группы сразу ставит вопрос о возможности банды, который и решается в зависимости от наличия или отсутствия вооруженности. Представляется, что превалирует признак организованной группы.
Но в таком случае и возникает главная проблема. Во множестве видов преступлений, предусмотренных действующим уголовным законодательством, отражена в качестве квалифицирующего признака организованная группа (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111. п. «г» ч. 2 ст. 112, п. «е» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127 и др УК РФ). Отсюда банда как организованная группа сливается с соответствующим квалифицирующим признаком, и квалификация по совокупности со ст. 209 УК становится невозможной. Правда, остается вторичный признак банды — вооруженность, и на этой основе может возникнуть мнение обязательности квалификации по совокупности, с чем можно согласиться, но только применительно к незаконному обращению с оружием (ст. 222, 223, 224, 225, 226 УК), которое «выпадает» за пределы организованной группы. Но при этом возникает еще одна проблема: в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК отражен еще один квалифицирующий признак — общеопасный способ убийства, который, в частности, может заключаться и в применении определенного оружия — гранат, мин, иных взрывных устройств и даже автоматического оружия. В результате мы получили в ч. 2 ст. 105 УК «букет» признаков (наличие вооруженности, организованность группы, сопряженность с бандитизмом), каждый из которых, и тем более их общность, напрочь исключают совокупность со ст. 209 УК. Как видим, квалификация оконченного бандитизма не столь проста, и разъяснения Верховного Суда РФ в этом плане не столь аксиоматичны, точнее, не совсем верны и малоприемлемы.
Таким образом, если опираться на мнение Верховного Суда РФ, то сегодня бандитизм в чистом виде выступает как преступление без последствий, поскольку даже нападение определяется судом как действие по применению насилия или угрозе его применения[256]. В таком случае деятельность при бандитизме представляет собой не что иное, как фактически неоконченную преступную деятельность, которая юридически признана оконченной. При этом возникает закономерный вопрос: для чего нужна такая конструкция составов? Согласно общепринятой позиции указанный подход оттеняет повышенную общественную опасность определенной категории деяний. Однако данная аргументация не снимает сомнений. Похоже, что подобная конструкция составов не оттеняет, а затушевывает общественную опасность преступлений анализируемого вида. Во–первых, потому, что создание банды не есть самоцель, банда создается как орудие повышенной эффективности для реального причинения материализованного вреда общественным отношениям. Можно представить себе ситуацию: создана банда, ее участники собираются постоянно, потрясают все более ржавеющим оружием, говорят о необходимости совершить иные преступления; проходят сроки давности привлечения к уголовной ответственности за создание банды (ст. 78 УК), а они все собираются и обсуждают. Так это банда или общество говорунов? Я хочу сказать, что банда ради банды — это блеф, пыль, ничто. Банда нужна только как создание условий для причинения вреда иным общественным отношениям. Только в этом сочетании она становится повышенно опасной для общества как организованная и вооруженная группа. На наш взгляд, все равно фактическая завершенность должна охватываться такими составами, т. е. по существу ничего не изменилось бы при конструкции преступления как материального состава (например, организация банды, связанная с причинением физического или имущественного вреда), поскольку при анализируемом подходе становился бы очевидным максимальный предел вида преступления, а прерванная на том или ином этапе преступная деятельность, как и положено, рассматривалась в качестве неоконченной преступной деятельности (приготовления или покушения) и наказывалась в рамках санкции, что мы имеем в настоящее время, только в перевернутом с ног на голову виде. Во–вторых, общественная опасность бандитизма при фактической завершенности преступной деятельности значительно выше, чем при организации банды, а именно она–то и затушевана существующей конструкцией состава. Ведь не случайно законодатель издавна борется за то, чтобы вред не был причинен общественным отношениям; и с этой целью даже освобождает от уголовной ответственности лицо, частично совершившее преступление, но отказавшееся от доведения его до конца (добровольный отказ). Именно поэтому причинение вреда при бандитизме должно наказываться строже, нежели только организация банды, чего не позволяет сделать санкция, созданная в расчете только на организацию банды. В-третьих, при существующем формулировании бандитизма встает вопрос о невозможности добровольного отказа. Можно представить себе ситуацию создания организованной вооруженной группы с целью совершения иных преступлений и последующего группового же отказа от достижения данной цели с распадом группы, при которой, несмотря на прекращение преступной деятельности, лица будут отвечать за бандитизм, что, конечно же, законно с позиций существующего УК с соответствующей регламентацией бандитизма, но сколь далеко от истинной справедливости. Здесь наглядно просматриваются негативные последствия формулирования бандитизма и других преступлений с усеченным составом данного вида. В-четвертых, наказание с необходимостью должно дифференцироваться, отражая реально существующее различие в общественной опасности между фактически завершенной и фактически незавершенной деятельностью, и достаточно высокая общественная опасность самой организации банды не играет при этом никакой роли, поскольку она имеется и в фактически завершенной деятельности. В-пятых, никому не нужна одинаковая квалификация фактически неоконченной и логически завершенной преступной деятельности, которая с необходимостью выливается в абсолютно различное наказание (естественно, меньшее только при организации банды и естественно, большее при организации банды, связанной с фактической завершенностью преступления). В-шестых, ничего не может изменить в этом плане и квалификация по совокупности (например, признаем, что хищение либо вымогательство ядерных материалов не охватывается бандитизмом), если она возникает, поскольку мы столкнемся с реально имеющейся идеальной совокупностью (причинением вреда при соответствующем создании условий в виде банды), при которой более логично назначение наказания путем поглощения, вопреки требованиям ч. 3 ст. 69 УК РФ, т. е. снова в рамках санкции, опять–таки более высокое — при наличии последствий и менее высокое — при его отсутствии.
Критикуемая позиция, похоже, была доведена до абсурда в Проекте УК России, согласно которому участие в банде и в совершаемых ею нападениях выделено в отдельную норму (ч. 2 ст. 192) с соответственно меньшим наказанием по сравнению с организацией (созданием) банды (ч. 1 ст. 192). Данная позиция нашла закрепление и в ст. 209 УК 1996 г. Впрочем, это — логическая завершенность абсолютно алогичного построения нормы. Ведь здесь менее опасной признается деятельность, более приближенная к результату либо уже причиняющая преступный результат (участие в нападениях). Судебная практика с необходимостью исходит из данного решения. Так, по делу Фурсова и других Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила, что «дополнительная квалификация действий осужденных по ч. 2 ст. 209 УК РФ в данном случае является излишней, поскольку уголовная ответственность за создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан предусмотрена более строгая, чем за участие в такой банде и совершаемых ею нападениях… Действиями осужденных по организации банды охватываются также участие в ней и в бандитских нападениях»[257].
Таким образом, высказанная позиция противоречит общим положениям теории стадий и неоконченной преступной деятельности; по крайней мере, традиционно теория уголовного права признает более опасным покушение по сравнению с приготовлением, да и сам УК считает приготовление менее опасным и объявляет его наказуемым лишь при совершении тяжких и особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 30), тогда как покушение наказуемо всегда (ч. 3 ст. 30). Кроме того, необходимо учитывать и степень реализации преступного намерения применительно к созданию условий, которое само по себе может проходить различные этапы. Применительно к бандитизму очевидно: а) участие в банде может быть и менее опасно, чем организация банды, поскольку уже создана вооруженная устойчивая сплоченная преступная группа и при участии лицо лишь вливается в ее состав, и тогда организация банды может без особенных правовых затрат охватить собой участие в банде; б) участие в нападениях, совершаемых бандой на порядок выше по общественной опасности организации банды и потому последней не может быть охвачено. Именно поэтому сегодня не правы и законодатель, соответствующим образом оформивший ст. 209 УК, и Верховный Суд РФ, поддерживающий подобные законодательные решения.
Изложенное позволяет сказать, что законодательно создавать усеченные составы, которые охватывают собой и фактически причиненный желаемый вред («последнее» мнение Верховного Суда РФ по данному вопросу может в любой момент измениться, как уже не раз бывало, и оно представляет собой лишь толкование закона, а не сам закон), нет никакой необходимости, дабы избежать необъективного рассмотрения судом преступлений подобных видов, поскольку их формулирование в законе создает иллюзию того, что за действия, признанные оконченным преступлением (в частности, за саму организацию банды), может быть определен и максимум санкции (формально это верно, а по существу — нет, так как санкция охватывает в таких составах и преступный результат, а при его отсутствии не может быть применена в полном объеме). Не потому ли санкция ст. 77 УК РСФСР была столь широка (лишение свободы на срок от 3 до 15 лет) и позволяла занижение наказывать собственно организацию банды без наступления желаемых последствий. Санкции ст. 209 УК РФ более узкие, что сводит на нет возможность учета в них реально наступивших последствий и создает эфемерное представление о необходимости квалификации по совокупности, что вовсе не является решением проблемы.
Также неприемлема, на наш взгляд, и конструкция оконченного изнасилования. Согласно традиционной точке зрения данный вид преступления считается оконченным с начала полового акта; на этой же позиции стоит и Верховный Суд РФ, согласно постановления Пленума которого «изнасилование следует считать оконченным преступлением с момента начала полового акта, независимо от его последствий»[258]. Подобное решение вполне объяснимо тем, что данный вид преступления относится к причиняющим вред отношениям половой свободы женщины, а в этом случае само начало полового акта уже нарушает половую свободу, все остальное для уголовного права с данных позиций безразлично.
Однако при таком решении возникает множество неразрешимых вопросов. Во–первых, остается вопрос, «почему» именно этот момент избран в качестве окончания изнасилования, ведь умысел виновного был направлен не на проникновение в область больших половых губ, а на физиологическое завершение полового акта, при котором каждая фрикция является лишь частью всего процесса. Так может быть логичнее исходить из умысла субъекта, определяя момент окончания преступления, а не искать определенную условность, фикцию.
Во–вторых, при таком подходе в определенной степени невозможно покушение как прерванная деятельность, хотя в теории высказано мнение о возможности неоконченного покушения, которое выражается в попытке «введения полового члена во влагалище потерпевшей»[259]. Думается, Н. К. Семернева не совсем точна по нескольким причинам: 1) при традиционном понимании момента окончания изнасилование превращается в одномоментное поведение, при котором динамики полового акта нет, по крайней мере, она столь незначительна, что говорить о многомоментном поведении нет смысла; именно это одномоментное поведение является исполнением преступления при использовании беспомощного состояния потерпевшей; 2) при угрозе насилия или физическом насилии объективная сторона анализируемого вида преступления расширяется за счет указанных способов изнасилования, поэтому исполнение преступления будет включать в себя и эти способы; 3) покушение возможно только на стадии исполнения преступления, именно поэтому оно в принципе невозможно при использовании беспомощного состояния потерпевшей, поскольку при одномоментном поведении невозможно вторгнуться в развитие события; и в полной мере возможно при угрозе насилия и физическом насилии, которые по существу и являются началом исполнения объективной стороны и, соответственно, при прерывании могут выступать как покушение; 4) отсюда возникает несправедливое отношение к различной опасности преступникам: при психическом или физическом насилии преступники более опасны, но к ним можно применить покушение с соответствующим смягчением наказания, а при использовании беспомощного состояния потерпевшей — менее опасны, но альтернативы оконченному преступлению в виде покушения нет.
В-третьих, соответственно сужена и возможность добровольного отказа, который абсолютно невозможен на стадии исполнения при использовании беспомощного состояния потерпевшей, хотя в двух других видах изнасилования он возможен и на стадии исполнения, что также трудно признать справедливым. А коль скоро в ст. 6 УК РФ отражен принцип справедливости, то его несоблюдение должно вызывать соответствующую реакцию и исправление недостатков.
В-четвертых, применительно к изнасилованию (как и ко всем иным видам преступления) необходимо оговорить следующее. Окончание преступления имеет огромное значение в том плане, что действия, совершенные после окончания, как правило, уже не имеют уголовно–правового значения за исключением соучастия, укрывательства и деятельного раскаяния; они становятся безразличными для уголовного права, если не содержат признаков другого вида преступления. Дело в том, что, признав оконченным изнасилованием начало полового акта, Верховный Суд РФ и авторы «выбросили» за пределы объективной стороны и признали криминально незначимыми все последующие фрикции и семяизвержение, сопровождающие половой акт после окончания изнасилования. Подобное абсолютно неприемлемо, поскольку гораздо опаснее физиологически оконченное изнасилование, нежели одноактное проникновение в область больших половых губ.
В-пятых, отсюда при традиционном толковании момента окончания изнасилования возникают или должны возникнуть при надлежащей законности проблемы необходимой обороны, которая еще возможна до момента окончания изнасилования (до начала полового акта), но по общему правилу, невозможна после окончания преступления, т. е. при совершении последующих фрикций вплоть до физиологического завершения полового акта потерпевшая теряет возможность обороняться, поскольку не находится больше в состоянии лица, в отношении которого совершается преступление (оно уже окончено ранее). Неверность подобного очевидна. Возможно, суды в таких случаях становятся на сторону потерпевшей и допускают защиту в процессе совершения полового акта уже после окончания изнасилования. Но на каком правовом основании? Из данной тупиковой ситуации, на наш взгляд, есть два выхода. 1) Считать действия преступника после окончания изнасилования еще не оконченным посягательством, жестко разделяя тем самым преступление и посягательство по объему и характеру действий; собственно, по этому пути теория необходимой обороны и идет, признавая непреступные действия (малолетних, невменяемых, невиновных лиц) посягательством, от которого возможна необходимая оборона. Однако в анализируемой нами ситуации не все так просто. Если в обычном порядке посягательство только начинается и потому возникает необходимая оборона, то в нашем случае преступление считается уже завершенным (оконченным), а вместе с ним, похоже, и посягательство. Кроме того, при необходимой обороне посягательство в целом должно носить преступный или хотя бы псевдопреступный характер, т. е. предотвращаемый вред должен по своей опасности соответствовать криминально значимому вреду, в противном случае Мы столкнемся с необходимой обороной как защитой от административных правонарушений (ст. 19 Кодекса об административных правонарушениях). Правда, следует признать, что в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях 2001 г. отсутствует норма о необходимой обороне, но имеется ст. 2.7, регламентирующая крайнюю необходимость. Не исключено, что данная норма охватывает собой и случаи необходимой обороны, однако если это так, то необходимая оборона значительно сужена, поскольку она по своим условиям сформулирована именно как крайняя необходимость («если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред»). Трудно судить неспециалисту, насколько полно отвечает интересам административного права исключение необходимой обороны из его структуры, однако применительно к нашему исследованию ситуация становится еще более странной, поскольку относительно уголовного права остается важной защита от посягательства, носящего преступный характер, защита от другого характера посягательств вообще не может иметь правового значения. При этом совершение действий после окончания преступления уже не дает возможности признавать их криминально значимыми, а следовательно, и посягательством, требующим уголовно значимой необходимой обороны. Именно поэтому первый путь, несмотря на всю его привлекательность, с правовых позиций столь же тупиковый; по существу он не решает и других указанных выше проблем. 2) Признать изнасилование продолжаемым преступлением, каковым оно по сути и является, поскольку совершается ряд взаимосвязанных действий, направленных к общей цели (эякуляции), при едином умысле, объединяющем все эти действия в нечто целое. При таком подходе момент окончания изнасилования должен быть перенесен на момент эякуляции, что максимально приблизит данный вид преступления ко всем остальным и снимет все указанные выше проблемы. Правда, здесь возникает один существенный с традиционной точки зрения недостаток — возможность слишком широкого распространения добровольного отказа, так как любое не доведенное до эякуляции по собственной воле половое сношение можно вроде бы признать добровольным отказом. Это и так, и не так. Да, пределы добровольного отказа с необходимостью расширятся, ведь мы и признали узкие пределы добровольного отказа одним из недостатков традиционного подхода к определению момента окончания изнасилования. Добровольный отказ от доведения изнасилования до физиологического завершения полового акта в определенной степени препятствует возникновению нежелаемой беременности потерпевшей и соответствующих этому проблем. Кроме того, отказ от эякуляции в некоторых ситуациях является спасением потерпевшей от заражения тяжкими венерическими болезнями (например, сифилис, СПИД передаются через сперму), и умышленное прерывание по собственному желанию полового акта с целью не допустить заражения, естественно, можно признать добровольным отказом, в том числе и от изнасилования. Вместе с тем изложенный недостаток мы можем нивелировать выработкой критериев разграничения покушения и добровольного отказа при изнасиловании. Например, прерывание полового акта не может быть признано добровольным, если это осуществлено для окончания полового акта (эякуляции) per or, per anum или в другом виде, в том числе мастурбации, кроме случаев спасения от тяжкого венерического заболевания или от нежелательной беременности. Разумеется, это решение в первом приближении; при более глубоком рассмотрении проблема станет более прозрачной и решаемой.
Довольно сложна ситуация и с разбоем, который признан оконченным с «момента нападения с целью завладения имуществом, соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия»[260].
Во–первых, здесь неясна сама формула оконченного преступления. Что означает «нападение, соединенное с насилием или угрозой такового»? Если что–то с чем–то соединено, значит, имеются два самостоятельных явления, которые при взаимосвязи создали нечто единое. Отсюда непонятно, что следует считать данным единым, им нельзя признать сам разбой, поскольку для последнего необходима еще цель завладения имуществом. Можно пойти господствующим путем и признать наличие здесь не двух самостоятельных элементов, а нападения как внешнего насильственного воздействия на потерпевшего[261], что коррелируется с Уголовным кодексом РФ, который говорит о нападении, совершенном с применением насилия или угрозы насилия, когда нападение и насилие выступают как содержание и форма.
Во–вторых, на данном фоне возникает проблема определения момента окончания анализируемого вида преступления. Из приведенного определения вытекает, что моментом окончания разбоя становится начало («момент») угрозы насилия или насилия. Так, по мнению М. П. Редина, применение насилия лежит за пределами юридического момента окончания разбоя[262]. Но в такой ситуации за пределами оконченного преступления оказываются: а) вся совокупность многомоментной угрозы; б) вся совокупность многомоментного действия–насилия, особенно это очевидно в тех случаях, когда имеется и угроза насилия, начало которой можно воспринимать как окончание разбоя, которая вылилась в насилие; в) результат насилия (той или иной тяжести вред здоровью или жизни); г) действия по завладению имуществом; д) причиненный имущественный вред.
В-третьих, если исходить из того же общего правового правила, что за пределами оконченного преступления нет криминально значимого поведения, кроме нового преступления, соучастия, укрывательства и деятельного раскаяния, то при отсутствии изложенных институтов все указанные феномены (от а) до д)) должны быть признаны криминально незначимыми, вменять которые человеку нельзя. Подобное в принципе неприемлемо. Законодатель несколько корректирует данный недостаток, введя в ч. 3 ст. 162 УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью, что частично погашает негативный эффект конструирования нормы в плане учета результатов насилия, но в целом проблемы не решает.
В-четвертых, так же как и относительно изнасилования, при существующем окончании разбоя в целом невозможно покушение. Невозможен добровольный отказ на стадии исполнения, хотя нельзя сказать, что разбой обладает какой–то повышенной общественной опасностью, которая бы исключала добровольный отказ на стадии исполнения (отметим, что даже при убийстве такой добровольный отказ возможен). В качестве неприемлемого решения вопроса в указанном случае можно привести следующий пример: Т. вошел вслед за К-вой в подъезд и в лифт, раскрыл перочинный нож и потребовал у нее деньги; получив отказ, он вновь потребовал деньги; получив тот же ответ, Т. вышел из лифта. Суд квалифицировал его действия как разбой; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ подтвердила это решение[263]. Хочется спросить, за что? Что мешало Т. довести преступление до логического конца и применить нож? Ничего? Почему же нет добровольного отказа? Только потому, что так сконструирована норма закона и так толкует момент окончания разбоя сам Верховный Суд. Как думают уважаемые коллеги, следующий раз Т. поступит точно так же или сделает все иначе, потому что все равно «сидеть»? Невозможна при разбое необходимая оборона на протяжении всего его совершения, что не имеет никакого отношения к справедливости и законности.
В-пятых, явно неприемлемую ситуацию нужно менять, и мы видим два пути решения проблемы: 1) оставить в ч. 1 ст. 162 УК РФ ныне существующее формулирование вида преступления, но при этом признать оконченным разбой с момента реализации насилия, чтобы угроза насилия или насилие в полном объеме были охвачены оконченным преступлением; в ч. 2 ст. 162 УК отразить само завладение (а не цель подобного) имуществом в любом размере до крупного и вред средней тяжести здоровью как квалифицирующие признаки; в ч. 3 ст. 162 УК оставить тяжкий вред здоровью и ввести завладение имуществом в крупном размере; 2) превращение диспозиции анализируемого вида преступления в материальную, т. е. сформулировать ч. 1 ст. 162 УК так же, как и остальные хищения с окончанием их при причинении материального имущественного вреда. Более верным кажется второй путь, унифицирующий все хищения как самостоятельную группу преступлений против собственности.
Даже предложенный незначительный анализ только избранных видов преступлений показывает всю негативную сложность, возникшую в преступлениях с усеченной диспозицией, и трудности их ликвидации, столь, на наш взгляд, необходимой.
Во второй группе преступлений анализируемых видов нет и не может быть преступного результата и, следовательно, санкция уже не рассчитана на него, поскольку последствия вынесены за рамки таких норм в другие нормы уголовного права (как правило, в качестве квалифицирующих признаков). Именно поэтому в данном случае мы имеем дело не просто с какой–то стадией совершения преступления, а с фактически прерванной преступной деятельностью (приготовлением или покушением) на каком–то этапе ее развития, юридически признанной оконченным преступлением и в силу данного факта самостоятельно наказуемой. В противном случае невозможно объяснить, почему возникли преступления данной группы, почему не наступили последствия той или иной преступной деятельности. Представляется, подобная конструкция составов имеет право на существование, поскольку в них действительно оттеняется достаточно высокая общественная опасность собственно деяния вне зависимости от последствия.
Правда, при этом может возникнуть сомнение в данном решении, так как выше при анализе бандитизма был сделан иной вывод — о неприемлемости выделения бандитизма, хотя и бандитизм, и иные преступления с причинением вреда бандой можно представить в таком же виде, дескать, ничем не отличается усеченная диспозиция, представляющая собой ч. 1 какой–либо нормы, от выведенной в самостоятельную норму. На самом деле это не так, поскольку в первом варианте по общепринятому в уголовном праве правилу более тяжкая часть нормы охватывает собой менее тяжкую, не случайно в соответствующих статьях Особенной части указаны «те же действия», являющиеся основной частью квалифицированной нормы, тогда как во втором варианте всегда возникает (должна возникать) квалификация по совокупности, что существенно изменяет ситуацию с размерами увеличения наказания.
Итак, преступления с нематериальным составом следует формулировать в законе в качестве оконченных либо при наличии морального или политического ущерба, либо при прерывании преступной деятельности.
Преступления с материальными составами считают оконченными с момента наступления материализованного полного преступного результата. Если же полный результат на наступил, а имеет место лишь частичный результат (преступник желал украсть из сейфа 150 тыс. рублей, но взял лишь имеющиеся там 250 рублей), то преступление нельзя считать оконченным.
Определение момента окончания преступления с материальным составом, несмотря на его кажущую очевидность — по наступлению результата, вызывает определенные сложности, поскольку результат не всегда четко устанавливается. Рассмотрим это на примере кражи. Кража признается оконченной, как правило, с момента завладения — так традиционно принято теорией уголовного права. Но кража краже рознь. Так, кража путем свободного доступа оканчивается в момент завершения передвижения вещи во владение преступника, и здесь уже не играет роли само передвижение преступника с вещью, оно лежит за пределами оконченного преступления. Сложнее с кражей с проникновением в помещение. Возникает вопрос: усложняет ли способ совершения преступления момент окончания его так же, как он усложняет момент начала исполнения? Если исходить из опасности самого способа (нарушение права собственника на неприкосновенность помещения, готовность виновного к совершению других, более опасных преступлений против личности собственника или его представителя), то она сохраняется и после фактического завладения вещью преступником до его выхода из квартиры, соответственно, оконченной такая кража должна признаваться после выхода виновного из квартиры. Если опираться на буквальное толкование закона («кража с незаконным проникновением»), то, похоже, для законодателя главным является способ доступа к вещи, но не последующее после завладения нахождение лица в квартире; и в таком случае оконченной кража будет с момента завладения вещью. Подобное толкование момента окончания кражи несколько уменьшает общественную опасность деяния и личности виновного, поскольку он еще находится в помещении, изложенная выше опасность способа сохраняется и собственник до выхода преступника из квартиры может и далее владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. После того как вещь покинула пределы квартиры, реальное владение, пользование и распоряжение имуществом со стороны собственника исчезает. Таким образом, оконченной квартирная кража будет с момента выхода преступника из квартиры. Иначе должен решаться вопрос с окончанием кражи из производственных помещений (с конвейера, из хранилища и т. д). Здесь мы сталкиваемся не с конечным этапом продвижения продукции в ее общественном назначении: изготовленная и хранящаяся продукция должна найти своего потребителя. Именно поэтому снятая с конвейера или изъятая из обычного места хранения и спрятанная здесь же на складе вещь с целью завладения ею сразу выводит ее из владения собственника, уничтожая возможность ее дальнейшего продвижения к потребителю. Указанная реальная невозможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом свидетельствует об окончании кражи. Ничего не меняет в этом плане и хищение иных материалов или инструмента как имущества собственника, поскольку они не могут быть использованы в производственном процессе после завладения ими, изъятия их из владения потерпевшего.
Однако судебная практика несколько иначе разрешает данную проблему. Так, постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества» от 11 июля 1972 г. в п. 10 признало хищение оконченным, «если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им распорядиться по своему усмотрению или пользоваться им»[264]. Эта же позиция была подтверждена Верховным Судом СССР и позже в постановлении Пленума «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности» от 5 сентября 1986 г.[265] В результате момент окончания кражи был перенесен на пользование и даже распоряжение имуществом. Вполне понятно, почему возникло указанное решение — общим фоном для него послужил все тот же обвинительный уклон, желание более жестко наказать охранников, вахтеров, пропускающих похищенное имущество через проходные, поскольку при таком решении возникает возможность квалификации их действий как соучастия, а не прикосновенной деятельности. Следует разобраться в правовой и социальной обоснованности подобного «передвижения» момента окончания.
Выше уже приведены доводы в пользу признания изъятия имущества окончанием кражи в изложенной ситуации. Мало того, предложенное Верховным Судом решение противоречит духу закона применительно к хищениям. Общеизвестно, что хищение — преступление против собственности; преступными последствиями, составляющими часть объективной стороны преступления–хищения, служит вред, причиненный отношениям собственности, которые также общеизвестны — отношения владения, отношения пользования, отношения распоряжения имуществом; ведущим из них является владение, поскольку только при его наличии становятся возможными дальнейшее пользование и распоряжение. Вывод имущества из владения собственника исключает последующее пользование и распоряжение им данным собственником. Таким образом, вред собственности причиняется самим изъятием имущества из владения собственника. Поскольку причинение вреда общественным отношениям свидетельствует о завершенности преступления, с момента изъятия имущества следует признавать, по общему правилу, хищение оконченным. Последующие действия с позиций преступных последствий хищения безразличны. Передвижение момента окончания хищения с изъятия на возможность распоряжения и пользования деформирует данное общее правило, поскольку переносит значимость последствий с интересов потерпевшего на интересы виновного — пользование и распоряжение изъятым имуществом безразлично для собственника, так как он имуществом уже не владеет, зато небезразлично для виновного, который реально им владеет. Рассмотрение последствий и, соответственно, окончания хищения с позиций их значимости для виновного — нонсенс.
Но судебная практика идет именно в этом направлении. Так, Президиум Московского городского суда указал в своем постановлении, что действия Гунчева нельзя признать оконченным преступлением, поскольку он «не имел возможности реально распорядиться похищенным имуществом» и потому его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «б», ч. 3 ст. 161 УК РФ. Суть данного дела такова. Гунчев похитил из магазина шубы на сумму 129 725 деноминированных рублей, вышел из магазина, но был обнаружен свидетелем. За виновным погнался сотрудник милиции, виновный бросил по дороге похищенное, но был задержан[266]. Похожий случай приведен и в другом судебном решении[267]. Здесь возникает вопрос, сколько должен бегать за виновным работник милиции, чтобы преступление стало оконченным, при условии, если преступник не бросил бы похищенную вещь, — километр, два или день, два, неделю? Нетрудно представить себе ситуацию с непрерывным преследованием, в том числе на автомашинах, когда собственник давно лишился вещи, она погибла при перестрелке, в результате случайного пожара и т. п., однако преступление все еще не окончено, поскольку виновный так и не смог распорядиться имуществом и потерпевшему фактически нечего требовать, поскольку преступление неокончено, т. е. вред не причинен. Интересная позиция. Еще интереснее ситуация с неосторожной утратой имущества виновным во время бегства с места преступления, когда стоимость имущества не достигает 500 МРОТ; в таком случае действия виновного останутся покушением на завладение чужим имуществом, поскольку виновный не смог распорядиться им (утрата имущества или его выбрасывание не есть распоряжение, типичное для хищения; не случайно Судебная коллегия вменяет покушение даже при ситуации, когда виновный выбросил имущество; и с точки зрения анализируемого господствующего представления об оконченном хищении это следует считать верным), и потерпевший не только не получит своей вещи, но с правовой точки зрения при непричинении вреда не может даже и претендовать на его возмещение. Разумеется, все эти рассуждения ведутся с позиций точного и ясного понимания того, что только при оконченном преступлении возникает вред, который и должен быть возмещен, а при неоконченном преступлении такого быть не может. Следовательно, сегодняшнее толкование момента окончания хищения не выдерживает критики и его нужно менять; думается, что в приведенном примере был прав суд, признавший в действиях Гунчева оконченное преступление.
В тех ситуациях, когда кража с охраняемых территорий признавалась бы оконченной с момента изъятия имущества, действия вахтеров могли бы иметь двоякую квалификацию: либо в качестве соучастия (при наличии предварительного сговора), либо в виде укрывательства (при отсутствии предварительного сговора), поскольку вахтер, не выполняющий своих обязанностей по выявлению похищенного имущества при соответствующем умысле, становится, естественно, лицом, укрывающим его. Если же перенести момент окончания кражи на момент распоряжения (возможности его), то любое поведение вахтера (с предварительным сговором либо без него) необходимо рассматривать как соучастие в краже; мало того, как групповое преступление со всеми вытекающими из этого последствиями, в частности с решением вопроса о квалификации и назначении наказания лицам, действующим в группе лиц без предварительного сговора (такие действия не являются элементарным соучастием — все–таки мы сталкиваемся с действиями лиц на месте и во время исполнения преступления; не относятся они и к групповым кражам применительно к ст. 158 УК РФ, поскольку отсутствует предварительный сговор). Данная проблема расширяется в связи с тем, что должны быть признаны в таких случаях исполнителями группового без предварительного сговора преступления и те лица, которые помогли донести уже изъятое виновным имущество до проходной завода. Так ли социально необходимо искусственное завышение статуса обыкновенного укрывателя до соучастия и искусственное расширение пределов группового преступления, с которым, кстати, мы не знаем, что делать? Позицию Пленума можно было бы понять, если бы действия вахтера при признании моментом окончания изъятия имущества оказались вообще за рамками уголовно–правового воздействия; однако реально закон объявляет их преступлением (укрывательством) с наказуемостью едва ли меньшей, нежели пособничество в преступлении. Так для чего нагромождать сложности и проблемы, искусственно их создавая? Может быть, гораздо проще предоставить все естественному ходу событий: традиционно признавать кражу оконченной с момента завладения имуществом; действия иных лиц, совершаемые после этого, считать либо соучастием (при наличии предварительного сговора или группы лиц без предварительного сговора), либо укрывательством (при отсутствии таковых)? Полагаем, подобное является аксиоматичным, безусловным, не фиктивным и только упростит и теорию, и практику. Примерно такая же ситуация складывается и при переносе момента окончания кражи на пользование имуществом.
Определенная специфичность окончания преступления возникает и в продолжаемых преступлениях. По мнению Н. Д. Дурманова, «продолжаемое преступление оканчивается уже в момент совершения первого действия… По мере совершения новых преступных действии повторяется осуществление оконченного преступления»[268]. Подобное решение проблемы окончания продолжаемого преступления абсолютно неверно и связано с непониманием сущности продолжаемого преступления. За прошедшие после этого десятилетия данная теория в основе своей разработана и на наш взгляд, наиболее полно и точно, изложена в исследовании Т. Э. Караева[269], который, несмотря на дискуссионность некоторых положений, правильно раскрыл суть и специфику анализируемого вида преступления.
Продолжаемое преступление всегда характеризуется общей целью и единым умыслом. Последние же в свою очередь обусловливают единичность нескольких внешне самостоятельных преступных актов. Оконченным указанное преступление должно быть признано при тех условиях, когда доказано стремление преступника похитить, например, именно 15 тыс. рублей, а не 10 или 20 тыс., и именно эта сумма похищена преступником; либо довести потерпевшего до самоубийства, в результате чего потерпевший покончил с собой. К сожалению, на практике довольно часто необоснованно квалифицируют как оконченные продолжаемые преступления, ими не являющиеся. Так, Попова, работая заведующей столовой, «из выручки столовой присваивала деньги в сумме до 3 рублей, брала без оплаты продукты на мелкие суммы; питалась на работе вместе с дочерью, не оплачивая стоимость обедов, т. е. присвоение имело место мелкими суммами, одним и тем же способом, что свидетельствует об едином умысле и одном продолжаемом хищении». Всего Поповой похищено продуктов и денег на сумму 163 рубля[270]. Подобная неверная квалификация базировалась на руководящих указаниях Пленума Верховного Суда СССР[271], которые в целом правильно раскрывают сущность продолжаемого преступления, однако не аргументируют наличия единого умысла, общей цели и момента окончания указанного вида преступления применительно к конкретным обстоятельствам. К сожалению, примеры такого рода не единичны в судебной практике.
Ошибка в квалификации как раз и основана на неправильном представлении суда о моменте окончания продолжаемого преступления, определение которого тесно связано с точным пониманием единого умысла и общей цели. Единый умысел охватывает все акты преступного поведения, объединяет их в одно целое. Почему же подобное возникает? Когда мы говорим об умысле в продолжаемом преступлении, то должны четко представлять себе его характер: определенный он или неопределенный. Скорее всего, умысел в продолжаемом преступлении — определенный, поскольку при неопределенном умысле деяние квалифицируется по фактически наступившим последствиям, а в продолжаемом преступлении такое невозможно. Неприемлем здесь и альтернативный умысел, предполагающий желание наступления нескольких последствий, потому что подобное противоречит единому умыслу и общей цели. Разберем это на условном примере. Кладовщик А. систематически выносит с территории склада запасные части для автомашины с тем, чтобы собрать дома автомобиль. За определенный период времени он вынес запасных частей на сумму 9 тыс. рублей, и его преступная деятельность была прервана помимо его воли. Должен ли суд квалифицировать действия А. как оконченное хищение на указанную сумму? Разумеется, нет. Ведь суду необходимо учитывать умысел, его направленность, общую цель, объединяющую все совершенные преступные акты, которые заключаются в хищении всей совокупности запасных частей, необходимых в целом для сборки автомашины, т. е. в хищении на сумму, составляющую стоимость ее (скажем, 90 тыс. рублей). Вот такая конкретизация умысла помогает правильно определить опасность содеянного и отразить ее в квалификации преступления (в нашем примере — неоконченная преступная деятельность). Только при жесткой конкретизации желаемого результата возможна четкая дифференциация оконченного и неоконченного продолжаемого преступления. Именно в Конечном конкретизированном результате заключается единство умысла и общая цель — сущность, связывающая на первый взгляд разрозненные преступные акты и окончание преступления.
Вернемся к приведенному из судебной практики примеру, в котором, как нам представляется, суд не доказал наличия единого умысла, а лишь бездоказательно констатировал его; суд не доказал наличия оконченного или неоконченного продолжаемого преступления, ведь хищение на сумму 163 рубля может быть и тем и другим. Представляется, в предложенном примере вообще не было продолжаемого преступления, а было повторное мелкое хищение, так как не определены (и не могут быть определены в данной ситуации) единый умысел и конкретная общая цель, без которых невозможно четкое размежевание продолжаемого и повторного преступления.
Понимание того факта, что в упомянутом примере мы столкнулись с мелким хищением, помогает раскрыть подоплеку неверной квалификации случая как продолжаемого преступления: а) речь идет о мелком хищении; б) традиционно признается, что повторное мелкое хищение всегда остается мелким; в) размер похищенного имущества более чем в три раза превышал максимальный размер мелкого хищения действовавшего в то время; г) «неудобно» было признавать такое хищение повторным мелким, а считать его значимым для ст. 92 УК РСФСР можно было только путем признания хищения продолжаемым. Вот и деформируется теория продолжаемого преступления ради достижения сиюминутных целей и для подтверждения иной условной теоретической позиции — невозможности перерастания мелкого хищения в значительное. В свою очередь, указанный подход, коль скоро он высказан Верховным Судом РФ, становится правилом для некоторых ученых, стремящихся обосновать подобную деформацию. В результате происходит размывание понятия продолжаемого преступления, оно расширяется и уже не зависит от размера вреда.
Единый умысел и общая цель могут быть конкретизированы непосредственно в совершенном преступлении (хищение определенной суммы для определенной цели) или опосредованно (похищенное проедается и пропивается, а сэкономленная заработная плата сберегается для избранной цели).
Странную позицию избрал Верховный Суд РФ (отсюда и направленность судебной практики) при рассмотрении продолжаемого получения взятки или коммерческого подкупа. Так, в постановлении Пленума «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. точно отмечено, что «если взятка в крупном размере получена частями, но эти действия представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном размере»[272]. Казалось бы, все остальное максимально просто — все суды должны иметь ясное представление о продолжаемом преступлении, в том числе и применительно к указанным видам преступления, и четко определять момент его окончания, связанный с достижением единого умысла и общей цели. Тем не менее в этом же постановлении речь идет и о другом: «Дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы части (курсив наш. — А. К.) передаваемых ценностей»[273]. И здесь мы видим абсолютно неприемлемое решение: как только Пленум заговорил о части, он тем самым сразу сказал о том, что есть нечто целое, объединенное умыслом и целями; и в таком случае ни одна из частей изолированно не может представлять собой весь объем целого, отсюда и при квалификации должно быть отражено данное несовпадение части и целого. Квалификация части содеянного как оконченного преступления означает приравнивание по своему значению части и целого, что необоснованно ни с сущностной, ни с формально–логической позиций. Таким образом, мы видим в одном и том же постановлении Верховного Суда РФ явные противоречия по применению продолжаемого преступления на практике.
На этом фоне Верховный Суд вполне естественно при рассмотрении конкретных уголовных дел забывает о им самим созданных правилах относительно продолжаемого преступления. Так, по делу Семина было определено: «По смыслу закона, если умысел виновных был направлен на получение взятки в крупном размере и заранее было обусловлено, что она будет получена частями, то при получении хотя бы части взятки содеянное должно квалифицироваться как оконченное преступление в виде получения взятки в крупном размере»[274]. По делу Скосырского Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ также подтвердила, что «при коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) преступление считается оконченным с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей» и потому признание судом содеянного покушением признано несостоятельным[275]. Интересно, обращалась ли Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ при вынесении данных решений к указанному постановлению Пленума относительно продолжаемого преступления или нет? Имеет ли она хотя бы какое–то представление о продолжаемом преступлении, квалификации при его наличии и прерывании его на каком–то этапе (в какой–то части)? Не думаем, что судьи Верховного Суда указанного не знают. Но тогда ситуация еще опаснее, поскольку они деформируют устоявшиеся и признанные ими самими положения применительно к продолжаемому преступлению относительно отдельных конкретных дел. При этом возникает вопрос: ради чего? Ради борьбы с коррупцией вопреки истине, вопреки логике, вопреки сущности признанных явлений? Не исключено, что Верховный Суд, как и иные суды, не устраивает сама категория продолжаемого преступления, но тогда ему нужно добиваться исключения данной категории, замены ее чем–то иным, не использовать в своих решениях, выработать правила обращения с этим нечто относительно всех видов преступления, отраженных в Особенной части. Но если этого Верховный Суд не делает, значит, он согласен с традиционным присутствием продолжаемого преступления, и значит, должен играть по правилам, требуемым его обособленным существованием. На наш взгляд, приведенные решения по вопросу признания продолжаемого преступления при его частичном исполнении оконченным преступлением следует отменить как можно скорее, чтобы не создавать ситуации сидения на двух стульях.
Не менее сложно и определение момента окончания длящегося преступления, которое характеризуется значительной пестротой относительно отдельных видов указанной группы преступлений. Особенность длящихся преступлений заключается в том, что преступление признается юридически оконченным, но момент окончания как бы «этапируется» по времени до определенного факта. При этом не однозначны ни сам юридический, ни фактический моменты окончания; они полностью зависят от специфики вида преступления и не являются абсолютно одинаковыми для всех длящихся преступлений. Так, по юридическому моменту окончания все длящиеся преступления можно разделить на две группы: 1) ограниченные определенным сроком (самовольная отлучка, самовольное оставление части) и 2) законодательно не связанные с каким–либо сроком (укрывательство, уклонение от уплаты алиментов и др.). И в последних юридический момент окончания весьма различен: таковым признают и завершенность деяния (укрывательство), и длительное непоступление сумм на содержание ребенка.
Несколько меньшей пестротой характеризуется момент окончания фактический, но и он не однозначен. Его связывают с добровольным прекращением деятельности, с раскрытием преступления. Таким образом, конкретизировать на общем уровне момент окончания длящегося преступления не удается, поскольку он (момент окончания) тесно связан со спецификой видов преступлений.
Здесь же возникает интересная проблема: считается ли оконченным длящееся преступление в промежутке времени от юридического до фактического его окончания? Вопрос, как нам кажется, поставлен некорректно: ведь если преступление длится во времени как оконченное, то в любом временном отрезке данного интервала оно должно признаваться оконченным. Однако не все так очевидно. Например, лицо длительное время хранило оружие и затем выбросило его — оконченное здесь преступление или нет, признавать факт освобождения от оружия криминально незначимым, поскольку до этого хранение оружия уже было окончено, или деятельным раскаянием, также связанным с оконченным преступлением, или добровольным отказом, т. е. неоконченным преступлением? В теории нет однозначного решения указанных вопросов. Так, некоторые ученые признают, что сообщение правоохранительным органам о готовящемся или совершенном преступлении после юридического окончания преступления признается деятельным раскаянием[276]. Мы знаем, что недонесение сегодня преступлением не является, тем не менее сам факт предложенного толкования длящегося преступления настораживает, поскольку при такой точке зрения в длящихся преступлениях нет места добровольному отказу: до того момента, когда лицо не могло сообщить, нет ответственности в связи с отсутствием недонесения вообще, а с момента получения возможности сообщить об имеющихся сведениях возникает уголовная ответственность в связи с окончанием преступления, т. е. лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности после юридического окончания преступления. В этом ощущается элемент социальной несправедливости: все–таки лицо сообщило в надлежащие органы о преступлении до того, как там узнали о нем. И не случайно многие ученые предлагали освобождать от уголовной ответственности таких лиц[277].
Разумеется, вполне приемлема зависимость определения момента юридического или фактического окончания длящегося преступления от специфики конкретного вида преступления. Но на этом, думается, влияние особенности вида преступления должно закончиться, поскольку в дело вступают жестко однозначные уголовноправовые категории: юридическое и фактическое окончание преступления. Правовое значение интервала между ними должно быть одним и тем же для всех длящихся преступлений, потому что оно заключается лишь в следующем: юридическая оконченность преступления продолжается до момента его фактической завершенности. Временной промежуток между юридическим и фактическим окончанием длящегося преступления не изменяет характера данного преступления, оно остается юридически оконченным и как таковое должно быть квалифицировано в течение всего временного промежутка.
Что же нужно сделать для восстановления социальной справедливости? Мы видим два пути: 1) признать оконченным длящееся преступление с момента юридического окончания преступления и соответствующую возможность деятельного раскаяния в интервале между юридическим и фактическим моментами окончания его, выделив две разновидности деятельного раскаяния — смягчающего и исключающего уголовную ответственность; недостатком подобного является приравнивание правовых последствий деятельного раскаяния к правовым последствиям добровольного отказа, хотя указанное и имеет законодательную основу (примечания к ст. 206, 208 и др. УК РФ, ст. 75 УК РФ); 2) признать оконченным длящееся преступление с момента фактического окончания его и соответствующую возможность добровольного отказа на протяжении всего временного промежутка между юридическим и фактическим окончанием преступления со свойственными ему правовыми последствиями. С точки зрения существующей теории более приемлемо второе. Дело в том, что с юридическим окончанием длящееся преступление в целом не может быть признано оконченным. «Состав преступления по ст. 190 УК РСФСР является осуществленным с момента невыполнения обязанности сообщить о преступлении, если у субъекта была реальная возможность это сделать. Окончание преступления — явка с повинной, привлечение виновного к ответственности»[278]. Здесь много спорного и неясного: что такое «осуществленный» состав, возможен ли добровольный отказ и в чем он будет заключаться (коль скоро есть временной промежуток между «осуществленностью» и окончанием преступления, возможно и прекращение виновным преступной деятельности по собственной воле) и т. д. Очевидно одно: окончание преступления связывается с фактическим, а не с юридическим окончанием. Сказанное подтверждается и тем, что давностные сроки начинаются именно с этого момента.
Следовательно, длящееся преступление считается оконченным тогда, когда воедино сливаются юридическое и фактическое окончание преступления (для хранения оружия — когда оружие изъято у виновного правоохранительными органами и т. д.). Таким образом, прекращение деятельности по воле самого лица до такого слияния есть добровольный отказ, тем более что и последствия (освобождение от уголовной ответственности) ему соответствуют.
Существуют особенности оконченного преступления и при соучастии. Вполне понятно, что действия исполнителя признаются оконченными с момента завершения объективной стороны вида преступления. Но когда признавать оконченным поведение иных соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников)? Ведь здесь возможны два основных варианта: 1) с этапа выполнения собственных действий соучастника вне зависимости от поведения исполнителя (завершения организаторской деятельности, деяния по руководству преступлением, подстрекательской деятельности, пособнического поведения) либо 2) с момента окончания преступления исполнителем. От того, какой путь мы изберем, будет зависеть и добровольный отказ соучастника, и деятельное его раскаяние (в первом варианте рамки добровольного отказа сузятся и расширятся пределы деятельного раскаяния, во втором наоборот), и неудавшееся соучастие. Похоже, что этот довольно древний спор об акцессорности соучастия, о степени связанности поведения иных соучастников с исполнительской деятельностью разрешается в последнее время в пользу жесткой зависимости первых от второй[279]. Все это, казалось бы, объективно обосновано: все соучастники ставят перед собой общую цель, стремятся к достижению единого для всех результата, по отношению к которому и определяется результативность поведения всех соучастников.
Однако все не так просто. Законодательная практика показывает, что целенаправленность деяния и момент окончания его тесно не увязаны. Так, бандитизм признается оконченным с момента организации банды, хотя всем ясно, что организация банды не является самоцелью, что банды создаются для конкретных хищений, убийств, изнасилований. В какой–то мере сказанное относится и к разбою. Подобное отсутствие жесткой связи между оконченностью преступления и целью поведения — общим результатом делает не столь очевидной акцессорность соучастия. Думается, проблему окончания соучастия следует разрешать через характер связей поведения соучастников с деянием исполнителя: является ли оно причиной или условием последнего. Определенный шаг в данном направлении в теории уголовного права уже сделан. Так, Ф. Г. Бурчак причинно связал подстрекательство и организаторскую деятельность с умыслом исполнителя[280]. Но едва ли оправданно в данной ситуации ограничиваться связью только с умыслом, потому что умысел — лишь субъективное отражение объективных явлений (деяния и последствия). Скорее всего, поведение подстрекателя и организатора в определенных случаях причинно связано не только с умыслом, но и с поведением исполнителя (вызывает его к жизни, порождает его), естественно, и с результатом. Хотя, конечно же, основным элементом при направленных на исполнителя подстрекательстве и организаторской деятельности выступает причинная связь их с замыслом исполнителя как первичной стадией совершения преступления. Кроме того, необходимо помнить о том, что при соучастии имеется не только причинная, но и обусловливающе–опосредованная связь (пособника с исполнителем, пособника с организатором и подстрекателем, организатора и подстрекателя с исполнителем через пособника). Как видим, обусловливающе–опосредованная связь свойственна не только пособнику. Таким образом, иные соучастники объективно связаны с поведением исполнителя либо причинно, либо обусловливающе–опосредованно. Неоднозначность объективной связи деяния иных соучастников с поведением исполнителя, думается, помогает нам установить момент окончания действий соучастников того или иного вида. Ведь при наличии причинной связи соучастник, вызвавший к жизни, породивший исполнителя, как таковой становится уже ненужным для последующего развития преступления.
Далее преступление осуществляется уже самим исполнителем без какого–либо последующего воздействия указанных соучастников. Именно поэтому при причинно–следственной связи поведение соучастника следует считать оконченным с того момента, когда он осуществил последний акт по направлению «создания» исполнителя. Иначе решается проблема окончания соучастия при наличии обусловливающе–опосредованной связи. Здесь соучастник лишь создает определенные условия (изготавливает орудия исполнения преступления, подыскивает средства исполнения преступления и т. д.), которые могут быть использованы в ходе исполнительской деятельности. Отсюда действия подобного соучастника нужно признавать оконченными, когда исполнитель реализовал (применил орудие, использовал средства и т. д.) или не реализовал созданное соучастником условие.
В результате можно констатировать, что окончание действий организатора и подстрекателя неоднозначно и зависит от характера их объективной связи с исполнителем (причинная она или обусловливающе–опосредованная), а пособника — всегда одинаково и зависит от степени реализации созданного им условия.
Итак, завершен анализ стадий совершения преступления и оконченного преступления. О правовом значении стадий речь уже шла. Главным достоинством отдельного самостоятельного исследования стадий является четкая структура соотношения стадий с прерванной преступной деятельностью, особенно в связи с тем, что последняя бывает двух видов: 1) прерванная помимо воли виновного и 2) прерванная по воле виновного. Именно поэтому соотношение между стадиями и неоконченной преступной деятельностью должно быть исследовано на трех уровнях: а) уровень прерванной помимо воли лица деятельности, б) уровень стадий совершения преступления и в) уровень прерванной по воле лица деятельности. При этом уровень стадий будет базисным, основанием для сопоставления с ним двух других уровней. Схематически это выглядит следующим образом:
Базисный уровень мы исследовали, остается анализ двух других уровней, что и будет предметом последующих разделов.
Раздел II
Понятие неоконченного преступления
Знакомство права с прерванной на какой–то стадии преступной деятельностью и стремление дать этому явлению соответствующую правовую оценку уходят в глубь веков. Так, согласно (ст. 1 гл.2 Соборного Уложения 1649 г. объявлялось наказуемым прерванное на стадии обнаружения замысла деяние: «Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщется допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и делать хотел, и таковы по сыску казнить смертию»[281]. На неоконченную преступную деятельность применительно к убийству указывал и артикул 161 Артикула воинского Петра I: «Ежели тот, которого умертвить хотели, подлинно не убит, однакож на него нападение было, и оный побит или ранен, то как подкупщик, так и наемщик мечем казнены, и обоих тела на колеса положены будут». Теория русского уголовного права вплотную начала заниматься вопросами прерванной преступной деятельности с первой половины XIX в. Вначале такая деятельность отождествлялась с покушением: «Эту–то прерванную или оставшуюся без последствий деятельность обыкновенно и называют неоконченным преступлением или покушением»[282]. Все это было связано с тем, что теория русского уголовного права середины XIX в. не знала еще других видов неоконченного преступления, хотя и имела представление о приготовительных действиях, которые считались частью покушения[283]. И только несколько позже было предложено выделять приготовление за рамки покушения, признавать относительно самостоятельными приготовление и покушение[284].
Кроме того, русскому уголовному праву был известен уже в середине XIX в. и добровольный отказ. Однако долгое время его отождествляли с покушением, говорили о добровольном отказе как добровольно оставленном покушении[285]. И лишь в советской уголовно–правовой науке добровольный отказ был признан самостоятельным институтом уголовного права. Проведение определенной понятийной дифференциации в рамках или вне рамок покушения с необходимостью привело к возникновению термина «неоконченное преступление» или «неоконченная преступная деятельность». Но наряду с ними возник и другой термин — «предварительная преступная деятельность» как более точно, по мысли авторов, отражающий специфику прерванной преступной деятельности[286]. Эта позиция была поддержана и в советской уголовно–правовой литературе[287].
Подобный подход был подвергнут критике[288], поскольку предварительность подразумевает совершение чего–то одного, за которым последует что–то другое; но за прерванной преступной деятельностью ничего более не следует, ею в определенных случаях преступление и завершается. Именно поэтому термин «предварительная преступная деятельность» и с позиций неоконченного преступления неприемлем. С высказанным мнением следует согласиться и в целях чистоты юридической терминологии указанное понятие не применять. Однако и в настоящее время, несмотря на критику, на очевидность неприемлемости термина «предварительная преступная деятельность» применительно к прерванному преступлению, в литературе проявляются его рецидивы[289].
Законодатель до недавнего времени не использовал ни одного из предложенных терминов. Ст. 15 УК РСФСР 1960 г. была озаглавлена «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», данная формула соответствовала содержанию нормы, однако надо отметить громоздкость наименования. Кроме того, выделение за пределы ст. 15 УК РСФСР добровольного отказа создавало иллюзию их самостоятельности, несвязанности друг с другом, хотя бы опосредованной. Несмотря на это некоторые авторы продолжали называть приготовление и покушение неоконченным преступлением. Так, А. А. Герцензон, анализируя Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., писал, что «Основы в ст. 15 и 16 развивают институт неоконченного преступления. В этих статьях дается понятие приготовления и покушения, добровольного отказа от совершения преступления, а также указываются критерии для квалификации неоконченного преступления…»[290], высказав тем самым аксиоматическое представление об указанных категориях. Тем не менее ни уголовный закон, ни теория уголовного права, ни практика не спешили расстаться с общепринятой фикцией и по–прежнему смешивали их со стадиями и с предварительной преступной деятельностью.
Подобного делать не следовало хотя бы потому, что социальная сущность стадий совершения преступления и неоконченного преступления совершенно различна. Если суть стадий заключается в том, чтобы максимально четко разобраться в динамике развития преступления, в тех этапах, которые преступление проходит в своем развитии, то суть неоконченного преступления несколько сложнее. Она состоит как бы из двух частей. Во–первых, это деятельность по совершению преступления, специфическая, подготовительная или по исполнению преступления. Во–вторых, это прерывание преступления по определенным причинам, незавершенность преступления. Какая из данных частей более значима, а какая — менее, сказать трудно, поскольку без первой нет преступления, а без второй — неоконченности его. Однако все–таки, на наш взгляд, основной частью является вторая и вот почему. Осуществив классификацию преступлений по степени их завершенности и выделив соответственно оконченные и неоконченные преступления, мы с необходимостью отнесли само преступление (деяние по его осуществлению) к родовым признакам, характеризующим каждый из выделенных классов. Отсюда сами выделенные классы характеризуются; иными признаками: для оконченного преступления — это наличие всех признаков вида преступления, предусмотренного Особенной частью УК; для неоконченного — прерванность преступления на каком–то этапе.
Указанные недостатки смешения различных институтов уголовного права были ликвидированы сначала на уровне законодательного предположения. Так, в Теоретической модели УК соответствующий раздел назван «Неоконченное преступление»[291], благодаря чему в одну группу объединены приготовление, покушение и добровольный отказ, которые действительно имеют одно основание — стадии совершения преступления. Основы 1991 г. не восприняли такой новеллы и оставили прежнее наименование, исключив из него только слова «ответственность за», проигнорировав тем самым базу, которая объединяет в нечто целое приготовление и покушение с добровольным отказом. Попытка вернуться к понятию «неоконченное преступление», интегрирующему в себе все три формы (разновидности) неоконченной преступной деятельности, была предпринята вновь в Проекте УК России, подготовленном Министерством юстиции России и опубликованном в начале 1992 г. для обсуждения. И Уголовный кодекс России 1996 г. воспринял все–таки новеллу, создав соответствующую главу 6 в УК и озаглавив ее «Неоконченное преступление», что должно помочь разобраться в общих корнях приготовления, покушения и добровольного отказа, правильно их толковать и анализировать. Ведь предложенный термин сам по себе уже показывает, что преступный результат не наступил и не наступит, что преступная деятельность не прошла все свои этапы и тем не менее остается преступной.
Новое законодательство, применив термин «неоконченное преступление», никак его не определяет, а лишь выделяет виды такового. Новейшие учебники уголовного права либо, как уже было сказано, игнорируют неоконченное преступление, представляя его стадиями[292], либо высказывают в нем заинтересованность[293], однако ни те ни другие определения ему не дают. В теории уголовного права под неоконченным преступным поведением понимают «такую умышленную общественно опасную деятельность виновного, которая содержит в себе лишь часть признаков состава данного преступления вследствие неполного развития его объективной стороны»[294]. Это было, пожалуй, одним из немногих в советском уголовном праве развернутых определений прерванной преступной деятельности. На анализе его некоторых положений мы и остановимся.
Главным образом обращает на себя внимание стремление обособить пределы неоконченного преступления рамками умысла. По существу, данная позиция является господствующей в уголовном праве вообще: так считали большинство ученых в дореволюционном русском праве[295], соответствующее мнение закреплено и в советском уголовном праве[296]. При этом большинство авторов признают неоконченную преступную деятельность только в преступлениях, совершаемых с прямым умыслом[297], а некоторые и в преступлениях с косвенным умыслом[298]. Как видим, указанная дискуссия насчитывает уже сотню лет, но проблема до сих пор остается нерешенной.
Исследователи, которые признают невозможность неоконченной преступной деятельности в преступлениях, совершаемых с косвенным умыслом, обосновывают это по–разному. Так, Г. Колоколов связывал это с отсутствием косвенного умысла вообще[299]. Аргумент не выдержал проверки временем: вопреки изложенному мнению косвенный умысел «прижился» как вид вины в уголовном праве, и едва ли может быть оспорена обоснованность его наличия (можно до бесконечности спорить по поводу признаков косвенного умысла, его определения и законодательной формулировки, его наименования, но нельзя подвергнуть сомнению тот факт, что между прямым умыслом и легкомыслием располагается еще одна разновидность вины, в которой отсутствует желание причинить преступный результат и в то же время нет самонадеянного расчета на ненаступление последствий).
Н. Д. Дурманов в качестве аргументов невозможности неоконченной преступной деятельности в преступлениях с косвенным умыслом выдвигал следующее: волевая деятельность виновного не направлена на достижение данного последствия; и свои подготовительные действия, и действия по совершению преступления виновный подчиняет цели совершения преступления; ни одного действия в направление побочного последствия виновный не совершает; нет основания из множества последствий, допускаемых виновным, выбирать тяжкое и вменять виновному покушение на достижение именно этих последствий[300].
Изложенные доводы также не выдерживают критики. Все они свидетельствуют либо о том, что при косвенном умысле нет целенаправленной деятельности именно на данный результат (это очевидно, но еще не доказывает невозможности прерванной деятельности в преступлениях с косвенным умыслом), либо о трудностях квалификации при предположении о возможном наличии прерванной деятельности при косвенном умысле. Последнее, на наш взгляд, больше всего и волнует сторонников анализируемой позиции, раскрывая их беззащитность перед определенной деятельностью без желаемых последствий. Это видно из примера, приведенного М. М. Исаевым и продублированного Н. Д. Дурмановым: если С., стреляя в толпу из хулиганских побуждений, убил одного человека или несколько лиц, то имеется убийство с косвенным умыслом; если же он промахнулся, то его действия следует квалифицировать как хулиганство[301]. В данном случае авторов вроде бы спасло хулиганство, выполняющее довольно часто роль аналогии в уголовном праве даже и сейчас, когда аналогия формально отменена. Однако вопросы остаются: если был доказан умысел на убийство, куда он исчез при отсутствии последствий; а если он не исчез, сохранился, почему это не нашло отражения при квалификации содеянного; с какой стати доказанность умысла ставится в зависимость только от последствий и др.
Думается, в приведенном примере квалификация должна идти даже при отсутствии последствий в виде смерти или причинения вреда здоровью по двум направлениям — при доказанности косвенного умысла на убийство и при его недоказанности. В тех случаях, когда косвенный умысел на убийство не доказан, следует квалифицировать действия виновного как хулиганство по совокупности с другими видами преступления. Однако такая же квалификация при доказанности умысла на убийство (он, кстати, доказывается не столько последствием, сколько характером совершенного деяния) по своей сути архиневерна, поскольку затушевывает общественную опасность замысла и содеянного. Названные и другие авторы этого видеть не хотят, как, впрочем, и того, что вне рамок прерванной преступной деятельности квалификация подобных случаев невозможна.
На этом фоне любопытно проследить позицию теории уголовного права по вопросу о возможности прерванной преступной деятельности в преступлениях, совершенных с некоторыми иными разновидностями умысла. В литературе почти единодушно признается, что неоконченная преступная деятельность возможна и при определенном, и при неопределенном умыслах[302]. Н. Д. Дурманов несколько уточнил данное положение, поскольку считал, что покушение возможно и при определенном, и при неконкретизированном, и при альтернативном умыслах[303]. Как соотносятся два последних с основными видами умысла (прямым и косвенным), напрямую из работы Н. Д. Дурманова не следует. Однако еще С. В. Познышев писал, что альтернативный умысел может быть прямым и косвенным[304]. Скорее всего, из подобного представления исходил и Н. Д. Дурманов, когда предлагал квалифицировать деяния с неконкретизированным умыслом в зависимости от наступивших последствий (что характерно для косвенного умысла. — А. К.), ас альтернативным умыслом — по умыслу (что характерно для прямого умысла. — А. К.)[305]. Так же относятся к указанному делению видов умысла и в новейшей литературе. По мнению Ю. А. Красикова, «преступления, совершенные с неопределенным умыслом, надо квалифицировать в зависимости от фактически наступивших последствий»[306], т. е. как при косвенном умысле. Правда, при этом он не дает обобщенного представления о квалификации преступления при наличии альтернативного умысла, лишь отмечает «близость альтернативного и определенного умыслов»[307], что представляется неприемлемым в той части, в которой определенный умысел является косвенным. По крайней мере, различие между приведенными Н. Д. Дурмановым и другим авторами разновидностями умысла, на наш взгляд, заключается, во–первых, в количестве последствий, которые наступают в результате преступного поведения (одно последствие — при определенном умысле и два или более последствия — при неконкретизированном и альтернативном умыслах); во–вторых, в основных видах умысла, составляющих базу указанных разновидностей (при определенном возможен и прямой, и косвенный умыслы; при неконкретизированном — только косвенный, при альтернативном — лишь прямой[308]). Только такое понимание делает целесообразным выделение указанных трех видов умысла, в противном случае их вычленение окажется логически необоснованным, хотя с позиций логики было бы более оправданным дифференцировать анализируемые виды умысла на двух уровнях, вычленив определенный и неопределенный умыслы и подвиды последнего — альтернативный и неконкретизированный.
Однако в теории высказана и иная точка зрения. Так, Р. И. Михеев считает, что в одно и то же время неопределенный умысел может быть и альтернативным, тем не менее и при неопределенном, и при альтернативном умыслах квалификация наступает по максимуму возможного[309]. Подобное неприемлемо вообще, поскольку, во–первых, автор, выделив совпадающие неопределенный и альтернативный умыслы, классифицировал их на разных уровнях или соотнес с различными классификациями, что должно с необходимостью влечь за собой продолжение данных классификаций или их уровней; ведь не возможна классификация с одним элементом, что–то должно противостоять неопределенному и альтернативному умыслам; введение в классификацию определенного умысла ситуации не разрешает. Во–вторых, нет никакого смысла приводить классификацию, которая не имеет никакого правового значения, ведь в любом случае (и при неопределенном, и при альтернативном умыслах) содеянное квалифицируется по максимуму возможного.
Но приведенное толкование предложенных выше видов умысла ударяет в первую очередь по сторонникам признания невозможной прерванной преступной деятельности в преступлениях с косвенным умыслом. Ведь если исходить из него, то оказывается, что неоконченная преступная деятельность возможна при совершении преступлений и с прямым, и с косвенным умыслом как основаниями альтернативного и неконкретизированного умыслов. Таким образом, мы видим, что все аргументы указанных авторов исходят из желания видеть неоконченное преступление только при наличии прямого умысла: покушение на преступление, приготовление к преступлению исторически и терминологически (нельзя готовиться к нежелаемому) сложились как явления, связанные с прямым умыслом. Если все так просто, почему вновь и вновь возникает несогласие с этим? Из желания быть оригинальным? Никакой оригинальности нет, коль скоро точка зрения уже кем–то высказана ранее (позиция о возможности неоконченной преступной деятельности в преступлениях с косвенным умыслом высказана еще в XIX в., и ее поддержка в XX в. вряд ли может быть признана оригинальной). Так в чем же дело? Причина разногласия заключена, очевидно, в отсутствии глубины изучения проблемы, в господствующем прямолинейном подходе, в принятии и взятии на вооружение господствующей точкой зрения лишь поверхностного слоя проблем: то, как сложилось исторически; то, что следует напрямую из толкования терминов, нами же созданных и характеризующих неоконченную преступную деятельность; то, что напрямую и очевидно связано с практикой, опирающейся на господствующие позиции. Ведь именно такой вывод напрашивается при анализе приведенного выше игнорирования умысла на убийство и замене его умыслом на совершение хулиганских действий.
Примерно такая же картина наблюдается и в вопросе о возможности неоконченной преступной деятельности в преступлениях, совершаемых неосторожно. Издавна в теории уголовного права была высказана позиция, согласно которой неоконченная преступная деятельность возможна и в преступлениях неосторожных. Так, Гепп считал, что «ни одно преступление не может быть совершено, не будучи начато, а покушение и состоит именно в начатии преступления, так что если мы будем отвергать возможность неосторожного покушения, то нам придется отвергнуть и возможность неосторожного совершения»[310]. Этой же точки зрения придерживались и другие ученые[311], считая при этом, что Гепп неправ лишь в наименовании неосторожного неоконченного преступления как покушения[312]. Достаточно осторожно применительно только к преступлениям, совершаемым при смешанной форме вины, высказана данная позиция и в теории советского уголовного права[313].
Изложенное мнение решительно отвергается большинством криминалистов. На чем же базируется его неприятие? Обширно аргументирует невозможность прерванной преступной деятельности в неосторожных преступлениях Н. Ф. Кузнецова. Попытаемся разобраться в приведенных ею обоснованиях. «Приготовление и покушение — понятия уголовно–правовые. Необходимыми признаками их с объективной стороны являются:
а) совершение определенного действия, направленного на причинение преступного ущерба (при приготовлении — создание условий для наступления преступного результата, при покушении — исполнение преступления),
б) ненаступление преступного результата по независящим от лица обстоятельствам»[314].
Думается, указанными доводами Н. Ф. Кузнецова пока не убедила в том, что прерванная преступная деятельность невозможна в неосторожных преступлениях. Во–первых, Н. Ф. Кузнецова, формулируя первый признак, сразу же использует термин «направленного» с очевидным целеполаганием, после которого действительно не следует ожидать при неоконченной преступной деятельности никакой иной вины, кроме прямого умысла; т. е. автор заранее предопределяет этот вид вины и выдает подобное за аргумент. При такой аргументации с необходимостью возникает вопрос: а почему, собственно, «направленного» на причинение вреда, откуда сие следует? Опять–таки из прямолинейного терминологического толкования приготовления и покушения? Во–вторых, последний признак, указанный Н. Ф. Кузнецовой, никоим образом не связан с виной, поскольку причины прерывания преступной деятельности при приготовлении и покушении лежат за рамками субъекта преступления и его психического отношения. Скорее всего, данный аргумент работает против самого автора, так как свидетельствует о том, что причины прерывания преступной деятельности, не зависимые от субъекта преступления, могут иметь место в любой преступной деятельности безотносительно вида его вины.
Если предположить, что прерывание преступной деятельности теснейшим образом связано с субъектом (преступление прекращено по воле виновного), свидетельствует ли подобное о невозможности прекращения преступной деятельности в неосторожных преступлениях? Вовсе нет. Ведь мы говорим о свободе волеизъявления виновного вне зависимости от формы и вида вины при совершении преступления любого вида и на любой стадии его развития.
Именно поэтому можно сделать вывод, что пока Н. Ф. Кузнецова ничего в анализируемом плане не доказала, хотя и резюмировала: «Ненаступление преступного результата по независящим от лица обстоятельствам имеет место только в преступной деятельности, совершаемой с прямым умыслом»[315]. Сказанное противоречит, во–первых, элементарной логике — ведь любая преступная деятельность, в том числе и неосторожная, может быть не доведена до конца из–за тех или иных случайностей; во–вторых, точке зрения самого автора, которая отлично это понимает: «В развитие этих преступлений (совершаемых с косвенным умыслом или неосторожно. — А. К.) также может вмешаться случайное обстоятельство, которое воспрепятствует наступлению преступного результата, весьма возможного в данных конкретных условиях»[316]. Так все–таки возможно или нет ненаступление преступного результата в силу влияния тех или иных случайностей в неосторожных преступлениях? Как разрешить созданное самим автором противоречие?
Даже если мы признаем, что в первом случае Н. Ф. Кузнецова говорит о криминально значимом прерывании преступной деятельности, а во втором — о криминально незначимом, то все равно по своей сути противоречие сохраняется, поскольку и в том и в другом высказываниях речь идет о возможности или невозможности ненаступления преступного результата в неосторожных/преступлениях. Кроме того, для установления факта криминальной значимости или незначимости необходимо максимально глубоко исследовать явления, в анализируемом случае — прерывание неосторожной преступной деятельности, однако этого никто не делает, в том числе и Н. Ф. Кузнецова. Поэтому и вывод о криминальной незначимости прерывания неосторожной преступной деятельности, о невозможности признания ее покушением повисает в воздухе. Почему же возникло указанное противоречие? Представляется, Н. Ф. Кузнецова, абсолютно верно понимая истинное соотношение стадий и неоконченной преступной деятельности, не могла не сказать о том, что любая преступная деятельность (будь она с прямым или косвенным умыслом либо неосторожной) может быть прервана на том или ином этапе ее развития. В то же время необходимо было сохранить и традиционный подход.
И последний аргумент Н. Ф. Кузнецовой: «Только в умышленных преступлениях развитие событий происходит с закономерной необходимостью, только эта необходимость может быть нарушена и превращена в прямую невозможность наступления результата по независящим от субъекта и непредвиденным им обстоятельствам»[317]. Данное доказательство неприемлемо. Согласно высказанным здесь положениям необходимые причинные связи имеют место лишь в умышленных преступлениях, в неосторожных же их нет. Однако такой подход противоречит и логике, и практике, ведь неосторожные преступления, совершаемые путем действия, а в исключительных случаях — и путем бездействия, причинно связаны с результатом, т. е. в их основу заложена жесткая закономерность развития преступления от деяния к результату. Возьмем условный пример: Н. пристреливает ружье в избушке; убеждается, что пуля не пробивает бревна; при одном выстреле пуля пролетает между бревен и убивает прохожего. Здесь мы видим необходимую, закономерную причинную связь — выстрел, повлекший смерть жертвы. Однако и она может быть прервана, нарушена по независящим от лица обстоятельствам (потенциальная жертва уже прошла мимо или еще не дошла до избушки; пуля не преодолела препятствие, которое находилось в одежде жертвы, — книгу, портсигар и т. д.). Разве преступная деятельность не прервана в данной ситуации случайными обстоятельствами, разве в приведенном случае мы столкнулись не с неосторожным совершением деяния и разве оно не общественно опасно? Что должен делать следователь, получив заявление потерпевшего о том, что в него стреляли? Естественно, коль скоро неоконченная преступная деятельность — только умышленный феномен, прекратить (не возбуждать) уголовное дело и отпустить виновного, сказав ему тем самым: «Ничего страшного не произошло, поступай и далее так же».
Отсюда возникает вывод, что неприемлемость неоконченной преступной деятельности в неосторожных преступлениях никем не доказана. В то же время становится очевидным факт возможного прерывания неосторожной преступной деятельности на определенном этапе ее развития.
Тогда почему же в законе указывалось (ст. 15, 16 УК РСФСР) и указывается (ст. 30 УК РФ) на неоконченную преступную деятельность лишь в умышленных преступлениях? На наш взгляд, это обусловлено тем, что в неосторожных преступлениях достаточно сложно определить степень общественной опасности, тем более при их незавершенности. Поэтому законодатель возлагает на суд обязанность устанавливать опасность неоконченной преступной деятельности только по умышленным преступлениям и не признавать неоконченной неосторожную деятельность, оставляя за собой право в наиболее значимых с позиций уголовного права случаях формулировать в Особенной части закона самостоятельные нормы, отражающие неоконченную преступную неосторожную деятельность. Фактически изложенное законодательное положение является в Общей части одним из тех, которые лишь косвенно связаны с Особенной частью. Более полная связь наметилась в Основах 1991 г., ч. 2 ст. 10 которых устанавливала: «Уголовная ответственность за преступление, совершенное по неосторожности, наступает только в случаях, когда это прямо предусмотрено уголовным законом»[318]. При такой формулировке становилось ясным, почему в ст. 15 УК РСФСР говорилось только об умышленном преступлении. Указанные две нормы в совокупности помогали разрешить так долго нерешаемый вопрос о прерванных неосторожных преступлениях. К сожалению, подготовленный министерством юстиции России Проект УК не воспринял указанной в Основах формулы, снова разорвав логическую цепочку. Однако в УК РФ (ч. 2 ст. 24 УК) позиция Основ поддержана и введено положение, соответствующее ч. 2 ст. 10 Основ 1991 г.
По–видимому, в дискуссии о возможности или невозможности неоконченной преступной деятельности в преступлениях, совершаемых с косвенным умыслом или неосторожно, необходимо вычленить две группы проблем: проблемы сущности неоконченной преступной деятельности, в том числе при различных формах вины, и проблемы криминальной значимости неоконченной преступной деятельности. Собственно об этом писал более 100 лет тому назад А. Чебышев–Дмитриев: «Нужно отделить вопрос о возможности неосторожного неоконченного преступления от вопроса об его наказуемости»[319].
Сущность неоконченной преступной деятельности в целом правильно определяется теорией уголовного права. Так, Н. Д. Дурманов писал: «Покушение как понятие юридическое выражает не только само осуществление преступления, но и факт неудачи преступника»[320]. Более точно определяет указанную сущность Н. Ф. Кузнецова: при приготовлении «помимо самих приготовительных действий всегда имеет место еще и пресечение преступной деятельности на стадии приготовления по независящим от лица обстоятельствам»[321]. Отметим, что автор выделила прерывание преступной деятельности и его причины в качестве основных признаков неоконченного преступления. Примерно так же определяют сущность и содержание неоконченного преступления и другие авторы[322].
Следовательно, сущность неоконченной преступной деятельности может быть определена на основе трех признаков: наличия какой–либо стадии преступной деятельности, прерывания преступной деятельности на данной стадии, причин прерывания. Все три фактора жестко взаимосвязаны и в прерванной преступной деятельности не могут существовать друг без друга. Однако важнейшими из них, в которых и проявляется наиболее выпукло сущность неоконченной преступной деятельности, выступают два последних. Ведь само по себе наличие той или иной стадии преступления еще не выводит нас на неоконченную преступную деятельность, так как в последующем преступление может быть и оконченным. Именно поэтому указанная сущность базируется главным образом на прерывании преступной деятельности и на причинах прерывания как определяющих факторах разновидностей неоконченного преступления.
Всякая ли деятельность может быть прервана на той или иной стадии ее развития либо это прерогатива только умышленных (точнее, с прямым умыслом совершенных) преступлений? Мы склонны согласиться с приведенным выше высказыванием Н. Ф. Кузнецовой, согласно которому может быть прервана любая вне зависимости от вида вины преступная деятельность, и попытаемся углубить данный вывод.
Возможность прерывания преступной деятельности и соответствующее наличие неоконченного преступления в преступлениях с материальным составом, совершаемых с прямым умыслом, раскрыта уже в десятках публикаций. Мы только присоединимся к господствующей в теории уголовного права позиции по этому вопросу.
Гораздо сложнее решить вопрос о возможности прерывания преступной деятельности, совершаемой с косвенным умыслом и неосторожно, поскольку в приведенных случаях мы сталкиваемся с деятельностью целенаправленной, вызывающей в то же время и побочный результат. Теснейшая связь побочного результата с целенаправленной деятельностью в анализируемых преступлениях ставит несколько вопросов: влечет ли прерывание целенаправленной деятельности (виновной или правомерной) одновременное прерывание и побочной деятельности, возможно ли самостоятельное прерывание побочной деятельности без прерывания целенаправленной деятельности?
Для ответа на первый вопрос вернемся к механизму возникновения желаемого и побочного результатов. Выше уже было сказано, что и желаемый, и побочный результаты неразрывно связаны с деянием. Сам факт возникновения того или другого результатов из одного деяния приводит к мысли о том, что прерывание целенаправленной деятельности с необходимостью вызывает и прерывание побочной деятельности. Вроде бы все однозначно. Попутно нужно сущностно и содержательно обособить термины «преступная деятельность», «деяние», «телодвижение», чтобы прояснить последующие рассуждения. В изложенном порядке они представляют собой общее и части: преступная деятельность включает в себя и определенные действия по обнаружению замысла (например, обнаружение замысла с целью последующего рекрутирования соучастников), и действия по созданию условий, и действия по исполнению преступления, куда входят и объективные связи между ними и результатом, и преступные последствия; под деянием, как правило, понимается исполнение преступления, и за его пределами могут оказаться действия по обнаружению замысла и по созданию условий, с одной стороны, и преступный результат — с другой; под телодвижением понимаем отдельное телодвижение, из ряда которых состоит и преступная деятельность, и отдельные входящие в нее действия.
Более глубоким анализом указанного механизма несколько корректируется сделанный выше вывод. Дело в том, что деяния по своему составу неоднородны: некоторые из них состоят из одного телодвижения, другие — из различной степени множества телодвижений либо даже отдельных действий. В зависимости от этого и вопрос о прерывании побочной деятельности должен решаться различным образом.
Рассмотрим первые из них (деяние одномоментно), в которых и желаемый, и побочный результаты возникают из одного телодвижения
Здесь целенаправленная деятельность может прерываться либо до совершения одномоментного деяния, либо после его совершения, т. е. возникает два варианта прерывания преступной деятельности. Представим, что целенаправленная деятельность прерывается до совершения деяния. В таком случае с необходимостью прерывается и побочная деятельность, поскольку при отсутствии деяния невозможно наступление ни желаемого, ни побочного результата Не исключено сомнение по поводу того, что речь идет о прерывании побочной деятельности при отсутствии деяния, от которого она должна была возникнуть, т. е. она даже еще не возникла. И сомнение в целом оправданно. Но, представляется, данное сомнение следует убрать, поскольку предыдущее поведение виновного создавало необходимые предпосылки для соответствующего деяния, при котором возможны были и желаемый, и побочный результаты. Особенно очевидно подобное при необходимом возникновении того или другого, ведь исключив побочный преступный результат как невозможный в данной ситуации, мы тем самым ставим под сомнение и желаемый результат. Кому–то покажется странным термин «возможный необходимый», однако он вполне правомерен, поскольку нельзя забывать о том, что категории возможности и действительности, необходимости и случайности неодноуровневые, потому необходимость представима и при возможности, и при действительности, так же как случайность вполне соотносится и с возможностью, и с действительностью.
Совсем иное решение возникает во втором варианте, когда преступная деятельность прерывается после совершения деяния. Здесь воздействие случайности в зависимости от характера и интенсивности ее может привести либо к прерыванию и целенаправленной, и побочной деятельности; либо к прерыванию только целенаправленной и сохранению побочной деятельности; либо к прерыванию только побочной и сохранению целенаправленной деятельности. Разберем этот вариант на условном примере: Н. из мести поджигает усадьбу М., зная, что в доме находится тяжелобольной К., и допуская его гибель при пожаре. В данной ситуации возможны три варианта прерывания развития причинной связи: а) пожар потушили соседи в самом начале, в результате чего не пострадали ни строения, Ни К., т. е. были прерваны и целенаправленная и побочная деятельность; ни желаемый, ни побочный результаты не наступили; б) К. успел выйти из дома, но строение сгорело; следовательно, целенаправленная деятельность не была прервана, а прерванной оказалась побочная деятельность; в) пожар соседи потушили и спасли строение, но К. задохнулся в дыму, т. е. была прервана целенаправленная Деятельность, побочный же результат наступил. Как видим из указанной ситуации, вполне возможно самостоятельное прерывание и целенаправленной, и побочной деятельности.
Еще более наглядным данный вывод представляется в том случае, когда деяние многомоментно. Представим его схематически:
Скажем так, уже первое телодвижение, составляющее часть деяния, вызывает побочный результат, но еще не в состоянии вызвать к жизни желаемый результат, поскольку для его возникновения требуется выполнение и других телодвижений. При прерывании преступной деятельности до выполнения первого действия с необходимостью будут прерваны и целенаправленная, и побочная причинные связи. Если же преступление прерывается после выполнения первого действия, но до выполнения последующих телодвижений Д2 и Д3, которые в результате пресечения преступной деятельности не совершаются вовсе, то в этом случае с необходимостью прерывается целенаправленная причинная связь, однако не может быть прервана побочная причинная связь в силу ее возникновения уже от первого действия. Указанное также свидетельствует об относительной самостоятельности целенаправленной и побочной деятельности.
И еще более очевидным данный вывод становится, когда побочный результат вызывается действиями по созданию условий для наступления желаемого последствия. Представим схематически:
В этом случае деяние, входящее в объективную сторону целенаправленной деятельности, никаким образом не связано с побочным результатом. И здесь прерывание целенаправленной деятельности на стадии частичного или полного выполнения деяния, как правило, не окажет влияния на развитие побочной причинной связи. Все изложенное приводит к вполне определенным выводам: прерывание целенаправленной причинной связи может не прерывать побочную причинную связь, т. е. побочная деятельность может развиваться и в том случае, когда целенаправленная деятельность прекращает свое существование; прерывание побочной причинной связи может не прерывать развития целенаправленной побочной деятельности; целенаправленная и побочная деятельности развиваются относительно самостоятельно; изучение прерывания побочной преступной деятельности приобретает самостоятельное значение.
Таким образом, основной вывод следует с необходимостью: самостоятельное прерывание побочной деятельности возможно вне связи с прерыванием целенаправленной деятельности. Поскольку побочный результат характеризует не только косвенный умысел, но и преступную неосторожность, то прерванной может быть и деятельность с косвенным умыслом, и неосторожная преступная деятельность. Эту прерванную деятельность следует определять как неоконченное преступление, потому что, во–первых, есть специфическая преступная деятельность, во–вторых, она, благодаря ее прерыванию, оказывается неоконченной. Имеет ли какое–либо практическое значение подобное рассмотрение неоконченной преступной деятельности? Думается, да. Уголовно–правовое значение того или иного явления устанавливается на двух уровнях: значение для квалификации преступного поведения и значение для назначения наказания. Остановимся пока на анализе первого уровня значимости.
Исследуем в качестве примера нарушение правил охраны труда (ч. 1 ст. 140 УК РСФСР), которое было сформулировано в законе следующим образом: «Нарушение должностным лицом правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, если это нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия». Здесь речь Шла, вне всякого сомнения, о побочной деятельности, ведь то поведение, из которого могут возникнуть указанные последствия (нарушение), являлось частью целенаправленной, как правило, правомерной деятельности.
Из анализируемой диспозиции следовало, что нарушение правил охраны труда объявлялось преступным поведением, когда последствия еще не наступили, хотя и могли наступить. Соответственно, наличие того или иного последствия создавало квалифицирующие признаки (усложненные нормы), предусмотренные ч. 2, 3 ст. 140 УК РСФСР. Почему в ситуациях, охватываемых ч. 1 ст. 140 УК РСФСР, последствия не наступили? Теория уголовного права этого вопроса, как правило, не ставит и не разрешает, хотя иногда и констатирует, что последствия «в силу каких–либо причин не наступили»[323]. Следовательно, нарушение правил охраны труда, регламентируемые ч. 1 ст. 140 УК РСФСР, представляли собой прерванную, благодаря тем или иным случайностям, преступную деятельность, которую законодатель превратил в самостоятельную норму уголовного права. И это не было единственным случаем в законодательной практике. С подобным мы сталкивались при заведомом поставлении другого лица в опасность заражения венерической болезнью либо заражения заболеванием СПИД, и при нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, и при нарушении правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ или пиротехнических изделий, и при некоторых других видах преступлений. Новый УК применительно к нарушению правил охраны труда изменил формулировку и превратил простое преступление (ч. 1 ст. 143 УК) в преступление с материальной диспозицией, включив в нее определенные последствия — обязательность причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Однако некоторые другие виды преступления формулируются также, как и ранее: нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики объявляется преступным, «если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды» (ч. 1 ст. 215 УК); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах — «если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия» (ч. 1 ст. 217 УК); нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов — «если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде» (ч. 1 ст. 247 УК). Кроме того, законодатель, похоже, стремится к расширению объема неосторожных деликтов поставления в опасность, т. е. прерванной неосторожной деятельности, поскольку после принятия Кодекса ввел в его структуру еще несколько норм (например, ст. 2151, 2152 УК). Можно до бесконечности спорить о том, являются или не являются указанные виды преступлений преступлениями с материальными составами, очевидно здесь одно: реальный физический, экологический или имущественный вред в приведенных нормах вынесен в квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 215 УК — причинение смерти человека, радиоактивное заражение окружающей среды или иные тяжкие последствия; ч. 2 ст. 217 УК — причинение смерти человека или иные тяжкие последствия; ч. 2, 3 ст. 247 УК — повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, повлекшие смерть человека или массовое заболевание людей), что свидетельствует об их отсутствии в простых преступлениях данных видов, о прерванности их. Иначе нельзя объяснить факт наличия преступлений без последствий.
При этом анализируемые нарушения приведенных правил осуществляются, по мнению одних авторов, только неосторожно[324], по мнению других, и с косвенным умыслом, и неосторожно[325], по мнению третьих, со смешанной формой вины, при которой отношение к последствиям всегда неосторожное[326], т. е. по всем указанным преступлениям возможно и неосторожное нарушение правил.
Суммируя вышеизложенное, нужно сделать вывод: законодатель признает самостоятельной разновидностью преступлений неоконченную неосторожную преступную деятельность. И делает это совершенно обоснованно, поскольку невозможно оставить без внимания довольно высокую общественную опасность подобной деятельности.
Указанные самостоятельные виды преступления, как правило, не представляют большой общественной опасности, тем не менее законодатель считает криминально значимой составляющую их неосторожную преступную деятельность. При написании данной части работы у автора возникло сомнение, не пересмотрит ли законодатель в последующем свое отношение к таким видам преступления. Это было видно из опубликованного Проекта УК России, где некоторые из указанных видов преступлений превращены в материальные составы (ст. 203, 204 и др. Проекта). Любопытно, что законодателю здесь предлагалось не вводить в уголовный закон поставление в опасность заражения венерической болезнью, но оставить заражение заболеванием СПИД (ст. 120 Проекта); похоже, страх перед СПИДом несколько притупил боязнь венерических болезней. Параллельно предлагалось ввести новые виды преступления с неоконченной неосторожной преступной деятельностью (загрязнение или порча земель — ст. 216, нарушение правил охраны недр — ст. 217, нарушение правил охраны водных объектов — ст. 218, загрязнение атмосферы — ст. 221 Проекта и др.). В основном это преступления, не представляющие большой общественной опасности. Из них в новом уголовном законе нашли отражение лишь некоторые, связанные с возможностью возникновения слишком большой опасности для человека и окружающей среды (атомная энергетика — ст. 215 УК, взрывоопасное производство — ст. 217 УК, экологически опасные вещества и отходы — ст. 247 и другие — ст. 261 УК). Похоже, законодатель избрал довольно верный путь к формулированию в законе прерванного неосторожного преступления.
Действительно, не следует забывать о криминальной значимости неосторожной преступной деятельности, связанной с преступлениями повышенной общественной опасности, не ограниченной только указанными видами преступлений. В качестве примера можно привести прерывание нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, которое могло повлечь гибель нескольких лиц. Такое прерванное преступление законодатель только в одном случае признал криминально значимым и создал самостоятельную норму права (управление транспортным средством в состоянии опьянения — ст. 211 ч. 1 УК РСФСР, даже безотносительно к возможным последствиям). Но ведь не менее значимыми являются и другие формы прерванного преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (например, перехват машины, предупреждающий столкновение ее с переполненным автобусом, при нарушении водителем правил, не связанных с алкогольным опьянением), не говоря уже о нарушении правил на железнодорожном, морском или воздушном транспорте, которое грозит гибелью сотен людей (достаточно вспомнить катастрофы «Титаника» или «Адмирала Нахимова»). Квалификация такого рода поведения должна быть соотнесена с общими правилами квалификации неоконченной преступной деятельности, вне ее рамок рассмотрение подобных неосторожных деяний невозможно.
Таким образом, неоконченная преступная деятельность, совершаемая с косвенным умыслом или неосторожно, имеет большое уголовно–правовое значение, которое мы не можем игнорировать и которое требует от специалистов серьезного подхода к анализируемым проблемам, в частности, к рассмотрению причин прерывания преступной деятельности.
Прерывание преступной деятельности связано с тем, что те или иные определенные обстоятельства пресекают (прекращают) развитие причинных связей. Указанные обстоятельства в теории называют причинами прерывания преступной деятельности. Вот их–то как второй признак неоконченной преступной деятельности и необходимо проанализировать.
При исследовании причин прерывания преступной деятельности в теории уголовного права была высказана точка зрения, согласно которой их невозможно объединить в группы и дать четкую классификацию всех причин[327]. Здесь же Т. Д. Устинова критикует тех, кто пытается разделить причины прерывания преступной деятельности на объективные и субъективные, поскольку они друг другом жестко обусловлены[328]. Тем не менее сама же выделяет причины: «которые носили объективный характер»[329].
Причины прерывания преступной деятельности действительно носят довольно пестрый характер. Достаточно сказать, что они связаны и с поведением людей, и с животными, и с силами природы, и с механизмами, как пестрота обстоятельств, прерывающих преступную деятельность, станет очевидной. Однако из этого не следует, что нет никаких оснований для классификации причин ее прерывания.
Подобная классификация на изначальном уровне была давно заложена в уголовном праве. Так, Ратовский выделял две группы причин, связанных с добровольным и помимо воли виновного[330] прерыванием преступления. По этому пути, в сущности, и шло уголовное право, постепенно совершенствуя свое знание неоконченной преступной деятельности. В итоге в уголовном праве были выделены две разновидности неоконченного преступления в зависимости от двух указанных причин. Первая связана с прекращением преступной деятельности по воле виновного и называется добровольным отказом. Вторая разновидность появилась благодаря прерыванию преступной деятельности помимо воли виновного и единого терминологического оформления не имеет; ее можно назвать пресеченной преступной деятельностью, так как в данном термине, на наш взгляд, заключены не только сам факт прерывания преступления, но и воля иных лиц либо силы природы, животные, механизмы, противопоставленные воле преступника.
Первая группа причин — это обстоятельства, связанные с самим виновным, его волеизъявлением. Однако и они не однородны. Их можно подразделить еще на две подгруппы в зависимости от характера поведения виновного при добровольном отказе: причины — пассивное поведение и причины — активное поведение.
Вторая группа причин включает в себя обстоятельства, лежащие за рамками воли виновного, и не зависящие от него. Несмотря на всю пестроту и неоднородность, здесь можно также выделить две подгруппы: причины, зависящие от поведения людей, и причины, не связанные с поведением людей; классификацию данных причин можно продолжать и далее, однако в этом мы не видим смысла, с точки зрения уголовного права их влияние вне зависимости от вида причины одинаково — они пресекают преступную деятельность.
На основе двух указанных признаков (прерывания преступной деятельности и его причин) определим неоконченное преступление как прерванную помимо воли либо по воле виновного преступную деятельность на той или иной стадии ее развития.
Итак, прерванной может быть любая преступная деятельность. Однако в теории уголовного права была высказана точка зрения, согласно которой неоконченная преступная деятельность невозможна в преступлениях с формальным составом[331]. Н. Д. Дурманов, возражая против такого подхода, считал, что в преступлениях с формальным составом также не исключена неоконченная преступная деятельность, но только в двух случаях: когда возможно точное установление изменения во внешнем мире (дача взятки), когда объективная сторона слагается из нескольких неоднородных действий (спекуляция)[332]. Автор не совсем прав. Так, первый случай сформулирован им не точно. С его позиций получается, что наличие или отсутствие неоконченной преступной деятельности зависит от возможности установления изменения во внешнем мире, т. е. зачастую от расторопности правоприменителя, от его желаний. При таком решении неоконченная преступная деятельность теряет свою объективность. По–видимому, более правильно было бы говорить не о возможности установления, а об объективном наличии изменений во внешнем мире. Со вторым приведенным случаем следует согласиться, хотя и с некоторыми добавлениями. Необходимо считаться с тем, что Н. Д. Дурманов писал о покушениях в преступлениях с формальным составом, а не о неоконченной преступной деятельности в целом, поэтому и ограничивался он объективной стороной преступления; при анализе же всей неоконченной преступной деятельности требуется расширить рамки объективных признаков.
Выше уже указывалось на теоретическое выделение усеченных и формальных составов, при которых законодатель условно признает юридически оконченной фактически неоконченную преступную деятельность. При этом вопрос, «возможны ли покушения в преступлениях с формальным составом и приготовления в преступлениях с усеченным составом», превращается в проблему возможности юридически неоконченной преступной деятельности при фактически неоконченной преступной деятельности, признанной юридически оконченной. Несмотря на некоторую парадоксальность данной проблемы, считаем правомерными поставленный вопрос и его положительное решение.
Поясним все на конкретном примере разбоя, под которым понимается нападение в целях хищения чужого имущества. Данный вид преступления юридически окончен с момента нападения. Однако фактически преступление не окончено, поскольку только при нападении еще не достигло своей цели (изъятия имущества), т. е. здесь как раз и признаем юридически оконченной фактически неоконченную преступную деятельность. Возможно ли прерывание (юридическая неоконченность) данной преступной деятельности? Думается, да. Дело в том, что неоконченная преступная деятельность имеет место на различных стадиях совершения преступления между наиболее ранней и наиболее поздней из них. Поэтому совершенно естественно объявленная юридически оконченной преступная деятельность, прерванная на более поздних стадиях, может быть прервана фактически на более ранних стадиях, что найдет отражение в разновидностях неоконченного преступления. Именно в таких ситуациях мы и столкнемся с юридически неоконченной преступной деятельностью при фактически неоконченной преступной деятельности.
Представляется, что прерывание фактически неоконченной преступной деятельности возможно в следующих случаях:
когда создание условий исполнения преступления составляет многомоментное деяние и юридически оконченным признается более поздний из всех актов, составляющих создание условий, либо совокупность этих актов (например, организация банды как бандитизм возникает при наличии оружия и устойчивости объединения соучастников; отсутствие одного из них образует неоконченную преступную деятельность);
когда имеется создание условий, а оконченным признается деяние–исполнение;
когда деяние–исполнение включает в себя несколько телодвижений и оконченным признается последнее из них;
когда деяние–исполнение сложно по составу (насилие и половой акт — при изнасиловании и т. д.).
Во всех этих вариантах прерывание преступной деятельности до признания ее юридически оконченной следует считать криминально значимой неоконченной преступной деятельностью. Однако здесь возникает любопытная ситуация, заключающаяся в терминологическом оформлении разновидностей неоконченной преступной деятельности. Возьмем в качестве примера все ту же организацию банды. В теории господствует точка зрения, согласно которой при бандитизме не может быть покушения[333]. В то же время общепризнано, что бандитизм в указанной форме считается оконченным на стадии создания условий для исполнения других преступлений (хищений, убийств и т. д.). И это действительно так. Но превратив создание условий в самостоятельное преступление, законодатель тем самым возвел совокупность элементов создания условий в ранг объективных признаков самостоятельного вида преступления, т. е. наличие оружия и наличие устойчивой группы лиц как организация банды — объективные признаки бандитизма. И отсутствие какого–либо признака (предположим, устойчивая организованная группа создана, а оружия пока нет) представляет собой частичное выполнение объективной стороны. Вот и получается, что, с одной стороны, прерванная на стадии создания условий преступная деятельность не может быть ни чем иным, кроме как приготовлением, но с другой — частичное выполнение объективной стороны преступления всегда признается покушением. Возникает парадоксальная картина: если мы частичное наличие признаков организации банды признаем приготовлением, значит, они не являются признаками объективной стороны преступления; если же мы признаем их покушением, то как быть с объективными признаками конкретных видов преступления, на которые направлен бандитизм (хищений, убийств и т. д.), и какая прерванная деятельность будет составлять в таком случае приготовление? Данное противоречие в праве пока не устранено, поскольку базируется на законодательном формулировании определенных видов преступлений, в частности бандитизма. Думается, трудность решения проблемы — еще один аргумент против существующего законодательного формулирования усеченных видов преступления.
Неоконченная преступная деятельность достаточно очевидна и в преступлениях, совершаемых путем бездействия, хотя данный вопрос решался не всегда одинаково. Одни авторы полагали, что покушение при бездействии невозможно[334], другие считали приемлемым и приготовление[335], и покушение[336] при бездействии. Мы склонны согласиться со сторонниками возможности неоконченной преступной деятельности при бездействии. Ведь подобное совершение преступления, как и любое другое, способно развиваться во времени, динамично по своей структуре, имеет те или иные стадии развития. Естественно, под воздействием случайностей данное развитие во времени преступного бездействия может быть прервано. Например, взрыв в шахте возможен при двух условиях: постепенном накоплении какой–то критической концентрации метана и источника открытого огня (предположим, искрящего выключателя). При совокупном наличии того и другого и соответствующем поступательном бездействии ответственных за соблюдение правил безопасности лиц создается опасность аварии в шахте. Ее можно предотвратить либо вентиляцией, шахты, либо ремонтом источника открытого огня, либо тем и другим в совокупности, т. е. действиями, прерывающими развитие причинной связи. Если бездействие преступно (лицо обязано было действовать, обязанности не выполняло и виновно относилось к своему бездействию), то прерывание такого бездействия всегда должно признаваться неоконченным преступлением.
Тезис о возможности неоконченной преступной деятельности, как правило, в любом преступлении имеет свое продолжение: прерывание преступления возможно на любой стадии его развития, хотя в теории уголовного права господствует позиция, по которой неоконченной преступной деятельности нет места на стадии возникновения умысла и она проблематична на стадии обнаружения умысла.
Думается, решение данного вопроса, как и многих других в исследовании стадий и неоконченного преступления, кроется в четком размежевании возможности прерывания преступной деятельности на той или иной стадии и значимости (криминальной или правомерной) подобного прерывания. Разрешение указанной проблемы будет предметом дальнейшего исследования. Пока же отметим, что еще А. Н. Орлов считал приемлемым прерывание преступной деятельности на любой стадии[337]. Нам данное суждение представляется аксиоматичным. Как же иначе? Даже на стадии возникновения замысла преступная деятельность может быть прекращена, во–первых, по воле виновного, во–вторых, помимо его воли, теми или иными случайностями (например, возникновением непреодолимых препятствий).
Уголовное законодательство зарубежных стран не однозначно подходит к выделению неоконченного преступления. Некоторые уголовные кодексы прямо регламентируют неоконченные преступления. Так в главе 9 Уголовного кодекса Пенсильвании отражено неоконченное преступление. К таковому отнесены покушение (§ 901), подстрекательство к преступлению (§ 902), уголовный сговор (§ 903), владение орудиями преступления (§ 907), производство, распространение средств, предназначенных для кражи телекоммуникационных услуг, или владение ими (§ 910), коррумпированные организации (§ 911). Поскольку перед нами только изъятия из данного Кодекса и имеются разрывы между статьями, можно предположить, что видов неоконченного преступления в нем гораздо больше. Но уже из того, что представлено[338], можно сделать выводы: 1) понятие неоконченного преступления в законе отсутствует; 2) покушение понимается как неоконченное преступление; 3) к неоконченным преступлениям законодатель относит такие действия, которые сами по себе являются преступными (в российском уголовном праве их называют преступлениями с усеченными составами); именно этот подход мы признаем наиболее оптимальным в определенной степени; 4) российское уголовное законодательство и УК Пенсильвании существенно друг с другом схожи (значительная часть неоконченных преступлений связана с соучастием, с незаконным обращением с оружием и т. д.); 5) российское уголовное законодательство сформулировано более точно: а) неоконченность преступления как таковая не отражена в приведенных видах, поскольку не отражена прерванность преступлений; б) не совсем точно, на наш взгляд, в УК Пенсильвании названа коррумпированными организациями организованная преступность, так как к коррумпированным организациям нужно относить не те, которые подкупают, а те, которые позволяют себя купить.
Неоконченные преступления выделяют и некоторые страны СНГ. Так, глава 6 УК Республики Узбекистан названа «Неоконченное преступление» и к таковому отнесены приготовление, покушение и добровольный отказ; глава 6 УК Республики Таджикистан названа «Оконченное и неоконченное преступление», в нее включены нормы об оконченном преступлении, приготовлении, покушении и добровольном отказе; глава 6 УК Азербайджанской республики названа «Неоконченное преступление», в ней урегулированы оконченные преступления, неоконченные преступления (приготовление и покушение) и добровольный отказ. Уголовный закон Латвийской республики не выделяет отдельной главы, но отражает оконченные и неоконченные преступления в ст. 15 с формулировками, максимально приближенными к соответствующим в УК РФ. Особый интерес вызывает УК Украины, в котором выделен раздел 3, названный «Преступление, его виды и стадии»; в нем, в частности, речь идет об оконченном и неоконченном преступлении, к последнему отнесены приготовление и покушение (ст. 13), о приготовлении (ст. 14), покушении (ст. 15), добровольном отказе (ст. 17). Интерес же связан с тем, что законодательно закреплены стадии и неоконченное преступление, похоже, как синонимичные понятия, что, на наш взгляд, является абсолютно неприемлемым для законодателя, поскольку в таком случае смешиваются в одну массу смежные, но совершенно разные по сущности понятия.
Во многих законодательных актах сам термин «Неоконченное преступление» отсутствует (УК Испании, УК Швейцарии, УК Австрии, УК Дании, УК Японии, УК Швеции и многих других). О том, что мы все–таки сталкиваемся по сути с неоконченным преступлением, свидетельствует в них только оформление приготовления или покушения (чаще — последнего) как неоконченного преступления с указанием на недоведенность преступления до конца.
Таким образом, признавая, что рано или поздно проблема унификации уголовного законодательства всех или определенной совокупности некоторых стран так или иначе возникнет и ее нужно будет решать, считаем, что применительно к предмету исследования наиболее оптимальным может быть следующее: 1) признание и оформление в Общей части уголовного закона неоконченного преступления; 2) определение неоконченного преступления как преступления, не доведенного до конца по обстоятельствам, зависящим или независящим от виновного; 3) отнесение к неоконченным преступлениям приготовления, покушения и добровольного отказа.
Раздел III
Пресеченная преступная деятельность
Глава 1
Понятие пресеченной преступной деятельности
Как выше уже было сказано, пресеченная преступная деятельность — это неоконченная помимо воли лица преступная деятельность. При таком понимании ее возникает две разновидности деятельности: развивающаяся во времени преступная деятельность; деятельность по прерыванию преступного поведения, не связанная с волей виновного.
Прерванную разновидность мы попытались достаточно полно раскрыть при анализе стадий совершения преступления. И единственное, на чем следовало бы заострить внимание, это на различной степени волеизъявления виновного при совершении преступления. Неоднозначность степеней волеизъявления очевидна уже на поверхностном уровне. Так, если в умышленной деятельности воля лица напрямую связана с преступным результатом, то в преступлениях, совершаемых с легкомыслием (преступной самонадеянностью), связь воли виновного с преступным результатом уже не столь очевидна (лицо оценило конкретную ситуацию; решило, что конкретные обстоятельства воспрепятствуют наступлению результата; и начинает действовать, будучи уверенным в ненаступлении его), а в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью, она вообще проблематична (виновный не предвидит наступление результата). Изложенное различие в степенях волеизъявления в определенной мере сказывается на нашей оценке пресеченного преступления.
В то же время его оценка зависит и от анализа второй разновидности, которую теория определяет как причины прерывания преступного поведения. Нужно признать, что термин «деятельность» в данном применении не всегда соответствует характеру причин пресечения преступления. Это видно из классификации причин прерывания преступной деятельности, которые можно разделить на две группы: лежащие за пределами волеизъявления окружающих виновного лиц и зависящие от воли окружающих лиц.
Первая группа причин возникает стихийно и воздействует на преступную деятельность побочно, походя. Их можно дифференцировать как обстоятельства, связанные с силами природы, и обстоятельства, связанные с поведением людей. В тех случаях, когда преступная деятельность пресекается силами природы, мы сталкиваемся с весьма относительным применением термина «деятельность». И именно в данной подгруппе случайностей наиболее выпукло отражается стихийность прерывания преступления. С таким же стихийным пресечением преступной деятельности мы имеем дело, когда прерывается преступление людьми либо опосредованно (путем применения механизмов), либо непосредственно своим поведением; при этом лицо, пресекающее преступную деятельность, не имеет ни малейшего представления ни о преступной деятельности, ни о том, что он своим поведением эту деятельность прерывает. Например, преступники через подкоп готовились совершить кражу из магазина, но накануне совершения хищения у магазина остановился тяжелый грузовик и обвалил подкоп.
Стихийность пресечения преступления не должна сказываться на нашей оценке прерванной преступной деятельности. Однако совместное изучение двух указанных разновидностей деятельности (совершение преступления при различных степенях волеизъявления виновного и стихийное прерывание преступления) приводит к интересным, на наш взгляд, выводам.
Во–первых, стихийно пресеченная преступная деятельность может сама по себе объективно проявиться (пример с обвалившимся подкопом). Подобное возможно и при умышленном, и при неосторожном поведении, то есть не зависит от степени волеизъявления виновного. При этом правоприменитель может соответствующим образом оценить объективно обнаруженную пресеченную деятельность. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда пуля ударилась о записную книжку, находящуюся в кармане потерпевшего, не пробила ее и осталась в кармане. Здесь явно видна пресеченная деятельность. Но определение ее в качестве преступной или непреступной зависит от психического отношения виновного к своим действиям (выстрелу в потерпевшего): при виновном отношении (умышленном или неосторожном) пресеченная деятельность объявляется преступной, при казусе — непреступной. В то же время признание прерванной деятельности преступной еще не предрешает характера ответственности виновного.
Во–вторых, возможна ситуация, при которой пресечение деятельности с очевидностью объективно не обнаруживается, однако о ней правоприменительный орган может узнать от самого виновного. В таком случае оценка пресеченной деятельности напрямую зависит от степени волеизъявления виновного: при очевидном преступном волеизъявлении становится очевидной и преступность пресеченной деятельности, которая соответствующим образом оценивается правоприменительным органом; при неочевидном (легкомыслие) либо недостаточном (преступная небрежность) волеизъявлении пресеченная преступная деятельность, как правило, остается скрытой, латентной, в силу неочевидности ее для виновного как единственного в данной ситуации источника объективирования прерванного преступления. Следовательно, совокупное рассмотрение пресеченного преступления на основе волеизъявления виновного и стихийности прерывания преступления с необходимостью приводит нас к дифференциации правовой значимости пресеченной деятельности: носит она раскрытый либо латентный характер. Разумеется, вопрос о скрытой преступности имеет самое косвенное отношение к рассматриваемым в работе положениям, но его нельзя обойти, поскольку он естественно вытекает из анализа причин пресечения преступления. Кроме того, сам по себе данный вопрос достаточно важен для науки уголовного права и криминологии, потому что показывает истинный уровень криминальности существующего общества, полное представление о котором вовсе не безразлично для правоведа.
Несколько иная картина складывается, когда преступная деятельность пресекается в связи с обстоятельствами, зависящими от воли окружающих лиц. Здесь преступная деятельность настолько очевидна, что те или иные окружающие лица становятся на охрану общественных интересов. И указанная очевидность вовсе не зависит от волеизъявления виновного, а кроется в объективных факторах; возможно, что сам виновный не осознает противоправности своего поведения (при небрежности), но определенные окружающие его лица отчетливо представляют себе эту противоправность и вмешиваются в развитие причинной связи. Разумеется, подобное пресечение преступления с очевидностью приводит и к квалификации содеянного как пресечения, хотя и не исключает его латентности, но обусловленной уже волей виновного и окружающих его лиц.
Пресечение преступной деятельности по воле окружающих лиц бывает: абсолютно правомерным (например, преступный результат может наступить из–за бездействия виновного; окружающие выполняют требуемые ситуацией социально полезные действия, устраняя тем самым преступный результат); относительно правомерным (например, условия крайней необходимости как прерывания преступной деятельности; если бы указанные действия были абсолютно правомерны, не было бы необходимости вносить их в уголовный закон в качестве уголовно–правовой особенности); относительно противоправным (например, при превышении пределов необходимой обороны, когда в основе деятельности лежит все–таки прерывание преступной деятельности средствами и способами, несколько выходящими за рамки требуемых ситуацией); абсолютно противоправным (например, убийство распространителя наркотиков с целью завладения ими для собственного использования). От характера пресечения зависит не только характер ответственности самого виновного, но и судьба лица, прерывающего преступную деятельность (при абсолютно или относительно правомерном — освобождается от уголовной ответственности либо не привлекается вовсе; при относительно и абсолютно противоправном — ответственность либо снижается, либо наступает в полном объеме).
Влияет ли характер пресечения на ответственность виновного? На первый взгляд, вполне приемлема господствующая точка зрения, согласно которой «причины, воспрепятствующие доведению приготовления и покушения до оконченного преступления, лежат за пределами общественной опасности деяния и личности» виновного[339] и не влияют на его ответственность. Однако трудно представить себе, что претерпевание преступником определенного вреда при пресечении его преступной деятельности (причинении ему имущественного, физического вреда при необходимой обороне, при превышении ее пределов, при задержании преступника и т. д.) останется в суде незамеченным и не повлияет на назначенное наказание. Скорее всего, суд учтет, что преступник тот или иной урок уже вынес из преступления и в соответствии с этим дифференцирует наказание.
При этом возникает вопрос: чем же определяется социальная значимость пресеченной преступной деятельности? Согласно господствующей в теории уголовного права позиции общественная опасность пресеченной преступной деятельности заключается в поставлении в опасность причинения вреда общественные отношения[340]; в поставлении правовых объектов в опасность причинения ущерба, в создании реальной угрозы социалистическим общественным отношениям[341]. Указанная реальная угроза представляет собой такое объективное состояние преступной деятельности, при которой объективная возможность причинения ущерба общественным отношениям могла превратиться (если бы преступная деятельность не была пресечена) в действительный ущерб из–за последующего поведения виновного. Степень реальности угрозы различна и зависит от степени приближенности поведения виновного к действительному ущербу, который мог иметь место в каждом конкретном случае. Отсюда различна и общественная опасность содеянного: «Действия будут сравнительно тем опаснее, чем выше степень вероятности наступления вредных последствий»[342].
Таким образом, общественная опасность пресеченного поведения зависит от стадии совершения преступления, на которой преступная деятельность была пресечена: при прерывании преступления на стадии создания условий общественная опасность ниже, при пресечении на стадии исполнения преступления — выше. Казалось бы, все оправданно и логично.
Однако здесь возникают некоторые сомнения. Первое из них состоит в том, что более низкая общественная опасность создания условий по сравнению с исполнением преступления автоматически переносится на пресеченную преступную деятельность. Естественно, невозможно отрицать различную степень общественной опасности отдельных этапов совершения преступления и соответствующее постепенное наращивание общественной опасности до самого максимального ее предела, характерного для причинения вреда данным общественным отношениям. Но когда мы говорим о пресечении преступной деятельности на какой–либо стадии, то имеем в виду, что за этапом, совершения преступления, на котором деяние прервано, уже более ничего не следует и не последует. И сравниваем мы при этом не две реальности (создание условий и исполнение преступления) по их социальной значимости, а реальность (пресечение преступной деятельности на стадии создания условий) и абстрактную возможность (представляемый нами преступный результат или пресечение преступления на стадии исполнения). Почему же теория уголовного права вновь и вновь подтверждает меньшую общественную опасность пресеченного преступления? Ведь при таком решении меньшая общественная опасность приготовления и покушения становится как бы заслугой виновного, поскольку она с необходимостью выходит на соответственно меньшее наказание. На самом деле, в уменьшении общественной опасности пресеченного преступления заслуги виновного нет, так как только благодаря окружающим лицам и другим силам преступная деятельность прекратила свое существование и, будь на то воля виновного, развилась бы во времени до логического конца.
Тем не менее логично было бы сравнение пресеченной преступной деятельности с возможным добровольным отказом лица, сопоставление с которым вывело бы нас на несколько иное понимание общественной опасности пресеченной деятельности: зачем привлекать к уголовной ответственности за пресеченную деятельность, если лицо в последующем могло добровольно отказаться от доведения преступления до конца? Скорее всего, традиционный вывод о меньшей общественной опасности пресеченной деятельности (но не об отсутствии ее вообще) исходит из закономерностей развития преступления, заканчивающегося наступлением преступного результата, и лишь в качестве исключения — добровольный отказ. Поэтому при определении сравнительной общественной опасности идет сопоставление не с возможным добровольным отказом, а с возможным наступлением преступного результата: преступное последствие не наступило и уже не наступит, значит, предшествующее ему поведение виновного не столь опасно, как в тех случаях, когда оно наступило бы.
Отсюда и второе сомнение. Анализируя общественную опасность пресеченного поведения, теория уголовного права напрочь забывает об общественной опасности личности преступника — одной из составных частей общественной опасности вообще. А общественная опасность личности виновного на момент пресечения преступной деятельности вроде бы остается такой же, что и при возникновении замысла (замысел при его возникновении охватывал или должен был охватывать всю преступную деятельность, включая наступление результата — «пика» преступной деятельности), то есть неизменной на любой стадии совершения преступления при его прерывании.
Разумеется, в ходе совершения преступления могут возникнуть обстоятельства, существенно изменяющие и общественную опасность личности виновного. Однако они, как правило, будут привходящими случайностями, напрямую не связанными с динамикой совершаемого преступления. Для нас же важным пока остается установление взаимосвязи общественной опасности личности с развитием собственно преступления. И здесь, на первый взгляд, усиление объективного уровня общественной опасности пресеченного преступления на нарастающих его этапах развития не отражается на субъективном ее уровне, который на всем протяжении преступления остается одним и тем же.
Более глубокий взгляд на субъективный уровень общественной опасности несколько изменяет указанный вывод. Психическое отношение виновного к содеянному, составляющее основу субъективного уровня общественной опасности, лишь при поверхностном анализе выглядит стабильным. В жизни его элементы (мотивы, цели, интеллектуальный и волевой моменты вины) всегда подвижны, подвержены изменениям, зависящим от окружающего мира и, в том числе, от самой динамики преступного поведения. Окружающий мир отражается в сознании виновного так или иначе, характер отражения обусловлен степенями определенности и достоверности осознания окружающей действительности: степень определенности представляет собой точность знания существующих обстоятельств — от осознания возможности их наличия и свойств до уверенности в наличии и свойствах; степень достоверности — от ошибочного до адекватного отражения действительности[343]. Указанные степени зависят от психических особенностей субъекта, его способностей понимать окружающий мир и от очевидности информации, поступающей в его мозг (чем очевиднее информация, тем выше степень определенности и достоверности). Выход данных степеней на общественно опасное поведение превращает их в степень вины как количественную характеристику, конкретизацию[344] вины, напрямую связанную с существующими обстоятельствами.
Поэтому анализ различных этапов развития преступления показывает: чем сильнее «погружается» виновный в преступную деятельность, тем ближе его поведение к возможному преступному результату, тем все более конкретными становятся окружающие его обстоятельства, тем точнее и объемнее поступающая к нему информация, тем выше степени определенности и достоверности отражения ее, соответственно, степень вины. Естественно, при пресеченной преступной деятельности степень общественной опасности личности будет ниже, чем при возможном преступном результате. Исходя из данного положения можно отбросить изложенные сомнения и признать наличие различной общественной опасности объективного и субъективного уровней при различных видах пресеченной преступной деятельности.
Однако в пресеченной преступной деятельности имеет значение не только общественная опасность. Ведь мы говорим о прерывании преступления помимо воли виновного, когда результат не наступил и уже не наступит, по крайней мере, при данном развитии преступления. Отсюда следует, что пресечение преступной деятельности несет в себе определенный заряд общественной полезности, которая зависит от самого факта пресечения преступления, от стадии прерывания преступного поведения (чем раньше произошло пресечение преступной деятельности, тем оно социально полезнее), от активности окружающих виновного лиц. Круг факторов, обусловливающих социальную полезность пресечения преступления, свидетельствует о том, что даже стихийное прерывание преступной деятельности остается общественно полезным. Но указанная социальная полезность иногда несколько затушевана (при относительной и абсолютной противоправности действий по пресечению преступления) и тем не менее объективно существует. Социальная полезность действий, пресекающих преступную деятельность, не распространяется на лиц, деятельность которых пресекается. Это положение, думается, аксиоматично. Ведь то, что кто–то прервал (что–то прервало) преступное поведение виновного, не означает возможности признания социально полезным (хотя бы частично) данного поведения. Но все же фактически преступная деятельность не доведена до конца, и виновный не может в полной мере отвечать за все преступление, как если бы оно было совершено, не может отвечать за результат, которого нет и уже не будет, именно поэтому позитивное поведение иных лиц или влияние обстоятельств косвенно сказывается на смягчении ответственности виновного.
Пресеченная преступная деятельность в зависимости от стадии совершения преступления может быть подразделена на несколько видов. В уголовном праве приняты две ее разновидности: приготовление при пресечении на стадии создания условий и покушение, не оконченное на стадии исполнения преступления. В то же время признается невозможным пресечение преступной деятельности на стадиях, предшествующих созданию условий (возникновения и обнаружения замысла), поскольку за мысли нельзя наказывать.
Следует согласиться с выделением двух традиционных разновидностей пресеченной деятельности. Однако весьма спорным является то, что при подобном отношении к неоконченной преступной деятельности отметается возможность пресечения преступления на стадиях возникновения и обнаружения замысла, поскольку сам факт невозможности наказания за мысли вовсе не исключает наличия пресеченной деятельности на указанных стадиях, а лишь свидетельствует об отсутствии одного правового последствия такого прерывания. Посему вполне естественно возникает необходимость в четком размежевании самого пресечения на стадии мыслительной деятельности и правового последствия его, которые ни в коем случае нельзя смешивать, а можно лишь сопоставлять друг с другом.
Представляется достаточно очевидным прерывание преступления и на стадиях возникновения и обнаружения замысла, так как нельзя исключить на данных стадиях влияния случайностей, пресекающих дальнейшее развитие преступления. Именно поэтому мы выделили три вида пресечения преступления: пресечение только психического процесса на стадиях возникновения и обнаружения замысла, приготовление, покушение.
Глава 2
Виды и правовое значение пресечения преступной деятельности
2.1. Пресечение только психического процесса преступной деятельности
В тех случаях, когда преступная деятельность прерывается на стадиях возникновения и обнаружения замысла, можно говорить о пресечении только психического процесса преступной деятельности, поскольку лицо не совершило еще никакого деяния в направлении преступного результата. Сразу оговоримся об условности фразы «пресечение только психического процесса». Дело в том, что психический процесс прерывается всегда, когда пресекается преступная деятельность на любой стадии ее развития. Применяя данный термин, мы имеем в виду лишь факт прерывания развития преступного замысла до совершения какого–либо деяния по облегчению или исполнению преступления. Именно для отражения данного факта в упомянутую чуть выше фразу введено слово «только», призванный размежевать возникший и обнаруженный замысел и еще не начавшееся деяние.
Прежде всего психический процесс может быть прерван на стадии возникновения замысла. Подобное имеет место, например, при призыве в армию лица, задумавшего совершить преступление, или при отправлении в командировку должностного лица накануне задуманных им преступных действий по службе, преступных последствий которых он не предвидел, хотя должен был и мог предвидеть, и т. д. При этом пресечение преступной деятельности осуществляется всегда стихийно, окружающие не осознают факта пресечения преступления, в связи с чем прерывание преступной деятельности на стадии возникновения замысла помимо воли виновного, благодаря тем или иным объективного рода случайностям, не может быть объективно зарегистрировано и принято во внимание[345]. По существу, и сам психический процесс создания (долженствования создания) модели преступления и определения характера личного вклада в него, и само пресечение психического процесса, и причины такового остаются за рамками осознания окружающих виновного лиц. Указанное отсутствие очевидной внешней выраженности пресечения психического процесса и привело к отрицанию такого пресечения вообще и правовой значимости его в частности.
Думается, отрицать возможность пресечения психической деятельности на стадии возникновения замысла просто неразумно. Тот факт, что мы не можем зафиксировать ни сам психический процесс, ни его прерывание, вовсе не свидетельствует об их отсутствии. Мы также не можем зафиксировать собственно причинную связь, видим только ее опосредованное проявление, а иногда не видим и этого, обходимся ее описанием в тех или иных источниках, однако считаем ее объективно существующей категорией.
Несколько сложнее обстоит дело с признанием правовой значимости данного пресечения. В теории уголовного права преобладает позиция, согласно которой отсутствие внешне выраженного явления влечет за собой отсутствие какого–либо правового значения данного феномена. С таким решением не все согласны. Выше уже приводилось высказывание В. Д. Иванова по правовому значению пресеченной деятельности на стадии возникновения замысла, согласно которому «выявление лиц, намеревающихся совершить преступление… дает возможность проводить необходимую работу по предотвращению преступления»[346].
Признавая позитивным поиск автором значимости пресечения преступной деятельности на самом начальном этапе ее развития, тем не менее не можем с В. Д. Ивановым согласиться полностью. Во–первых, автор автоматически объединил сформирование умысла и выявление лиц, намеревающихся совершить преступление. А этого делать не следовало, так как в принципе невозможно на стадии возникновения замысла какое бы то ни было выявление лиц, поскольку на этой стадии происходящее не находит внешнего выражения, что признает и сам автор[347], а без такового невозможно и выявление лиц. Следовательно, говоря о выявлении лиц, намеревающихся совершить преступление, автор имеет в виду уже стадию обнаружения замысла, но не его возникновения. Во–вторых, при пресечении преступной деятельности на стадии возникновения замысла нельзя проводить с конкретным лицом работы по предотвращению преступления. Именно поэтому, в-третьих, при таком подходе пресечение преступления на анализируемой стадии в целом не может иметь криминологического значения.
Единственное, в чем оно может проявляться, — это самовоспитание виновного на основе пресечения преступной деятельности, поскольку пресечение может существенно изменить у лица понимание соотношения сил в окружающем мире, значимости интересов и потребностей, влияния тех или иных социальных факторов и отношение к окружающим его социальным ценностям.
Разумеется, при этом не исключен вопрос: при чем же здесь уголовное право, коль скоро речь идет, как правило, о криминологическом значении пресеченной преступной деятельности? Уголовное право здесь при том, что в приведенном случае установления значимости анализируются уголовно–правовые явления: стадии развития преступной деятельности, прерывание преступления на той или иной стадии, причины прерывания преступления, которые могут быть рассмотрены только в уголовном праве. Такое решение лишь укрепляет связь уголовного права со смежными науками, помогает глубже осознать те или другие и правильно ориентироваться в их проблемах.
Еще более очевидны возможность пресечения преступной деятельности на стадии обнаружения замысла и правовая значимость подобного прерывания преступления. Ведь не случайно в теории уголовного права так и не закончена дискуссия о том, является ли обнаружение замысла стадией совершения преступления, а прерванная на этой стадии деятельность — криминально значимой. Учитывая, что при обнаружении замысла преступное отношение виновного проявляется уже вовне, пресечение преступного поведения возможно не только стихийно, но и по воле окружающих виновного лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов.
Представим себе ситуацию: ведется расследование уголовного дела, в ходе которого выясняется, что виновный ранее задумал совершить преступление, но эта задумка в самом начале была пресечена случайным поведением других лиц. В данном примере ретроспективный анализ ранее пресеченной деятельности с трех сторон — с позиции опасности личности, с позиций причин и условий возникновения замысла и с позиций причин пресечения преступной деятельности — может привести не только к криминологическому, но и к определенному уголовно–правовому значению. Так, рассматривая общественную опасность личности, у которой ранее уже возникал замысел на совершение преступления, невозможно изменить квалификацию содеянного, потому что ранее никакие действия не были совершены, однако наказание скорректировать соответствующим образом должны, поскольку перед нами уже не случайный преступник. Кроме того, изучение мотивации, причин и целеполагания при возникновении замысла позволит установить его причины и последующие превентивные меры по ликвидации этих причин. Вместе с тем исследование обстоятельств, препятствующих развитию преступного замысла, сделает возможным более частое и уже сознательное применение таких обстоятельств для пресечения возможной преступной деятельности. Например, неустойчивых членов общества часто стремились призвать в армию с тем, чтобы в условиях довольно жесткой воинской дисциплины осуществить более действенный контроль за их поведением и осуществить соответствующее воспитание. Иногда такие меры оказывались эффективными, хотя надо признать, что из–за подобного подхода и призыва в армию лиц, совершивших преступление, значительно вырос уровень криминальности в армии.
Представляется бесспорной и правовая значимость пресеченной на стадии обнаружения замысла преступной деятельности. Выше было приведено высказывание В. Д. Иванова о криминологической значимости прерывания преступления на стадии формирования замысла, которое в его основе следовало бы отнести к стадии обнаружения замысла и согласиться с ним. О криминологической значимости пресеченной преступной деятельности на анализируемой стадии пишет и Л. М. Колодкин[348]. Собственно, криминологическую значимость пресеченной деятельности на стадии обнаружения замысла не отрицают и некоторые противники признания обнаружения замысла самостоятельной стадией совершения преступления. Так, Н. Д. Дурманов считал: «Обнаруженный вовне умысел в ряде случаев создает благоприятные условия для предотвращения и пресечения замышляемого преступления»[349]. Таким образом, следует признать несомненным криминологическое значение пресеченной на стадии обнаружения замысла деятельности.
Однако этим значение пресеченной на данном этапе развития преступления деятельности не ограничивается. Ведь выше мы приводили мнение Н. Ф. Кузнецовой об уголовно–процессуальном значении анализируемой пресеченной деятельности[350]. Немаловажным является и уголовно–правовое значение пресечения преступления на стадии обнаружения замысла, которое заключается в том, что оно с необходимостью проявляет общественную опасность личности, о ней узнают уже окружающие; общественная опасность личности объективируется и имеет значение при ретроспективном взгляде на нее. Следовательно, исходя из большого криминологического, уголовно–процессуального и уголовно–правового значения, нужно признать необходимым существование в научном и практическом плане анализируемого пресечения преступной деятельности.
2.2. Приготовление
Одной из общепризнанных разновидностей пресеченной преступной деятельности признают приготовление, под которым уголовный закон понимал формы проявления стадий, а не разновидность пресеченной преступной деятельности. Такой вывод следовал из анализа нормы, согласно которой «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для совершения преступления» ч. 1 ст. 15 УК РСФСР. Вместе с тем рассмотрим внимательнее ч. 3, 4 ст. 15 УК РСФСР, согласно которым «наказание за приготовление к преступлению… назначается по статье Особенной части настоящего кодекса… При назначении наказания суд учитывает… причины, в силу которых преступление не было доведено до конца». Значит, прежний закон в итоге рассматривал приготовление как разновидность самостоятельно наказуемой неоконченной преступной деятельности. Если это так, то что мешало законодателю ясно и недвусмысленно отразить в законодательном определении приготовления признание его разновидностью пресеченного преступления? Думается, никаких помех к подобному пониманию в законе самого приготовления не было. И тенденция развития теоретического понимания приготовления как разновидности неоконченного преступления привела к соответствующему законодательному определению (ч. 2 ст. 29 УК РФ).
Из сказанного давно исходит теория уголовного права. Термин «приготовление» возник в русском уголовном праве еще в первой половине XIX в.[351] И всегда приготовление (то ли как обнаружение умысла, то ли как часть покушения, то ли как самостоятельная уголовно–правовая категория) отождествлялось с прерванной преступной деятельностью. Так, по мнению Н. С. Таганцева для ответственности за приготовление к преступлению необходимы два условия: 1) виновный ограничился только приготовительными действиями и не приступил к действительному осуществлению задуманного и 2) эта остановка предположенного преступления произошла по обстоятельствам, от преступника независящим[352]. А. Н. Круглевский по этому поводу писал: «Наказуемое приготовление представляет собой вид неоконченной преступной деятельности (курсив наш. — А. К.). Понятие об этом виде предварительной деятельности предполагает, что деятельность виновного должна была воспроизвести признаки определенного преступного деяния, но, не получив должной степени развития, приняла форму приготовления к преступлению»[353]. Н. Д. Дурманов считал, что «действия виновного были направлены на совершение соответственного оконченного преступления, скажем, убийства, но по независящим от виновного обстоятельствам преступная деятельность не привела к оконченному преступлению, а остановилась на стадии приготовления или выразилась в покушении совершить преступление. Эта неудавшаяся деятельность…»[354]. Н. Ф. Кузнецова в 1958 г. писала, что приготовление — «уголовно наказуемое деяние, при котором начатая умышленная преступная деятельность, достигнув стадии создания условий для совершения преступления, прерывается затем до начала исполнения самого преступления по независящим ют лица обстоятельствам»[355]. Похожее мы находим и у других авторов, не изменяющих сущности понимания приготовления, но терминологически оформляющих его различным образом[356]. Основа же понимания приготовления исходит из сути пресеченной преступной деятельности: наличия конкретной стадии ее развития (при приготовлении — создание условий), прерывания преступной деятельности на данной стадии и причин прерывания (помимо воли виновного). Вот на эти три компонента и должно указывать законодательное определение приготовления, и они в целом верно отражены в теории уголовного права. Отсюда представляется обоснованным изложенное в теоретической модели уголовного закона понимание приготовления: действие или бездействие, создающее «условия для совершения умышленного преступления, прерванного по независящим от лица обстоятельствам до начала его совершения»[357]. Здесь уже в понятие приготовления был введен важнейший признак, который неосновательно опущен в уголовном законодательстве, а именно прерванность приготовительных действий помимо воли лица. Этот признак прямо вытекал из систематического толкования текста ст. 15 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик при сопоставлении приготовления к преступлению и покушения на преступление. В Основах о прерванности начатой преступной деятельности было сказано лишь применительно к покушению. Между тем очевидно, что прерванность предварительной преступной деятельности на более ранней стадии также должна иметь место по независящим от воли виновного обстоятельствам[358].
К положительному (частично) моменту теоретической модели кодекса относится и введение фразы «до начала совершения преступления», разграничивающей приготовление и покушение. «Приготовление к преступлению направлено, если можно так сказать, на «техническое» обеспечение успешного совершения преступления, на создание благоприятных условий, возможности достижения запланированного преступного результата. «Начало исполнения» объективной стороны состава преступления — это переход к следующей стадии совершения преступления, к покушению на преступление, при котором совершаются действия, которые входят в объективную сторону соответствующих преступлений (скупка товаров при спекуляции, нанесение ударов при убийстве, проникновение в помещение при хищении и т. д.)»[359].
Частично позитивной указанная фраза является потому, что, вне всякого сомнения, нужно научиться определять момент начала исполнения преступления, однако трудно согласиться с тем, что данный момент устанавливает начало совершения преступления. Авторы модельного кодекса противоречат себе, поскольку в обоснование своей позиции пишут: начало исполнения — переход к следующей стадии совершения преступления, т. е. была какая–то предыдущая стадия совершения преступления. А если это так, то последующая стадия совершения преступления не может быть его началом, а только продолжением. Более точным является термин «до начала исполнения преступления», в котором сохранен элемент размежевания приготовления и покушения и в то же время исключена размытая формулировка «совершение преступления».
Вызывает сомнение и в целом правильная фраза «прерванного по независящим от лица обстоятельствам», предложенная авторами теоретической модели уголовного закона. Здесь как раз тот случай, когда правильная, но длинная фраза может быть заменена одним термином. На наш взгляд, в качестве такового способен выступать термин «пресеченного». В нем явно выражено противодействие, противостояние чему–либо, противостояние другой воле, преломление другой воли. Не случайно и в словарях слово «пресечение» сформулировано соответствующим образом. С. И. Ожегов понимает глагол слово «пресечь» так: «Прекратить сразу, остановить силой, резким вмешательством»[360]. Очень похоже на то, что данный термин характеризует именно вмешательство в поведение только других лиц и не свойственен вмешательству в собственные действия. Указанный вывод следует и из сопоставления анализируемого глагола с термином «прервать», которому С. И. Ожегов придает два значения: «1. Резко, сразу приостановить, прекратить. 2. Вмешательством остановить кого–нибудь говорящего, делающего что–нибудь»[361]. Первое из них характеризует вмешательство в собственные действия (и здесь вполне оправдан глагол «прерваться»), второе — только в поведение других лиц. Сравнение показывает, что термин «пресечь» соотносится со вторым пониманием термина «прервать», причем соответствующее возвратное наклонение в принципе невозможно. И хотя неспециалисту об этом судить трудно, однако представляется логически неоправданным возвратный глагол «пресечься»[362], который дисгармонирует с термином «пресечь». Последний вполне способен заменить анализируемую фразу в законе.
К сожалению, авторы Проекта УК России вместо фразы «до начала исполнения преступления», предложенной теоретической моделью УК, попытались ввести в закон абсолютно неприемлемое словосочетание «если преступление не было совершено». Ведь если преступление не было совершено, то отсутствуют какие–либо юридические основания для привлечения к уголовной ответственности за приготовление, тогда как приготовление является преступлением, хотя, возможно, и специфическим. Вполне понятно, почему не было поддержано словосочетание «до начала»: теория уголовного права пока не видит критериев установления начала исполнения преступления, и вместо того чтобы ввести данное словосочетание в закон и дать соответствующий стимул к разработке его понятия и критериев установления, она по–прежнему придерживается страусовой позиции, избегая юридически точных терминов и пытаясь ввести в закон расплывчатые понятия.
И последнее. Представляется весьма условным сам термин «приготовление», так как он является синонимом термина «создание условий» и подразумевает продолжение деятельности (к чему–то готовиться), тогда как в жизни данный термин призван характеризовать пресеченную преступную деятельность, за которой ничего далее не следует. В связи с этим за пределами терминологического толкования приготовления остаются наиболее характерные элементы пресеченного преступления — прерывание его и причины прерывания. Сущность пресеченной на стадии создания условий деятельности проявляется в каком–то ином термине, синтезирующем стадию создания условий, факт пресечения преступления на данной стадии и причины прерывания, который, к сожалению, нам не известен. Остается одно: пользоваться традиционным термином «приготовление», не забывая о его достаточно высокой условности.
Также и в Модельном уголовном кодексе (рекомендательном законодательном акте для Содружества Независимых Государств), принятом на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г., приготовление сформулировано как неоконченное преступление: «Приготовлением к преступлению признается совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли лица обстоятельствам» (ст. 31).
Указанная подготовительная работа по созданию Уголовного кодекса не могла не привести к тому, что в Уголовном кодексе 1996 г. приготовление сформулировано уже как неоконченное преступление: «Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица причинам» (ч. 1 ст. 30). На наш взгляд, законодатель достаточно верно сформулировал пресечение преступления: «преступление не было доведено до конца», т. е. преступление уже началось, даже были совершены определенные действия, и тем не менее оно было прервано. Правда, в теории уголовного права указанная фраза была подвергнута критике, поскольку она «неточно определяет временные рамки создания условий для совершения преступления (ведь стадия подготовки к преступлению длится лишь до начала совершения преступления)»[363]. Вполне понятно, почему это критическое положение возникло. Как выше уже анализировалось, автор стремится оторвать совершение преступления от подготовки его, выбрасывая тем самым приготовление за пределы совершения преступления и оставляя открытым вопрос об основаниях наказуемости приготовления, ведь он не исключает таковой. Тем не менее нужно все–таки «реабилитировать» автора, поскольку в возникшей ситуации меньше всего его вины. М. П. Редин, как всякий законопослушный гражданин, слепо следует за законом, согласно которому приготовление есть «приготовление к преступлению» при полном обособлении приготовления с одной стороны и преступления — с другой, т. е. по данной формулировке при приготовлении еще нет преступления. К сожалению, все последующее оформление приготовления в законе лишь подтверждает эту нелепицу: «орудия и средства совершения преступления», «сговор на совершение преступления», «иное умышленное создание условий для совершения преступления», из чего следует, что совершение преступления представляет собой только исполнение преступления; все это влечет за собой очевидный отрыв приготовления от совершения преступления и оправданность позиции М. П. Редина. Отсюда при изложении анализируемой нами фразы возникает законодательное противоречие, поскольку при приготовлении преступления еще нет и прерванная на этапе создания условий деятельность еще не может быть определена как не доведенное до конца преступление. Данное противоречие автор разрешил в неприемлемую сторону.
При таком подходе абсолютно естественным для М. П. Редина и абсолютно противоестественным с позиций сущности стадий совершения преступления и неоконченной преступной деятельности является и определение приготовления, предложенное им: «Приготовлением к преступлению признается либо умышленное создание условий для совершения преступления, либо нападение на объект преступления, прерванные по независящим от воли этого лица обстоятельствам до начала совершения преступления»[364]. На наш взгляд, приведенное определение — это доведенный до абсурда непродуманный закон. Во–первых, здесь автор вырвал из объективной стороны вида преступления какое–то надуманное «нападение» и отнес его к приготовлению. Во–вторых, при определении исполнения преступления, как мы видели, он относил «нападение» «к совершению преступления», а не к созданию условий, соответственно выводя его за пределы и возможного приготовления. В-третьих, М. П. Редин вырвал создание условий из совершения преступления, сделав тем самым проблематичной наказуемость приготовления.
Однако при толковании приготовления не следует забывать, что оно в меньшей степени относится к деянию, пресекаемому в каждом конкретном случае, и в значительно большей — к иным признакам неоконченного преступления (пресечению и причинам его). Отсюда следует вывод: приготовление — не деяние по приисканию и т. д. и не само приискание и т. д., а пресечение на этапе приискания, пресечение на этапе изготовления, пресечение на этапе приспособления и т. д., т. е. пресечение преступной деятельности.
Исходя из изложенного, предлагаем следующее определение приготовления: им признается пресеченное до начала исполнения преступления деяние по приисканию, изготовлению либо приспособлению орудий и (или) средств исполнения преступления, сговору соучастников, а равно иному созданию условий исполнения преступления. При этом не следует говорить о приготовлении к преступлению, поскольку само приготовление представляет собой преступление самостоятельное и самостоятельно наказуемое; достаточно пользоваться только термином «приготовление». Указанное определение приготовления вполне приемлемо в качестве законодательного. При регламентации приготовления в законе лучше ввести его в отдельную статью, раскрывающую только приготовление, его понятие и условия признания преступлением; в таком случае определение приготовления создаст ч. 1 соответствующей статьи УК России.
Особенности приготовления достаточно полно (хотя и не во всем корректно) описал М. П. Редин. По его мнению, к объективным особенностям необходимо отнести следующее:
«1. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления направлены к возникновению возможности для причинения вреда объекту посягательства, к достижению в конечном итоге (на стадии совершения преступления) преступного результата (все–таки автор предлагает особенности приготовления, т. е. прерванного преступления; отсюда мы должны понимать, что действия по созданию условий направлены на возникновение возможности причинения вреда только до прерывания деятельности, на фоне прерывания таковому уже нет места, т. е. при приготовлении уже нет этой возможности наступления результата, остались лишь действия как таковые; даже прежде имеющаяся цель исполнить преступление исчезла в связи с пресечением преступной деятельности; именно поэтому приведенный признак не может выступать в качестве особенности приготовления. — А. К.).
2. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления не входят в объективную сторону состава задуманного лицом преступления (автор здесь незаметно для себя вторгается в очень сложную материю: создание условия по своим свойствам — объективная категория и соответственно должно входить в объективную сторону чего–то, достаточно вспомнить диспут о том, входит или не входит приготовление в объективную сторону преступления; но если, по мнению М. П. Редина, создание условия не входит в объективную сторону преступления, то непонятно в объективную сторону чего оно должно входить; на наш взгляд, в данной ситуации необходимо разделить объективную сторону преступления вообще как категории уголовного права, в которую входит и создание условий, и объективную сторону вида преступления, отраженного в Особенной части УК, исполнение преступления, в которое создание условий не входит. — А. К.).
3. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления являются началом осуществления преступного намерения, но не началом совершения преступления (абсолютно абсурдное предложение по противопоставлению осуществления преступного намерения и совершения преступления, поскольку преступное намерение (читай — субъективная сторона преступления) осуществляется и при создании условий, и при исполнении преступления, по крайней мере — это бессмысленное и бесперспективное предложение; основанием уголовной ответственности является лишь совершенное преступление; все иное — пустота, блеф, фикция; отсюда приготовление может быть самостоятельно наказуемым лишь в том случае, если оно признано преступлением или его частью. — А. К.).
4. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления во времени предшествуют действиям (бездействию) по совершению (исполнению. — А. К.) преступления (опять–таки надо помнить, что на фоне прерванного преступления о таком предшествовании можно говорить только при известном допущении, поскольку после прерывания такие действия ничему предшествовать не могут, т. е. и данный признак не является особенностью приготовления. — А. К.).
5. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления всегда отделены во времени от действий (бездействия) по совершению (исполнению. — А. К.) преступления (да, они отделены от Марса, соседнего дома, правительства; но трудно отделять существующее от того, чего уже не может быть при прерванном преступлении; от чего отделять — не ясно, разве что от задуманного исполнения, которого в данной ситуации уже не будет. — А. К.).
6. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления в отличие от действий (бездействия) по совершению (исполнению. — А. К.) преступления зачастую отделены в пространстве от конкретного объекта посягательства (в определенной степени могут быть отделены от объекта и деяния–исполнение при многомоментном поведении; весь вопрос в степени отдаленности, но как ее определить; кроме того, анализируемое действие настолько отдалено, что объекта просто нет, ведь действия по созданию условий никоим образом не связаны с объектом, и они прерваны, т. е. объект преступления как то, на что посягают, так и не появится. — А. К.).
7. Действия (бездействие), создавшие условия для совершения (исполнения. — А. К.) преступления, представляют собой посягательство на объект преступления (если при создании условия уже есть посягательство на объект, то приготовление по сути является преступлением, однако автор в таком качестве ему постоянно до сих пор отказывал; кроме того, в другой работе автор относит посягательство к нападению, т. е. исполнению преступления; хотя, на наш взгляд, при создании условий уже есть часть посягательства на объект, если мы посягательством признаем совокупность причин и условий как нечто единое, ведущее к преступному результату. — А. К.).
8. В результате выполнения действий (бездействия) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления открывается возможность для причинения вреда объекту посягательства, но сами по себе они еще не создают для объекта непосредственной опасности. Она возникает в результате дальнейших действий (бездействия) лица по осуществлению преступного намерения на стадии совершения (исполнения. — А. К.) преступления (мы не готовы воспринять это как особенность, поскольку, во–первых, идет определенное повторение неприемлемого первого пункта; во–вторых, возникает противоречие с пунктом седьмым, где автор утверждает, что создание условий уже есть посягательство на объект, здесь же говорит об обратном — отсутствии опасности для объекта; едва ли существуют посягательства, направленные на объект и в то же время не опасные для него; что–то новое в уголовном праве; в-третьих, если опасность для объекта наступает лишь при исполнении преступления, то и посягательство имеет место только при исполнении преступления, тем более что сам автор признает, что посягательство возникает в момент окончания нападения[365]. — А. К.).
9. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления либо посягательство на объект преступления прерываются всегда и только по независящим от воли лица обстоятельствам. Обстоятельства могут быть самыми различными, но не должны быть связаны с добровольным прекращением преступных действий (бездействия) (автор опять противоречит себе, поскольку в пункте седьмом признает действия–создание условий посягательством, здесь же их разъединяет; кроме того, здесь нельзя применять возвратный глагол «прерываются»; автор наконец–то подошел к сущностным признакам (особенностям) приготовления. — А. К.).
10. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления либо посягательство на объект преступления прерываются, причем окончательно до начала совершения (исполнения. — А. К.) преступления (то же самое неприемлемое противопоставление создания условий и посягательства в рамках приготовления; автор противоречит себе: с одной стороны, он признает приготовление предварительной деятельностью[366], т. е. считает возможным следование за ним чего–то еще; с другой — пишет об окончательном прерывании при приготовлении преступных действий; позитивным является признание пресечения окончательным, однако и данное обстоятельство не обособляет приготовления, поскольку окончательность характеризует и покушение, и добровольный отказ, т. е. данный признак является родовым для неоконченного преступления вообще и в качестве такового он входит и в приготовление. — А. К.)[367]».
Таким образом, М. П. Редин выделил объективные особенности приготовления на основе создания условий и в целом сделал это неплохо, если бы он характеризовал именно стадию создания условий, за которой должны следовать действия по исполнению преступления и сам преступный результат. Однако при приготовлении в связи с пресечением преступной деятельности почти ничего этого нет, кроме уже совершенных действий по созданию условий, и ничего уже не будет. Отсюда основная масса выделенных особенностей никакого отношения к приготовлению не имеет, и специфическими признаками приготовления все–таки остаются совершенные преступные действия в части создания условий и прерванность преступления по определенным причинам, а именно последние отражены автором лишь схематически (в двух из десяти особенностей) и при внедрении противоречий.
Наряду с объективными особенностями автор выделил и субъективные, к которым отнес следующее: «1. Наличие у лица прямого умысла на совершение действий (бездействия), создающих условия для последующего (на стадии совершения преступления) исполнения конкретного преступления: лицо сознает, что выполняемые им действия (бездействие) создают условия для совершения конкретного преступления, и желает совершить эти действия (бездействие). Таким образом, умысел лица в отношении конечного результата лишь презюмируется (о вине при приготовлении мы поговорим особо, здесь же пока отметим, что абсолютно неприемлема позиция автора по признанию презумпции вины; непонятно, что имел в виду автор, написав это, но, на наш взгляд, презюмирование вины означает ее аксиоматическое наличие, принятие ее как данности без доказывания; подобное же абсолютно неверно, поскольку противоречит и обычной логике — вина столь сложное психическое явление, что без доказывания ее вменять нельзя, — и уголовному закону, который в ч. 1 (см. 5 требует устанавливать вину; мало того, ч. 1 (см. 49 Конституции РФ требует доказывания виновности; автор совершенно точно использовал здесь термин “исполнение”, признав его синонимом совершения преступления; это очень опасный для него путь, поскольку такая замена потребует от автора изменения всей его концепции. — А. К.). 2. Наличие в действиях (бездействии) лица по созданию условий для совершения преступления ближайшей цели — возникновения возможности для причинения вреда объекту посягательства и конечной цели — совершения в последующем (на стадии совершения преступления) конкретного преступления с прямым умыслом (в общем применительно к целям автор неправ, кроме того, он напрасно вновь возвращается к прямому умыслу, о котором писал в пункте первом; кроме того, автор постоянно забывает о том, что он анализирует уже пресеченную деятельность, когда уже нет и не может быть ни возможности для причинения вреда объекту посягательства, ни конечной цели — совершения конкретного преступления, все это осталось в прошлом за пределами приготовления. — А. К.)». К сожалению, М. П. Редин ограничился этим, словно приготовление с субъективной стороны характеризуется лишь психическим отношением к будущему результату и к своим действиям, однако оно суть прерванное преступление, поэтому автор забыл еще об одной особенности — отпадении вины и цели после пресечения преступления, которые существовали лишь как ретроспективные категории.
Что касается вины при приготовлении, то в предложенной нами формулировке сознательно опущено указание на умышленность приготовления, отраженную и в законе, и в теории, поскольку выше уже много было сказано о возможности наличия стадий совершения преступления и неоконченной преступной деятельности в преступлениях, совершенных с косвенным умыслом либо неосторожно, т. е. при реальном либо возможном побочном результате. Попытаемся рассмотреть это применительно к приготовлению, которое также может имел, место в преступлениях, совершаемых с виной любых форм и видов.
Данный вывод базируется на нескольких обстоятельствах. Прежде всего, традиционно мы привыкли к тому, что анализ вины производится по каждому ее виду раздельно: косвенный умысел и его признаки, легкомыслие (преступная самонадеянность) и ее признаки и т. д. При этом целенаправленная деятельность, сопряженная с прямым умыслом, упоминается лишь при разграничении с косвенным умыслом, а также отражается путем употребления словосочетания «не желало» в противовес прямому умыслу, когда лицо «желало» причинить вред. Указанным обычно и ограничивается рассмотрение целенаправленной деятельности. На самом же деле она всегда сопутствует деятельности побочной, выводящей нас на косвенный умысел, легкомыслие (преступную самонадеянность) и преступную небрежность. Становится ясно: за относительной самостоятельностью деятельности целенаправленной и побочной скрывается их диалектическая связь через стадии создания условий и исполнения преступления, которая показывает те этапы, на которых целенаправленная деятельность вызывает объективно деятельность побочную. И если побочный результат вызывается деянием — созданием условий, то он не может возникать от деяния исполнения и наоборот. Однако ситуации такого рода неоднозначны. В одних из них создание условий в целенаправленной деятельности остается созданием условий побочной деятельности и пресечение в целом будет приготовлением; в других — создание условий в целенаправленной деятельности существует как побочное деяние–исполнение и при пресечении в целом такого поведения возникают приготовление к достижению желаемого и какая–то разновидность пресечения, связанная с побочным результатом. В последнем случае мы сталкиваемся с проблемой соотнесения пресеченного деяния к той или иной разновидности его — приготовлению или покушению. Анализировать это мы склонны в разделе «Приготовление», исходя из диалектической связи целенаправленной и побочной деятельности и повышенной социальной опасности первой.
В тех ситуациях, когда создание условий в целенаправленной деятельности является одновременно созданием условий побочного поведения, пресечение преступления на этой стадии возможно в отношении либо целенаправленной, либо побочной, либо той и другой деятельности; пресечение лишь целенаправленной ведет к приготовлению в направлении желаемого результата и оконченному побочному последствию; пресечение лишь побочного поведения приводит к оконченному желаемому результату и приготовлению в побочной деятельности (подобное очень важно устанавливать, когда целенаправленная деятельность социально полезна, и необходимо отделить побочную преступную деятельность от позитивного поведения); пресечение того и иного поведения ведет к приготовлению в целенаправленной и побочной деятельности (если оба поведения общественно опасны). Например, заведующая складом специально оставила открытым на ночь склад, чтобы облегчить хищение. Поздно вечером от порыва ветра двери склада открылись и начавшийся дождь стал захлестывать в помещение, грозя затопить мешки с сахаром. Сторож увидел это, закрыл двери склада и не отходил от него всю ночь. Своими действиями он предотвратил не только готовящееся хищение, но и уничтожение продуктов — неосторожное преступление.
Возможно, приведенный пример в части пресеченного неосторожного преступления не имеет уголовно–правового значения, так как, базируясь на действующем законодательстве и существующей доктрине умышленного приготовления, мы не способны его квалифицировать. Однако из этого не следует, что любая пресеченная неосторожная или иная побочная деятельность на стадии создания условий безразлична для уголовного закона. Не исключено наличие таких разновидностей попутного создания условий наступления неосторожного последствия, когда ставится под угрозу причинения вреда жизнь десятков и сотен лиц или огромные материальные ценности и пресеченное подобное поведение может иметь криминальное значение. Предположим, что 31 августа 1986 г. на борту теплохода «Петр Васеев» нашелся бы человек, совершивший действия, благодаря которым не произошло бы столкновения теплохода с пассажирским пароходом «Адмирал Нахимов» и не погибли бы сотни пассажиров последнего. Неужели прерванное преступное поведение капитанов обоих судов было бы не значимо для уголовного права? Разумеется, было бы значимо, поскольку по УК РСФСР существовала норма права (ч. 2 ст. 85 УК РСФСР), предусматривающая такие случаи и объединяющая их термином «нарушение правил». Такая же норма введена и в УК РФ (ч. 1 ст. 263 УК), но формулируется она как материальный состав. И если ранее мы сталкивались с законодательным отражением приготовления в неосторожном преступлении в качестве самостоятельного преступления, то в новом УК этого уже нет.
Такое прерывание на стадии создания условий в целенаправленной деятельности, объявленное самостоятельным преступлением относительно побочного результата, требует отдельного рассмотрения. Например, преступники сделали через дорогу подкоп к помещению Сбербанка, в связи с чем возникла угроза для автотранспорта. При пресечении целенаправленной деятельности (аресте преступников) побочный фактор (возможная или реальная автоавария) будет сохраняться до уничтожения подкопа либо усиления дорожного покрытия. И здесь возможна квалификация содеянного как приготовления к хищению и еще какого–то неосторожного преступления. Поскольку арест преступников вовсе не исключает возникновения неосторожного последствия, то он не может считаться пресечением неосторожного преступления. Осознание правоохранительным органом опасности побочного вреда само по себе (без действий по уничтожению подкопа) также не дает основания признавать арест виновных пресечением наступления побочного результата. Создается любопытная ситуация отсутствия надлежащей квалификации и соответствующих мер социального воздействия, во–первых, потому, что налицо сложное явление (нет ни оконченного, ни пресеченного неосторожного преступления), во–вторых, это связано с законодательным пробелом, поскольку такие действия ничуть не менее опасны, чем поведение пешеходов, нарушающих правила движения (ст. 268 УК РФ); соответствующее нарушение не предусмотрено и административным правом. Надо отметить, что применительно к железнодорожному, морскому, воздушному, речному транспорту данная проблема могла быть снята, так как Проект УК России предлагал ввести в уголовный закон норму об умышленном разрушении, повреждении или приведении иным способом в негодное для эксплуатации состояние железнодорожного, морского, речного или воздушного транспортного средства, путей сообщения, сооружений для них, средств сигнализации и связи или другого транспортного оборудования, если эти действия создали угрозу для жизни и здоровья людей или причинения материального ущерба в крупных размерах (ст. 235 Проекта). Но законодатель не поддержал идею и сформулировал норму как материальный состав (ст. 263 УК РФ), что едва ли оправданно. Данная проблема и по отношению к автотранспорту остается неразрешенной, хотя здесь вполне реальна угроза жизни и здоровью людей либо причинения крупного материального ущерба (уже сейчас стоимость только автомобиля исчисляется сотнями тысяч рублей, не говоря о перевозимых на автомашинах грузах).
При самостоятельном пресечении побочного поведения (в приведенном нами примере через несколько дней строители усилили дорожное покрытие и уложили бетонные плиты, что исключило автоаварию из–за подкопа) правоохранительные органы либо не узнают о нем, либо не придадут ему надлежащего значения на фоне более опасного умышленного преступления, хотя общественная опасность неосторожного преступления до пресечения его реально существовала.
Ликвидировать подобные пробелы способны только составы поставления в опасность, ввести которые в закон предлагал еще М. Д. Шаргородский[368]. Его мнение было подвергнуто критике, так как состав поставления в опасность приведет к «уравниловке» покушения и ликвидации институтов приготовления и покушения, помешает суду выявлять подлинные намерения виновных и т. д.[369] В определенной части изложенные возражения верны, по крайней мере, применительно к преступлениям с прямым умыслом, но, думается, большого вреда для пресеченной преступной деятельности не наступит, если по некоторым видам преступлений с прямым умыслом (особенно при создании условий для исполнения таких преступлений, которые связаны с крайне высокими антисоциальными последствиями) приготовление будет превращено законодателем в самостоятельное преступление. Так, в действующем УК выделен геноцид как преступление против мира и безопасности человечества (ст. 357 УК). Он сформулирован законодателем как состав поставления в опасность, поскольку в диспозиции нормы речь идет о действиях, «направленных на….», а не причинивших или повлекших определенные последствия. Действенность указанной нормы несколько снижена тем, что она, похоже, в равной мере распространяется и на прерванное поведение, когда результат еще не наступил, и на материально завершенную деятельность при наступлении указанных в законе последствий. Более оправданным, на наш взгляд, было бы выделение в законе двух частей анализируемой нормы: ч. 1 ст. 357 УК с составом поставления в опасность, а ч. 2 ст. 357 УК регламентировала бы изложенное поведение при наступлении последствий. Разумеется, составы поставления в опасность должны быть крайне редким явлением в уголовном законе и связанными, как правило, с общественными отношениями самой высокой степени значимости.
Однако указанные возражения абсолютно неприемлемы относительно пресеченных преступлений, совершаемых с косвенным умыслом либо неосторожно, когда существующая доктрина вообще исключает приготовление и покушение и, следовательно, конкуренцию между Общей и Особенной частями по данному вопросу. По–видимому, формирование составов поставления в опасность в преступлениях с косвенным умыслом и неосторожных — один из немногих путей (если не единственный) реализации в законе приготовления и покушения в данных преступлениях. Собственно, по этому пути уголовное право идет давно. Согласно ст. 407 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. «лица, обязанные свидетельствовать казначейства или иные денежные кассы, казенные или общественные, по правилам, для сего в наставлениях о свидетельствах сего рода поставленным, за неисполнение надлежащих при освидетельствовании правил…». В ст. 593 г. УК РСФСР 1926 г. отражено «нарушение работниками гражданской авиации и гражданского воздухоплавания служебных обязанностей… если это нарушение повлекло или могло повлечь повреждение или уничтожение воздушного судна или земного оборудования для полетов либо несчастный случай с людьми…». По ч. 2 ст. 85 УК РСФСР 1960 г. нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые создавали угрозу наступления несчастных случаев с людьми, крушений, аварий или иных тяжких последствий, также признавалось самостоятельным преступлением. И такие нормы в уголовном праве достаточно распространены. Во всех подобных преступлениях речь идет о закреплении в законе пресеченной на стадии создания условий (при отсутствии контроля за финансовыми учреждениями возникают условия для возможных финансовых махинаций и хищений; несоблюдение обязанностей и правил на транспорте создает условия для возможных крушений и аварий, влекущих повреждение или уничтожение подвижного состава и человеческие жертвы, и т. д.) деятельности и приемлемости формирования составов поставления в опасность.
Эти составы, по–видимому, наиболее полно отвечают и прогрессивной тенденции, заложенной в уголовном праве. Ведь издавна исследователи уголовного права писали, что «во всяком хорошо устроенном обществе надлежит более предупреждать преступления, чем карать их»[370], «хороший законодатель будет менее заботиться о наказаниях за преступление, чем о предупреждении преступлений»[371]. Н. С. Таганцев писал по этому поводу: «Самый состав и условия наказуемости подобных фактов определяются их собственной природой, независимо от того преступления, к которому они могут оказаться приготовлением; поэтому вполне возможно, что такое деяние по своей наказуемости будет более важным, чем то, к которому оно в данном случае было приготовлением»[372], т. е. он однозначно относил составы доставления в опасность к приготовлению, хотя они и были самостоятельными преступлениями, отраженными в Особенной части уголовного закона.
Разумеется, в некоторых приведенных высказываниях проблемы ставятся более широко, чем нужно для нашей работы; и все же применительно к предмету нашего исследования следует отметить, что важнейшей задачей уголовного права является предотвращение материального и физического вреда, причиняемого соответствующим общественным отношениям. Представляется, ее успешно решают составы поставления в опасность, формированием которых законодатель вмешивается в частную жизнь граждан уже на стадии создания условий, убеждая и принуждая тем самым к непричинению вреда общественным отношениям. Именно поэтому надо признать обоснованным предложение М. Д. Шаргородского, который, по существу, лишь констатировал факт наличия в законе составов поставления в опасность, и не согласиться с критикой его позиции.
И дело даже не в том, признавать или не признавать составы поставления в опасность, а в другом: во–первых, в установлении соотносимости приготовления и указанных составов, во–вторых, в определении критериев их выделения в законе. На наш взгляд, приготовление и составы поставления в опасность ничем друг от друга не отличаются, они тождественны; составы поставления в опасность по своей сути есть часть приготовлений, закрепленных законодателем в качестве самостоятельных преступлений. Именно в этом заключается юридическая природа составов поставления в опасность, именно здесь находится связь составов поставления в опасность с институтами Общей части уголовного закона. Хотя по этому вопросу нет однозначного отношения в теории уголовного права.
Так, по мнению Н. С. Таганцева, «с точки зрения объективной приготовительные действия могут быть наказуемы при двух условиях: во–первых, если эти деяния сами по себе подходят под какую–то группу преступлений, и, во–вторых, если характер припасаемого материала, способ хранения или его обработки таков, что грозит более или менее серьезной опасностью или для целого общества, или для отдельного лица»[373]. Не все криминалисты выступали сторонниками подобного подхода. Например, А. Н. Круглевский резко возражал против признания приготовлением самостоятельных видов преступления, отраженных в уголовном законе: «От приготовления в собственном смысле необходимо отличать действия, которые, хотя и совершаются с целью создания возможности реализации преступления, но отвечают типу самостоятельных преступных деяний (автор в качестве примера приводит хищение топора с целью убийства, которое необходимо квалифицировать как кражу и которое нельзя признать приготовлением. — А. К.)… Мало того, под понятие о приготовлении не подходят и те деяния, устанавливая наказуемость которых законодатель несомненно руководился намерением пресечь преступную деятельность в самом ее зародыше, т. е. имел в виду покарать подготовительную по отношению к преступлению деятельность, как скоро эта связь содеянного с задуманным преступлением не нашла себе выражения в составе преступления и не была принята за необходимый его признак»[374]. Похоже, автор пытался усидеть на двух стульях: с одной стороны, признать те или иные самостоятельные виды преступления подготовительными действиями «по отношению к преступлению», но с другой — отказывал таковому в статусе приготовления. Думается, более точен в суждениях был Н. С. Таганцев, относивший их к приготовлениям. Дело в том, что между Общей и Особенной частями уголовного закона не должно быть пропасти, основная масса Особенной части должна находить объяснения с позиций положений Общей части (действия закона, сущности, структуры и разновидностей преступления, видов вины, стадий и неоконченного преступления, соучастия, множественности преступлений и т. д.) и лишь ничтожная масса положений Особенной части (собственно особенности видов преступлений и их разграничительные признаки) может быть отнесена к положениям, характеризующим в чистом виде только Особенную часть. Это касается и тех деяний, которые отражены в Особенной части закона в качестве самостоятельных видов преступления, сущность которых и заключается в том, что они представляют собой преступления создания опасности (само по себе хранение оружия социально ничтожно как явление и только с позиций создания опасности причинения вреда им оно становится криминально значимым).
По каким же критериям вводятся в уголовный закон составы поставления в опасность? Определим прежде всего условия криминальной значимости приготовления вообще. Создание условий настолько отдалено от преступного результата, что приготовление как пресеченная на этой стадии деятельность характеризуется объективно наименьшей общественной опасностью. Значит, не все приготовления могут быть признаны криминально значимыми, часть их должна остаться за рамками уголовного права. Так ли это и какая часть приготовления криминально значима — по данному поводу дискуссия длится уже более столетия. Все указанные позиции могут быть сведены в две группы.
1. Приготовления не имеют уголовно–правового значения, в качестве доказательства выдвигается очень оригинальный аргумент: признавая приготовление криминально значимым, мы лишаем виновного использования в последующем своего права на добровольный отказ[375]. Указанному аргументу нельзя было бы отказать в справедливости, если бы речь шла о стадиях совершения преступления, а не о пресеченной деятельности. Но ведь при приготовлении мы сталкиваемся с прерванным преступлением, за которым далее ничего не следует, т. е. не может быть и последующего добровольного отказа. Своим доводом противники криминальной значимости приготовления вообще ставят под сомнение правомерность вмешательства в развитие преступления: не будем прерывать его, подождем, возможно, виновный добровольно откажется. По такому пути уголовное право идти не может.
Иным аргументом признания приготовления криминально незначимым являются его незначительной степени общественная опасность и небольшая практическая значимость[376], при этом Т. Г. Понятовская ссылается на других авторов, в частности на Т. Д. Устинову, как противников криминально значимого приготовления, однако по данному автору у нас сложилось иное впечатление, о котором будет сказано ниже. Указанный аргумент нам представляется необоснованным. Прежде всего, сторонники указанного решения не задумываются о том, что исключение приготовления из сферы криминально значимого автоматически повлечет за собой в определенной части ликвидацию соучастия, которое по общему правилу и формируется как создание условия для исполнения преступления, об этом сказано и в самом УК — действия по созданию условия при приготовлении составляют, в частности, приискание соучастников и сговор. Даже одно это становится серьезным препятствием для реализации изложенного предложения. Кроме того, приготовление приготовлению рознь, нельзя исключить приготовления такой степени опасности, которые могут быть тяжелее возможного оконченного преступления; как выше было сказано, об этом писал еще Н. С. Таганцев. Совершенно верно отметил И. С. Тишкевич, что «объявление приготовительных действий ненаказуемыми неизбежно привело бы к тому, что многие из них, представляющие несомненную общественную опасность, судебная практика стала бы относить к покушению в целях признания их наказуемости»[377]. Именно поэтому более точна господствующая сегодня точка зрения о криминальной значимости приготовления только в определенных ситуациях. Кстати, именно такому подходу не противоречило и социалистическое уголовное право. Так, в УК ГДР приготовление было размещено в некоторых статьях Особенной части с указанием на его наказуемость только по данным статьям.
2. Большинство криминалистов признают приготовление не всегда имеющим уголовно–правовое значение[378], с чем необходимо согласиться, так как оно иногда обладает достаточно высокой степенью общественной опасности, игнорировать которую весьма трудно. Однако пока остается без разрешения вопрос, какие все–таки приготовления считать криминально значимыми. Н. Д. Дурманов признавал таковыми приготовления в контрреволюционных и иных тяжких преступлениях[379]. По мнению Т. Д. Устиновой, «следует выбрать из всей совокупности приготовительных действий те из них, которые по своей сути являются наиболее общественно опасными… Критерием… должны быть объекты посягательства, тяжесть и вероятность наступления последствий, а также общественная опасность самих приготовительных действий, которая определяется их содержанием»[380]. То же самое высказала ранее Н. Ф. Кузнецова. Она предлагает исходить из общественной опасности, определяемой объектом преступления, характером создания условий, существом приготовительных действий[381], и считать криминально значимыми лишь приготовления к наиболее тяжким преступлениям[382]. Отсюда и вывод: уголовное право распространяется на приготовления к особо тяжким, тяжким и менее тяжким преступлениям[383]. Авторам, похоже, не удалось убедить в своей правоте большинство специалистов, поскольку в Основах 1991 г. и опубликованном Проекте УК России было закреплено положение о том, что уголовная ответственность наступает только за приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению (ч. 1 ст. 17 Основ, ч. 1 ст. 22 Проекта) и, соответственно, не признавались криминально значимыми приготовления к преступлениям иной тяжести. Неосторожные преступления относились лишь к менее тяжким либо не представляющим большой общественной опасности преступлениям (ч. 2 ст. 9 Основ, ст. 9, 10 Проекта). Однако пытаясь ввести в закон прерванную неосторожную преступную деятельность в качестве самостоятельных видов преступлений, менее тяжких или не представляющих большой общественной опасности, (чаще — последних), комиссия по подготовке Проекта УК вступала в противоречие с собой, так как, с одной стороны, признавала приготовление криминально значимым лишь в особо тяжких и тяжких преступлениях, а с другой — вводила приготовление в качестве самостоятельных норм по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности и менее тяжким. Ликвидировать данное противоречие можно было, во–первых, реализуя вышеизложенное предложение о признании криминально значимым приготовления в менее тяжких, тяжких и особо тяжких преступлениях (что расширит в законе объем наиболее опасных неосторожных составов поставления в опасность), во–вторых, исключив составы поставления в опасность (и умышленные, и неосторожные), определяемые как преступления, не представляющие большой общественной опасности.
Некоторые авторы не согласны с частичной декриминализацией приготовления, поскольку подобное «открывает возможность открытой подготовки ко многим распространенным преступлениям. Скажем, помещение рекламного объявления о подготовке за плату одного человека к совершению одной карманной кражи или мошенничества не дает основания для привлечения предлагающего свои услуги преступника–профессионала»[384]. Разумеется, автор прав, но дело в том, что само по себе преступление небольшой тяжести является малоопасным, тем более приготовление к нему трудно причислить к достаточно опасным для криминального воздействия. Кроме того, приведенный автором пример с рекламой имеет и свои положительные качества — организованная преступность в определенной части может быть поставлена под контроль правоохранительных органов.
В новом уголовном законе указанное противоречие сохраняется (достаточно посмотреть ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217 и др. УК РФ с их санкциями в виде лишения свободы до 2, 3 лег), что нельзя признать оправданным, поскольку законодатель обязан соблюдать внутреннюю логику закона.
Указание на преступность приготовления в уголовном законе носит либо обобщенный[385], либо перечневый[386] характер. Хотя в теории они противопоставлены друг другу, в законодательной практике могут быть объединены. Наиболее приемлемым представляется перечневый метод регламентации приготовления, по которому приготовление становится криминально значимым, успешно применяемый законодательством других стран. Обобщенный характер отражения приготовления в законе должен быть максимально приближен к перечневому, что и удалось сделать авторам теоретической модели уголовного закона, когда они «привязали» приготовление к особо тяжким, тяжким и менее тяжким видам преступлений, последние же четко связали с санкциями[387], получив тем самым тот же перечневый метод, но в обобщенном виде. Это же нашло отражение в несколько измененном виде в Основах 1991 г., в опубликованном Проекте УК и в УК РФ 1996 г.
Принятые критерии помогают установить приготовление в качестве уголовно–правовой категории, но не позволяют пока уточнить, когда же приготовление следует вводить в закон в виде самостоятельного преступления. Условиями такого уточнения, на наш взгляд, являются следующие. Во–первых, в самостоятельное преступление выделяется, как правило, пресеченная побочная деятельность, т. е. приготовление в преступлениях, совершаемых с косвенным умыслом или неосторожно, что сразу исключит конкуренцию двух отражений приготовления (в Общей и Особенной части) и формулирование критикуемых выше усеченных составов и свяжет установление опасности такого приготовления только с законодателем. Исключением из правила могут быть составы поставления в опасность по преступлениям с прямым умыслом только в случае их связи с общественными отношениями самой высокой значимости (предположим, мира и безопасности человечества). Во–вторых, приготовления в побочной деятельности как самостоятельные преступления должны быть связаны с четко фиксированными обязанностями, выполнение которых исключило бы возможность наступления преступного результата. Изложенные два дополнительных критерия помогут сформировать круг приготовлений в побочной деятельности, признаваемых отдельными преступлениями.
При анализе объективной взаимосвязи побочной и целенаправленной деятельности не следует забывать о наличии субъективной связи между ними. Ведь преступный побочный замысел возникает и до стадии создания условий, и на этой стадии, и после нее. В первых двух вариантах пресеченная на стадии создания условий деятельность свидетельствует об имеющейся субъективной связи пресеченной деятельности с недостигнутым побочным результатом, о том, что виновный, создавая условия, представлял себе развитие не только целенаправленной деятельности, так как предвидел или должен был предвидеть наступление либо возможность наступления преступного последствия. Тем самым пресеченные приготовительные действия, сливаясь с субъективным представлением о них, создают приготовление в побочном поведении. Именно поэтому приготовление к побочному результату существует лишь при указанных двух факторах: объективной и субъективной связи между целенаправленной и побочной деятельностью. В третьем варианте (преступный замысел в отношении побочного результата возникает после создания условий, а побочная деятельность существует уже со стадии создания условий) пресечение преступного побочного поведения на анализируемой стадии нельзя признавать приготовлением, поскольку побочное поведение возникло помимо преступного замысла, и, соответственно, вменять его лицу нельзя. Здесь возможно приготовление только к желаемому результату.
На основании изложенного, думается, вполне обоснованно отрицают наличие в уголовном праве лишь умышленного приготовления и предлагают признать практическую целесообразность и уголовно–правовую значимость неосторожного приготовления.
Особое значение имеет все это в преступлениях со смешанной формой вины, что характеризует все неосторожные преступления, поскольку, как правило, действия в неосторожных преступлениях совершаются именно умышленно. Правда, здесь возникает одна важная проблема — установление того, причиной или условием являются действия, отраженные в качестве элемента объективной стороны вида преступления, т. е. признаем ли мы их исполнением или созданием условий. На наш взгляд, данный вопрос относится к разряду архисложных, поскольку вокруг него накручена масса фикций, условностей. Возьмем для анализа ст. 2151 УК, согласно которой наказывается «незаконное прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения… если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия». Прежде всего, отклонимся немного в сторону от предмета нашего рассмотрения и скажем, что законодатель, введя термин «незаконное» в данную норму уголовного закона, создал опасный прецедент и абсолютно, на наш взгляд, неприемлемую ситуацию, поскольку при точном, буквальном толковании из данной нормы следует, что «законное» прекращение или ограничение подачи электроэнергии, опасные для жизни человека или с возможностью наступления тяжких последствий, криминально не значимы; криминально не значимы они и тогда, когда повлекли смерть человека или тяжкие последствия, что вытекает из ч. 2 ст. 2151 УК. И все это претендует на высокое звание Закона? Вполне понятно стремление законодателя защитить в одной норме и интересы товаропроизводителя, которому не платят за товар, и интересы законопослушных потребителей продукции. Тем не менее так формулировать анализируемую норму совершенно неприемлемо, поскольку обстоятельства, исключающие преступность деяния при причинении вреда, носят строго ограничительный характер — это малозначительность деяния, невиновное причинение вреда, собственно обстоятельства как таковые (необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании преступника, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения) и основания освобождения от уголовной ответственности (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки с исключением общественной опасности лица или деяния и истечение давностных сроков). За пределами этого ничего иного, исключающего уголовную ответственность за реально причиненный вред, в уголовном праве не существует. Ни к чему из перечисленного законодатель не может отнести законное причинение вреда в анализируемой ситуации. Поэтому товаропроизводитель в данном случае вообще не вправе причинять вред вне зависимости от того, законно или незаконно он действует. Похоже, что законодатель должен исключить из ч. 1 ст. 2151 УК указание на «незаконные» действия.
Возвращаясь к нашим проблемам, отметим, что указанные в законе действия (прекращение или ограничение подачи электроэнергии либо отключение от иных источников жизнеобеспечения) сами по себе причинить вред не способны (наши далекие предки не знали таких источников тепла и тем не менее жили), причиной вреда выступают силы природы (например, сильные морозы), при наличии которых отсутствие центрального отопления, на которое сегодня сориентирована городская жизнь, выступает условием в чистом виде. Но в уголовном праве мы всегда ищем человека как то первое звено в причинении, которому мы можем предъявить правовые претензии. Таким лицом в нашем случае и является тот, кто совершил анализируемые действия, но они по сути не есть причина, тем не менее законодатель на их основе формирует вид преступления, признавая фиктивно создание условия исполнением преступления.
Однако и это еще не все. Довольно часто одни и те же действия по созданию условий выступают в разных ролях в зависимости от тех сил, которые реально причиняют. Скажем, если в качестве причинителя выступают силы природы, механизмы, несубъекты преступления, то лиц, создавших условия для такового, признают фиктивно причинителем; если же в качестве причинителя вреда выступают субъекты преступления, то лица, создавшие условия для такового, не признаются причинителями, т. е. при наличии тех или иных причиняющих сил, правоприменитель по–разному относится к тем, кто создает условия для таких действий. Едва ли подобное отражает реальное положение вещей, тем более что действия в любом варианте умышленные и лишь вред наступает по неосторожности.
Отсюда при нынешнем положении вещей, когда приготовление ограничено лишь умышленным поведением, возникает странная ситуация уже применительно к таким видам преступления, как ст. 2151 УК с умышленным деянием, поскольку само по себе деяние суть создание условия, соответственно, прерванная деятельность должна быть признана приготовлением, но применительно к ч. 2 указанной статьи таковое в принципе невозможно только в силу неосторожности преступления, если мы ни признаем, что в ч. 1 ст. 2151 УК и подобных видах преступления заложена пресеченная преступная деятельность, т. е. приготовление.
Мало того, в уголовном законе существуют в достаточно большом количестве нормы, в которых само деяние–создание условия может быть совершено и умышленно, и неосторожно; к таким относятся все нарушения правил и некоторые другие виды поведения. По существу, именно здесь в полный рост встает проблема пресеченной деятельности. Подобные преступления мы можем разделить на две группы. 1) Преступления, в которых ч. 1 соответствующих норм представляет собой поставление в опасность, т. е. заведомо прерванную деятельность. 2) Преступления, в которых ч. 1 сформирована уже как материальная диспозиция, требующая наличия того или иного вреда. Если мы не согласимся с возможностью прерывания неосторожной деятельностью с соответствующем отнесением подобного к приготовлению, то в первом варианте мы при реальном наличии введенного в уголовный закон приготовления вынуждены будем реальную суть преступления поставления в опасность делить на две непонятные части относительно умышленных и относительно неосторожных действий, поскольку при умышленных мы должны признать все приготовлением, а при неосторожных — неизвестно чем. Чтобы подобного не произошло, мы должны однозначно признать, что преступления поставления в опасность по своей сути являются приготовлением вне зависимости от того, включают ли они в себя только умышленные, или только неосторожные, или совместно умышленные и неосторожные действия. Во втором варианте ситуация еще более обостряется, поскольку здесь уже нет фиктивного введения приготовления в Особенную часть, при котором мы можем абстрагироваться от применения самого термина «приготовления»; во втором варианте мы имеем обычную материальную диспозицию, в которой отражены и умышленные, и неосторожные действия, приводящие к вреду. Соответственно, при совершении умышленных действий и пресечения их в той или иной части мы имеем полное право отнести подобное к приготовлению; при пресечении неосторожных действий, входящих в ту же норму права, опять–таки возникает нечто непонятное, чего в принципе быть не должно, поскольку в рамках одной нормы не должно возникать различных общих проблем, которые должны быть разрешены в одном направлении. Таким решением может быть признание возможности пресечения и неосторожных действий, и, соответственно, признание такового приготовлением.
Приготовление базируется на одномоментном или многомоментном создании условий, что предполагает наличие некоторых особенностей. В первом случае всегда имеет место завершенное создание условий, соответственно — приготовление однозначно выражено, так как всегда окончено. Во втором проблема приготовления стоит несколько острее, поскольку создание условий выражается в нескольких телодвижениях и может быть пресечено на любом из них, включая полное создание условий. Отсюда пресечение преступной деятельности на любом этапе до полного создания условий, до завершенности подготовительных действий влечет за собой признание приготовления неоконченным (например, лицо собиралось изготовить огнестрельное автоматическое оружие, но деяние было прервано уже после того, как был выточен только ствол). Оконченным приготовление будет признано после выполнения всех телодвижений, составляющих полное создание условий. Следовательно, приготовление подразделяется на два вида: неоконченное и оконченное. По–видимому, нет необходимости особо доказывать возможность наличия того и другого. Но имеет ли уголовно–правовое значение деление приготовления на указанные виды? Ведь даже выделение приготовления за рамки покушения вызывало в теории советского уголовного права возражения[388]. По существу, это два однопорядковых вопроса: следует ли выделять приготовление как самостоятельную уголовно–правовую категорию и нужно ли глубоко дифференцировать приготовление? И в основе их решения находится аргументация одного плана.
Полагаем, есть смысл выделять и само приготовление, и его виды, потому что в обоих случаях имеются: объективно различные этапы преступной деятельности, связанные с выполнением объективно различных действий (бездействия); различной степени объективный уровень общественной опасности; различной степени субъективный уровень общественной опасности; различной степени общественная полезность пресеченной деятельности; дифференцированная уголовная ответственность. Особые сложности на практике возникают при неоконченном приготовлении. Так, Ярославским областным судом осужден Косков по ч. 1 ст. 30, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 УК на шесть лет лишения свободы за то, что в течение нескольких дней (состоялось не менее восьми встреч) он склонял К. (охранника офиса потерпевшей) к совершению разбойного нападения на Широкову с применением ножа и пистолета, просил К. предоставить ему пистолет. По мнению адвоката подсудимого приготовления к разбойному нападению не состоялось, участников нет, оружия нет и быть не могло. Суд доказал наличие приготовления, но интересно здесь то, как «дрогнула» Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, столкнувшись с неоконченным приготовлением, когда имело место приискание соучастников в негодном сговоре (потенциальный соучастник по поручению милиции записывал на магнитофон переговоры с Косковым), хотя как неоконченное мы только теоретически можем признать таковое, поскольку закон относит приискание соучастников к самостоятельной форме создания условий. Тем не менее, несмотря на это, Верховный Суд РФ применил ст. 64 УК, назначив наказание ниже низшего предела санкции, абсолютно, на наш взгляд, не обосновав подобное: «Вместе с тем суд не в полной мере учел степень реализации преступных намерений Коскова, его положительную характеристику и то, что каких–либо тяжких последствий для потерпевшей не наступило»[389]. Во–первых, положительная характеристика не может быть отнесена к исключительным обстоятельствам, во–вторых, отсутствие не только тяжких, но любых других последствий составляет основу приготовления как неоконченного преступления и в силу этого не может быть признано исключительным обстоятельством дела. Вся проблема здесь, похоже, заключена в степени реализации преступных намерений, поскольку суд столкнулся с приисканием соучастников при наличии негодного сговора. По сути самого такого действия на основании ч. 1 ст. 30 УК вполне достаточно для вменения приготовления и соответствующего применения ч. 2 ст. 66 УК с уменьшением максимума санкции наполовину. Однако Верховный Суд РФ, очевидно, понимает относительную несправедливость довольно высокого наказания, назначенного областным судом за неоконченное приготовление, и потому уменьшает его еще вдвое, не имея для этого никаких законодательных оснований, кроме «резиновой» (ст. 64 УК. Таким образом, нужно признать, что Верховный Суд РФ поступил в данной ситуации в высшей степени справедливо, хотя юридически вывод его в высшей степени сомнителен.
Виды приготовления имеют самостоятельное уголовно–правовое значение, которое не столь заметно, когда приготовление выступает в качестве отдельной правовой категории (вне зависимости от вида — оконченное или неоконченное — приготовление при квалификации остается приготовлением). Проявляется оно более существенно в тех ситуациях, когда введено в закон как вид преступления. Здесь уже, по общему правилу, нормой уголовного права признается оконченное приготовление; неоконченное же составляет лишь часть диспозиции нормы и быть квалифицировано только по статье Особенной части не может (например, незавершенное изготовление огнестрельного оружия не является оконченным преступлением, предусмотренным ст. 223 УК РФ, а представляет собой неоконченную преступную деятельность). Возникают сложности квалификации такого преступного поведения, так как неясно, приготовлением или покушением следует его признавать. По сути своей подобные деяния — приготовления, поскольку пресечение преступления осуществляется на стадии создания условий (изготовление оружия криминально значимо не само по себе, а лишь как фактор, нарушающий общественную безопасность, т. е. в полной мере зависит от поставленных целей — для облегчения общественно опасных проявлений; особенно актуально сказанное сейчас, когда все настойчивее выражается требование предоставить правопослушным гражданам право на приобретение и ношение оружия, в том числе — и огнестрельного). И создание самостоятельной нормы указанной сути не меняет. Именно поэтому пресечение преступления в так называемых усеченных составах влечет за собой его признание приготовлением, но не покушением. В этом и заключается особенность квалификации: неоконченное приготовление — с применением ч. 1 ст. 30 УК РФ, оконченное — только по норме Особенной части УК.
По указанному правилу должно рассматриваться и пресечение преступной деятельности при бездействии, потому что уголовно–правовое бездействие в основе своей является созданием условий для наступления преступного результата, т. е. пресеченное бездействие — всегда неоконченное или оконченное приготовление.
Некоторые особенности понимания и квалификации имеют неоконченное и оконченное приготовление в продолжаемых преступлениях. Нужно помнить, что в таких преступлениях создание условий сложно по конструкции: СУ+су1+….сун. Разумеется, здесь изложена теоретическая модель создания условий, в конкретных продолжаемых преступлениях довольно часто какое–либо из звеньев отсутствует, тем не менее рассмотрим их в полном объеме. Нельзя забывать и о сущности приготовления как пресеченной на каком–то этапе развития продолжаемого преступления деятельности, когда предшествующее пресечению поведение — реальность, а последующее — фантом. Не принимая пока во внимание иные факторы (наличие замысла, исполнение по каждому отдельному преступному акту, особенности конкретного продолжаемого преступления), отметим, что пресечение преступной деятельности почти на всех этапах создания условий носит неоконченный и только на последнем этапе (сун) оконченный характер. Отсюда и виды приготовления.
Но не будем спешить с выводами, поскольку нельзя забывать и об иных указанных факторах. Попытаемся дать анализ пресечения продолжаемого преступления на стадии создания условий в трех вариантах: при создании условий вообще, направленных на все последующие акты поведения лица, на все продолжаемое преступление в целом (СУ); при создании условий исполнения первого акта преступления (су1); при создании условий исполнения последующих актов преступного поведения (су2, су3, и т. д.).
В первом случае квалификация приготовления зависит от того, достаточно ли первоначальное общее создание условий для наступления преступного результата всего продолжаемого преступления, не понадобится ли при исполнении отдельных актов дополнительное создание условий по каждому акту или по некоторым из них. Если первичного общего создания условий достаточно для завершения преступления и последующие отдельные акты могут базироваться на нем и совершаться без дополнительного создания условий (есть СУ, но нет и не нужны для завершения преступления су1, су2, и т. д.), то пресечение на этой стадии следует признавать либо неоконченным (прервано СУ на каком–то его этапе), либо оконченным (прервано все СУ) приготовлением. Если же общего создания условий недостаточно и последующие акты потребовали бы дополнительного создания условий, то пресечение продолжаемого преступления на анализируемой стадии представляет собой неоконченное приготовление. Естественно, необходимость дополнительного создания условий как объективной категории определяется объективными обстоятельствами (характером общего создания условий, степенью завершенности подготовительных действий, характером готовящегося исполнения преступления и т. д.) и не может основываться на субъективных обстоятельствах (сознании виновного или лиц, пресекающих преступную деятельность).
Изучение второго варианта пресечения продолжаемого преступления показывает, что оно может быть неоконченным (при наличии или отсутствии первоначального общего создания условий и обязательном наличии создания условий предполагаемых последующих актов поведения — су2, су3 и т. д.) либо оконченным (при наличии первоначального общего создания условий и отсутствия создания условий в предполагаемых последующих актах поведения) приготовлением.
В третьем случае возникает любопытная ситуация: преступление пресекается при создании условий исполнения второго акта продолжаемого преступления, но уже исполнен первый акт (вспомним схему стадий совершения продолжаемого преступления — СУ — су1 + д1 и т. д.). И поскольку продолжаемое преступление частично было исполнено, прерывание деятельности после первого акта на любом этапе развития последующих актов нельзя считать приготовлением. Данное правило характерно для тех случаев, когда пресекается деятельность самого исполнителя. Распространяется ли оно на пресеченную деятельность иных соучастников? Например, условия исполнения второго акта создает не исполнитель, а другой соучастник, примкнувший к исполнителю после завершения первого акта, и данное поведение пресечено на стадии создания условий. Хотя деяние соучастника закономерно «вплетено» в канву продолжаемого преступления, нам необходимо рассмотреть его отдельно для надлежащей квалификации. Соучастнику мы не можем вменить предыдущую деятельность исполнителя, он должен отвечать только за свои действия — создание условий, которые являются приготовлением. Но приготовление к чему? Ведь мы анализируем продолжаемое преступление, в котором создание условий (частичное) достижения конечного результата свойственно продолжаемому преступлению. Следовательно, мы можем вменить соучастнику приготовление к исполнению второго акта или приготовление к достижению конечного результата. Отсюда различная квалификация содеянного, поскольку результат второго акта, и результат конечный — вещи несоразмерные. Правильный выбор объема вменения зависит от психического отношения соучастника: если он осознавал второй акт как объективно самостоятельное преступление, не понимает взаимосвязи этого акта с другими действиями, то пресеченная деятельность — приготовление к исполнению преступления, исходящего из фабулы второго акта — самостоятельной диспозиции нормы; если у него имеется осознание продолжаемости преступления, понимание недостижимости его даже при окончании второго акта, то прерванное поведение — приготовление к достижению конечного результата.
Исследуя пресеченную деятельность в продолжаемом преступлении, нужно уяснить для себя важное обстоятельство: прерывание преступления на каком–либо отдельном акте его (первом, втором или третьем и т. д.) не всегда влечет за собой пресечение всего продолжаемого преступления (несостоявшееся хищение одной детали вовсе не исключает хищения других деталей). Здесь многое зависит от причин пресечения: когда имеет место стихийное прерывание отдельного акта, то, как правило, причина прерывания деятельности связана лишь с этим актом и не распространяется на акты другие, хотя исключить распространение стихийно возникших причин на иные акты полностью нельзя. Поэтому в данном варианте возможна квалификация содеянного в качестве приготовления и к отдельному акту, и к конечному результату, т. е. стихийная причина напрямую не диктует квалификацию. Несколько иначе, похоже, складывается ситуация при сознательном пресечении преступления, которое порождает два варианта: лицо, пресекающее преступление на уровне отдельного акта, осознает его как самостоятельное, не связанное с другими преступление; лицо понимает, что имеющийся акт есть часть преступления. На первый взгляд дифференциация указанных ситуаций не имеет уголовно–правового значения. На самом деле — имеет. Осознавая отдельный акт в качестве самостоятельного преступления, лицо, прерывающее преступную деятельность, осуществляет лишь мероприятия, которые объективно необходимы для пресечения данного конкретного акта. Но они, как правило, оказываются недостаточными для предотвращения продолжаемого преступления в целом. И тогда причина вызывает к жизни прерывание только отдельного преступного акта, которое нужно признавать приготовлением к отдельному преступному акту, что не исключает дальнейшего развития продолжаемого преступления. Во втором варианте лицо действует таким образом, чтобы прекратить развитие не только отдельного преступного акта, но и в целом продолжаемого преступления. Осуществленное на их основе пресечение объективно перерастает рамки отдельного акта, приводит к прерыванию продолжаемого преступления вообще, и его необходимо считать приготовлением в отношении конечного результата. Таким образом, в данных ситуациях для нас главным является не сам субъективный момент восприятия характера совершаемого, а то объективное качество (сущность мероприятий), которое исходит из него и создает пресечение соответствующего характера. Здесь причина уже напрямую диктует квалификацию преступления. Очень похоже, что влияние причин на квалификацию пресеченной деятельности более значимо, нежели традиционно представляемое (причины прерывания значения не имеют). По крайней мере, мы уже выделили три уровня значимости: для дифференциации пресеченной и прекращенной деятельности; в связи с установлением истинного уровня криминальности общества; для определения характера пресечения в продолжаемом преступлении.
Указанным выше соучастием в продолжаемом преступлении не исчерпывается проблема соотношения приготовления и соучастия. В теории много внимания уделяется квалификации так называемого неудавшегося соучастия, сущность которого рассмотрена во всех монографиях по соучастию достаточно глубоко[390]. И тем не менее правовая оценка его остается весьма спорной. Одни ученые считают, что неудавшееся соучастие представляет собой покушение на соучастие (покушение на организацию преступления, покушение на подстрекательство к преступлению, покушение на пособничество в преступлении[391]), с чем трудно согласиться. Ведь один из сторонников анализируемой точки зрения признает, что «такие действия всегда дальше от конечного результата законченного преступления, чем даже приготовительные действия исполнителя»[392], т. е., как максимум, все они являются созданием условий (нельзя смешивать создание условий с причинами и условиями, точнее, с последними; создание условий может находиться с исполнением преступления либо в причинной, либо в обусловливающе–опосредованной связи, следовательно, быть либо причиной, либо условием), а не исполнением преступления. И тогда возникает резонный вопрос: почему пресеченная на стадии создания условий деятельность становится покушением? Только потому, что организатор, подстрекатель, пособник «перешли к выполнению объективной стороны своего преступления»[393]? Но в таком случае любое создание условий можно признать выполнением объективной стороны создания условий и, соответственно, любую пресеченную преступную деятельность на этой стадии рассматривать в качестве покушения, исключив таким образом приготовление как уголовно–правовую категорию. Очевидная неприемлемость подобного, закрепление в законе и в теории разновидностей пресеченной деятельности — приготовления и покушения, дальнейшее углубление представления о криминальной значимости приготовления — все свидетельствует о том, что термин «приготовление» «вписался» в доктрину уголовного права и отказываться от него нет никакой необходимости, и об уязвимости анализируемой позиции. Думается, не нуждается в расширительном толковании тот факт, что ни организатор, ни подстрекатель, ни пособник никогда не признавались и не будут признаваться исполнителями, а соответствующая деятельность — исполнением, либо признаются таковыми лишь по недоразумению. Не случайно норма о соучастии направлена в основе своей на регламентацию в Общей части и на жесткое разграничение указанных разновидностей соучастников с тем, чтобы не происходило их смешение. Именно поэтому и пресеченная таковая деятельность не должна признаваться покушением, в противном случае виды неоконченной преступной деятельности перемешаются и мы в принципе не сможем в них разобраться. Сторонники указанного взгляда на неудавшееся соучастие пытаются опереться на то, что иное мнение с необходимостью приведет к акцессорной природе соучастия[394]. А разве признание неудавшегося соучастия покушением не ведет туда же? Разве покушение на подстрекательство, например, может при квалификации обойтись без того преступления, которое мог совершить исполнитель? Конечно, нет. Поэтому вменение покушения в данной ситуации вовсе не снимает проблемы акцессорности соучастия.
Сторонники критикуемой позиции обосновывают свою точку зрения тем, что «при приготовлении к преступлению и покушении на него субъект должен обладать всеми качествами, которые необходимы субъекту оконченного преступления»[395]. Действительно, с позиций общих признаков субъекта так оно и есть: и при приготовлении, и в оконченном преступлении выступают лица определенного законом возраста и вменяемые; и при приготовлении, и в оконченном преступлении могут выступать индивидуальные исполнители и иные соучастники. Тем не менее изложенное положение не аргументирует то, что неудавшееся соучастие не может быть приготовлением.
Острие дискуссии — преступления со специальным субъектом: «Исполнителем преступления со специальным субъектом не может быть лицо, не обладающее качествами, которыми закон наделил этого специального субъекта. Следовательно, при неудавшихся подстрекательстве и пособничестве в подобных случаях соучастники не могут отвечать за приготовление к преступлению»[396]. «Обратное привело бы, на наш взгляд, к неприемлемым выводам: пришлось бы признать, что невоеннослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности за приготовление к дезертирству, иностранец или лицо без гражданства — за приготовление к измене Родине, недолжностное лицо — за приготовление к взятке, не работник прилавка — за приготовление к обмериванию, обвешиванию покупателей и т. д.»[397].
Все приведенные позиции зыбки, неопределенны, противоречивы и бездоказательны. Разве то, что исполнитель не есть неспециальный субъект, доказывает отсутствие приготовления при неудавшемся подстрекательстве и пособничестве? Многие скажут, что критикуемое положение выдернуто из контекста работы. Это действительно так, и тем не менее к следствию примыкает абсолютно ненадлежащий аргумент. А кем доказано, что невоеннослужащий не может создавать условия для дезертирства военнослужащего и, соответственно, при пресечении — отвечать за приготовление? Попытаемся разрешить изложенные проблемы, ответив на простейшие вопросы: рассчитано ли оконченное преступление только на исполнителя и может ли быть соучастником в преступлениях со специальным субъектом лицо, таковым не являющееся; может ли создавать условия исполнения преступления иной соучастник, в том числе в преступлениях со специальным субъектом; возможно ли пресечение действий иных соучастников на стадии Издания условий, в том числе в преступлениях со специальным субъектом; как квалифицировать подобное?
Жизнь показывает, что на основе количества виновных все преступления подразделяются на совершаемые индивидуально или в соучастии. Указанные две формы совершения преступления традиционно выделяются законодательной и правоприменительной практикой, а также теорией. В обеих формах преступление развивается логично от возникновения замысла до преступного результата. Разумеется, существуют особенности преступного поведения в каждой из данных форм: в индивидуально совершаемом преступлении все преступное поведение — сфера деятельности одного лица; при соучастии преступная деятельность распределена между различными лицами. И тем не менее в обеих ситуациях существует оконченное преступление, которое рассчитано либо на индивидуально действующего исполнителя, либо на нескольких соучастников. Отсюда аксиоматичный вывод: оконченное преступление может быть рассчитано как на индивидуально действующее лицо, так и на соучастников. При этом соучастники могут выполнять различные функции, регламентируемые нормой о соучастии (соисполнителя, организатора, подстрекателя, пособника); здесь действия по совершению преступления (нельзя смешивать с исполнением преступления) распределяются между несколькими лицами, тогда как при индивидуальном исполнении они сфокусированы на одном лице.
Почти ничего не меняется в приведенных случаях и применительно преступлений со специальным субъектом; традиционно и практика, и теория исходят из того, что соучастие неспециальных субъектов в таких преступлениях вполне приемлемо. Единственное, чего не может быть, это соисполнения неспециальных субъектов, однако указанное нас и не беспокоит, поскольку мы анализируем приготовление, т. е. пресечение преступления на стадии создания условий, а не исполнения. Но если общепризнанно, что соучастие в преступлениях со специальным субъектом имеет место и в то же время оно невозможно в качестве соисполнения, значит, оно существует за рамками исполнения и представляет собой иную стадию совершения преступления. Какую же?
Итак, мы определили: соучастие (кроме исполнения) выходит за пределы исполнения и существует на каких–то иных этапах совершения преступления; очевидно и то, что на стадиях возникновения и обнаружения замысла соучастия пока тоже нет. Остается только признать иных соучастников деятелями по созданию условий. И подобный вывод аксиоматичен по своему характеру. Действительно, едва ли нужно доказывать, что в преступлениях, совершаемых в соучастии, деятельность по созданию условий осуществляют иные соучастники (подстрекатели создают исполнителя, пособники — средства исполнения и т. д.) помимо или наряду с исполнителем.
На стадии создания условий и преступления со специальным субъектом утрачивают свою специфику, которая распространяется лишь на исполнение, т. е. неспециальный субъект может выступать в качестве организатора, подстрекателя, пособника исполнения преступления со специальным субъектом, в противном случае соучастие в анализируемых преступлениях невозможно было бы вообще. Следовательно, субъект создания условий по объему значительно шире субъекта исполнения, потому что может включать в себя, кроме исполнителя, когда создает условия сам исполнитель, еще и других соучастников. Отсюда вполне приемлемо соучастие (организация, подстрекательство, пособничество) невоеннослужащего в дезертирстве военнослужащего, иностранца или лица без гражданства в измене государству, недолжностного лица в получении взятки и т. д.
Развивающееся на стадии создания условий соучастие может быть пресечено теми или иными случайностями. При этом возникают две разновидности прерванного соучастия: годное и негодное (неудавшееся) соучастие. Годное по своим качествам полностью соответствует предназначению, и если бы преступная деятельность не была пресечена, мы бы имели соучастие в оконченном преступлении. Негодное в силу тех или иных причин не устраивает исполнителя (организаторская деятельность или подстрекательство по своим качествам не способна создать исполнителя; орудия или средства совершения преступления, подготовленные пособником, почему–то не устраивают исполнителя и т. д.). Ничего в данной ситуации не меняется и в преступлениях со специальным субъектом, особенности которого еще отсутствуют на стадии создания условий, т. е. может быть прервана и деятельность недолжностного лица, создающего условия для получения взятки, и деятельность невоеннослужащего, создающего условия для дезертирства и т. д.
Остается последний, наиболее сложный вопрос о квалификации указанного пресеченного преступления. На наш взгляд, наиболее оправданна позиция тех авторов, которые считают, что неудавшееся соучастие — это приготовление[398]. Во–первых, здесь действительно нет соучастия, поскольку соучастие как таковое не состоялось; была попытка организовать других лиц на исполнение преступления, подстрекать иных лиц к исполнению преступления, помочь им исполнить преступление, которое на уровень исполнения преступления так и не вышло помимо воли лица, возлагавшего определенные надежды на исполнителя. Именно поэтому при квалификации нельзя применять напрямую норму о соучастии, необходимо искать другие пути оценки содеянного. Во–вторых, в неудавшемся соучастии отсутствует исполнение преступления; само поведение псевдосоучастников выполнением объективной стороны преступления не является, поскольку оно лишь неудачно создает условия исполнения преступления[399]. В-третьих, соучастие не удалось потому, что было пресечено, а прерванная деятельность на стадии создания условий всегда приготовление.
При этом необходимо уточнить, одинаково ли приготовление в годном и негодном соучастии. Очень похоже на то, что здесь имеются две разновидности приготовления. Поскольку в первом случае соучастие вполне пригодно для исполнения преступления, но не развивалось далее только из–за пресечения преступного поведения, мы сталкиваемся с приготовлением к исполнению преступления, т. е. с обычным, простым приготовлением, которое квалифицируем по норме, регламентирующей приготовление, и по соответствующей статье Особенной части. В анализируемой ситуации сущность создания условий, его направленность не изменяются в зависимости от того, кто осуществляет такую подготовку (исполнитель или иной соучастник). Возьмем условный пример. Для выполнения кражи изготавливают отмычку. В одном варианте действия совершает сам исполнитель кражи, а в другом — пособник. После изготовления отмычки преступление пресечено. Направленность указанного действия остается одной и той же — помочь, облегчить исполнение преступления. Именно поэтому и пресеченная деятельность должна квалифицироваться как приготовление к исполнению. Несколько иначе смотрятся случаи пресечения негодного соучастия. Прежде всего, они рассчитаны только на иных соучастников, по крайней мере, применительно к стадии создания условий. Кроме того, само создание условий оказывается неспособным вызвать исполнение или помочь ему по своим характеристикам. По существу, мы сталкиваемся здесь с неоконченным созданием условий, соответственно, с неоконченным приготовлением. Поэтому при негодном соучастии действия виновных должны рассматриваться как приготовление к соучастию и квалифицироваться по статьям, регламентирующим приготовление и соучастие, и по статье Особенной части (например, приготовление к пособничеству в убийстве). Ничего не меняется при этом и относительно преступлений со специальным субъектом: действия одних соучастников должны квалифицироваться как приготовление к исполнению (приготовление недолжностного лица к получению взятки должностным лицом, приготовление невоеннослужащего к дезертирству военнослужащего и т. д.); действия других — как приготовление к соучастию в исполнении (приготовление недолжностного лица к подстрекательству должностного лица, направленному на получение последним взятки). И ничего абсурдного, неприемлемого здесь нет, поскольку общепризнанно соучастие неспециального субъекта в преступлениях со специальным субъектом.
Применительно к приготовлению зарубежные законодательные системы можно разделить на те, в которых приготовление в качестве криминально значимого явления не отражено, и те из них, которые регламентируют его. К первым можно отнести УК ФРГ, УК Дании, УК Швейцарии, УК Испании, УК Австрии, УК Японии и другие. При этом важно выяснить, действительно ли указанные уголовные законы не считают приготовление криминально значимым явлением. Для этого проанализируем некоторые из них по трем направлениям: а) не содержится ли в норме о покушении какого–либо указания и на приготовление, т. е. не включает ли закон в покушение то, что должно быть признано приготовлением; б) не отражено ли приготовление в скрытом виде в нормах Особенной части; в) не отражено ли приготовление в Особенной части с прямым указанием на него. Посмотрим в этом плане на УК Австрии. Данный законодательный акт относит к покушению и действия по склонению другого лица к исполнению преступления (ч. 2 § 15), но всем должно быть понятно, что действия по склонению исполнителя осуществляются на стадии создания условия и по существу при прерывании должны быть отнесены не к покушению, а к приготовлению, т. е. в данном случае УК Австрии выделяет и приготовление, скрывая его за покушением. В Особенной части УК мы находим несколько статей, которые в скрытом виде регламентируют пресеченное создание условия в самостоятельных нормах (например, § 95 — неоказание помощи, 122 — нарушение коммерческой или производственной тайны, 123 — выведывание коммерческой или производственной тайны, 223 — подделка документа, 232 — подделка денег и многие другие). Из этого следует, что закон вводит приготовление в Особенную часть в скрытом виде, в виде самостоятельных ее норм. Мало того, в некоторых нормах Особенной части приготовление выделено как таковое в виде самостоятельного преступления. Так, в § 227 УК Австрии признано самостоятельным преступлением приготовление к подделке документов, в § 239 — приготовление к подделке денег. Данные нормы особенно показательны, поскольку законодатель создал норму о приготовлении применительно к другим приготовлениям, т. е. приготовление к приготовлению тоже признано криминально значимым. Таким образом, говоря об УК Австрии, необходимо отметить, что отсутствие в Общей части указания на криминальную значимость приготовления вовсе не исключает таковой, и следует признать, что по УК Австрии приготовление также наказуемо, но без установления четких и ясных границ его криминальной значимости.
Посмотрим с указанных позиций на УК Японии. При определении покушения закон говорит лишь о том, что лицо приступило к совершению (ст. 43); готовы согласиться с тем, что здесь речь идет только об исполнении преступления и покушение не охватывает собой приготовления. В результате в Общей части анализируемая категория не отражена и создается иллюзия того, что приготовление по УК Японии криминально незначимо. Однако это не соответствует действительности. Во–первых, в Особенной части довольно много статей, отражающих неоконченное создание условий как самостоятельное преступление, обычно это связано с подделкой денег, ценных бумаг, документов, печатей (ст. 148, 155, 156, 159, 162, 164. 165, 166, 182 и др. УК), т. е. приготовление признано самостоятельным преступлением. Во–вторых, в Особенной части имеются нормы, прямо указывающие на наказуемость приготовления: ст. 78 УК регламентирует приготовление к совершению внутреннего восстания; ст. 88 УК — приготовление в целях вызывания внешних осложнений; ст. 93 УК — приготовление с целью ведения частной войны; ст. 153 УК — приготовление к подделыванию денег. В последнем варианте мы также видим криминальную значимость приготовления к приготовлению.
В УК Швейцарии приготовление не отражено в Общей части, не скрыто за покушением; похоже, не отражено как таковое в самостоятельных нормах Особенной части, но обильно распространено в скрытом виде в качестве самостоятельных норм права (ст. 135 — изображение насилия, 143 — незаконное приобретение данных, 240 — подделка денег, 241 — фальсификация денег, 245 — подделка служебных знаков оплаты и многие другие УК), т. е. ив УК Швейцарии приготовление признано криминально значимым. Передо мной находятся также уголовные кодексы ФРГ, Испании, Дании, в которых вроде бы не предусмотрено приготовление как криминально значимая категория, однако и в них складывается та же самая ситуация, что и в исследованных уголовных законах. Исходя из сказанного, необходимо отметить, что скорее всего не существует уголовных кодексов, которые бы в открытой или скрытой форме не отражали приготовления как криминально значимого явления.
Ко вторым можно отнести УК Китайской Народной Республики (ст. 22), УК Голландии (ст. 46), УК Республики Казахстан (ст. 24), УК Швеции (ст. 2 главы 23), УК Республики Польша (ст. 16), УК Республики Болгария (ст. 17), УК Эстонской республики (ч. 1 ст. 15), УК Республики Беларусь (ст. 13), УЗ Латвийской республики (ч. 3 ст. 15 УК), УК Азербайджанской республики (ст. 28), УК Республики Таджикистан (ч. 1 ст. 32) и другие.
Однако даже указывая на приготовление, законы неоднозначно относятся к оформлению его, поскольку в некоторых из них приготовление лишь указано в качестве института уголовного права без его определения, в других же дается его определение. К первым можно отнести УК Голландии (ч. 1 ст. 46). На сегодня основная масса из переведенных кодексов (правда, абсолютное большинство их — бывших стран социалистической ориентации) все–таки определяет приготовление.
Но и определения приготовления дают в законах по–разному: в некоторых из них указаны лишь действия по созданию условий для исполнения преступления без отражения неокончейности, незавершенности, недоведения до конца преступления. Например, в УК Швеции сказано: «Лицо, которое с намерением совершения или содействия преступлению, предоставляет или получает деньги или что–либо еще в качестве предварительной оплаты или оплаты за преступление, или которое обеспечивает, создает, дает, получает, хранит, передает или участвует в любой другой подобной деятельности при помощи яда, взрывчатого вещества, оружия, отмычки, орудия фальсификации или другими такими средствами, должно быть, в случаях, когда существуют специальные положения для цели, приговорено за приготовление к преступлению, если только оно не виновно в совершении оконченного преступления или покушения» (ч. 1 ст. 2 главы 23). Правда, с определенной натяжкой можно сказать, что здесь приготовление отнесено к неоконченному преступлению, поскольку оно не есть оконченное преступление, и это закон прямо оговаривает, но тем не менее в законе ничего не сказано об обязательной незавершенности преступления при приготовлении. Необходимо отметить, что УК Швеции дает развернутый, хотя и не закрытый, перечень способов создания условия исполнения преступления, к которым относит различное поведение индивидуально или в соучастии действующих лиц.
В УК Республики Польша уже даны и общее определение приготовления, и способы приготовления: «Приготовление имеет место только тогда, когда лицо с целью совершения запрещенного деяния предпринимает деятельность по созданию условий для совершения деяния, непосредственно направленного на его исполнение, в особенности, если с той же целью вступает в сговор с другим лицом, приобретает или подготавливает средства, собирает информацию или составляет план действий». Мы видим,, что законодатель: а) сначала дает общее определение приготовления как деятельности по созданию условий для исполнения преступления, а затем указывает конкретные способы такого создания условий; б) отражает только стадию создания условий без указания на незавершенность преступления; в) многословно определяет ее, тогда как под таковой понимается создание условий для исполнения преступления; г) прямо указывает на исполнение преступления, а не на его совершение, что является абсолютно верным; д) создает закрытый перечень способов создания условий, что не может не противоречить реальности.
Другие кодексы указывают только на способы создания условий в том или ином объеме как определяющие признаки приготовления (УК Украины, УК Республики Беларусь, УК Республики Болгария и другие). Самое краткое определение приготовления содержит УК Китайской Народной Республики: «Приготовлением к преступлению признается приискание орудий, создание условий для совершения преступлений»; думается, точнее поступают те УК, которые дают более развернутый перечень способов создания условий, что в определенной степени уменьшает судебное усмотрение, оказывающееся весьма негативным, особенно в условиях ограничения применения приготовления как преступления.
И последнее. Все зарубежные уголовные кодексы относительно оформления приготовления можно разделить на четыре группы: а) не отражающие неоконченность преступления и оформляющие приготовление как стадию создания условия; к ним можно отнести УК Республики Беларусь, УК Республики Болгария, УК Эстонской республики, УК Китайской Народной республики, УК Республики Польша, УК Голландии (например, ст. 15 УК Эстонской республики названа «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», соответственно в ч. 1 ее «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудия для совершения преступления, а также иное умышленное создание условий для этого»); б) не отражающие неоконченность преступления, но тем не менее оформляющие приготовление как неоконченное преступление; к ним можно отнести УК Республики Казахстан, в ч. 1 ст. 24 которого сказано, что «приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли лица обстоятельствам; в) отражающие неоконченность преступления, но оформляющие приготовление как стадию создания условия; к ним можно отнести УК Украины, в ст. 13 которого выделено неоконченное преступление, к нему отнесено и приготовление (ч. 2 ст. 13), однако в ст. 14 «приготовлением к преступлению являются приискание либо приспособление средств или орудий, подыскание соучастников или сговор на совершение преступления, устранение препятствий, а также иное создание условий для совершения преступления»; г) отражающие неоконченность преступления и оформляющие приготовление как неоконченное преступление; к ним можно отнести УК Республики Узбекистан, УЗ Латвийской республики, УК Республики Таджикистан, УК Азербайджанской республики (например, в ч. 2 ст. 15 УЗ Латвийской республики неоконченным преступлением признано приготовление, и соответственно в ч. 3 ст. 15 «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание благоприятных условий для совершения умышленного преступления, если, к тому же, оно не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного»).
Таким образом, при возможной унификации зарубежного уголовного права оптимальным следует признать: 1) обязательное отражение приготовления в Общей части уголовного закона, поскольку все равно так или иначе оно находит свое отражение законодательных системах; 2) включение приготовления в разряд неоконченных преступлений; 3) соответствующая регламентация его в уголовном законе; 4) урегулирование в уголовном законе ограничения по криминальной значимости приготовления, лучше всего поставить подобное в зависимость от опасности (тяжести) преступления по примеру России, США (мы исходим из того, что хотя в некоторых кодексах США нет речи о приготовлении, тем не менее они выделяют соответствующее поведение по созданию условий и признают их преступлениями той или иной группы) и других стран.
2.3. Покушение
Законодательство России середины и второй половины XIX в. уже давало определение покушения. Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных признавало покушением «всякое действие, коим начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение» (ст. 9). Здесь мы видим, что законодатель обращает внимание лишь на характер поведения безотносительно его оконченности или незавершенности. Двойственную позицию по данному вопросу занял Н. С. Таганцев. Комментируя данное определение, он писал: «Покушение, как самый близкий к осуществлению преступной воли момент, присуще каждому преступному деянию (курсив наш. — А. К.), и так как преступление может быть признано совершившимся лишь тогда, когда цель злого умысла вполне достигается, то отрицать возможность покушения при каком бы то ни было преступном действии значит отрицать возможность его неудачи, т. е. доходить до явно несостоятельного заключения»[400]. Автор приводит целиком решение сената по конкретным делам, которое совсем недавно он же подвергал критике: «Но такой вывод, на первый взгляд могущий показаться убедительным, скрывает в себе ложный силлогизм, который в своих посылках заключает две весьма существенных неверности, и потому, естественно, приводит к неправильному заключению»[401]. Возникает странная ситуация: автор предлагает в комментарии решение, которое по его же мнению является неверным. Остается не очень понятным и то, что имели в виду сенат и автор, говоря о присущности покушения каждому преступному деянию. Если мы посмотрим на выделенную фразу с позиций связки ее с предыдущим положением («самый близкий к осуществлению преступной воли момент»), то становится ясным, что автор писал о том, что покушение имеет место в любом преступлении вне зависимости от его завершенности или незавершенности, что полностью соответствовало и законодательной формулировке. Прежде всего, такой вывод противоречит им же высказанной ранее позиции: «Признавая покушением начало и продолжение осуществления преступного намерения в деятельности виновного, мы тем самым указываем на существование таких преступлений, которые, по их юридической природе, не допускают покушения (курсив наш. — А. К.)»[402], из чего следует, что не всякое преступление может обладать признаками покушения. Вместе с тем мы видим, что Н. С. Таганцев понимал социальную и правовую сущность покушения, поскольку далее писал: «Уложение признает те главные основания уголовного права, по которым покушение, в отличие от приготовления, должно заключать в себе начало исролнения преднамеренного зла, а с другой стороны, находит, что покушением, в отличие от совершившегося преступления, могут быть признаваемы только такие деяния подсудимого, на которых он был остановлен (курсив наш. — А. К.) собственною волею или независевшими от него обстоятельствами, прежде чем преступный умысел его был приведен в исполнение»[403]. Из этого следует, что покушением (правда, вмешивая в него и добровольный отказ) он признавал только неоконченное преступление. При этом он делает неуклюжий комплимент законодателю, который, якобы, признает и подобное, хотя на самом деле законодатель и словом не обмолвился о прерывании преступления при покушении.
Уголовное Уложение 1903 г. определяло покушение как «действие, коим начинается приведение в исполнение преступного деяния, учинение коего желал виновный» (ст. 49). Мы видим, что несмотря на очевидное представление о покушении как незавершенном преступлении, высказанном в теории уголовного права, законодатель по–прежнему определяет его только с позиций преступного деяния и ничего не говорит о прерванности его, хотя еще в XIX в. существовали законодательства иных государств, напрямую связывающие покушение с неоконченностью преступления. Так, датское Уложение 1866 г. покушением признавало действие, направленное на выполнение преступного деяния или содействующее его выполнению, но не приведшее к его реализации (§ 45); то же самое было отражено и в австрийском Уложении 1852 г.: «Покушение на злодеяние представляет собою преступление, коль скоро злоумышленник предпринял деяние, ведущее к подлинному совершению преступления и последнее не завершилось только вследствие недостаточности деяния, вследствие возникновения постороннего препятствия или вследствие случайности»[404]. Отметим, что для австрийского права подобное решение является естественным, поскольку уже в Терезиане (1769 г.) покушение было определено таким же образом: «Попытка или покушение на преступление имеется в тех случаях, когда кто–либо приступает к его совершению путем каких–либо действий или выявленных вовне намерений, но, вследствие собственного раскаяния или бессилия или созданных ему другими лицами препятствий, или случая, не доводит его до конца» (гл. 13 § 2). Подобное аксиоматичное решение вопроса о покушении по непонятным причинам не воспроизводит законодатель России даже в XIX — начале XX вв. Хотя в теории уголовного права России к началу XX в. уже, похоже, окончательно созрело отношение к покушению как неоконченному, незавершенному преступлению. Так, Н. Д. Сергеевский признавал покушением деятельность, направленную к осуществлению преступного намерения, но не приведшую к осуществлению результата[405]. Это же следует и из других работ начала XX в.[406]
В советском уголовном праве покушение определяли не всегда одинаково. Так, по Руководящим началам по уголовному праву РСФСР 1919 г. покушением на преступление признавали «действие, направленное на совершение преступления, когда совершивший выполнил все, что считал необходимым для приведения своего умысла в исполнение, но преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим» (ст. 18). Недостатками данного определения является следующее: 1) при покушении действия не направлены на совершение преступления, а сами по себе уже являются преступными, потому проще и правильнее было бы сказать в законе о действиях по исполнению преступления, тем более, что сам закон термин «исполнение» применяет; 2) закон необоснованно сужает границы покушения, когда ограничивается тем, что «совершивший выполнил все, что считал необходимым для приведения своего умысла в исполнение», в результате он признал криминально значимым только оконченное покушение; 3) едва ли оправданно ограничивать покушение лишь субъективным моментом и определять объем необходимых действий для наступления результата тем, что считает виновный. В остальном определение полностью отражает суть покушения как неоконченного преступления.
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. «покушением на преступление считается действие, направленное на совершение преступления, когда совершающий таковое не выполнил всего того, что было необходимо для приведения его намерения в исполнение, или когда, несмотря на выполнение им всего, что он считал необходимым, преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим» (ст. 13). Здесь мы видим, что суть покушения как неоконченного преступления законодатель также отражает и допускает ту же самую ошибку направленности действий на совершение преступления. Допускает законодатель здесь, на наш взгляд, и новые ошибки. Так, а) напрасно законодатель ввел в УК термин «намерение» вместо общепризнанного оформления субъективного отношения в виде вины (умысла, если он хотел обособить покушение умышленной виной); б) пытаясь ввести в определение и неоконченное и оконченное покушения, законодатель применил к первому объективное основание выделения (совершающий не выполнил всего того, что было необходимо…), тогда как в отношении второго — субъективное основание (выполнил все, что считал необходимым), что является грубым нарушением формально–логических правил классификации; в) не было никакой необходимости вводить в закон неоконченное и оконченное покушение.
Согласно Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. «если начатое преступление не было доведено до конца, т. е. если преступный результат по каким–либо причинам не наступил…» (ст. 11). Любопытно в данной норме все. Казалось бы Гражданская война окончилась, наступили дни более спокойные, менее политизированные (основной «враг» разгромлен), тем не менее закон не разделяет приготовления и покушения, что он делал раньше; не разделяет пресеченной и прекращенной деятельности, объявляя их одинаково преступными («результат по каким–либо причинам не наступил»); ничего не говорит о вине. Налицо явное ухудшение законодательной техники и закона.
Любопытно еще и то, что в 1926 г. принимается новый Уголовный кодекс РСФСР, в котором уже выделены покушение и приготовление как неоконченные преступления, правда, покушение не определено в законе, а лишь указано как таковое; выделен добровольный отказ (ст. 19), т. е. законодатель постепенно, неохотно, но возвращается на круги своя.
По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. покушением признавалось «умышленное действие, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного» (ч. 2 ст. 15). В целом такое определение покушения с позиций теории уголовного права является традиционным, из чего следует, что покушение — категория исторически сложившаяся, социально обоснованная и теоретически достаточно разработанная. Именно поэтому основные положения (наличие исполнения преступления, прерывание его по причинам, не зависящим от воли виновного), характеризующие ее, не подвергаются существенной критике и требуют иногда лишь терминологического уточнения.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. вводит несколько иную формулировку покушения: «Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» (ч. 3 ст. 30 УК). Отличия нового определения от ранее существовавшего заключены в следующем: 1) в него наряду с действием введено бездействие; 2) новый УК вместо термина «причины» использует термин «обстоятельства»; 3) в новом УК объективированы причины прерывания преступления (если в УК РСФСР речь шла о причинах, лежащих помимо воли, то в действующем УК — об обстоятельствах, указание на волю исключено); 4) УК РФ заменяет термин «виновный» на термин «лицо». Попробуем разобраться в обоснованности указанных новелл.
В этой связи можно вполне согласиться с введением в понятие покушения наряду с действием еще и бездействия. И не только потому, что бездействие так же, как и действие, может быть прервано в своем развитии. Это достаточно очевидно, коль скоро причинение вреда при бездействии зависит не от самого бездействующего, а от иных сил, между бездействием и наступлением вреда имеется, как правило, временной интервал, который позволяет внедриться иным силам в развитие явления и пресечь преступное бездействие. Однако проблема здесь в другом: бездействие, как правило, — фактор, создающий условия исполнения преступления; следовательно, при его пресечении почти всегда имеется приготовление. Тем не менее нельзя забывать об исключениях из данного правила, когда бездействие причинно связано с последствием и представляет собой исполнение преступления. И хотя подобное — исключение из правила, все же игнорировать его не следует.
В этом плане оправданно поступали и авторы Проекта УК России, говоря о «действии или бездействии» и констатируя тем самым, что и бездействие может составлять исполнение преступления. Обоснованно, на наш взгляд, внесено бездействие и в нынешний УК. Но и указанное дополнение не свободно от недостатков, поскольку оно не охватывает полностью той части стадии исполнения преступления, при пресечении которой возникает покушение. Ведь пресечение возможно (покушение возникает) и при частичном совершении деяния–исполнения, и при полном его совершении, и при частичном достижении результата. А последний вариант пресечения законодатель не отражает. Указанная неполнота охвата делает анализируемую фразу весьма уязвимой терминологически. Уязвимо «действие или бездействие» еще и потому, что оно само по себе не обособляет покушение, не определяет его границ с приготовлением, поскольку и последнему свойственны и действие, и бездействие. Соответственно, требуется какое–то дополнение, которое устанавливало бы сущность деяния при покушении.
Такое выражение введено в закон: «…непосредственно направленное на совершение преступления», но оно представляется абсолютно неприемлемым. Во–первых, коль скоро речь идет о действии — исполнении преступления, то оно не может быть направлено на совершение преступления, поскольку само является этапом совершения преступления, т. е. совершением преступления[407]. Во–вторых, законодательный подход в изложенной части противоречит в целом общей теории стадий совершения преступления, так как ограничивает совершение преступления лишь преступным результатом, хотя согласно теории стадии совершения преступления начинаются с возникновения замысла. В-третьих, понятие «непосредственно» в целом соответствует сущности покушения, поскольку требует определения причинной связи, однако оно несколько сложно в толковании. Отсюда видно, что анализируемое выражение, призванное, по мнению законодателя, упростить понимание покушения, лишь усложняет его. Отсюда и существующие попытки изменить законодательное определение покушения, предпринимаемые в теории уголовного права.
В теории уголовного права имеются и иные предложения по усовершенствованию определения покушения, установленного в законе. Так, в последнее время возникли предложения по исключению из законодательного определения покушения термина «действие», замене его фразой «начало совершения преступления»[408]. Однако сама Н. Ф. Кузнецова понимает двусмысленность предложенной фразы и вынуждена уточнять, что «такая дефиниция не означает, что лишь начало «исполнения объективных признаков» состава преступления образует покушение, а продолжение исполнения или завершение его вплоть до наступления результатов к покушению не относятся»[409]. Действительно, покушением признается пресеченная и в начале, и при продолжении, и по окончании действия, а иногда — и при частичном достижении результата деятельность. Так зачем же вводить в закон термин, заведомо неудачный, требующий существенного расширения толкования, которое не оставляет от предлагаемого термина практически ничего, по крайней мере, чрезвычайно мало? Вполне понятно и оправданно стремление Н. Ф. Кузнецовой ввести в определение покушения признак, разграничивающий покушение и приготовление, но желательно сделать это так, чтобы не оставлять места для неадекватного толкования. В Курсе уголовного права Н. Ф. Кузнецова этого вопроса уже не касается, что свидетельствует о возможном изменении ею своего мнения.
Как полагает М. П. Редин, «в этих определениях (по УК РСФСР 1960 и по УК РФ 1996 гг. — А. К.) содержится серьезная ошибка: ими не охвачены действия (бездействие), создавшие условия для совершения преступления и предшествовавшие действиям (бездействию), непосредственно направленным на совершение преступления (т. е. посягательство на объект преступления), а ведь для превращения возможности в действительность необходимы: а) соответствующие условия и б) действия (бездействие), превращающие возможность в действительность»[410]. Автор, на наш взгляд, очень точно охарактеризовал причинную связь как связь необходимо взаимодействующих условий и причины с результатом; данное взаимодействие условий и причины представляет собой нечто цельное, на наш взгляд, в определенной части — преступление. Однако автор, высказав правильную позицию, тут же оторвал создание условий от совершения преступления, т. е. разорвал вот это нечто цельное. Вообще надо признать, что М. П. Редин часто создает внутренние противоречия в своих работах. Так, в приведенной цитате он отождествляет посягательство на объект преступления с исполнением преступления (действиями, направленными на совершение преступления), именно это следует из контекста рассуждений автора и их соотнесением к покушению, хотя чуть выше он относит посягательство к приготовлению и считает, что оно существует до начала совершения преступления.
Однако смысл авторской критики связан вовсе не с этим, а с тем, что в определение покушения не введено создание условий, без которого причинение в принципе невозможно. С подобным необходимо согласиться еще и потому, что реально при покушении действию–исполнению предшествует действие–создание условий и в такой ситуации причинение представляет собой единство того и другого. Однако при этом необходимо учитывать следующее: 1) не всегда имеют место при покушении действия по созданию условий, иногда они отсутствуют; 2) в теории уголовного права и в судебной практике твердо установлено, что последующие действия по исполнению преступления охватывают своей опасностью и опасность предшествующих действий по созданию условий, что исключает по общему правилу отдельное рассмотрение создания условий и вменения его лицу, за исключением тех случаев, когда создание условий имеет самостоятельное криминальное значение (например, хранение или ношение оружия). Именно поэтому не следует вводить в определение покушения еще и создание условий в том или ином виде (например, в виде так любимого автором посягательства, находящегося за пределами деяния–исполнения). Именно поэтому не следует соглашаться с определением покушения, предложенным М. П. Рединым: «Покушением на преступление признается посягательство на объект преступления, сопряженное с умышленными действиями (бездействием) лица, непосредственно направленным на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли этого лица обстоятельствам»[411].
Можно ли как–то изменить ситуацию и попытаться ликвидировать указанные недостатки? Представляется, да. На наш взгляд, изложенную часть законодательной дефиниции следует определить так: «…исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно». Подобное позволяет достичь многого. Во–первых, исключить из понятия покушения термин «совершение преступления», носящий неопределенный характер, и иные критикуемые термины. Во–вторых, сразу отграничить покушение от приготовления путем указания на то, что здесь мы уже сталкиваемся с исполнением преступления, а не с созданием его условий. В-третьих, показать, что нейтральный термин «исполнение» охватывает возможность и действия, и бездействия. В-четвертых, термином «исполнение» более тесно «привязать» неоконченное преступление к соседнему по структуре уголовного закона и теории уголовного права соучастию через соисполнителя и с законодательным определением субъекта преступления, где следует выделить самостоятельную норму, регламентирующую деятельность исполнителя преступления. Необходимость подобного вызывается требованием определиться с наименованием индивидуально действующего лица; размежеванием его с понятием «субъект», что явно не одно и то же; неприемлемостью опосредованного исполнения в качестве соучастия, т. е. в таком случае более четкой станет системность уголовного права. В-пятых, показать этапы исполнения преступления, на которых возможно покушение, «от его начала до частичного наступления результата». В-шестых, потребует научной разработки понимание начала исполнения, которое не менее важно, чем окончание преступления, но тем не менее остается малоисследованным наукой уголовного права.
Не столь бесспорна вторая из указанных новелл — замена термина «причины» на термин «обстоятельства». На первый взгляд, ничего существенного в данном изменении не содержится; однако создается впечатление наличия большей точности, конкретности в употреблении термина «обстоятельства». Между тем первое впечатление обманчиво, и нам представляется более обоснованным все же термин «причины». Ведь сущность связанного с анализируемыми понятиями явления заключена в том, что какой–то иной фактор вмешался в обычное преступное развитие события и деформировал его, изменил направленность преступной деятельности. Разумеется, возникший новый фактор можно назвать и обстоятельством, но в таком случае мы получаем понятие, которое можно будет толковать неоднозначно, поскольку обстоятельство может выступать и в качестве причины нового явления, и в качестве его условия. Сущностное толкование пресечения преступной деятельности прямо нацеливает нас на то, что изменение развития преступной деятельности происходит под влиянием именно причин, а не условий: другие причины вторгаются в развитие первого уровня причинности, изменяют его направленность и создают новый причинный ряд. При этом обстоятельства–условия остаются как бы в стороне и, скорее всего, не приобретают криминального значения, по крайней мере, в качестве пресекающего фактора. Отсюда следует естественный вывод: более точным и верным было терминологическое оформление, существовавшее в УК РСФСР: именно причины имеют значение как пресекающий фактор, и к данному термину законодатель должен вернуться, чтобы избежать двойственного терминологического толкования, тем более что именно причины мы признаем исполнением преступления, а в данном случае сталкиваемся с новым преступлением, деформирующим первое, и его исполнением, в основании которого также должны лежать причины. Но при этом не следует забывать и об основах причинения, согласно которым не всегда, хотя и довольно часто, обязательным атрибутом причинения выступают необходимые условия: при их наличии следствие наступает, при их отсутствии следствие переходит из разряда действительного в разряд реального возможного. Именно поэтому довольно часто необходимые условия реально влияют на возникновение или непоявление следствия (преступного результата). Отсюда в определении покушения нужно отразить данное влияние — «по причинам и (или) условиям». На наш взгляд, это будет максимально точное отражение действительного положения вещей.
Едва ли приемлема и третья законодательная новелла — максимальная объективизация пресечения преступной деятельности. На наш взгляд, старая законодательная формулировка («…по причинам, не зависящим от воли виновного») содержала два важных момента: во–первых, указывала на объективные факторы, прерывающие преступное поведение и располагающиеся за пределами самого исполнителя преступления; во–вторых, отражала субъективный момент: готовность виновного идти до конца, сохраняющееся стремление его завершить преступление, чего не изменяет и вмешательство другой причины, т. е. в законе ясно и четко был прописан психологический портрет преступника при неоконченном преступлении вообще и покушении в частности. В новой формулировке («…по независящим от этого лица обстоятельствам») остается только объективное содержание, психологический портрет преступника исчез, о нем можно только догадываться. Полагаем в указанной части законодатель утратил свои позиции, что может привести к бесплодным и ненужным спорам в теории и на практике по поводу изложенного субъективного момента, что теория уголовного права уже проходила, ведь сколько было сломано копий в литературе конца XIX — начала XX в. по вопросу о том, объективных или субъективных теорий придерживаться при анализе покушения[412]. Именно поэтому мы не согласны с М. Селезневым, находящим новую формулировку закона в анализируемом плане более удачной, чем содержащуюся в УК РСФСР 1960 г.,[413] и, на наш взгляд, законодателю в анализируемом плане следует вернуться к формулировке УК РСФСР как более определенной и точной.
Последняя из предусмотренных новым уголовным законом новелл — замена термина «виновный» на термин «лицо» — похоже, обоснованно внесена в УК, поскольку снимает дискуссию о вине, виновности, виновном, их узком и широком понимании, рассмотрении их на той или иной стадии уголовного процесса и т. д.
Таким образом, законодательная фраза «если при этом преступление не было доведено до конца по причинам и (или) условиям, не зависящим от воли лица» абсолютно верна и отражает суть данной разновидности преступления. Но нам представляется, что вся она охватывается термином «пресеченное» поведение, отражающим в себе и неоконченность преступления, и противопоставленность привходящих обстоятельств воле исполнителя. Его мы и предлагаем ввести в закон вместо указанной длинной фразы: «Цркушением признается пресеченное исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно», разумеется, при условии, если теория уголовного права признает данное содержание пресечения. Если же этого не произойдет, хотя автор, опираясь на толкование в русском языке понятия «пресечение», не видит оснований для дискуссий, лучше сохранить в законе изложенную длинную фразу, чем вступать в данном случае в несущественный филологический диспут.
При толковании определения покушения вызывает сомнение и законодательное распространение покушения только на умышленные преступления. Действительно, и закон, и теория уголовного права, и судебная практика направлены на признание покушением только умышленной деятельности. Думается, едва ли с этим следует соглашаться, поскольку такой подход не позволяет решить некоторые проблемы, возникающие при формировании Особенной части УК, а также потому, что и неосторожные преступления могут быть пресечены. Согласно высказанному выше предположению о том, что законодатель в Особенной части формулирует нормы, в которых отражает неоконченную преступную деятельность на стадии исполнения преступления, была предпринята попытка вычленить такие виды преступления. И сразу же при их установлении возникли сложности определения самого факта исполнения преступления, т. е. нужно было ответить на вопрос, всегда ли выделенные в самостоятельные нормы неосторожные преступления сущностно представляют собой исполнение, а не создание условий для наступления вреда. В принципе в теории существует исследование преступлений с формальным и усеченным составами, однако ее применение на практике натолкнулось на определенные трудности. Например, разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), преступление с усеченным или формальным составом. Если исходить из прямого толкования закона, согласно которому «разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены», то данный вид преступления следует признать исполнением преступления, соответственно, преступлением с формальным составом. Но более глубокий его анализ не позволяет делать подобный вывод. Ибо разглашение государственной тайны само по себе не способно вызвать никакого вреда. Ведь необходимо, чтобы сведения, содержащие государственную тайну, путем одноразовой или неоднократной передачи попали в руки таких лиц, которые совершили бы действия, причиняющие вред государственным интересам, что, соответственно, влечет за собой признание разглашения сведений преступлением с усеченным составом. Отсюда анализируемое преступление лишь условно, в силу самостоятельного выделения нормы можно признать исполнением преступления, тогда как в сущности оно таковым не является, поскольку здесь закон закрепляет в качестве самостоятельной нормы пресеченную на стадии создания условий деятельность, т. е. приготовление, но не покушение. И если это так, то ч. 2 ст. 283 УК РФ, предусматривающая разглашение сведений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, сформулирована неверно: разглашение сведений само по себе не может чего–либо повлечь, причинить, поскольку лишь создает условия для причинения, связана обусловливающе–опосредованно с причинением вреда. Поэтому более оправданна была бы следующая формулировка ч. 2 ст. 283 УК: «…если оно связано с причинением тяжких последствий» (не само причиняет, а только связано с причинением).
Анализируемый вид преступления может быть совершен и по неосторожности, на это указывают многие авторы[414]. Подобное рассмотрение неосторожных деликтов привело к тому, что в кодексе не оказалось неосторожных преступлений, выделенных в качестве самостоятельных норм в чистом виде на основе пресеченной на стадии исполнения неосторожной деятельности. По крайней мере, нам их не удалось обнаружить. Значит, проблема законодательной регламентации в Особенной части покушения в неосторожных преступлениях решается в двух вариантах: либо она скрыта в нормах, определяющих приготовление в неосторожных преступлениях, либо законодатель не регламентирует их вовсе. Последнее представлялось, очевидно, неоправданным, так как законодатель явно не должен был, формируя в качестве самостоятельных норм приготовление в неосторожных преступлениях, избегать регламентации более опасных по сути пресеченных на стадии исполнения неосторожных преступлений, т. е. покушений.
Именно поэтому необходимо было разобраться в первом варианте. Анализ пресеченных неосторожных преступлений как самостоятельных норм уголовного закона (в основном это нарушения тех или иных правил, которые могли причинить какой–либо вред) дал возможность сделать вывод, что они неоднозначны по своей сути. Одни из них непосредственно, причинно связаны с возможным результатом, например, гибель пассажирского транспорта «Адмирал Нахимов» в результате столкновения его с теплоходом «Петр Васеев», повлекшая большое число жертв. К уголовной ответственности были привлечены капитаны обоих судов Ткаченко и Марков, допустившие «грубейшие нарушения ряда правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что явилось непосредственной причиной (курсив наш. — А. К.) кораблекрушения»[415]. В данном случае наступил преступный результат и нет пресеченной преступной деятельности. Но можно предположить, что в результате действия каких–то сил преступление было бы пресечено; и тогда имели бы нарушение правил безопасности движения транспорта, пресеченное на стадии исполнения преступления, поскольку данное нарушение правил — единственно необходимое поведение для наступления преступного результата, т. е. покушение в неосторожном преступлении, признаваемое ранее законом самостоятельным видом преступления (ч. 2 ст. 85 УК РСФСР); в новом УК данный состав поставления в опасность отсутствует.
Другие же из данных преступлений связаны с результатом обусловливающе–опосредованно. Например, капитан буксира решил в нарушение правил эксплуатации транспорта сдвинуть тяжело груженую баржу с места рывком. В результате буксирный трос лопнул; баржа, снесенная течением на скалы, затонула; погибли люди и груз, находящиеся на ней. Здесь нарушение правил и разрыв троса с необходимостью сами по себе не влекли указанные последствия; они лишь создавали условия для последующего удара баржи о скалы и ее гибели. Если в подобной ситуации вред был бы предотвращен благодаря возникновению каких–либо случайностей, следовало бы говорить о пресеченной на стадии создания условий деятельности, т. е. о приготовлении в неосторожном преступлении, ранее законодательно урегулированном в той же ч. 2 ст. 85 УК РСФСР.
Таким образом, мы видим, что в одном и том же неосторожном преступлении скрывается и приготовление, и покушение, что чревато унификацией наказания, а ведь уголовное право твердо стоит на позиции признания более опасным покушения по сравнению с приготовлением. В неосторожных преступлениях указанное соотношение не изменяется, хотя и может быть несколько скорректировано самим фактом совершения неосторожного преступления. Думается, трудно жестко дифференцировать в законе неосторожные деликты создания опасности (правонарушения — приготовления и правонарушения — покушения), однако судебная практика в целях более точной индивидуализации наказания должна разделять пресеченную преступную деятельность, обусловливающе–опосредованно связанную с преступным результатом (приготовление), и преступное поведение, непосредственно причинно связанное с последствием (покушение). Может возникнуть сомнение в необходимости законодательного регулирования в Особенной части УК подобной пресеченной деятельности вообще. По–видимому, законодатель до сих пор вполне обоснованно отклонял такие сомнения и формулировал составы поставления в опасность. Ведь зачастую вред от многих неосторожных деликтов ужасает своими размерами (сотни человеческих жизней, на многие миллионы рублей уничтоженное имущество, огромные обезлюдевшие пространства в результате экологического бедствия). В связи с этим главнейшей задачей законодателя становится предупреждение подобных последствий, объявление преступным не только причиненного результата, но и возможности его причинения. Вне всякого сомнения, составы поставления в опасность должны быть созданы при нарушении правил движения и эксплуатации воздушного, водного и железнодорожного транспорта, эксплуатации атомных станций и других взрывоопасных предприятий, связанных с возможностью химического и биологического отравления множества людей и причинения вреда экологии. Не исключено, что такие же составы могут быть созданы и применительно к автотранспорту.
В настоящее время неосторожные деликты приобретают все большую общественную опасность в связи с заложенными в транспорте и производстве возможностями (несколько десятков лет тому назад пассажирский самолет брал на свой борт 30–50 пассажиров, сейчас — свыше 300) и объемом транспорта и производства (например, количество химических заводов в настоящее время существенно увеличилось по сравнению с тем, которое имело место хотя бы 50 лет назад). Именно поэтому существовавшие в ранее действовавшем уголовном законодательстве тенденции уравнять в общественной опасности и социальной значимости все неосторожные преступления (как иначе можно было объяснить направление лиц, совершивших любое неосторожное преступление, в колонии–поселения — ч. 4 ст. 24 УК РСФСР) едва ли были оправданны, поскольку зачастую складывалась нелепая ситуация: вид преступления не входил в перечень тяжких и особо тяжких (например, ч. 1 (ст. 85 УК РСФСР), а суд назначал за совершение преступления такого вида 15 лет лишения свободы (например, капитанам «Петра Васеева» и «Адмирала Нахимова»), естественно, с отбыванием в колонии–поселении, поскольку этого требовал закон.
Скорее всего, и квалификация, и наказание должны быть разнообразными в зависимости от того, сталкиваемся мы при пресечении преступной деятельности с желаемым либо побочным результатом, преступен или правомерен желаемый результат, на какой стадии возник побочный результат и т. д. Так, когда желаемое поведение правомерно, а побочное — противоправно, преступность покушения определяется только в отношении последнего. При наличии неосторожного поведения преступность или непреступность покушения ставится в зависимость от урегулируемости его в специальных нормах Особенной части УК (при урегулировании пресеченная деятельность квалифицируется по данной самостоятельной норме, при отсутствии урегулирования — нет преступления вообще). Несколько сложнее обстоит дело с квалификацией покушения в отношении побочного поведения с косвенным умыслом. Как правило, законодатель не выделяет в самостоятельные нормы преступления с косвенным умыслом вообще, тем более — их пресеченный вариант. Довольно часто законодатель в одной норме объединяет преступления и с прямым, и с косвенным умыслом (например, умышленные убийства). И тогда с необходимостью возникают трудности квалификации пресеченного преступления, совершаемого с косвенным умыслом. Ведь они не выделены в самостоятельные нормы и в то же время согласно существующей доктрине покушение в преступлениях с косвенным умыслом невозможно. Как же быть? Единственный выход: признать покушение в преступлениях с косвенным умыслом.
Определенные трудности возникают при квалификации пресеченных преступлений с двумя формами вины, когда неосторожные последствия причиняются умышленными действиями. Прежде всего сложность заключается в том, что такие преступления законодатель не выделяет в отдельную категорию и вводит в обычные умышленные преступления. Естественно, здесь требуется раздельное рассмотрение умышленного и неосторожного действия, причиняющего вред. Кроме того, все составы с двумя формами вины можно разделить на две группы: без специально выделенной нормы, регламентирующей пресеченную деятельность (например, ст. 216, 218 и др. УК РФ); с подобной отдельной нормой (например, ст. 215, 217 и др. УК РФ). В первом варианте пресеченная преступная деятельность, и умышленная, и неосторожная, не находит уголовно–правовой квалификации. Пожалуй, единственным исключением из данного правила служило создание состава поставления в опасность в ст. 2111 УК РСФСР, которая представляла собой пресеченное одно из всех умышленных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 211 УК РСФСР). Да и это исключение, похоже, не устраивало теорию уголовного права (вполне обоснованно, так как не решало в целом проблемы квалификации преступлений с двумя формами вины при их пресечении), поскольку в Проекте УК такая норма уже отсутствовала, отсутствует и в УК РФ 1996 г.
Хотя в приведенном исключении из правила скорее всего речь шла о пресечении деятельности на стадии создания условий (приготовлении), нам необходимо рассмотреть его для ответа на вопрос, почему все–таки оно в законе выделено. Ведь наверняка имеются более опасные действия — нарушения правил, являющиеся умышленным деянием–исполнением, пресеченным до наступления общественно опасных последствий, нежели нахождение в состоянии опьянения, выделенного, по–видимому, лишь в силу его распространенности. Практически нередки ситуации, когда пресекается умышленная деятельность, ставящая в опасность причинения неосторожного вреда, и довольно тяжкого (например, в ч. 3 ст. 264 УК РФ предусмотрено нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Неужели пресеченный такой вред менее опасен, чем заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией ч. 1 ст. 122 УК РФ? Коль скоро мы говорим о пресечении умышленного поведения в обеих ситуациях, то следует признать более значимым пресечение смерти, хотя и неосторожной, нескольких лиц по сравнению с пресечением вреда здоровью.
На наш взгляд, в преступлениях с двумя формами вины законодатель всегда должен выделять составы поставления в опасность, если умышленное действие могло повлечь за собой гибель одного или нескольких лиц. Подобное может иметь место по каждому отдельному составу либо носить характер общего правила, распространяемого на все составы со смешанной формой вины с указанными последствиями: «умышленное поставление в опасность неосторожной смерти одного или нескольких лиц наказывается по правилам ст. 30 УК РФ и по соответствующей статье Особенной части УК», которая станет отдельной частью нормы, регламентирующей неоконченное преступление. Если пойти по второму пути, то данная норма в силу всеобщности будет распространяться и на те нормы, в которых выделены самостоятельные составы поставления в опасность. И чтобы не было дублирования в Особенной части общих положений, в отдельные составы поставления в опасность следует выделять только чисто неосторожные деликты (неосторожные действия, способные повлечь неосторожные определенные последствия). Здесь и возникает второй вариант формирования в законе пресеченной неосторожной деятельности. Отличие указанных умышленного и неосторожного поставления в опасность будет заключаться в том, что первое будет распространяться на все нормы со смешанной формой вины, а второе — лишь на нормы, которые законодатель сочтет нужными для обособления неосторожного поставления в опасность (например, «те же неосторожные действия, которые могли повлечь гибель нескольких лиц, невозмещаемый имущественный или экологический вред»).
В тех случаях, когда противоправными являются и желаемый, и побочный вред, возникает квалификация по совокупности преступлений. Совокупность преступлений может быть абсолютно реальной (самостоятельные желаемый и побочный результаты причиняются абсолютно самостоятельными действиями: одно действие причиняет желаемый, а второе действие — побочный результат) либо частично реальной (одно действие причиняет два — желаемый и побочный — последствия). Квалификация такого поведения зависит, во–первых, от характера пресечения, во–вторых, от этапа развития преступления, на котором была пресечена преступная деятельность.
Характер пресечения определяется тем, какое поведение (только желаемое, только побочное или то и другое вместе) пресекается в данном конкретном случае. Если пресекается только желаемое поведение, а побочный результат наступает, то действия лица квалифицируются как покушение на желаемый результат и по той норме права, которая описывает побочное поведение в качестве оконченного с наступлением последствия преступления. Если пресекается только побочное поведение, а желаемое доведено до логического конца, то побочное поведение квалифицируется в соответствии с изложенными выше правилами, тогда как желаемое поведение — по соответствующей норме права, регламентирующей его. Если пресекается и желаемое, и побочное поведение, то возникает покушение на желаемый результат и покушение на преступление с косвенным умыслом либо умышленное или неосторожное поставление в опасность.
Собственно характер пресечения довольно тесно увязан с этапами развития желаемого и побочного поведения. Нельзя забывать о том, что исполнение желаемого и побочного преступления может не совпадать по стадиям их совершения: исполнение побочного преступления может возникнуть и на стадии создания условий желаемого преступления, и на стадии его исполнения. Отсюда и некоторые особенности квалификации пресеченной деятельности по сравнению с уже изложенными правилами. Если желаемое и побочное поведение пресечены на стадии создания условий желаемого преступления, то в отношении последнего имеет место лишь приготовление, а в отношении побочного при исполнении его действиями по созданию условий желаемого преступления — покушение. Но даже совпадение этапов исполнения желаемого и побочного преступления вовсе не свидетельствует об однотипной квалификации того и другого. Ведь действия, причиняющие желаемый и побочный результаты, способны различаться по времени и объему исполнения (действие–исполнение может быть «богаче» по количеству телодвижений, чем это нужно для достижения желаемого результата, и иногда своей «излишней» частью причиняет побочный результат, что влечет за собой реальную совокупность). Мы не исключаем подобное и в ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подтверждение изложенного должно привести к изменению позиции законодателя по данному вопросу. В такой ситуации пресечение желаемого последствия не свидетельствует о пресечении побочного поведения, отсюда и квалификация как неоконченного только одного из них.
Соответственно все виды пресеченного неосторожного преступления, в том числе и составы поставления в опасность, необходимо не только правильно и четко дифференцировать по степени общественной опасности, но следует еще и разумно определить по ним санкции. Выше было сказано, что трудно выделить в составах поставления в опасность приготовление и покушение. И тем не менее в принципе подобное возможно при скрупулезном пересмотре соответствующих норм Особенной части. И тогда составы поставления в опасность — приготовления — должны быть на один порядок ниже по степени общественной опасности по сравнению с составами поставления в опасность — покушениями — с вытекающими отсюда санкциями. Раздельное оформление в законе таких приготовления и покушения можно осуществить путем применения следующих терминов: «создающих возможность причинения» (приготовление) и «могли причинить» (покушение).
Таким образом, обоснованность или необоснованность наличия в ч. 3 ст. 30 УК РФ термина «умышленное» зависит от решения проблемы распространения данной нормы по кругу лиц: если она дает направление деятельности только суда в порядке квалификации умышленных преступлений определенного вида и не устанавливает законодательную деятельность по построению Особенной части, то указанный термин нужно сохранить в законе. Если же ч. 3 ст. 30 УК РФ как одно из основных положений Общей части отражает властные рекомендации суду по квалификации пресеченной деятельности, и правила формулирования составов поставления в опасность в Особенной части уголовного закона, обусловливающие тесную связь Общей и Особенной частей и зависимость последней от первой, то умышленность покушения следует исключить из анализируемой нормы, поскольку она не соответствует действительности. Наиболее оправданным представляется последнее решение, ведь Общая часть уголовного закона для того и существует, чтобы на ее основе и в соответствии с ее положениями правильно построить Особенную часть. Однако при этом не следует забывать, что покушение — только виновное поведение (умышленное или неосторожное), исходя из чего надо внести в понятие покушения вместо слова «умышленное» — «виновное».
Все вышеизложенное позволяет дать следующее определение покушения. Покушением признается пресеченное виновное исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно.
Особенности покушения носят двойственный характер, так как оно базируется на деянии–исполнении, однако по сути является неоконченным преступлением и поэтому специфическим признаком его выступает пресечение преступления. Именно данным признаком оно отличается от добровольного отказа и от оконченного преступления. Несколько иначе разграничивается покушение и приготовление, поскольку они оба являются видами пресеченного преступления, отсюда сам факт пресечения «развести» их не может; поэтому мы вынуждены обращаться ко вторичным признакам неоконченного преступления и отличать покушение от приготовления по характеру совершаемых преступных действий: при приготовлении пресечение происходит на стадии создания условий, при покушении — на стадии исполнения преступления.
В целом выглядят верными особенности покушения, выделенные М. П. Рединым. По его мнению, объективными особенностями покушения следует признавать следующее.
«1. Действиям (бездействию), непосредственно направленным на совершение преступления, во времени предшествуют действия (бездействие) по созданию условий для совершения преступления (проще сказать «действиям или бездействию по исполнению преступления», к этому замечанию в последующем возвращаться не будем, хотя автор указанную форму повторяет постоянно; необходимо отметить, что создание условий не всегда предшествует исполнению преступления, иногда оно просто отсутствует, именно поэтому данный признак не носит абсолютного для покушения характера. — А. К.).
2. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступление, являются продолжением осуществления преступного намерения и одновременно началом совершения преступления (представляется, что автор напрасно использует термин «намерение» вместо общепризнанных «умысла», «вины», «мотивов», «целей»; едва ли в данном термине заложены какие–либо преимущества; неприемлемо и признание указанных действий началом совершения преступления, потому что преступление начинается гораздо раньше, если хочет автор, с момента возникновения преступного намерения, на наш взгляд, с момента возникновения замысла. — А. К.).
3. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, предпринимаются лицом для выполнения оконченного преступления (цель действий определена верно, но нельзя забывать, что она так и остается не реализованной вследствие пресечения преступления, отсюда она не является признаком покушения как пресеченной деятельности, при покушении никакой цели уже нет. — А. К.).
4. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, большей частью имеют место при наличии у лица непосредственного соприкосновения с объектом, в отличие от действий (бездействия) по созданию условий для совершения преступления, когда лицо нередко отдалено от объекта в пространстве (не совсем точное представление о соотношении действия–исполнения с объектом преступления: во–первых, однозначно непосредственно соприкасаются с объектом преступления одномоментные деяния, однако таковые носят исключительный характер; основную массу деяний–исполнения составляют многомоментное поведение, и чем сложнее по структуре деяние, тем отдаленнее от непосредственного соприкосновения с объектом начальный момент его осуществления; во–вторых, автор не учитывает того, что довольно часто в объективную сторону преступления законодатель вводит способ исполнения преступления, который «удлиняет» деяние–исполнение в сторону более ранней стадии, например, кража с проникновением в жилище, когда само проникновение считается уже деянием–исполнением, но оно столь же или почти столь же существенно отдалено от объекта, как и деяние–создание условий; поэтому с автором в абсолюте трудно согласиться; но здесь возникает еще одна проблема — оценки отдаленности, т. е. какой степени отдаленность принадлежит приготовлению, а какой — покушению; однако главным недостатком остается все то же — непонимание автором того, что он дает характеристику пресеченной деятельности, при которой никакого соприкосновения с объектом в принципе быть не может. — А. К.).
5. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, всегда отделены во времени от действия (бездействия) по созданию условий для совершения преступления (в целом верно, но что это дает для разграничения со смежными явлениями, ведь в сложном деянии каждое телодвижение отделено от другого, это естественное состояние динамично развивающегося явления; например, вскрыл замок двери и переступил через порог; имеется разрыв во времени, однако автор признает взлом замка началом исполнения и соответственно при пресечении — покушением, а мы — на основе абстрагирования от проникновения в жилище или хранилище созданием условий и соответственно при пресечении — приготовлением; в результате мы имеем разное отношение к видам неоконченного преступления в связи с одним и тем же разрывом во времени различных действий. — А. К.).
6. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, прерываются всегда и только по независящим от воли лица обстоятельствам, которые могут быть самыми различными, но не должны быть связаны с добровольным прекращением преступных действий (бездействия) (по сути автор прав, но прежде всего напрасно автор использует возвратный глагол «прерываются», поскольку в таком варианте он и приходит к прекращению, а не пресечению преступной деятельности; пресечение всегда связано с влиянием внешних сил, а не самого лица; кроме того, не следовало походя проводить разграничение с добровольным отказом. — А. К.).
7. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, прерываются, причем окончательно, до их полного выполнения либо наступления общественно опасного последствия (по сути автор прав, эти действия (бездействие) всегда прерывают, и всегда окончательно, но при этом необходимо помнить, что указанные признаки характеризуют и приготовление, и добровольный отказ, т. е. неоконченное преступление вообще, потому они не могут выступать в качестве разграничивающих виды неоконченного преступления; по ним можно разграничивать вообще неоконченное преступление от оконченного; мало того, не совсем точна фраза «до наступления общественно опасных последствий», поскольку здесь речь должна идти не о любых последствиях, так как наступление некоторых последствий не исключает покушения, а только о целеполагаемом результате или о последствиях как конечном результате поведения человека — А. К.).
8. Волевые действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, с одной стороны, входят в объективную сторону оконченного преступления, с другой — не тождественны ей и включаются в самостоятельный состав преступления — покушение. Ведь для объективной стороны оконченного преступления характерно наличие действий (бездействия), вызвавших задуманный лицом результат, а для покушения на преступление — действий (бездействия), не вызвавших таковой (на первый взгляд верно; однако автор не учел того, что в определенной части, вплоть до составляющих оконченное покушение, действия могут входить и в оконченное преступление, и в те или иные виды неоконченного преступления — приготовление, покушение, добровольный отказ; например, действия–создание условий могут быть основанием и для оконченного преступления, поскольку без условий не может быть надлежащего причинения; и для добровольного отказа, и для приготовления; действия–исполнение могут быть основанием и для оконченного преступления, и для добровольного отказа, и для покушения; при этом речь идет об одних и тех же действиях–создании условий или действиях–исполнении; отсюда специфическими признаками, разграничивающими указанные явления, выступают либо прерывание или непрерывание преступления при разграничении неоконченного и оконченного преступления, либо пресечение или прекращение преступления при разграничении приготовления и покушения от добровольного отказа, либо характер действий при разграничении приготовления и покушения; таким образом, характер действий как разграничивающий признак необходим только в последнем варианте, но никак не при разграничении неоконченного и оконченного преступлений. — А. К.).
9. Действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, создают угрозу причинения вреда объекту преступления, либо такой вред частично причиняется (автор не совсем точен, поскольку, во–первых, должен был говорить об угрозе в прошедшем времени, поскольку он отражает особенности пресеченной уже деятельности, потому не создают, а создавали угрозу; во–вторых, угрозу причинения вреда создавали не только действия–исполнение, но и действия–создание условий, только поэтому они и становятся при пресечении криминально значимыми; в-третьих, подобная угроза в ретроспекции существовала и при оконченном преступлении, и при всех видах неоконченного преступления; именно поэтому особого значения данный признак как выделенная особенность покушения не имеет. — А. К.).
10. Покушение на преступление охватывает не только действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, но и предшествующую им оконченную подготовку (т. е. посягательство на объект преступления) (о нашем критическом отношении к посягательству как категории создания условий выше уже было много написано и повторять все это смысла не имеет, все это носит надуманный и неприемлемый характер. — А. К.)»[416].
Подводя итог выделению М. П. Рединым объективных особенностей покушения, необходимо остановиться на том, что от сторонника раздельного рассмотрения стадий и неоконченного преступления, каковым является автор, можно было ожидать более серьезного подхода к анализу особенностей. Ведь очевидно, что при таком раздельном рассмотрении следовало обособить стадии, дифференцированно подойти к рассмотрению отдельных этапов, попытаться выделить момент возникновения замысла (по мнению автора — преступного намерения), выделить особенности каждой стадии (в том числе действий по созданию условий и действий по исполнению преступления), развести их, вычленив критерии начала исполнения и т. д.; кроме того, необходимо было вычленить особенности неоконченного преступления (в том числе прерывание преступления и его окончательность) и на их основе развести оконченное и неоконченное преступления, а также выделить особенности видов неоконченного преступления и на данной базе разграничить их друг с другом. Вместо этого автор смешал все характеристики в одну массу и назвал это особенностями приготовления и покушения, в результате от его поддержки идеи самостоятельного рассмотрения стадий и неоконченного преступления ничего не осталось.
Наряду с объективными особенностями М. П. Редин выделяет и субъективные особенности покушения, к которым относит следующее. «1. Наличие у лица прямого умысла на совершение преступления, задуманного им: лицо сознает, что его действия непосредственно направлены на совершение определенного общественно опасного деяния, что им выполняется объективная сторона конкретного преступления и желает выполнить указанные действия и довести преступление до конца. Если же лицо совершает преступление с материальным составом, то содержанием его умысла охватывается предвидение возможности или неизбежности наступления задуманных им общественно опасных последствий и желание их наступления. 2. Наличие у лица конечной цели — полное осуществление своего преступного намерения (выполнение умышленных действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления и доведение преступления до конца)»[417]. В результате мы видим, что автор обособил субъективные особенности приготовления и субъективные особенности покушения. Очень похоже на то, что он пытается обособить по данному основанию оба анализируемых института уголовного права, чего он просто не должен был делать. Ведь не секрет, что умысел возникает в определенный момент преступной деятельности и направлен на достижение конечного преступного результата, он является стержнем, просекающим всю объективную структуру деяния — и создание условий, и исполнение вплоть до достижения задуманного преступного результата. Именно поэтому он будет одним и тем же и при приготовлении, и при покушении, и при добровольном отказе (естественно, до пресечения или отказа), и при оконченном преступлении. Уже по одному этому нет смысла в отдельном анализе умысла при приготовлении и покушении. Вполне понятно, почему автор проводит обособленный анализ. Ведь он отрицает стадию возникновения замысла, отсюда он не может найти тот этап, на котором умысел появляется, и ему остается лишь дублировать субъективный момент по каждому виду неоконченного преступления, хотя, как мы видим, проблем это не снимает. Автор может возразить, что при приготовлении субъективный момент сложнее, поскольку включает в себя еще и промежуточную цель, направленную на создание условий. Но, во–первых, такая промежуточная цель может возникать и при исполнении преступления в ситуациях, когда виновному становится ясно, что прежнего создания условий недостаточно и нужно задействовать новые условия, только тогда преступный результат может быть достигнут, т. е. в самом покушении может содержаться создание условий, но это не то создание условий, которое пытается ввести в покушение М. П. Редин; во–вторых, говоря об обычном создании условий, существующем до исполнения преступления, нужно сказать, что и его автор пытается ввести в структуру покушения, о чем выше уже было сказано, но тогда, обособляя субъективные моменты приготовления и покушения, автор противоречит своей идее о включении создания условий в структуру покушения. Думается, и в этом вопросе автору не удалось правильно разобраться.
На наш взгляд, основным специфическим признаком покушения выступает пресечение преступления на стадии исполнения, именно пресечение на определенной стадии.
Всегда ли однозначно покушение или каким–то образом может быть дифференцировано? Этот вопрос ставили в теории уголовного права давно и решали по–разному. Еще в середине XIX в. было предложено делить покушение на оконченное и неоконченное, и сразу возникли сторонники (например, Бауэр)[418] и противники[419] подобного.
Однако прежде всего необходимо разобраться в самой терминологии и определить, что же скрывается за понятиями неоконченного и оконченного покушения. Традиционно указанное связывается с какими–то этапами развития действия–исполнения преступления и пресечением деятельности на них. Именно поэтому на первом уровне вопрос разрешается вроде бы просто: если деяние–исполнение многомоментно, если оно развивается во времени, то на различных этапах развития возможно вмешательство посторонних сил, благодаря которому преступная деятельность пресекается либо в начале, либо при продолжении, либо по завершении действия. Отсюда становится возможной и соответствующая дифференциация покушения: признание пресеченной по завершении действия деятельности оконченным[420] и пресеченной на других этапах — неоконченным покушением[421]. Но здесь возникает сложность. Дело в том, что преступная деятельность может быть пресечена не только по завершении действия, когда никакого результата еще нет, но при частичном наступлении результата, когда полный преступный результат отсутствует по причинам, не зависящим от воли виновного. Во втором случае общественная опасность поведения виновного значительно выше, нежели в первом, хотя также имеется оконченное покушение, т. е. признание оконченным покушением пресечения собственно завершенного действия не дифференцирует полностью опасность различных видов покушения. В связи с чем возникает резонный вопрос: следует ли признавать оконченным покушением пресеченную по завершении действия без наступления каких–либо последствий деятельность, тогда как вполне возможно покушение и за его пределами (при частичном наступлении результата)? Думается, ответ однозначен — оконченным должно признаваться второе покушение, которое максимально приближено к наступлению полного результата. В то же время довольно очевиден и тот факт, что полное выполнение действия делает реально возможным результат, по завершении действия виновному не нужно более ничего совершать, поскольку последствие наступит само по себе при отсутствии противостоящих сил. С этих позиций завершенность действия представляет собой такое развитие преступного поведения, при пресечении которого налицо оконченное покушение. Казалось бы, возникает противоречие: оконченным покушением признается пресеченная деятельность по завершении действия и при частичном наступлении последствий. В действительности противоречия нет, так как здесь имеются два уровня пресечения, различных по степени опасности.
Параллельно возникает проблема определения завершенности действия. Например, выстрел в человека, когда пуля не попала в него, традиционно признается оконченным покушением. Оправданно ли подобное? Все ли действия совершил виновный для наступления последствия? Скорее всего, нет. Поскольку пуля не попала в человека, значит, виновный чего–то недоделал: неточно рассчитал расстояние до жертвы, не учел скорость и силу ветра, не учел скорость движения потерпевшего и т. д. Следовательно, он не совершил всех действий, необходимых для наступления преступного результата. Не являются исключением и те случаи, когда пуля застряла в портсигаре или книге, находившихся в карманах потерпевшего, либо застряла в кости, причинив телесное повреждение, но не смерть.
Как бы там ни было, но завершенность действия определить подчас трудно, поскольку абсолютно завершены действия, когда наступает полный результат. При его ненаступлении почти всегда отсутствуют сомнения в их завершенности. Не случайно В. Ф. Кириченко связывал оконченное покушение с фактической ошибкой лица[422]. И хотя такая позиция была подвергнута правомерной критике, поскольку довольно часто оконченность покушения обусловлена, например, деятельностью правоохранительных органов[423], но обоснование критики едва ли можно принять. Ведь даже при пресечении преступной деятельности правоохранительными органами не исключается ошибка виновного: ошибка во времени или месте совершения преступления, ошибка в оценке оперативности правоохранительных органов и т. д. Дело здесь в другом.
Уже довольно давно ведутся оправданные поиски различных оснований дифференциации покушения, и было предложено признавать покушение оконченным не в зависимости от характера деяния, а в соответствии с намерением лица, с его представлением о завершенности действия. Эту позицию в свое время высказывал Брейденбах[424]. В то же время было высказано и другое мнение, согласно которому при определении оконченности покушения следует исходить не из субъективного мнения виновного о выполнении всей совокупности действий, а из объективного состояния явления[425]. С тех пор вот уже более века сторонники первой[426] и второй[427] позиций не могут прийти к единому мнению, хотя и были предприняты попытки соединить указанные точки зрения в одну[428], что едва ли приемлемо, поскольку такое искусственное объединение более запутывает проблему, нежели помогает в ее разрешении (например, признавать ли оконченным покушение, когда выполнены все действия, а виновный считает, что он еще всех действий не совершил, или наоборот). К сторонникам субъективного критерия в определении оконченности покушения относится и В. Ф. Кириченко, только он подходит к нему с другой стороны.
Ранее действовавший закон, похоже, в определенной части был сформулирован сторонниками субъективного критерия, так как наказание за пресеченную преступную деятельность ставилось в зависимость от степени «осуществления преступного намерения» (ч. 4 ст. 15 УК РСФСР); тем самым преступное намерение — субъективный критерий — превращалось в единственное прямое основание разграничения видов и подвидов пресеченной преступной деятельности. В то же время ссылка на учет судом характера и степени общественной опасности действий носила обобщенный характер, лишь дублировала соответствующее положение ст. 37 УК РСФСР и не выводила на стадии развития преступления. В Проекте УК России подход оставался таким же (ч. 1 ст. 64). В действующем УК ситуация кардинально изменилась, пока мы не рассматриваем — в лучшую или худшую стороны, но согласно ч. 1 ст. 66 УК «при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца». И снова мы видим, как маятник влиятельной теории и законодательной практики качнулся в противоположном направлении — от субъективного критерия к объективному.
Думается, подобное приемлемо. Ведь во главу угла наказуемости должно ставиться деяние, а уж потом — психическое отношение виновного. Именно посягательство на общественные отношения создает главным образом общественную опасность. Не случайно в теории уголовного права в целом нет сторонников субъективного критерия разграничения приготовления и покушения, в основном авторы исходят из характера выполняемых при приготовлении и покушении действий. А ведь здесь мы сталкиваемся с явлением однопорядковым, с размежеванием неоконченного и оконченного покушения (имеются какие–то этапы развития преступления и пресечение деятельности на данных этапах помимо воли виновного), требующим одинакового подхода. Следовательно, степень выполнения деяния должна лежать в основе дифференциации видов неоконченной преступной деятельности вне зависимости от этапа, на котором посягательство прерывается, т. е. мы снова вернулись к действию, завершенность которого подчас трудно определить. Похоже, что завершенность действия мы находим в значительной степени условно, только по характеру последнего из многомоментных телодвижений (например, нажатие спускового крючка ружья), зачастую не принимая во внимание отсутствующие или рефлекторные телодвижения (например, при нажатии крючка ружья стреляющий случайно дернул рукой и пуля в результате пошла мимо цели).
Возможно, в данному случае спор ни о чем, поскольку в теории уголовного права высказана точка зрения, согласно которой дифференциация покушения на неоконченное и оконченное не имеет теоретического и практического значения[429]. Изложенная позиция едва ли приемлема, в противном случае придется признать незначимым и выделение приготовления с покушением, поскольку во всех вариантах сталкиваемся с одним и тем же явлением. По–видимому, традиционная позиция размежевания приготовления и покушения, позволяющая тем самым дифференцировать опасность пресеченной преступной деятельности в зависимости от степени приближения ее к возможному преступному результату, представляется верной и вполне распространимой и на другие этапы (подэтапы) развития преступления, коль скоро такая дифференциация позволит оттенить степень общественной опасности содеянного. Разумеется, обособление оконченного и неоконченного покушения не имеет значения для квалификации преступления, но оказывается важным фактором, помогающим индивидуализировать наказание. Не случайно уголовный закон ставил наказание при неоконченном преступлении в зависимость от степени развития преступления, оформленного в законе субъективного критерия — степени осуществления преступного намерения. И не случайно в УК Швейцарии выделено неоконченное и оконченное покушение. Под неоконченным понимается: «если лицо, после того как оно начало совершение преступления или проступка, не доводит свою преступную деятельность до конца…» (ст. 21); под оконченным: «если преступная деятельность была доведена до конца, но преступный результат, характеризующий окончание преступления или проступка, не наступил…» (ст. 22). Выделены указанные два вида покушения и в УК Украины: «Покушение на совершение преступления является оконченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимым для доведения преступления до конца…» (ч. 2 ст. 15); «Покушение на совершение преступления является неоконченным, если лицо по причинам, не зависящим от его воли, не совершило всех действий, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца» (ч. 3 ст. 15). Несмотря на имеющиеся уже законодательные положения о дифференциации покушения на оконченное и неоконченное, полагаем, существенной необходимости в таких законодательных положениях нет.
В теории предпринимаются попытки установить и другой аспект значимости оконченного и неоконченного покушения — их влияние на определение добровольного отказа[430]. Однако эта проблема касается не пресеченной деятельности, а стадий совершения преступления. Отсюда следует, что анализировать ее в данном разделе работы нет необходимости. Сказанное позволяет отметить: несмотря на трудности в определении завершенности действия, именно на его основе нужно делить покушение на неоконченное и оконченное.
На основе сказанного можно вывести общие правила квалификации покушения, которые заключаются в том, что пресеченное исполнение преступления всегда должно вызывать покушение вне зависимости от этапа исполнения, на котором деятельность была прервана. При этом уже совершенные действия виновного квалифицируются по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по соответствующей части соответствующей статьи Особенной части УК, поскольку они составляют основу покушения (как действия–исполнение), дополнительной квалификации такие действия не требуют даже в тех случаях, когда они выступают в виде самостоятельного вида преступления в Особенной части, поскольку в противном случае одни и те же действия получат двойную оценку при квалификации — как основа покушения и в качестве самостоятельного вида преступления, что нельзя признать обоснованным, законным и справедливым. Ведь согласно ч. 2 ст. 6 УК «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление», тогда как квалификация по совокупности покушения и самостоятельного вида преступления, базирующихся на одном и том же деянии, с необходимостью повлечет двойную ответственность (ст. 69, 70 УК по общему правилу требуют сложения наказания) за одно и то же преступление.
Определенные проблемы возникают при покушении со специальным субъектом. Естественно, субъект покушения должен обладать всеми качествами субъекта оконченного преступления. На самом деле даже это не столь очевидно. Возьмем в качестве примера изнасилование: если оно совершается с использованием беспомощного состояния потерпевшей, то субъектом выступает только мужчина и покушение здесь просто невозможно из–за одномоментности исполнения преступления (начало и окончание изнасилования совпадают); если рассмотрим изнасилование, сопряженное с угрозой насилия либо с насилием, то увидим, что субъектом может выступать уже и женщина, но только субъектом частичного исполнения преступления (высказывания угрозы, применения насилия). Думается, нет особой нужды доказывать аксиому, что пресеченная на этапе высказывания угрозы или применения насилия деятельность, осуществляемая женщиной, по субъекту абсолютно отличается от субъекта оконченного изнасилования, каковым женщина в принципе быть не может по своим физиологическим свойствам. Таким образом, проблема покушения со специальным субъектом решается довольно часто в зависимости от построения диспозиции, от характера способа совершения преступления, расширяющего пределы криминально значимого поведения.
Некоторые особенности покушения связаны с пресечением продолжаемого преступления. И поскольку исполнение такого преступления начинается с момента осуществления первого телодвижения по выполнению первого преступного акта из всей их системы, постольку пресечение продолжаемого преступления на всех последующих этапах развития его, как правило, должно признаваться покушением на ту конечную конкретизированную цель, которая объединяет все акты преступного поведения в одно целое. Вроде бы очевидный факт. Однако и в теории уголовного права, и в судебной практике решение этого вопроса абсолютно деформировано.
Попробуем для начала проанализировать проблему на примере кражи. Кража считается продолжаемым преступлением, если виновный за несколько приемов с определенными промежутками времени вынес какое–то имущество при наличии с самого начала умысла на завладение всей массы имущества именно частями (кража части имущества + кража части имущества + кража части имущества = общий результат). Отсюда пресечение преступления на любом из этих этапов до наступления общего результата — всегда покушение на кражу, направленную на достижение общего результата. По этому поводу Верховный Суд очень точно указал: «Совершение нескольких хищений (например, путем краж), причинивших в общей сложности крупный ущерб, если содеянное свидетельствует о едином продолжаемом преступлении, надлежит квалифицировать как хищение в крупном размере…»[431], при этом пресеченное преступление необходимо квалифицировать как покушение на хищение в значительном, крупном или особо крупном размере[432]. Подобный подход верен и с точки зрения понимания продолжаемого преступления, и с позиций неоконченного преступления. Данное решение поддержано и в конкретных делах, разрешаемых Верховным Судом, что вызывает сомнение у некоторых практиков. Так, О. Толмачев (заместитель председателя Курганского городского суда), анализируя неоконченный простой грабеж, когда преступники намеревались отнять две сумки с деньгами в сумме 45 тысяч рублей, но удалось им отобрать только одну, считает: «В данном случае не получило никакой юридической оценки то обстоятельство, что часть денег, которая по своим размерам хотя и не соответствует критерию крупного размера, была все–таки похищена и хищение этой части было совершено»[433] и, похоже, исходя из этой посылки, в последующем анализирует продолжаемое преступление (умысел направлен на хищение со склада 50 автоматов или 50 мешков муки, виновный в течение 1,5 месяцев похищал их и вынес 49 автоматов или мешков муки) и пишет, что лицо «должно быть осуждено только за покушение на хищение, невзирая на то, что 49 автоматов (мешков) ранее похищены и, возможно, нашли своего покупателя»[434]. Автора не устраивает в данной ситуации квалификация содеянного только как покушения. Однако он совершенно не прав. Главным образом, он не прав в том, что совершенное хищение не нашло юридической оценки. Логично задать автору вопрос, а почему он говорит о покушении, разве в покушений не нашло отражения частичное исполнение преступления; разве не из–за этой части исполнения, на которой преступление пресечено, оно и рассматривается как покушение? Ответ на все эти вопросы один — поскольку умысел не реализован до конца, поскольку исполнение преступления пресечено на каком–то его этапе, возникает с необходимостью покушение и только покушение. Не совсем точен автор и по поводу автоматов (мешков с мукой). Во–первых, похоже, что он не до конца понял продолжаемое преступление, особенностью которого является жесткая конкретизация общей цели по объему, размеру, весу и т. д. И если похищаемые автоматы виновный сразу же и продавал, то становится проблематичным вообще наличие продолжаемого преступления, которое может присутствовать, а может и не присутствовать в анализируемом примере. И если все же продолжаемое преступление здесь было, то задержание лица при хищении последнего автомата, конечно же, создает покушение, так как он не реализовал свой единый умысел и не достиг общей цели; иной подход деформирует институт продолжаемого преступления, ведет к его исключению, чего нельзя допускать, поскольку полуторавековая история российского права доказала его необходимость и реалистичность, в западном праве этой проблемой начали заниматься еще раньше. У автора два выхода из создавшейся ситуации: либо признать продолжаемое преступление несостоятельной уголовно–правовой категорией и отказаться от него, либо признать его и при квалификации исходить из аксиоматичности таковой. Не думаем, что О. Толмачев готов отказаться от теории продолжаемого преступления и заменить ее чем–то другим (например, множественностью преступлений). Но в таком случае он не должен смешивать правила квалификации единичного преступления, которым является и продолжаемое, и множественности преступлений, в том числе при пресеченной деятельности. Ведь вполне очевидно, что при повторности каждое преступление квалифицируется раздельно; оконченные преступления непосредственно по норме Особенной части УК, неоконченные со ссылкой на (ст. 30 УК; наказание назначается по правилам совокупности; при совершении продолжаемого преступления каждый преступный акт как часть его самостоятельной квалификации не подлежит и все деяние рассматривается как единичное преступление со всеми правилами его квалификации и назначением наказания за единичное оконченное или неоконченное преступление. Кто не видит этих различий, тот не готов выделять продолжаемое и множественное преступление, тот смешивает их в одну массу.
Продолжаемое преступление — это институт Общей части уголовного права и в качестве такового распространяется на всю Особенную часть без исключения. Отсюда и квалификация неоконченного продолжаемого преступления должна быть одинаковой относительно любого вида преступления, которое выражено и в виде продолжаемого.
Но если при кражах все в целом вроде бы обстоит благополучно в том плане, что и Верховный Суд дает точные рекомендации по квалификации, и суды в целом верно к ней подходят, за исключением некоторых сомневающихся, то к иным видам преступлений отношение не столь благополучное. Особенно острая ситуация сложилась сегодня вокруг продолжаемых убийств. Дело в том, что в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК отражено убийство двух или более лиц, что подразумевает наличие единого умысла и общей цели на таковое; это традиционно и верно отражено в теории уголовного права и сам закон направлен именно на такое понимание указанной нормы, поскольку в п. «н» ч. 2 ст. 105 УК он отражает дополнительно убийство, совершенное неоднократно, т. е. множественность выносит за пределы п. «а», данной статьи. Соответственно, в п. «а» выделены две разновидности единичных сложных преступлений: 1) единичное с двумя или более последствиями (при одном деянии наступает несколько последствий, причиняемых с прямым умыслом) и 2) единичное продолжаемое. В качестве условного примера можно привести два варианта развития события при анализируемом убийстве, когда виновный пришел поздно ночью домой и застал в постели жену с любовником: а) одним ударом бейсбольной битой по головам он убивает обоих; б) ударом битой он убивает жену, любовнику удается скрыться, но через месяц виновный находит его и совершает убийство. Оба варианта подпадают по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, чего не хотят видеть исследователи данной нормы и в связи с чем допускаются ошибки в квалификации, в том числе и неоконченного преступления. Правила квалификации тех и других в общем совпадают, за исключением того, что в продолжаемом преступлении более широко представлено деяние как единство нескольких преступных актов, что накладывает некоторые особенности в квалификации последних при их пресечении. Но сначала поговорим об их общей квалификации. В своем Постановлении «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об умышленном убийстве» от 3 июля 1963 г. Верховный Суд СССР указал, что «при установлении того, что умысел виновного был направлен на лишение жизни двух или более лиц, убийство одного человека и покушение на жизнь другого следует квалифицировать как оконченное преступление по п. “з” ст. 102 УК РСФСР…»[435]. Таким образом, мы видим, что Верховный Суд СССР не смущал тот факт, что умысел не реализован, что преступление пресечено до его окончания; Верховный Суд СССР в полной мере реализовал свой обвинительный уклон, предлагая квалифицировать неоконченное преступление как оконченное. Позже Пленум Верховного Суда РФ отошел от данного толкования и в своем Постановлении «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. вслед за Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. признал, что «по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство двух или более лиц, если действия виновного охватывались единым умыслом и были совершены, как правило, одновременно. Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление — убийство двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ»[436]. Верховный Суд признал предыдущую ошибку, понял, что нельзя неоконченное преступление рассматривать как оконченное, но допустил новую ошибку.
В теории уголовного права многие специалисты поддержали первую позицию Верховного Суда СССР и признали правильным квалификацию как оконченного преступления[437]. Многие авторы становились на новую позицию Верховного Суда[438]. Но до последнего времени никто даже не попытался связать такое неоконченное убийство с продолжаемым преступлением. И лишь в последние годы наметилось в теории уголовного права верное решение данного вопроса. Так, А. И. Коробеев, критикуя обе высказанные Верховными Судами и приведенные выше позиции по квалификации убийства двух или более лиц, когда одно из них неокончено, приходит вслед за Л. В. Иногамовой–Хегай к верному решению: квалифицировать такое преступление по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК как покушение на убийство двух или более лиц. В качестве аргументов он выдвигает следующее: а) при субъективном вменении можно инкриминировать виновному лишь то, что охватывается его умыслом и только в пределах реализации его; б) отсюда нельзя квалифицировать анализируемое преступление как оконченное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, поскольку умысел не реализован: в) нельзя квалифицировать по совокупности двух преступлений (покушения на убийство одного лица и убийство другого, поскольку умысел не реализован и при такой квалификации возникает двойной учет одного и того же преступления (оконченное убийство выступает в качестве основания покушения и в качестве основания оконченного преступления)[439]. Однако при этом он допустил две ошибки: во–первых, согласился с Л. В. Иногамовой–Хегай в том, что предлагаемая ими квалификация содержит изъян, выраженный в неучете факта реального наличия одного завершенного убийства, и предложил этот изъян «гасить» в описательной части приговора указанием на убийство одного лица[440]; никакого здесь изъяна нет, во всем этом и заключается особенность продолжаемого преступления; во–вторых, признал содеянное идеальной совокупностью[441], что абсолютно не соответствует действительности, поскольку предлагаемой им квалификацией он автоматически признал совершенное преступление единичным, а не совокупностью, тогда как совокупность, даже идеальная, требует квалификации по двум нормам Особенной части, в этом ее особенность.
Несколько точнее аргументация Т. В. Кондрашовой, которая предлагает квалифицировать анализируемое убийство по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК потому, что здесь мы сталкиваемся с единым преступлением[442]; ей оставалось совсем немного — установить вид единичного преступления и построить аргументацию применительно к преступлению с двумя последствиями или продолжаемому преступлению. Думается, именно такой общий подход снимает все проблемы, подводит общую базу для всех видов преступлений, объективно совершаемых частями (и убийство двух или более лиц в состоянии аффекта, и причинение тяжкого вреда здоровью двух или более лиц, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, и истязания двух или более лиц, и заражение венерической болезнью двух или более лиц, и заражение ВИЧ-инфекцией двух или более лиц, и похищение двух или более лиц, и к продолжаемых кражам, и к продолжаемому получению взятки и т. п.). В этом плане О. Толмачев абсолютно прав, говоря о необходимости однозначного понимания сходных ситуаций при хищениях, убийствах, получении взяток, хотя выбрал при этом неверное решение, согласившись с выводами Верховного Суда[443].
На фоне такого унифицированного подхода становится ясным, что некоторые дела квалифицируются судами неверно. Например, при квалификации действий Е., заставшего свою жену с Г. при совершении ими полового акта, убившего ножом жену и причинившего тяжкий вред здоровью Г., суд признал деяние совершенным в состоянии аффекта и квалифицировал по ч. 1 ст. 107, ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ. Очевидно здесь следующее: суд имел дело с продолжаемым преступлением, где имелся единый умысел и общая цель убить обоих; переквалификация на ст. 107 УК не исключает наличия и единого умысла, и общей цели, т. е. продолжаемого преступления; не доведение продолжаемого преступления до конца исключает квалификацию такого преступления в любой его части как оконченного преступления; соответственно, содеянное необходимо было квалифицировать как покушение на убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ).
Таким образом, неоконченное преступление с двумя и более последствиями или продолжаемое преступление всегда требуют квалификации по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, кроме случаев пресечения на стадии первичного создания условий до совершения первого действия–исполнения, когда возникает приготовление, а не покушение. Сказанное объединяет анализируемые два вида сложного единичного преступления — с двумя последствиями и продолжаемые.
Разъединяет их лишь то, что преступление с двумя последствиями характеризуется совершением одного деяния и причинением нескольких последствий, тогда как в продолжаемом преступлении совершается ряд деяний, которыми причиняется ряд последствий. Только поэтому квалификация неоконченного преступления с двумя последствиями несколько иная, она носит более узкий характер, поскольку речь идет о пресечении только одного деяния как в простом единичном. Другой особенностью преступления с двумя последствиями выступает его схожесть с идеальной совокупностью, что и подвело, на наш взгляд, А. И. Коробеева. Однако разница между ними заключается в том, что преступление с двумя последствиями совершается с единым прямым умыслом и общей целью на убийство нескольких лиц, тогда как идеальная совокупность — это наличие разных видов вины к различным последствиям и отсутствие единства умысла и общности цели по отношению к ним. Думается, основанием данной ошибки А. И. Коробеева явилось то, что он, критикуя Верховный Суд за квалификацию анализируемого вида преступления, тем не менее пошел за ним в том, что данные «действия виновного… были совершены, как правило, одновременно (курсив наш. — А. К.)»[444]; именно отсюда возникли ошибки игнорирования продолжаемого преступления как разновидности анализируемого вида преступления, отождествления его с идеальной совокупностью, тогда как одновременность характеризует лишь одну разновидность убийств двух или более лиц, а именно убийство с двумя последствиями, и никоим образом не касается продолжаемого преступления.
Исключением иногда являются некоторые случаи совершения преступления несколькими лицами (соисполнение). При выполнении каждого отдельного акта преступной деятельности возникает два варианта поведения соучастников: все они осознают содеянное как отдельный акт продолжаемого преступления; некоторые исполнители не осознают жесткой связанности отдельных актов, не знают о наличии продолжаемого преступления. Отсюда следует различная юридическая оценка содеянного в первой и второй ситуации при пресечении преступного поведения.
Если взять первую из них, то пресечение может быть двояким: пресечена деятельность либо всех соисполнителей, либо только некоторых из них. Когда прерывается деятельность всех соучастников, содеянное рассматривается как покушение на конкретизированный конечный результат относительно всех. При пресечении поведения только некоторых соисполнителей и продолжении преступной деятельности другими возникает странное положение: преступление продолжает осуществляться в направлении поставленной цели, и лишь некоторые соисполнители не вносят более своего вклада в его развитие, т. е. в целом данное преступление не пресекается, а лишь прерывается возможность дальнейшего исполнения его частью лиц. Казалось бы, все достаточно просто: коль скоро существует принцип индивидуальной ответственности, каждый из участников должен отвечать за собственно содеянное (за оконченное преступление — те лица, деятельность которых не была прервана, а за покушение — лица, поведение которых было пресечено). Однако соучастие может быть и усложненным. Ведь исполнитель, деятельность которого пресечена, мог выполнять и функции организатора продолжаемого преступления; при этом пресечена может быть исполнительская роль, а организаторские функции могут быть реализованы в исполнительском поведении других лиц, деятельность которых не была пресечена. Поэтому его поведение выходит за рамки пресеченного, соответственно признание указанной деятельности только покушением будет слишком узким, не охватит содеянное в целом. Отсюда анализируемое общественно опасное действие нужно признавать покушением на преступление и соучастием в оконченном продолжаемом преступлении. Полагаем, данное правило распространяется не только на организаторов, но и на подстрекателей и пособников, деятельность которых связана с оконченным продолжаемым преступлением и в то же время является в определенной части пресеченной исполнительской деятельностью.
Во второй ситуации квалификация содеянного зависит от замысла лица. Коль скоро соисполнитель не знал о том, что данный преступный акт является частью продолжаемого преступления, пресеченное его поведение необходимо рассматривать как покушение на преступление, оформляющее отдельный преступный акт.
Здесь очень тесно переплетается вопрос о соотношении покушения и соучастия в преступлении. Из вышеизложенного следует, что соучастие и покушение мирно сосуществуют в тех случаях, когда поведение–соучастие по своему объему шире поведения–исполнения, пресеченного в каждом конкретном случае, и когда становится возможной совокупная квалификация покушения и соучастия. Однако указанным не ограничивается проблема их соотношения, поскольку она связана еще с негодным соучастием (соисполнением). Например, при изнасиловании один исполнитель держит потерпевшую за руки, помогая другому совершить половой акт, но второй отказывается от доведения преступления до конца (особенно наглядно подобное при первом исполнителе–женщине). Естественно, такое посягательство должно квалифицироваться как покушение на изнасилование.
В уголовном законодательстве зарубежных стран покушение находит отражение в качестве самостоятельного института, по крайней мере, мне не встретилось пока ни одного законодательного акта, в котором не указывалось бы покушение. Но в некоторых из них отсутствует общее понятие покушения (УК Голландии, УК Швейцарии). Так, в ст. 45 УК Голландии речь идет только о наказуемости покушения, специфика данного вида неоконченного преступления не отражена; в ст. 21, 22 УК Швейцарии выделены сразу оконченное и неоконченное покушение, определения самого покушения нет. Ни тот, ни другой из приведенных подходов, на наш взгляд, не годятся, поскольку прежде чем говорить о наказуемости чего–то, нужно иметь четкое представление о явлении, по поводу которого устанавливается наказуемость, и прежде чем классифицировать, необходимо знать то, что подвергается классификации. Приведенные УК явно игнорируют сам предмет должной регламентации.
В основной массе уголовных кодексов покушение определено ч. 2 ст. 25 УК Республики Узбекистан, ч. 3 ст. 32 УК Республики Таджикистан, ст. 29 УК Азербайджанской республики, ст. 43 УК Японии, ч. 4 ст. 15 УЗ Латвийской республики, ч. 1 ст. 15 УК Украины, ч. 3 ст. 24 УК Республики Казахстан, ч. 1 ст. 23 УК Китайской Народной Республики, ч. 1 ст. 14 УК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 18 УК Республики Болгария, ч. 2 ст. 15 УК Эстонской республики, ч. 1 § 21 УК Дании, § 22 УК ФРГ, ч. 1 ст. 16 УК Испании, ст. 1 главы 23 УК Швеции, ст. 13 УК Республики Польша, ч. 2 § 15 УК Австрии. При этом определения выглядят неоднозначно.
Прежде всего, все определения покушения можно разделить на две группы. К первой отнесем кодексы тех стран, которые раньше входили в СССР, а также отдельных стран, ранее входивших в социалистический лагерь (КНР). В них мы находим определения покушения, в максимальной степени тождественные тому, которое предложено УК РФ, при изредка встречающихся несущественных дополнениях или уточнениях (где–то речь идет о деянии вместо действия и бездействия или вместе с ними, где–то пытаются дополнить указанием на нормы Особенной части, где–то вместо «независящих от лица обстоятельств» употребляют фразу «по причинам, не зависящим от воли виновного» и т. д.). Подобное свойственно даже русофобным по нынешним временам Латвии и Эстонии. Особняком стоит УК Республики Узбекистан, в ч. 2 ст. 25 которого дано более лапидарное определение: «Покушением на преступление признается начало совершения умышленного преступления, неоконченного по независящим от лица обстоятельствам». Данное определение максимально приближено к тем, которые даны в законодательных актах второй группы — иных стран. В данной группе законов имеют место, как правило, краткие описания покушения. Так, в ст. 43 УК Японии при установлении наказания за покушение сказано: «Наказание лица, которое приступило к совершению преступления, но не смогло довести его до конца…»; здесь странным кажется начало определения покушения — «приступило к совершению преступления»; подобное было бы понятно, если бы данный закон не относил к преступлению приготовление; однако он это делает, признавая, соответственно, приготовление преступлением; отсюда и анализируемая законодательная фраза может быть вполне обоснованно отнесена и к приготовлению, что ведет к размыванию понятия покушения. Иное предусмотрено в § 22 УК ФРГ: «Покушается на уголовно наказуемое деяние тот, кто по своему представлению о деянии непосредственно начинает осуществлять состав преступления»; в данном случае, мы видим, в закон вводится субъективный момент («по своему представлению») и деяние отождествляется с составом преступления; ни того, ни другого нет в УК Японии.
В § 1 ст. 13 УК Республики Польша сказано: «Ответственности за покушение подлежит тот, кто с намерением совершить запрещенное деяние направляет свои действия непосредственно на его выполнение, которое, однако, не доводится до конца»; данное определение представляется максимально запутанным по нескольким причинам: а) ограничение запрещенного деяния только покушением, словно приготовление, также выделенное в законе (ст. 16 УК), не является запрещенным действием или бездействием; мало того, в общих нормах, определяющих время и место совершения деяния (ч. 1, 2 ст. 6 УК), которые несомненно относятся и к приготовлению как преступлению, присутствует только термин «деяние» как действие или бездействие; из чего можно сделать вывод, что деянием следует признавать и приготовление; б) сложное построение фразы «направляет свои действия непосредственно на его (деяние. — А. К.) выполнение», в которой вроде бы действия отделены от выполнения деяния, поскольку они только направлены на это выполнение деяния, тогда как реально деяние и есть действие или бездействие, т. е. лицо, совершая действия, исполняет деяние, а не направляет на его выполнение; указанное законодательное положение можно было бы отнести к неудачному переводу, однако точно так же или максимально похоже было определено покушение и в УК Польской Народной Республики 1969 г. (ч. 1 ст. 11); в) слишком длинное изложение субъективного момента покушения.
Еще более сложное определение покушения дает УК Швеции: «Лицо, которое начало совершать преступление и не довело его до конца, должно быть в случаях, когда существуют специальные положения для цели, приговорено за покушение на совершение преступления, если имелась опасность того, что действия могли привести к завершению преступления, или если такая опасность была предотвращена только благодаря случайным обстоятельствам» (ст. 1 главы 23). Указанная сложность малопонятна для исследователя, особенно на фоне того, что данный УК принят сравнительно недавно (в 1962 г.), но выглядит архаичным в сравнении с кодексами соседних европейских стран. На наш взгляд, в этом плане более точным является определение покушения в УК Австрии: «Покушение на деяние имеет место, если исполнитель воплощает свое решение совершить деяние или склонить другое лицо к его совершению посредством выполнения действия, непосредственно ведущего к его исполнению» (ч. 2 § 15); разумеется, если не принимать во внимание слишком широкое понимание исполнителя, приравнивание к нему всех соучастников (§ 12), ограничение соучастия только склонением, слишком широкое и одновременно слишком узкое выражение идеи покушения в законе и некоторые другие недостатки. Рассмотрение кодексов в указанном плане можно было бы продолжить, но и так ясно, что единства мнения по определению покушения в уголовных законах стран даже соседствующих нет или почти нет. Но ведь в каждой стране выделяют преступные действия по созданию условий и по исполнению (выполнению) преступления, что позволяет отнести к приготовлению первые и к покушению вторые; в каждой стране покушение связано с умышленностью поведения, в каждой стране так или иначе речь идет о назавершенности преступления при приготовлении и покушении.
Правда, по последнему вопросу, применительно к покушению, дело обстоит не так просто. Все уголовные кодексы по данному поводу можно развести на четыре группы. А) Кодексы, не отражающие неоконченного преступления, и оформляющие покушение как стадию совершения преступления. К таковым можно отнести УК ФРГ, УК Австрии и УК Испании; хотя в какой–то степени даже при их прочтении можно отнести покушение к неоконченному преступлению. Например, в ч. 1 ст. 15 УК Испании речь идет о наказуемости оконченного преступления и покушения, и поскольку последнее противопоставлено оконченному преступлению, то можно сделать вывод о признании покушения в законе неоконченным преступлением. То же самое мы видим и в УК Австрии, и в УК ФРГ. Только поэтому можно согласиться с А. В. Серебренниковой в том, что неоконченное преступление является одной из основных черт УК ФРГ[445]. Б) В законах не отражено неоконченное преступление, однако покушение оформлено в законе как неоконченное преступление. К ним можно отнести УК Японии, УК Республики Беларусь, УК Эстонской республики, УК Республики Казахстан, УК КНР, УК Дании, УК Республики Болгария, УК Швеции, УК Республики Польша, т. е. данные законодательные акты связывают покушение с тем, что преступление не доведено до конца. В) В законах отражено неоконченное преступление, к нему отнесено покушение, однако при определении покушения речи о недоведении преступления до конца не идет. Например, в УК Пенсильвании говорится о неоконченном преступлении (глава 9), к нему отнесено покушение без указания на то, что преступление не доведено до конца (§ 901). В принципе подобное вполне допустимо, но здесь отсутствует расшифровка понимания неоконченного преступления, ведь не случайно в абсолютном большинстве уголовных законов при определении покушения указано на незавершенность преступления; данное указание конкретизирует понятие покушения, помогает при установлении его. Поэтому более оптимальным представляется все–таки обязательное указание на то, что преступление до конца не доведено; подобное можно отразить либо при определении неоконченного преступления и отнесении к нему покушения, либо при определении покушения без указания о таковом при определении неоконченного преступления, т. е. достаточно какого–то одного места для отражения данного фактора. В УК Пенсильвании нет ни того, ни другого. Г) Кодексы, в которых отражено и неоконченное преступление в качестве родового признака, и покушение как его разновидность. К таковым можно отнести УК Республики Узбекистан, УК Республики Таджикистан, УК Азербайджанской республики, УЗ Латвийской республики, УК Украины; ни один из них не дает определения неоконченного преступления, отсюда вполне оправданным является отражение в определении покушения незавершенности преступления.
При этом необходимо остановиться и на причинах, в силу которых преступление не было завершено. В уголовных законах различных стран по–разному формулируются те факторы, из–за которых преступление не было окончено, что стало препятствием при исполнении преступления. Нам встретилось пять особенностей оформления таких сил в законах. Во–первых, уголовные законы, в которых о причинах не доведения до конца преступления ничего не сказано (УК Республики Польша, УК Дании, УК Японии, УК Республики Болгария); правда, при анализе этих кодексов и сравнении по ним покушения и добровольного отказа, можно сделать некоторые выводы: в УК Дании добровольный отказ связан с отсутствием случайных обстоятельств, следовательно, скорее всего, незавершенность преступления при покушении имеет место при наличии каких–то возникших случайных обстоятельств; в УК Японии добровольный отказ связан с волеизъявлением лица («по собственной воле»), следовательно, можно предположить, что при покушении помимо воли прерывается преступление; но по некоторым уголовным законам и такое сопоставление не помогает установить причины незавершенности преступления (УК Республики Польша), что едва ли следует признавать оправданным. Во–вторых, имеются уголовные законы, в которых в качестве причины прерывания преступления выступают случайные обстоятельства (например, УК Швеции). В третьих, в некоторых кодексах указано на неоконченность преступления «по независящим от лица обстоятельствам» (УК Азербайджанской республики, УК Республики Таджикистан, УК Республики Узбекистан, УК КНР). В-четвертых, по некоторым уголовным законам в качестве причин прерывания преступления указаны факторы, «независящие от воли виновного» (УК Украины, УК Эстонской республики, УК Республики Казахстан, УК Республики Беларусь). Таким образом, и в зарубежном уголовном праве одной из проблем, связанных с покушением, выступает оформление причин прерывания преступления. На наш взгляд, более точны те законодательные системы, которые связывают покушение с причинами, лежащими вне воли виновного, а не с обстоятельствами, от лица не зависящими, поскольку последние носят двойственный характер. Подобное можно рассмотреть на примере изнасилования, когда насилие уже имело место, но половой акт не совершен из–за отсутствия эрекции у виновного. Естественно возникает вопрос — зависит ли данное обстоятельство от виновного? Столь же естествен и ответ — разумеется, да, поскольку в сознании человека сработал механизм, деформирующий преступное поведение, т. е. мы столкнулись с обстоятельством, зависящим от лица, однако данное обстоятельство не способно исключить покушение как таковое. Именно поэтому мы и признаем более точным соотнесение причин пресечения с зависимостью от воли лица, поскольку это отражает реальное положение вещей. При этом мы отдаем себе отчет в том, что понятие воли весьма и весьма относительно, непонятно, но здесь мы не готовы вторгаться в теоретический спор по данному вопросу.
Из изложенного следует, что при создании возможного унифицированного кодекса необходимо отразить в норме о покушении указанные общие черты; на наш взгляд, таковым может быть признано деяние по исполнению преступления, не доведенное до конца по причинам, не зависящим от воли лица.
И последнее замечание. Зарубежное уголовное право, как правило, признает покушение всегда криминально значимым, но в некоторых законодательных актах все же уголовно–правовая значимость его дифференцирована. Так, согласно ст. 44 УК Японии покушение криминализовано лишь применительно к отдельным статьям Особенной части, в которых указано на наказуемость анализируемого вида неоконченного преступления. В ч. 1 § 23 УК ФРГ и ч. 4, 6 ст. 15 УЗ Латвийской республики криминально значимым признано покушение только на преступление, покушение на проступок не наказуемо (необходимо помнить, что в данных законах уголовно–правовые деяния разделены на преступления и проступки). В ч. 4 ст. 24 УК Республики Казахстан криминальная значимость покушения ограничена преступлениями средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими. Думается, ограничение криминальной значимости покушения едва ли приемлемо, поскольку при покушении само деяние является достаточно опасным, а в опасности виновного ничего не меняется — при покушении он остается столь же опасным и готов на продолжение преступление, которое не завершено помимо его воли.
Раздел IV
Добровольный отказ — разновидность неоконченного преступления
Неоконченная преступная деятельность выражается не только в пресеченном поведении, но и в добровольном отказе. Правда, сразу необходимо отметить, что действующий закон отрицает такое решение: «Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 2 ст. 29 УК); вот этот ограничительный перечень видов неоконченного преступления и должен привести правоприменителя к непризнанию добровольного отказа неоконченным преступлением. Однако на самом деле все обстоит иначе. Во–первых, глава 6 уголовного закона называется «Неоконченное преступление» и в данную главу входит добровольный отказ (ст. 31 УК), что дает основание отнести последний к неоконченному преступлению. Возникшее законодательное противоречие может быть разрешено в одном из двух направлений: либо добровольный отказ должен быть признан в ч. 2 ст. 29 УК неоконченным преступлением и соответственно оставлен в главе 6; либо он не признается неоконченным преступлением и должен быть выведен за пределы главы 6 в нынешнем ее наименовании. На наш взгляд, более точным и логичным является первое решение. Во–вторых, вся регламентация добровольного отказа свидетельствует о том, что до добровольного отказа существовало преступление. Так, в ч. 1 ст. 31 УК сказано, что «лицо осознавало возможность доведения преступления до конца», из чего следует, что до добровольного отказа уже осуществлялось преступление, которое благодаря добровольному отказу лишь не доведено до конца. То же самое мы находим и в ч. 2 (ст. 31 УК. Мало того, в данной части речь идет о том, что «лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление», т. е. наличие преступления закон не отрицает и только уточняет, что за него не наступает ответственность в силу известного обстоятельства.
В-третьих, сама логика развития преступления во времени и пространстве показывает, что до добровольного отказа уже имели место преступные действия по созданию условий и по исполнению преступления, которые по своей сущности ничем не отличаются от таких же при приготовлении и покушении, где они признаны преступлением. Все сказанное позволяет отнести добровольный отказ к видам неоконченного преступления и соответственно предложить урегулировать в ч. 2 ст. 29 УК еще и добровольный отказ как вид неоконченного преступления.
Социальная сущность добровольного отказа заключается в том, что лицо начинает совершать преступление, но в силу тех или иных причин прекращает преступное поведение по собственному волеизъявлению, в связи с чем преступный результат не наступает. Для общества же остается главным исключение вреда тем или иным общественным отношениям. Социальная полезность подобного значительно выше по сравнению с полезностью пресеченной преступной деятельности потому, что в таком случае не только прерывается преступное деяние, но уже и личность относительно ненаступившего преступного последствия становится непреступной, чего нет в пресеченном преступлении, хотя действия лица в какой–то их части остаются преступными. Таким образом, пресеченная преступная деятельность и добровольный отказ имеют общим наличие определенной стадии развития преступления и прерывание преступления на данном этапе, а различаются причинами прерывания и неопасностью личности добровольно отказавшегося. Выпадение личности из преступной сферы дает основание для исключения уголовной ответственности лица при добровольном отказе.
В теории уголовного права предложены различные понятия добровольного отказа. Некоторые авторы называют его добровольно оставленным покушением[446]. При этом намечается попытка реконструировать определения добровольного отказа, существовавшие в XIX в.[447] Подобное было бы оправданным, если бы оно содержало в себе позитивный момент. Однако указанная позиция в принципе неверна, поскольку она позволяет вновь смешать в одну массу различные виды неоконченного преступления. Ведь добровольный отказ не может быть покушением или приготовлением, так как у того и других различные основания прерывания преступления (по воле лица или помимо воли лица)[448]. Естественно, прерывание преступной деятельности по воле лица не способно одновременно выступать и в качестве прерванной помимо воли виновного деятельности. В связи с этим следует согласиться с теми криминалистами, которые считают, что добровольный отказ не является разновидностью покушения[449].
В целом же теоретически определения добровольного отказа отражают его сущность и особых возражений не вызывают. Например, Н. В. Лясс понимает под добровольным отказом «окончательный отказ лица от продолжения и доведения до конца задуманного им преступления при сознании объективной возможности продолжения начатой преступной деятельности»[450]. Здесь объективно отражены особенности анализируемого института уголовного права, хотя автор почему–то упустила факт прерывания преступления согласно волеизъявлению самого лица, совершающего его. Автор, похоже, поняла этот недостаток определения и позже исправила его: «Окончательный отказ лица по собственной воле в силу любых мотивов…»[451]. Несколько настораживает и оформление добровольного отказа путем применения термина «отказ», т. е. того же через то же.
Не избежал указанных недостатков и А. А. Пионтковский: «Добровольный отказ есть отказ от доведения начатой предварительной преступной деятельности до конца при наличии сознания фактической возможности ее окончания»[452], хотя сущность добровольного отказа и заключается в специфической причине прерывания преступления, которая в определении не нашла отражения.
В то же время в теории уголовного права высказываются предложения о введении в уголовный закон и определения добровольного отказа[453], чего в ранее действовавшем законе не было. Так, А. Д. Сафронов следующим образом осуществляет это: «Лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от совершения преступления, т. е. не доведшее деяние до конца либо предотвратившее его окончание…»[454]. При некоторых сохранившихся недостатках, которые указаны выше, автор пытается закрепить в законе позицию о двух разновидностях добровольного отказа (недоведение до конца и предотвращение его окончания).
Изложенное мнение нашло логическое продолжение в ст. 34 Теоретической модели УК: «Добровольным отказом от преступления является: а) прекращение приготовительных действий либо прекращение совершения преступления, если при этом лицо сознавало возможность окончить преступление; б) предотвращение наступления вреда, если при этом лицо сознавало возможность его наступления»[455]. В данном случае и А. Д. Сафронов, и теоретическая модель закрепляли в определении добровольного отказа уголовно–правовую категорию, вызывавшую наибольшие споры — считать ли добровольным отказом или деятельным раскаянием дачу противоядия лицом, которое сначала дало медленно действующий яд жертве, а затем в силу тех или иных причин решило не доводить преступление до конца; противоядие спасло жизнь потерпевшему. Отсюда и предотвращение наступления вреда как разновидность добровольного отказа. Разумеется, данное предложение следует признать обоснованным и позитивным, поскольку оно поставило бы точку в затянувшемся теоретическом споре, имевшем огромное практическое значение — исключать уголовную ответственность или привлекать к ней в указанной ситуации. К сожалению, в последующем законодатель изложенную идею не поддержал и судебная практика в указанной дискуссии остается по–прежнему один на один со своим правосознанием, не имея четких ориентиров для ее разрешения.
В ч. 1 ст. 18 Основ 1991 г. данная разновидность добровольного отказа исчезла, но уже законодательно оформляется определение добровольного отказа: «Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действий или бездействия, непосредственно направленного на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца». Такое же определение его планировалось и для будущего УК России ст. 23 ч. 1 Проекта УК, подготовленного Министерством юстиции России. И эти планы были реализованы в ч. 1 ст. 31 УК 1996 г., согласно которой «добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца».
Подводя итог сказанному, отметим следующее. Существует и закрепляется тенденция к оформлению в законе понятия добровольного отказа, что следует признать положительным результатом длительных теоретических дискуссий. В законодательном определении добровольного отказа ничего не говорится о причинах прерывания преступной деятельности (по воле виновного), однако введение термина «прекращение» снимает проблему[456], поскольку в русском языке прекратить означает перестать делать что–то; значит, данное слово обращено к самому деятелю (именно он перестает делать что–то) и характеризует его волеизъявление (перестать делать можно только по собственной воле). Не поддержано предложение о закреплении в законе двух разновидностей добровольного отказа, что едва ли можно отнести к положительным результатам. В законе указаны стадии совершения преступления, на которых возможен добровольный отказ. В нем также установлена субъективная сторона добровольного отказа — «лицо сознавало возможность доведения преступления до конца».
Отсюда видно, что характеристика добровольного отказа может включать различные признаки и их объем может быть большим или меньшим. Но всегда нужно помнить о том, что признаки любого явления подразделяются на основные, характеризующие его сущность, и дополнительные, которые также ограничивают явление, но сущности его не касаются. По мнению Н. Д. Дурманова, признаками добровольного отказа следует признавать окончательность отказа и его добровольность[457], эти же признаки отражены и в ч. 2 ст. 31 УК 1996 г., с чем только частично можно согласиться. Дело в том, что окончательность отказа — признак, в общем, важный для установления добровольного отказа — нельзя признать основным, отражающим сущность прекращенного поведения, поскольку он является общим, родовым для неоконченного преступления в целом и, соответственно, для каждого его вида. Сущность же добровольного отказа заключается в наличии определенной стадии развития преступления, прерывании преступления на этой стадии и существовании специфической причины прерывания (по воле лица). Указанные три признака и надо считать основными при определении добровольного отказа.
На каких же стадиях совершения преступления существует добровольный отказ? В теории высказаны точки зрения, согласно которым добровольный отказ невозможен при возникновении и обнаружении умысла[458] и на стадии оконченного покушения[459]. Отсюда следует вывод, что он единственно приемлем на стадиях создания условий и частичного осуществления деяния–исполнения. Оправданно ли подобное сужение сферы добровольного отказа? Едва ли. На наш взгляд, здесь опять смешиваются две самостоятельные проблемы неоконченного преступления: возможности его наличия и значения для права, в частности, для уголовного наказания.
Представляется странным само признание невозможности добровольного отказа на стадии возникновения замысла. Что препятствует отказу в осуществлении преступного деяния лицом, у которого возник замысел совершить преступление, однако никто об этом замысле пока не знает? Ничто и никто. И наверняка в жизни достаточно много случаев отказа лиц от реализации преступного замысла. Другое дело, что ни окружающие, ни органы правосудия не знают и не узнают, пока замысел, а с ним и отказ в его реализации, не будет обнаружен. Однако из этого вовсе не следует невозможность добровольного отказа на данной стадии. Может вызвать сомнение правовая значимость такого отказа, но не его наличие. Нужно согласиться с тем, что никакого отчетливо выраженного правового значения он не имеет. В то же время очень высоко его общесоциальное значение, если мы всерьез говорим о повышении социальной активности граждан, их позитивной ответственности.
И совсем непонятно непризнание возможности добровольного отказа при обнаружении замысла, когда преступный замысел становится очевидным для окружающих и (или) для органов правосудия. Здесь уже регистрируется в окружающем мире факт не только возникновения замысла и его обнаружения, но и отказа от реализации замысла. В такой ситуации добровольный отказ как обстоятельство, характеризующее личность, может иметь и уголовно–правовое (учет личности при назначении наказания виновному в совершении другого преступления), и криминологическое (более точное установление причин совершения преступления и уровня «давления» социальных условий на виновного) значения. При этом уже в принципе нельзя отрицать возможность наличия и правовое значение добровольного отказа, которое вовсе не умаляет наше безразличное отношение к его квалификации.
Несколько сложнее проблема возможности добровольного отказа при оконченном покушении. Прежде всего неясно, что понимают авторы под оконченным покушением — пресеченную деятельность определенного рода либо какую–то стадию совершения преступления? Если первое, то добровольный отказ абсолютно невозможен при покушении вообще, а не только при оконченном покушении в силу несовпадения оснований прерывания преступной деятельности. В свое время Н. Ф. Кузнецова критиковала фразу «добровольный отказ от приготовления или покушения»[460]. Свое несогласие с ней А. А. Пионтковский аргументирует тем, что «всякая терминология имеет в известном смысле условный характер»[461]. Поражает это безразличное отношение правоведов к условности юридической терминологии. Ведь слово дано человеку не только для того, чтобы его слышали, но и понимали друг друга; слово должно четко и недвусмысленно отражать предмет беседы. В уголовном праве, при применении которого решается судьба человека, особенно важно свести к минимуму условность терминологии, а не критиковать автора, пытающегося снизить данную условность. Вспомним сакраментальную фразу: «Казнить нельзя помиловать» и социальную значимость запятой, поставленной в том или ином месте ее. И это всего лишь знак препинания, а не слово.
Скорее всего, говоря об оконченном покушении, криминалисты имеют в виду специфическую стадию совершения преступления, при достижении которой волеизъявление лица, совершающего преступление, уже не влияет на развитие события и, соответственно, на квалификацию содеянного, не может ее изменить. И тогда вопрос переходит в плоскость деяния–исполнения, его завершенности и невозможности при этом добровольного отказа лица. Почему же невозможен добровольный отказ после завершения деяния–исполнения? Только потому, что виновный выполнил все действия, необходимые для наступления общественно опасных последствий? Действительно, причинная связь после завершения деяния–исполнения будет развиваться во времени и пространстве уже без дальнейшего вмешательства виновного. И тем не менее мы допускаем вмешательство в развитие причинной связи иных лиц после завершения деяния–исполнения, когда говорим о неоконченном преступлении в виде покушения. Почему мы признаем такое вмешательство объективно оправданным в отношении иных лиц и отрицаем право виновного на вторжение в развитие причинной связи или признаем за ним подобное право, но не считаем добровольным отказом такое прерывание преступной деятельности, благодаря которому задуманный преступный результат не наступил?
Представляется, правы те авторы, которые признают возможность добровольного отказа лица и после завершения деяния–исполнения в тех случаях, когда еще возможно вторжение исполнителя в развитие причинной связи и недопущение им наступления последствий поведения[462]. Ведь идея добровольного отказа как явления, всемерно способствующего изменению отношения лица к последствиям своего антиобщественного поведения и предотвращению их своими силами или силами других лиц, вовсе не извращается, а лишь усиливается благодаря расширению сферы влияния виновного на предотвращение последствий своего поведения. Да и так ли существенна разница в общественной опасности частично осуществленного и завершенного деяния–исполнения в тех случаях, когда преступный результат по воле лица не наступил, чтобы не признать в последнем добровольного отказа? Идея добровольного отказа от признания его возможности и при завершенном деянии–исполнении только выигрывает, поскольку правовые последствия оконченного преступления (назначение наказания) и не доведенного до конца по воле виновного преступления (исключение уголовной ответственности) столь существенно различаются, что в определенных ситуациях в отношении конкретных лиц данное различие может способствовать отказу от причинения последствий. Это тем более очевидно, что в уголовном праве зафиксировано исключение уголовной ответственности при отказе от причинения вреда даже в оконченном преступлении (ст. 204, 205, 206, 208, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 291, 307 УК РФ). В этом плане вполне обоснованна теоретическая позиция, согласно которой добровольный отказ возможен после завершения деяния, и соответствующее законодательное предположение о выделении двух разновидностей добровольного отказа при прекращении деяния и предотвращении наступления вреда, предложенное авторами Теоретической модели УК[463]. К сожалению, ни при принятии Основ 1991 г., ни при разработке Проекта УК России, ни в новом УК данное предложение не было воспринято. Таким образом, добровольный отказ возможен на любой стадии совершения преступления, кроме стадии наступления преступного результата.
Нужно ли это отразить в законе? Если надо, то как? Особые сомнения вызывает необходимость отражения в законе добровольного отказа на стадии возникновения замысла, поскольку нет уголовно–правовых оснований для его формулирования в уголовном законе, хотя с позиций социальной значимости такого отказа указание на него в законе вовсе не повредило бы добровольному отказу (ведь очевидно преимущество добровольного отказа на стадии возникновения замысла перед добровольным отказом на стадии завершения деяния–исполнения). И ради данного преимущества, ради, возможно, иллюзорного, но теоретически оправданного воздействия на неустойчивых лиц следовало бы ввести в закон добровольный отказ на стадии возникновения замысла, разумеется, если мы всерьез верим в предупредительную силу закона. Единственным препятствием к этому выступает то, что введение такого положения в закон создаст иллюзию наказуемости возникновения замысла при отсутствии добровольного отказа. Однако указанной иллюзии не должно быть, так как существует более общее уголовно–правовое правило, согласно которому уголовное преследование за мысли невозможно, уголовная ответственность наступает только за общественно опасные деяния. И введение добровольного отказа на стадии возникновения замысла не деформирует данное правило, а усиливает его дополнительным основанием исключения уголовной ответственности. Сомнений по поводу необходимости отражения в уголовном законе добровольного отказа на других стадиях совершения преступления вообще быть не должно, поскольку он приобретает в таких случаях и уголовно–правовое, и криминологическое значение.
Поэтому едва ли приемлемо предложение о регламентации добровольного отказа только при приготовительных действиях (приготовлении) либо «совершении преступления»[464] (прекращении деяния, «непосредственно направленного на совершение преступления»), нашедшем отражение и в Основах 1991 г., и в Проекте УК России, и в УК РФ 1996 г. В нем усматривается несколько недостатков. Во–первых, ограничен круг стадий совершения преступления, на которых возможен добровольный отказ (только создание условий и исполнение преступления, тогда как он должен быть значительно шире и включать все стадии, кроме наступления преступного результата). Во–вторых, напрасно законодатель вводит в определение добровольного отказа термин «приготовление», поскольку тем самым он создает иллюзию возможности добровольного отказа при приготовлении, чего в реальной жизни быть не может из–за противоположности определения причин прерывания преступления при одном и другом; вводит широкое и узкое толкование приготовления вместо того, чтобы максимально избегать применения оценочных категорий; противоречит сам себе, так как в законе приготовление понимается достаточно однозначно (ч. 1 ст. 29 УК), что исключает добровольный отказ при его наличии. Совершенно точно в анализируемом плане сформулировано данное правило в УК Голландии: «Ни приготовление, ни покушение на совершение преступления не имеют места, если преступление не было завершено исключительно по причине обстоятельств, зависящих от воли виновного» (ст. 46b), т. е. при добровольном отказе отсутствуют и приготовление, и покушение. В-третьих, некорректен термин «совершение преступления» применительно к исполнению преступления (об этом выше уже говорилось). Немногим лучше и часть фразы, отраженная в новом УК: «…непосредственно направленных на совершение преступления», в которой едва ли оправданны надежды законодателя на достаточную ясность действий, «непосредственно направленных», тогда как точными и определенными они не являются, поскольку при таком подходе совершение преступления выносится за пределы указанных действий (действия направлены на совершение преступления) и локализуется только в преступном результате, что абсолютно неприемлемо.
Думается, в определении добровольного отказа нужно указать стадии совершения преступления, что уже реализовано в УК РФ, но в более широком объеме: «…на всех стадиях совершения преступления, кроме наступления преступного результата». При подобном оформлении снимется еще один недостаток, заложенный и в Основы 1991 г., и в Проект УК. Дело в том, что там стадии сформулированы следующим образом: «… приготовительных действий либо … действия или бездействия, непосредственно направленного на совершение преступления…». Отсюда следует, что неприемлемо описание поведения при создании условий во множественном числе, а при исполнении — в единственном, поскольку, как правило, и то и другое многомоментно; необоснованно создание условий сформулировано только в качестве действия, а исполнение — в качестве и действия, и бездействия, так как бездействие в основе своей относится, наоборот, к созданию условий и лишь в исключительных случаях — к исполнению преступления. В УК РФ данный недостаток сохранился, хотя и в перевернутом виде: приготовление выражено в единственном числе, действия по исполнению преступления — во множественном.
Следующим важным признаком добровольного отказа выступает характер прекращения преступной деятельности, который может осуществляться либо в активной, либо в пассивной форме[465]. Для более глубокого рассмотрения вопроса необходимо выделить две группы лиц, совершающих преступления: исполнители, действующие единолично или в соучастии, и организаторы, подстрекатели, пособники. Кроме того, следует помнить о стадиях совершения преступления, на которых преступная деятельность указанными лицами прекращается.
Добровольный отказ исполнителя (соисполнителя) на стадии возникновения и обнаружения замысла существует, как правило, в пассивной форме (достаточно не совершать действий по созданию условий или исполнению преступления). На этапе создания условий добровольный отказ его заключается только в пассивном поведении[466], поскольку в какой бы форме ни создавались условия (путем действия либо бездействия) самим исполнителем, он должен при исполнении их использовать, применить, иначе результат наступить не может, поскольку создание условий само по себе не способно вызывать к жизни преступные последствия; если же они не используются, то налицо пассивное поведение. В этом плане мы должны четко различать поведение по прекращению преступления с иным сопутствующим поведением (например, уничтожением орудий совершения преступления, которое не изменяет характера прерывания–бездействия, а лишь усиливает его, в большей степени свидетельствуя об окончательности отказа). На стадии исполнения преступления, как уже указывалось, деяние возможно в форме действия и в редких случаях — бездействия. Отсюда добровольный отказ на анализируемой стадии осуществляется, как правило, в форме бездействия и иногда (при деянии–бездействии и предотвращении наступления вреда) — в активной форме[467], потому что прекратить бездействие можно только через его устранение, совершением действий по выполнению своих обязанностей. Поскольку по завершении деяния–исполнения причинная связь развивается самостоятельно без дополнительного приложения сил, преступный результат наступает при абсолютном бездействии субъекта, и прервать поступательное развитие причинной связи в такой ситуации можно только действием.
При добровольном отказе исполнителя возникают некоторые проблемы квалификации действий иных соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников). В такой ситуации на их действия можно посмотреть с двух сторон: 1) иные соучастники не отказывались от доведения преступления до конца и 2) иные соучастники также добровольно отказались. При анализе первого варианта необходимо помнить, что иные соучастники, как правило, действуют до исполнения преступления и их действия в любом варианте являются лишь вспомогательными для исполнения преступления. Именно поэтому все действия иных соучастников представляют собой создание условия для исполнения преступления. Добровольный отказ исполнителя влечет за собой либо оконченное иное соучастие, либо неоконченное. Коль скоро за основу соучастия мы взяли общий результат, то отказ исполнителя с необходимостью влечет за собой прерывание преступления, совершаемого в соучастии, соответственно — признание действий иных соучастников неоконченными на стадии создания условия, т. е. приготовлением. Всегда ли это так? Думается, нет. И вот почему. Исполнитель до добровольного отказа совершил общественно опасные действия либо по созданию условий, либо по исполнению преступления, либо те и другие. Если исполнитель совместно с другими создавал или не создавал условия для исполнения преступления и на этой стадии добровольно отказался от доведения преступления до конца, то вне всякого сомнения действия иных соучастников следует рассматривать как приготовление. Если исполнитель уже начал совершать действия по причинению вреда, то и в этой ситуации пока нет однозначной квалификации действий иных соучастников, поскольку, похоже, все зависит от того, применил или не применил он в исполнительских действиях «плоды» поведения иных соучастников. Если в исполнительских действиях уже было задействовано и поведение иных соучастников, то добровольный отказ исполнителя не исключает квалификации такого поведения как покушения, поскольку действия иных соучастников уже «вплетены» в исполнительские, представляют с ними единое целое. И коль скоро деятельность соучастников прервана на стадии исполнения, то и квалифицировать их нужно как покушение. Если же действия иных соучастников не нашли отражения в действии–исполнении до добровольного отказа, то их нужно квалифицировать как приготовление. Возможно существование и смешанного варианта, когда действия одних соучастников нашли отражение в исполнении, а действия других — нет, здесь действия первых будут представлять собой покушение, а действия других — приготовление.
Возникают в теории уголовного права сложности по определению добровольного отказа организаторов и подстрекателей. По данному вопросу сложилось две основных позиции. Одни авторы считают, что их добровольный отказ заключается главным образом в ликвидации созданного ими преступного замысла у исполнителя или иных соучастников, нейтрализация последствия иным путем (собственное вмешательство в развитие причинной связи, подключение правоохранительных органов и т. д.) не должна признаваться добровольным отказом[468]. Вторые пытаются обосновать наличие добровольного отказа указанных соучастников при любом их вторжении в развитие причинной связи, признавая главным ненаступление преступного результата[469]. Последняя точка зрения является господствующей в уголовном праве и не случайно воспроизведена и в Основах 1991 г., и в Проекте УК России: «Добровольный отказ организатора преступления, подстрекателя или пособника исключает уголовную ответственность, если лицо своевременно предприняло все зависящие от него меры для предотвращения совершения преступления» (ст. 18 ч. 3 Основ, ст. 23 ч. 3 Проекта УК). По форме иначе, а по сути так же сформулировано данное положение и в УК РФ 1996 г.: «Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение исполнителем преступления до конца» (ч. 4 ст. 31 УК).
Вполне понятно, что в целом добровольный отказ призван стимулировать преступников к непричинению вреда. Но дело в том, что организаторы и подстрекатели — два абсолютно различных вида соучастников; первые из них имеют дело с уже готовыми к совершению преступления лицами и объединяют, координируют или планируют деятельность соучастников, тогда как вторые представляют собой нечто иное: они порождают двойной вред — а) превращают правопослушных граждан в преступников и б) их руками стремятся причинить тот или иной вред общественным отношениям. Отсюда добровольный отказ каждого из указанных видов соучастников должен носить различный характер. Организатор может добровольно отказаться, если ликвидирует плоды своего труда, т. е. разъединит, декоординирует и уничтожит планирование их деятельности; при этом нужно понимать, что организаторская деятельность носит различный характер, что общественная опасность организатора зависит от круга выполняемых функций (один организатор только объединяет, другой — только координирует, третий — только планирует, четвертый выполняет две или три из указанных функций) и глубины их осуществления (создание большей или меньшей связанности действий соучастников). Разумеется, и добровольный отказ организатора должен заключаться в разрушении результатов только своих действий; и чем объемнее его функции, тем меньше возможность добровольного отказа организатора, и наоборот. Но при этом ясно одно — в обязанность организатора предотвращать доведение преступления до конца входит только в одном случае: если идея совершения преступления исходила от него, если он запланировал совершение преступления. В других ситуациях, когда идея и планирование преступления принадлежит другим соучастникам, организатор при добровольном отказе не должен предотвращать его. Именно поэтому не совсем точно приведенное положение уголовного закона в части обязательного предупреждения организатором преступления. Применительно к подстрекателям, на наш взгляд, закон также лишь частично точен; конечно, подстрекатель должен предотвратить совершение преступления, поскольку он склонил какое–то лицо к совершению конкретного преступления. Однако предотвращения преступления для добровольного отказа подстрекателя мало. То, что он своими действиями (сообщением в правоохранительные органы и т. д.) предотвращает второй вред, не предотвращая первый, показывает, что его отказ не является полным и потому не может быть признан обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. Кроме того, необходимо помнить еще о двух моментах.
В условиях все большего вхождения в рыночные отношения нашего общества и закрепления их получили тенденцию к отмиранию и в конце концов прекратили (хотя и не совсем) существование основные формы исполнения наказания с использованием принудительного труда осужденных (условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, исправительные работы, колонии–поселения, исправительно–трудовые колонии, воспитательно–трудовые колонии) либо некоторые из них существенно видоизменились. Резкое сокращение самоокупаемости основной массы осужденных, возложение материальных затрат по исполнению наказания на плечи общества приведет к необходимости рассчитывать уровень экономических расходов при исполнении наказания и по возмещению вреда потерпевшим. Поэтому экономический вред по исполнению наказания в отношении тех преступников, которые «созданы» организаторами и подстрекателями, чаще всего окажется значительно большим, нежели предотвращенный соучастниками вред. Так, даже меркантильный подход показывает неоправданность анализируемого положения.
Общество встревожено ростом организованной преступности, которая не может существовать без организаторов и подстрекателей. Но ведь при достаточно высокой организации преступления подстрекатель, не задумываясь, пожертвует одним исполнителем и частью преступного результата для сохранения преступной группы и основного преступного результата. В условиях наличия «общака» и финансирования из него семьи преступника и его самого такая «сдача» исполнителя подчас выгодна и самому исполнителю. Но подобное позволяет самому подстрекателю выйти «сухим из воды», поскольку его освободят от уголовной ответственности как добровольно отказавшегося. При этом мы еще способны удивляться росту организованной преступности, неэффективности уголовного закона и требовать введения новых норм, усиливающих ответственность организаторов и подстрекателей. Может быть, проще не исключать ответственности их, когда нет к тому приемлемых оснований, тогда и усиливать ответственность не придется? Давайте исполнять закон на надлежащем уровне, тогда не придется его изменять, т. е. только полное разрушение результатов своего поведения (и главным образом — негативного отношения исполнителя к общественным интересам, взращенного организатором и подстрекателем) должно признаваться добровольным отказом. Частично прав К. А. Панько, считающий, что добровольный отказ подстрекателя и организатора возможен лишь тогда, когда он приведет к добровольному отказу исполнителя[470]. Вполне очевидно, что добровольный отказ анализируемых видов соучастников носит лишь активную форму.
Добровольный отказ пособника уже не зависит в силу обусловливающе–опосредованной связи от преступного результата. Традиционно в теории уголовного права принято считать, что главное для пособника — устранить свой вклад в преступную деятельность (предупредить исполнителя об отказе от укрывательства, не передать исполнителю или изъять у него орудие совершения преступления и т. д.). Подобное поведение признается добровольным отказом, даже если исполнитель совершил преступление. Несколько неточным является законодательное решение по поводу добровольного отказа пособника: «Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления» (ч. 4 ст. 31 УК). Во–первых, в данном законодательном положении пособнику отводится только активная роль, тогда как он может и бездействовать при добровольном отказе. Данный недостаток законодательного определения сразу же взят на вооружение практиками. Так, М. Селезнев (Щелковский городской прокурор) пишет: «Если исполнитель может осуществить добровольный отказ от преступления как в форме пассивного, так и активного поведения, то иных соучастников способно освободить от ответственности лишь принятие активных мер (курсив наш. — А. К.) по предотвращению совершения преступления», при этом автор приводит полностью законодательное определение добровольного отказа пособника[471]. Очевидно, что практики всегда толкуют закон так, чтобы в возможно большем объеме реализовать обвинительный уклон. Во–вторых, пособник не обязан предупреждать преступление, это обязанность органов МВД и прокуратуры, а также в определенной части организатора и подстрекателя, и потому и в этом плане законодатель не прав. На наш взгляд, более точно отражает добровольный отказ пособника Модельный Уголовный кодекс 1996 г.: «Пособник не подлежит уголовной ответственности, если до окончания исполнителем преступления откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи» (ч. 4 ст. 33). Здесь максимально точно проставлены акценты: 1) ни о каком предупреждении преступления со стороны пособника здесь не говорится ни слова; 2) пособнику достаточно изъять свой вклад в совершение преступления; 3) данное изъятие вклада может быть осуществлено и путем действия (устранение результатов уже оказанной помощи), и путем бездействия (отказ от заранее обещанного содействия). Очень жаль, что данная формула добровольного отказа пособника не была воспринята Российским законодателем.
Прерывается преступная деятельность самим лицом по многим причинам, характер которых в целом значения не имеет. В теории следует считать устоявшимся мнение о том, что мотивы отказа значения не имеют[472]. Однако в реальной жизни все это оказывается лишь благими пожеланиями. М. Селезнев приводит в своей статье два уголовных дела по изнасилованию. Согласно первому из них, виновный Е. напал на женщину и начал с применением насилия ее раздевать; проезжавшая по вблизи расположенному шоссе автомашина осветила их фарами, и Е. с места происшествия скрылся. Пока следственные органы пытались решить проблему наличия или отсутствия добровольного отказа в действиях данного лица, Е. «вновь совершил аналогичное деяние в отношении другой женщины и опять–таки по причине сходных обстоятельств не довел его до конца». Суд признал в его действиях покушение на изнасилование и осудил. По второму делу также двое виновных напали на женщину, потащили ее от дороги в лес, порвали на ней одежду, но испугавшись шума проезжающей по дороге машины, «бросили потерпевшую и скрылись в лесу». Суд признал их виновными в покушении на изнасилование, однако в кассационной инстанции приговор был отменен, было признано наличие добровольного отказа и вменено хулиганство. Подводя итог приведенным примерам, автор далее пишет: «Если оценивать ситуацию без учета внутренних мотивов поведения виновных, можно констатировать наличие добровольного отказа. Но если углубиться в анализ психологических причин такого поведения, то со всей очевидностью можно заключить, что оно вызвано чисто внешними, не зависящими от данного лица обстоятельствами, о которых говорится в ч. 3 ст. 30 УК РФ, т. е. имело место покушение на преступление. Лицо в силу обстоятельств было вынуждено отказаться от доведения преступления до конца»[473]. Нам представляется, что суд был не прав, когда в первом и втором примерах не признал добровольного отказа; не прав и автор, поддерживающий подобные решения; заслуживает одобрения решение кассационной инстанции по данному вопросу, хотя надо признать абсолютно неприемлемым наличие квалификации по норме о хулиганстве, поскольку общественный порядок понимается судом чрезмерно широко. Здесь по существу следует несколько проблем: а) есть ли мотивы, при которых исключается добровольный отказ; б) на чем базируются мотивы; в) какие препятствия внешнего характера создают добровольный отказ, а какие — нет.
Мы готовы поддержать традиционно сложившуюся позицию о том, что мотивы значения не имеют, т. е. ни жалость к потерпевшей, ни сострадание к жертве, ни страх перед наказанием, ни угроза разоблачения, что равносильно страху перед наказанием, не должны становиться препятствием для признания прерывания преступления добровольным отказом. В приведенных же автором примерах речь идет именно о таких мотивах (страх, что помешают совершить преступление, что преступление раскроется), которые не должны исключать добровольного отказа.
М. Селезнев прав в одном, что мотивы добровольного отказа имеют выход на какие–то внешние факторы; они — препятствия объективного или субъективного характера, ставящие заслон продолжению преступления в сознании и поведении человека. Мы должны понимать, что данное конкретное лицо задумало совершить преступление и начало осуществлять свой замысел, совершая определенные действия. И вдруг данное лицо делает поворот на 180 градусов и прекращает преступную деятельность. Что произошло, почему данное лицо кардинально изменяет свое отношение к содеянному, почему преступление перестало его устраивать? Можно сколько угодно говорить об изменении отношения лица к своему действию, все это не решает вопроса о причинах содеянного. А существующая расхожая фраза о том, что мотивы при этом значения не имеют, сводит на нет поиски этих причин; мало того, приводит к многочисленным ошибкам в судебной практике. Давайте все же мы сведем воедино мотивы и реальный мир.
Как же определить, не захотел человек довести преступление до логического конца или не смог по причинам, от него не зависящим? По существу, это главный вопрос добровольного отказа; от ответа на него зависит правильное решение по тому или иному уголовному делу. В Основах 1991 г. и в Проекте УК России указывалось лишь на субъективный момент: «Прекращение действия… лицом… при сознании им возможности доведения преступления до конца», такое же решение мы находим и в УК РФ. Уголовный закон следующим образом решает его: «…Если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца» (ч. 1 ст. 31 УК). Таким образом, мы видим, что законодатель отдал предпочтение субъективному моменту разграничения добровольного отказа и пресеченной деятельности, поскольку делает основной упор на осознание определенного факта. Подобное решение исходит из русского уголовного права (Калмыков, Неклюдов, Кистяковский, Таганцев и другие)[474]. При этом А. Н. Круглевский писал: «По нашему убеждению, при решении вопроса о значении добровольного отказа от покушения, по действующему праву, необходимо различать случаи двоякого рода. Во–первых, возможно, что преступление не было доведено до конца, вследствие возникновения физических к тому препятствий. В этом случае покушение безусловно подлежит наказанию. Во–вторых, возможно, что деятельность виновного приостановилась вследствие возникновения в его душе противодействующих реализации мотивов. В этом случае признание покушения добровольно оставленным и ненаказуемым должно стоять в зависимости от того, было ли давление этих мотивов непреодолимым для среднего человека или нет: первое условие не освобождает виновника покушения от наказания, а второе — освобождает»[475]. Мы видим, что уже столетие тому назад, исходя из традиций, пытаются внедрить только субъективное представление об основаниях добровольного отказа («преодолимые или непреодолимые мотивы в душе»). Но при этом любому человеку понятно, что указанные мотивы возникают не на пустом месте, что мотивация базируется на объективных факторах. Не случайно А. Н. Круглевский, приводя пример преодолимого мотива, говорит об отказе лица от хищения в силу малоценности предмета[476], т. е. существует какое–то объективное препятствие, которое и порождает в сознании лица соответствующую мотивацию.
Сегодня практики признают приведенное положение закона отвечающим интересам правосудия. В этом плане показательно мнение М. Селезнева: «Представляется, что следует избегать расширительного толкования такого интеллектуального момента добровольного отказа, как наличие у лица осознания возможности доведения преступления до конца, ибо это может привести к необоснованному освобождению от уголовной ответственности (курсив наш — А. К.)»[477]. Попробуем разобраться во всем этом. Во–первых, анализируемый субъективный момент может быть растолкован на практике и узко, и широко. Во–вторых, при узком толковании данного законодательного положения ограничивается круг добровольного отказа и реже лицо «освобождается» от уголовной ответственности. В-третьих, при широком толковании, наоборот, расширяются пределы добровольного отказа и чаще применяется «освобождение» от уголовной ответственности. В-четвертых, наглядно проиллюстрирована обвинительная позиция правоприменителя, хотя здесь мы столкнулись с прокурором, обязанным осуществлять надзор за законностью. Автору даже в голову не приходит мысль об узком толковании закона с тем, чтобы возможно меньший круг лиц оказался наказанным; мы должны помнить, что в данном случае вред не наступил, лицо само прекратило дальнейшую деятельность по доведению преступления до конца и лишь ведется спор о толковании соответствующего законодательного термина, который не исключает отсутствия вреда, а только ставит под вопрос добровольность прекращения деятельности; и если бы автор узко толковал закон, то на вполне законных основаниях не привлек бы к уголовной ответственности данное лицо. Вот эта возможность узко или широко толковать закон настораживает в приведенном положении УК и делает его мало приемлемым в качестве единственного основания добровольного отказа. Тем не менее и субъективный момент в определенных ситуациях может оказаться весьма полезным при установлении добровольного отказа.
На наш взгляд, не будь указанного препятствия, преступление было бы доведено до конца. Что это за препятствия? Отличие таких препятствий от имеющихся при пресечении преступной деятельности заключается в том, что они сами по себе не могут остановить преступление, а лишь ставят совершителя перед разрешением дилеммы: продолжать преступление или прервать его. Окончательное решение — за лицом, совершающим общественно опасное деяние. Поэтому и возникает проблема значимости препятствия для добровольного отказа. Издавна в теории уголовного права некоторые авторы выделяли абсолютные и относительные препятствия[478]. И сегодня в теории уголовного права выделяются препятствия непреодолимые и затрудняющие[479]. Наличие непреодолимых (абсолютных) препятствий влечет за собой непризнание прерывания преступления добровольным отказом[480]. Но как определить непреодолимость препятствия? По мнению ряда ученых, не может быть добровольного отказа, когда возрос риск разоблачения, раскрытия преступления, хотя и имеется возможность довести преступление до конца[481]. Здесь необоснованно сужается объем добровольного отказа, что также было отмечено в литературе[482].
Препятствие признается непреодолимым, когда невозможно продолжение преступления[483]. Об этом же сказано и в постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об изнасиловании» от 25 марта 1964 г.: «Не может быть признан добровольным и, следовательно, устраняющим ответственность отказ, который вызван невозможностью дальнейшего продолжения преступных действий вследствие причин, возникших помимо воли виновного»[484]. Это же продублировано и в более позднем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изнасиловании» от 22 апреля 1992 г.[485] К сожалению, слова «невозможностью дальнейшего продолжения преступных действий» ничуть не конкретизируют ситуацию, оставляют широкие пределы для толкования, благодаря которому соотношение «добровольный отказ — пресеченная деятельность» в спорных ситуациях нередко разрешается в пользу последнего, т. е. признается покушением, но не добровольным отказом. Однако положительным в данном судебном решении является то, что в нем берется за основу объективный факт возможности или невозможности дальнейшего продолжения преступной деятельности. Позитивным это следует признавать потому, что Пленум избрал логически правильный и завершенный путь определения стадий совершения преступления и на их основе — видов неоконченного преступления либо оконченного преступления по единому объективному основанию. Ведь и стадии совершения преступления отличаются друг от друга по общему правилу по характеру совершенных действий, и виды неоконченного преступления разграничиваются друг с другом по характеру совершенных действий; при этом осознание или неосознание чего–либо, в целом, конечно же, — криминально значимое, специфического значения не имеет. Отсюда основу добровольного отказа составляет объективная возможность продолжения преступной деятельности, отсутствие непреодолимых препятствий и тем не менее прекращение преступной деятельности по желанию лица, начавшего ее. Нам такой подход представляется приемлемым, поскольку важным для добровольного отказа является не столько осознание, сколько реальность продолжения преступной деятельности. Тот факт, могло ли лицо реально довести преступление до конца, является не только решающим, но и таковым, которое может быть достаточно просто объективно доказанным, тогда как субъективный момент в доказывании чрезвычайно сложен и несет в себе довольно высокую степень ошибочности.
Таким образом, при определении добровольного отказа нельзя отдавать полное предпочтение только субъективным или только объективным факторам. Лишь анализ тех и других в совокупности позволяет правильно решить вопрос о наличии или отсутствии добровольного отказа. В этом плане интересно посмотреть на главные формы соотношения объективного и субъективного в неоконченной преступной деятельности: 1) наличие препятствия, адекватно отраженного в сознании лица и вызывающего прерывание преступной деятельности помимо воли виновного в чистом виде (например, задержание преступника на месте совершения преступления); 2) наличие иного непреодолимого препятствия, не адекватно отраженного в сознании лица и вызывающего прерывание преступной деятельности помимо воли лица; 3) наличие затрудняющего препятствия, адекватно отраженного в сознании лица и вызывающего отказ по воле лица довести преступление до логического конца; 4) отсутствие препятствия, но субъективное моделирование его, вызывающее отказ по воле лица от окончания преступления. В первой ситуации интересы объективно возникших обстоятельств и интересы преступника абсолютно противоположны: преступник стремится довести преступление до конца, а объективные факторы ему эффективно препятствуют. Именно здесь мы имеем дело с пресечением преступной деятельности. Во второй те и другие интересы по объему совпадают, объективные обстоятельства активно противодействуют преступлению, но создается иллюзия, что преступник вроде бы сам отказывается от завершения преступления. И если мы за основу примем субъективный фактор, то в данной ситуации должны будем признать оправданным добровольный отказ. Однако такого нет и быть не может в связи с тем, что субъективный момент существенно корректируется объективными обстоятельствами, которые являются непреодолимыми для субъекта. Совместное рассмотрение объективных и субъективных факторов позволяет сделать вывод о наличии в данном случае отказа, но не добровольного, а вынужденного, т. е. опять–таки пресеченной преступной деятельности. В третьей ситуации объективные обстоятельства сами по себе не способны прервать преступную деятельность, возможность доведения преступления до конца сохраняется, субъективный фактор в определенной степени превалирует над объективным, лицо реализует свой выбор в пользу прекращения преступного деяния и неоконченное преступление обоснованно рассматривается как добровольный отказ. В четвертой невозможно установить данного соотношения интересов, поскольку отсутствует объективное препятствие к окончанию преступления. Имеющийся субъективный фактор (отказ от причинения вреда общественным отношениям) нельзя признавать вынужденным в силу отсутствия препятствия. Субъективно надуманные препятствия мы учитывать не должны, так как они не могут быть объективно оценены с позиций их непреодолимого или затрудняющего характера, что разделяет пресечение и прекращение преступления. Учитывая это, а также то, что вред общественным отношениям не причинен по воле лица и ничто ему реально в этом не препятствовало, следует и в данном случае признать добровольный отказ. В данной ситуации мы видим превалирующее значение субъективного момента, не вступающего в противоречие с препятствием, которого нет.
Данное решение особенно очевидно с позиций соотношения препятствий субъективного характера с волеизъявлением лица. Во всех случаях отказа от окончания преступления по субъективным причинам (жалость к потерпевшему, страх перед заболеванием и т. д.) они представляют собой большего или меньшего объема круг моральных, психических установок, через которые лицо «перешагнуть» не в силах. Благодаря им человек имеет в сознании своего рода непреодолимые препятствия, субъективно непреодолимые. Однако окружающие вовсе не признают их непреодолимыми, поскольку отсутствует объективная непреодолимость. Кроме того, необходимо помнить, что указанного рода субъективные обстоятельства являются по существу позитивными характеристиками личности, за которые, конечно же, нельзя наказывать.
Поэтому в теории уголовного права устоялась точка зрения, согласно которой отказ по субъективным причинам признается добровольным. Не является исключением из данного правила и надуманность препятствий, хотя бы и субъективно непреодолимых.
Предположим, А. преодолел сопротивление потерпевшей К. и готов был совершить насильственный половой акт, но, услыхав от К., что она больна гонореей (сифилисом, СПИДом), отказался от задуманного. Будет ли здесь добровольный отказ, ведь причина возникла помимо воли виновного? Имелась ли в данном случае возможность окончания преступной деятельности? На указанные вопросы должен следовать положительный ответ. Во–первых, под невозможностью дальнейшего продолжения преступления, по–видимому, необходимо понимать только объективную неспособность деяния развиваться во времени и пространстве благодаря возникшему препятствию. Все остальные ситуации должны признаваться связанными с возможностью продолжения преступной деятельности. Во–вторых, в теории уголовного права традиционно признается отказ в силу страха перед наказанием. Думается, страх перед венерическим заболеванием или реальным разоблачением с социальных позиций не более, нежели страх перед наказанием. Даже максимально выраженные последствия того и другого (предположим, смерть от СПИДа или смерть в результате применения исключительной меры наказания) социально равнозначны как последствия. Именно поэтому предполагаемое венерическое заболевание потерпевшей является затрудняющим, но не непреодолимым препятствием. Затрудняющее же препятствие не исключает добровольного отказа[486]. В этом плане не прав Д. Е. Дядько, отрицающий возможность отказа при наличии затрудняющих факторов[487], поскольку при любых затрудняющих препятствиях реально возможно продолжение деяния во времени и пространстве, и во власти виновного остается прекращение развития его. Здесь приобретает особую социальную значимость собственное волеизъявление лица по прекращению преступной деятельности, когда отказ по воле лица от доведения преступления до конца следует признавать добровольным.
Несколько перекликается с данной позицией мнение К. А. Панько о том, что не будет добровольного отказа, если лицо столкнулось с препятствием преодолимым, но более существенным, чем ожидал субъект[488]. Эта позиция положительно оценивается практикой. Так, М. Селезнев приводит пример с изнасилованием, когда потерпевшая оказывала активное сопротивление, виновный почти раздел потерпевшую, однако бросил ее и скрылся. И вот здесь самое интересное: «Теоретически можно предположить, что, предприми К. чуть больше усилий, он довел бы реализацию умысла до конца. Такая возможность им осознавалась (курсив наш. — А. К.). Тем не менее суд совершенно правильно расценил его отказ вынужденным, по причине активного сопротивления потерпевшей, на которое он не рассчитывал, что и стало непредвиденной трудностью; суд признал в его действиях наличие покушения на изнасилование»[489]. Страшно в данной ситуации то, что автор приводит и объективное основание добровольного отказа (Верховный Суд прямо указывает на невозможность продолжения преступной деятельности как обстоятельство, исключающее применение добровольного отказа), а здесь прямо указано, что продолжение посягательства было возможно; и субъективное основание добровольного отказа, отраженное в законе (закон указывает на осознание возможности доведения преступления до конца как основание добровольного отказа), на наличие которого указывает и автор; тем не менее прокурор считает, что суд поступил правильно, не применив норму о добровольном отказе. На наш взгляд, это ничуть не похоже на законность и правосудие. Указанная посылка в качестве общетеоретического положения представляется неоправданной[490]. Во–первых, главной задачей добровольного отказа является постановка перед преступником дилеммы продолжения преступной деятельности и, соответственно, претерпевания наказания либо самостоятельного, на основе собственного волеизъявления отказа от причинения вреда существующим общественным отношениям и неприменения к нему уголовной ответственности. Естественно, общество должно сделать максимум того, что позволяло бы лицу реализовать возможность непричинения преступного последствия. Об этом писал еще Росси: «Мудрое уголовное законодательство должно стремиться к тому, чтобы своими постановлениями не увеличивать побуждение к совершению преступлений и усиливать мотивы к несовершению последних, а следовательно, давать побуждение преступнику к возврату с преступного пути»[491]. Позиция же К. А. Панько и судебной практики сужает границы такого возврата. Во–вторых, в той или иной степени существенность препятствия для добровольного отказа значения не имеет, поскольку остается возможной реализация собственного волеизъявления лица, направленного на прекращение посягательства путем вторжения в развитие причинной связи. Главным остается наличие или отсутствие непреодолимого препятствия.
Известную трудность при рассмотрении данной проблемы представляют собой сложные преступления, в которых преодоление любого препятствия (и в меньшей, и в большей, и в самой высокой степени) отдельно могло привести к установленному законом последствию. Наглядным примером подобного служит изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РСФСР), сопряженное, в частности, с насилием, довольно глубоко дифференцированным в законе (от обыкновенного захвата рук до менее тяжких телесных повреждений), которое тесно связано с характером препятствия (сопротивлением потерпевшей): чем активнее сопротивление, тем сильнее насилие, т. е. чем существеннее препятствие, тем значительнее характер его преодоления. Здесь вроде бы относительно равноценные сопротивление и насилие создают самостоятельный «блок» уголовно–правового деяния, признаваемый отдельным изнасилованием вне зависимости от того, применил или нет преступник более эффективные средства посягательства. Активное сопротивление потерпевшей на данном уровне посягательства, свидетельствующее о невозможности доведения преступления до конца, и отказ преступника от доведения преступления до конца без применения более эффективных средств насилия, которые, по мнению виновного, также бесперспективны, свидетельствуют вовсе не о добровольном отказе, а о пресеченной преступной деятельности, так как в сложном преступлении отражаются отдельные преступления с различным характером общественной опасности. Более существенное препятствие в таком случае требует либо активизации насилия с выходом на более опасное преступление в рамках нормы уголовного права, либо прерывания преступления в связи с наличием более существенного препятствия, которое не может быть признано добровольным отказом. И только в этом плане К. А. Панько прав.
Однако именно относительно изнасилования возникает еще одно обстоятельство, которое начинает дифференцировать изложенное. Необходимо помнить о том, что при первом половом контакте многие женщины мнимо отказываются от него, оказывая даже некоторое сопротивление. Мужчины знают об этой игре и многие отказываются от ее продолжения, игнорируя насмешки друзей и презрение самой женщины, а некоторые, понимая мнимость сопротивления, готовы на ее продолжение. Вот тут и возникает проблема установления мнимости или действительности сопротивления и соответствия насилия этому мнимому сопротивлению. К сожалению, коль скоро факт полового акта или его возможности стал достоянием общественности, многие женщины из мнимо сопротивляющихся никогда в этом не признаются и на этом фоне любое насилие, даже самое незначительное, применяемое мужчиной, может стать криминально значимым. Поэтому на следствие и суд по половым преступлениям ложится двойная задача: установить не только факт насилия в отношении жертвы, но и насколько безосновательны были половые притязания мужчины. Если следствием будет доказана основательность таких притязаний (женщина пригласила к себе на ночь, беспрепятственные поцелуи, ласки и т. д.), то следует признать и основательность некоторого насилия (захват рук, раздевание и т. п.), и добровольность отказа при нежелании оказывать большее насилие для преодоления хотя бы и мнимого сопротивления.
Правда, здесь возникает дополнительная проблема — характера насилия при мнимом сопротивлении, т. е. до какого предела может дойти мужчина, преодолевая мнимое сопротивление. Думается, до причинения вреда здоровью, поскольку довольно часто мнимое сопротивление женщины при активном насилии мужчины перерастает в действительное сопротивление; в таких случаях граница между мнимым и действительным сопротивлением будет крайне размыта и мужчина может поставить себя под удар социального воздействия. Таким образом, при доказанном мнимом сопротивлении и обоснованности половых притязаний мужчины, прекращение мужчиной физического насилия до начала причинения вреда здоровью следует признавать добровольным отказом. Но и здесь возможны исключения из правила. Так, благодаря Л. Захер–Мазоху, стал широко известным феномен мазохизма, при котором человек получает сексуальное удовольствие и при применении к нему физического насилия. Отсюда возникают проблемы добровольного отказа мужчины и при более интенсивном насилии, применяемом к женщине при осознании им сексопатологических особенностей полового партнера. Особенно очевидно подобное при совпадении садо–мазохистских интересов половых партнеров. В прессе рассказано о случае, который демонстрирует подобное довольно наглядно. 27 мая 2001 г. бригада Службы спасения в одной из московских квартир обнаружила труп привязанного к кровати мужчины с оторванными гениталиями. Здесь же находилась агрессивно настроенная гр. О. с засохшей на лице кровью. В публикации приведен дневник «потерпевшего» К., который для удовлетворения своих мазохистских устремлений через сферу знакомств вышел на О. На одном из первых свиданий К. подписал своей кровью обязательство: «Обязуюсь быть покорным, принимаю все требования моей госпожи и буду подчиняться, каким бы жестоким оно ни казалось. Раб госпожи Жанны»; этим рабом стал выпускник МГТУ им. Баумана. Выдержки из дневника: «3 февраля. От ударов по лицу у меня горели щеки. На теле образовались припухлые рубцы. На руке стэк содрал кожу до крови, я возбудился… Эта игра дала мне то, о чем я мечтал столько лет. Наконец–то почувствовал настоящее удовлетворение… 4 апреля. Я лежал на кровати, привязанный руками к спинке. Жанна прокалывала мне соски иголками. Проступающую кровь слизывала языком. Потом вдруг вскочила на меня прямо на каблуках. Я стал извиваться от боли, пытаясь выплюнуть кляп. Она заорала… и наступила мне на горло. Я хрипел, чувствуя панический ужас! Потом страх сменился эйфорией и невероятным возбуждением. И наконец я испытал оргазм, который был словно взрыв… 26 мая. Прошла неделя. Я не могу ничего делать, все валится из рук. Пойти к ней, что ли? Боюсь. Но не убьет же она меня в конце концов. Или все–таки убьет? Мы заигрались. Только послать все это к чертям уже невозможно. Надо же, как мне «повезло» в жизни — любовь возможна только с болью и никак иначе». О. после суда, признавшего ее невменяемой и назначившего принудительную меру медицинского характера, сказала психиатру: «Чем сильнее я его любила, тем труднее мне было остановиться»[492]. Не вступая в дискуссию по поводу реальности изложенного события, тем более, что похожий случай стал основой замечательного фильма Н. Ошимы «Империя чувств», отметим, что и ту, и другую стороны в совершаемом устраивало насилие. Очень похоже, что здесь нет ни виновных, ни жертв, по крайней мере — до определенного момента. До какого? Разумеется, главной проблемой в данной ситуации является согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность содеянного, о включении которого в структуру указанных обстоятельств писал довольно давно А. Н. Красиков[493], хотя анализируемую нами здесь проблему он не рассматривал; данная проблема остро актуальна и сегодня, особенно на фоне разрешенной в Нидерландах и в Великобритании эфтаназии. Нас согласие потерпевшего в пределах представленной работы не интересует, однако интересует тот предел насилия, за которым уже невозможен добровольный отказ, но до которого он вполне приемлем. Вернемся к тому, что К. в своем обязательстве предоставил О. полную свободу действий по причинению ему физического вреда и даже опасение причинения ему смерти не остановило его и он в последний раз пришел на квартиру к О. Суд «спасло» то, что О. была признана невменяемой и что она причинила смерть, согласие на которую едва ли входило в планы К. А если бы не было ни того, ни другого и суд столкнулся бы с тем или иным причинением физического вреда? Думается, что в таком случае проблема добровольного отказа (если мы по–прежнему будем обходиться без согласия потерпевшего в законе) встала бы в полной мере.
Однако мы понимаем скудность своих познаний в исследуемом предмете, а также глобальную значимость данных проблем, заключающуюся в том, что здесь возникают вопросы судебной психиатрии и судебной психологии (насколько указанные патологии приближены к невменяемости) и свою неготовность дать какие–либо более глубокие рекомендации по добровольному отказу применительно к данному предмету.
Подобных проблем не возникает в иных видах применения насилия, когда любое физическое или психическое насилие, отраженное в норме УК, становится криминально значимым вне зависимости от характера и интенсивности (например, при завладении имуществом любое насилие криминально значимо и т. д.). Поэтому в таких ситуациях добровольный отказ возможен только до начала применения отраженного в норме Особенной части УК насилия. Хотя при этом нужно разделять такие нормы на две части: одни из них регламентируют собственно насилие, другие регламентируют насилие в качестве средства достижения иного результата (предположим, завладения имуществом). Отсюда в первом варианте указанное правило действует в полном объеме, во втором варианте добровольный отказ может выглядеть несколько иначе, поскольку он становится возможным и после окончания насилия, но уже применительно к основному объекту посягательства (в приведенном примере, к собственности), т. е. насилие криминально значимо и в объем добровольного отказа включено быть не может; добровольный отказ распространяется только на преступление против собственности; в этом ничего особенного нет, так как здесь действует правило ч. 3 ст. 31 УК.
Не исключает такого решения и наличие фактической ошибки лица в вопросе о возможности продолжения преступления[494]. В данном случае вовсе не понятна позиция Д. Е. Дядько, в целом признающего возможность добровольного отказа при фактической ошибке по отношению к наличию и характеру препятствий, тем не менее считающего, что «отсутствует добровольный отказ, если субъект отказывается от окончания начатого преступления под давлением существующих в его представлении внешних препятствий, хотя в действительности их и не было»[495]. Здесь речь идет о фактической ошибке относительно наличия непреодолимого препятствия, когда лицо считает невозможным окончание преступления в силу представляемого им препятствия, тогда как в действительности окончание преступления вполне реально. Возникает странное положение: в случае, когда объективно существующие обстоятельства заставляют лицо отказаться от доведения преступления до конца, мы признаем добровольный отказ (за исключением наличия непреодолимого препятствия), а если препятствие объективно отсутствует, но оно выдумано субъектом, то мы отрицаем добровольный отказ. Вполне понятно, что указанное положение возникло на основе приоритета субъективного в добровольном отказе, хотя и сами сторонники данной точки зрения признают, что «нельзя отбрасывать и объективные обстоятельства»[496], тем более «что в основе института добровольного отказа лежат интересы предотвращения преступления»[497].
При добровольном отказе прекращается преступная деятельность самим лицом, совершающим преступление. Как правило, такое лицо действует (бездействует) с прямым умыслом[498], поскольку осознает реальную возможность наступления преступного последствия своего поведения и желает предотвращения общественно опасного результата. Соглашаясь со сказанным, тем не менее отметим не совсем точное применение термина «прямой умысел» к факту желаемого прекращения преступной деятельности. Все–таки умысел в уголовном праве — форма вины, разновидность негативного психического отношения к общественным интересам. В анализируемом же случае идет речь о социально–позитивном отношении лица, и поэтому данный термин лучше не применять, заменив его термином «намерение». Намеренность добровольного отказа имеет место и в умышленных, и в неосторожных преступлениях.
Но относительно последних необходимо уточнение. Как правило, неосторожные преступления регламентируются уголовным законом лишь при наличии тех или иных последствий. При существующей доктрине только умышленного неоконченного преступления прерывание неосторожного преступления становится безразличным для уголовного права, соответственно, и причины прерывания преступления (помимо воли виновного либо по его воле) остаются за рамками значимых, и разновидности неоконченного преступления (приготовление и покушение либо добровольный отказ) остаются нейтральными для закона. С этим можно примириться, чтобы не расширять уголовную ответственность по кругу лиц. Однако в законе выделены и неосторожные посягательства без последствий (составы постановления в опасность), при практическом применении которых подчас очень важно устанавливать причины прерывания такого преступления и соответствующую разновидность неоконченного преступления, поскольку последствия их существенно различаются.
В последнее время все настойчивее пробивает себе дорогу стремление к урегулированию уголовным законом и правовых последствий добровольного отказа. Подобная позиция была заложена в теоретической модели УК[499], в Основах 1991 г. и Проекте УК России, но сформулировано различным образом. Так, в теоретической модели указано следующее: «Добровольный отказ исключает уголовную ответственность за преступление, в отношении которого он осуществлен»[500]. В Основах и Проекте несколько иначе: «Деяние, в отношении которого осуществлен добровольный отказ, не влечет уголовной ответственности» (ч. 2 ст. 18 Основ, ч. 2 ст. 33 Проекта УК). Сущностно то и другое определения совпадают. Отличия усматриваются в том, что теоретическая модель говорит о преступлении, тогда как Основы и Проект УК применяют более нейтральный термин «деяние»; в теоретической модели установлено, что «добровольный отказ исключает ответственность», а в Основах и Проекте УК — «деяние… не влечет уголовной ответственности»; в Модельном уголовном кодексе для стран СНГ 1996 г. сказано, что «лицо не подлежит уголовной ответственности». Какое же определение наиболее приемлемо? Анализ первого различия приводит к выводу: более конкретно сформулированы правовые последствия в теоретической модели кодекса, поскольку термин «деяние» четко не определен. В Основах 1991 г. под деянием понимается действие или бездействие (ч. 1 ст. 8 Основ). Если исходить из этого, то при формулировании правовых последствий добровольного отказа нельзя тем же Основам исходить из термина «деяние», так как добровольный отказ осуществляется не в отношении деяния, а применительно к последствиям. Вроде бы более обоснованно поступают авторы Проекта, которые под деянием понимают все признаки состава преступления (ч. 4 ст. 3 Проекта УК), т. е. преступление в целом. И тогда замена слова «преступление» на «деяние» ничего не меняет в Проекте и только запутывает ситуацию. Не случайно авторы теоретической модели старательно избегают анализируемого термина и лишь изредка применяют его.
Исследование второго различия также приводит к решению о предпочтительности формулировки теоретической модели кодекса, поскольку он прямо выводит нас на адресата — на правовые последствия добровольного отказа (добровольный отказ исключает…). Исходя из сказанного, в будущем уголовном законе необходимо было, во–первых, отразить правовые последствия добровольного отказа; во–вторых, взять при этом за основу формулировку, предложенную авторами теоретической модели кодекса.
Вместо этого Российский законодатель вслед за Модельным кодексом применил третью формулировку — «лицо не подлежит уголовной ответственности» (ч. 2 ст. 31 УК). Здесь законодатель связывает невозможность уголовной ответственности не с «деянием», а с «лицом». Такой подход нам представляется оправданным, поскольку законодателю удалось в одной фразе объединить сущность всего случившегося: уголовная ответственность, как и ее отсутствие, связана и с преступлением, и с лицом, его совершающим или совершившим. Насколько синонимичны термины «исключает», «не влечет» и «не подлежит», сказать сложно; представляется все–таки более точным в данной ситуации термин «не подлежит уголовной ответственности», поскольку это более органично связано с «лицом».
На основании всего вышеизложенного добровольным отказом следует признавать прекращение преступной деятельности на любой ее стадии, кроме наступления общественно опасного результата, при объективном наличии возможности доведения преступления до конца. А ч. 2 ст. 31 УК вполне приемлема в действующей редакции.
Естественно, добровольный отказ будет иметь место, когда он окончателен, т. е. лицо прекратило преступную деятельность не для поисков более эффективных путей достижения преступного результата, а с тем, чтобы к данной конкретной преступной деятельности больше не возвращаться. Важность данного признака для добровольного отказа требует всегда внимательного отношения правоохранительных органов и обязательного доказывания его, без которого признание добровольного отказа в поведении тех или иных лиц невозможно.
Несколько слов необходимо сказать об особенностях добровольного отказа в продолжаемых и длящихся преступлениях. Поскольку продолжаемое преступление представляет собой динамично развивающую преступную деятельность при совершении ряда преступных действий, каждое из которых в изолированном виде имеет характер самостоятельного преступления, тем не менее все они в совокупности направлены на какой–то общий результат, то добровольный отказ применительно к данному общему результату возможен на любом этапе развития продолжаемого преступления до наступления его и невозможен при наступлении данного результата. Вместе с тем каждый отдельный акт как составляющий продолжаемое преступление представляет собой минипреступление, поэтому при добровольном отказе лица от доведения преступления до общего результата ему должны быть вменены все эти части преступления, каждый из которых подлежит самостоятельной квалификации, поскольку здесь действует общее для всех правило — он не распространяется на действия, выполненные до отказа и носящие самостоятельный преступный характер (ч. 3 ст. 31 УК). Полный добровольный отказ, исключающий вовсе уголовную ответственность, возможен только до наступления результата по минипреступлению, т. е. при создании условий для совершения первого преступного акта, входящего в структуру продолжаемого преступления, либо при совершении первого деяния, но до наступления его результата. Например, при убийстве двух или более лиц как продолжаемого преступления (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) убийство одного и отказ от убийства другого должен влечь за собой исключение применения указанной нормы и применение ч. 1 ст. 105 УК при отсутствии иных квалифицирующих обстоятельств. Добровольный отказ лица при совершении действий, направленных на причинение смерти первому потерпевшему, должен исключать уголовную ответственность за убийство вообще, если только в этих действиях не содержалось иного вида преступления (например, преступления против здоровья).
В длящемся преступлении несколько усложняет ситуацию факт наличия двух моментов окончания преступления — юридического и фактического. Коль скоро юридического окончания преступления вполне достаточно для наступления уголовной ответственности, то и добровольный отказ возможен только до юридического окончания преступления, после такового он практически невозможен.
Подводя итог исследованию добровольного отказа, необходимо отметить, что одной из основных проблем выступает разграничение прекращения преступления с пресечением его на практике.
Давая определение добровольному отказу, законодательство зарубежных стран не нашло какого–либо единого понимания его; совокупная картина его регламентации в законах носит совершенно пестрый характер. Здесь главным для нас остаются два момента: а) суть добровольного отказа заключена в соответствующих признаках; б) отражены ли и как отражены эти признаки в законе. Касаясь первого момента, очевидно, что признаками добровольного отказа выступают: наличие стадии создания условий или исполнения преступления, прерванность преступления на одной из них, которая характеризуется добровольностью, окончательностью, наличием реальной или осознания возможности доведения преступления до конца. Посмотрим, как все это отражается в уголовном законодательстве различных стран.
Зарубежное уголовное право также знает добровольный отказ, нам не встретилось ни одного уголовного кодекса, в котором не отражалось бы добровольное прекращение преступления. Однако при ознакомлении с ними прежде всего бросается в глаза то, что одни их них формулируют добровольный отказ за пределами покушения и приготовления, выделяя его в самостоятельный институт уголовного права; другие признают его разновидностью покушения и приготовления, соблюдая в неприкосновенности концепцию добровольного отказа, свойственную еще в законах XIX в. К первым прежде всего можно отнести УК Голландии, ст. 46b которой прямо указывает на то, что при добровольном отказе нет места ни приготовлению, ни покушению, пожалуй, это единственный из кодексов (по крайней мере, нам других пока не встретилось), где так жестко, четко и точно решена проблема соотношения пресеченной и прекращенной деятельности. При этом надо помнить, что данный уголовный закон — один из самых старейших в Европе, он вступил в силу в 1886 г., но с самого начала в нем были разделены покушение и добровольно оставленное покушение. По этому поводу А. Н. Круглевский писал: «По этим законодательствам (голландскому, испанскому и португальскому. — А. К.) добровольно оставленное покушение вообще не подходит под понятие о покушении»[501]. Анализируемая статья была введена в УК в 1994 г., т. е. законодатель лишь уточнил свою прежнюю позицию. Менее понятна позиция испанского законодателя, который в ст. 16 УК 1995 г. изложил и положения о покушении (ч. 1), и положения о добровольном отказе (ч. 2); не исключено, что и испанское законодательство сохранило свою прежнюю позицию о самостоятельности добровольного отказа. Похоже на то, что и законодатель Японии разделил покушение и добровольный отказ, хотя и то, и другое урегулировал в одной статье (ст. 43 УК) даже без разделения ее на части; такой вывод следует из названия статьи: «Покушение на преступление и прекращение исполнителем совершения преступления». Уголовное законодательство стран, ранее входивших в СССР и некоторых из тех, которые входили в социалистический лагерь (УК КНР), однозначно разделяет добровольный отказ и покушение.
Тем не менее во многих странах законодатель вводит (или оставляет?) в пределы (пределах?) покушения и приготовления добровольный отказ. При этом позиции законодателей весьма туманны. Посмотрим на УК Австрии, в § 16 которого речь идет о добровольном отказе от покушения и ч. 1 которого начинается со слов «Исполнитель не наказывается за покушение…». Остается открытым вопрос, было все–таки покушение или его не было при добровольном отказе? Очень похоже на то, что в анализируемой норме законодатель не исключил покушения, т. е. признал добровольный отказ видом покушения, в противном случае не было необходимости упоминать в законе, регламентирующем добровольный отказ, о ненаказуемости покушения. Точно так же поступает УК ФРГ (§ 24), УК Швеции (ст. 3 главы 23), УК Республики Польша (ст. 15, 17), УК Республики Болгария (ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 18). Думается, такое решение едва ли следует признать точным в силу абсолютной несхожести пресеченной и прекращенной преступной деятельности.
Все уголовные кодексы зарубежных стран (по крайней мере, из переведенных на русский язык), выделяя по сути добровольный отказ, различным образом оформляют его — некоторые из них не используют данного термина, основная масса законов, наоборот, использует его. Вовсе не использует анализируемого термина УК Голландии, в нем речь идет лишь о том, что «преступление не было завершено исключительно по причине обстоятельств, зависящих от воли преступника» (ст. 46b), т. е. здесь дано определение чего–то, что в законе как институт отсутствует, мало того, к этому чему–то не имеют никакого отношения ни приготовление, ни покушение. Не упоминает «добровольного отказа» и УК Японии, который лишь констатирует прекращение преступления по собственной воле. Не оперирует анализируемым термином и УК Республики Болгарии по совершенно обратным основаниям — признанию исследуемого явления приготовлением (ч. 3 ст. 17) и покушением (ч. 3 ст. 18), при этом, естественно, добровольный отказ не вписывается в пресеченное преступление и лучше о нем не упоминать. В похожей ситуации разделения приготовления и покушения и отнесения добровольного отказа к тому и другому УК Республики Польша в ст. 15 и 17 употребляет термин «добровольно отказалось». Абсолютное большинство уголовных законов опираются на добровольный отказ как реально существующее явление.
При этом все уголовные законы можно разделить на две группы: а) те, что не дают определения добровольного отказа, б) и те, что дают такое определение. К первым можно отнести УК Эстонской республики (ст. 16), который лишь констатирует факт добровольного отказа: «Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца…». Однако таких законов мало, в основной их части даются меньшего или большего объема по урегулированным признакам определения его. Так поступает, например, УК Республики Польша, который отразил возможность существования добровольного отказа и на стадии создания условий, и на стадии исполнения преступления. Исходя из этого факта, в § 1 ст. 17 УК урегулирован добровольный отказ при приготовлении: «Не подлежит наказанию за приготовление тот, кто добровольно от него отказался (как будто можно отказаться от пресеченного преступления. — А. К.), в особенности, когда уничтожил подготовленные средства или предотвратил их использование в будущем; в случае вступления в сговор с другим лицом с целью совершения запрещеного деяния не подлежит наказанию тот, кто предпринял существенные усилия, направленные на предотвращение совершения преступления». Как видим, законодатель довольно подробно раскрыл формы добровольного отказа индивидуально действующего лица или соучастника при создании условия; разумеется, не все, но в их основе. В § 1 ст. 15 УК отражен добровольный отказ при покушении (исполнении): «Не подлежит наказанию за покушение тот, кто добровольно отказался от исполнения деяния или предотвратил последствие, являющееся признаком запрещенного деяния». Данная форма выражения добровольного отказа при исполнении свойственна многим законодательным актам: «… отказывается от дальнейшего выполнения деяния или препятствует доведению такового до конца» (УК ФРГ)» «.. добровольное прекращение его (преступления. — А. К.) совершения либо добровольное, эффективное предотвращение наступления последствий преступления» (УК КНР), «…предотвращает совершение преступления, отказавшись от его завершения, препятствуя наступлению последствий» (УК Испании), «…прекратило совершение преступления» (УК Японии), «…воздержался от исполнения своего умысла и предотвратил окончание преступления или предпринял действия, которые предотвратили бы его окончание…» (УК Дании), «прекращение совершения преступления… а также предотвращение наступления преступного результата» (УК Республики Узбекистан) и т. д. Признаться, такой подход по дифференциации добровольного отказа на два вида (применительно к отдельным стадиям совершения преступления) и более глубокой дифференциации его как различных форм поведения лица (отказа) при исполнении преступления нам нравится, поскольку чем детальнее регламентация в законе того или иного криминального явления, тем меньше судебное усмотрение и сопутствующий ему судебный произвол. По этому же пути идет и УК Республики Болгария, но только со скупо отраженными или не отраженными вовсе признаками и формами добровольного отказа. Так, в ч. 3 ст. 17 УК урегулировано положение, согласно которому при приготовлении «не подлежит наказанию лицо, которое по собственному побуждению отказалось от совершения преступления»; в отличие от УК Польши здесь нет определения добровольного отказа, хотя он как фактор, имеющий место при создании условий, указан в законе. В ч. 3 ст. 18 УК отражено, что «при совершении покушения лицо не подлежит наказанию, когда оно по собственному побуждению: а) отказалось от завершения исполнения преступления или б) предотвратило наступление преступных последствий». Данное определение добровольного отказа максимально похоже на предложенное УК Польши, но при этом нужно указать еще на одно достоинство, которым ни закон Польши, ни закон Болгарии воспользоваться не спешили — УК говорят об отказе от завершения исполнения преступления, т. е. закон знает о стадии исполнения, которое и надо бы использовать при определении добровольного отказа, однако с упорством, достойным лучшего применения, в целом связывает анализируемую категорию с покушением, а не исполнением. Именно поэтому не готов согласиться с тем, что добровольный отказ отождествлен с приготовлением и покушением как видами пресеченной деятельности и что добровольный отказ определен через формы, а не признаки.
Чаще всего определения добровольного отказа объединяют в одной статье или части статьи оба вида его, т. е. имеющие место на стадии создания условий и на стадии исполнения, как это сделано в УК РФ. При этом появилось несколько вариантов оформления в законах добровольного отказа. 1) Кодексы, прямо указывающие на связь добровольного отказа с приготовлением и покушением (ст. 15, 17 УК Республики Польша, ст. 17, 18 УК Республики Болгария). 2) Кодексы, прямо связывающие добровольный отказ с приготовлением, термин «покушение» не применяющие, вместо него они используют фразу «деяния, непосредственно направленные на совершение преступления» (ст. 30 УК Азербайджанской республики), т. е. вместо термина, характеризующего пресеченную деятельность, вводят саму стадию (так же поступает и УК РФ). 3) Кодексы, не связывающие добровольный отказ с приготовлением и вместо него использующие термины подготовительные (приготовительные) действия, что больше напоминает стадию создания условия, а не пресеченное поведение; но в то же время связывающие добровольный отказ с покушением (ст. 17 УК Украины). Здесь же необходимо отметить и те из них, которые в Общей части не регламентируют приготовления и потому связывают добровольный отказ с покушением (§ 16 УК Австрии, § 24 УК ФРГ). 4) Кодексы, не связывающие добровольный отказ ни с приготовлением, ни с покушением и вместо них использующие термины, более приближенные к стадиям — подготовительные действия или действия по совершению (исполнению) преступления ст. 26 УК Республики Узбекистан, ст. 26 УК Республики Казахстан, ст. 15 УК Республики Беларусь, ст. 24 УК Республики Таджикистан). 5) Кодексы, не связывающие добровольный отказ ни с пресеченной деятельностью, ни со стадиями совершения преступления ст. 24 УК КНР, ст. 43 УК Японии, ст. 16 УК Латвийской Республики.
При рассмотрении всех изложенных вариантов, на наш взгляд, наиболее предпочтительным остается тот, в котором виды добровольного отказа выделены в самостоятельные части статьи УК, в которых должна идти речь о прекращении преступления на стадиях создания условий и исполнения преступления, а не о пресеченной преступной деятельности.
Что касается отражения в уголовных законах других стран иных признаков добровольного отказа, то здесь разброс подходов еще шире. Во–первых, имеются уголовные кодексы, которые отражают лишь факт добровольности отказа (УК Австрии, УК Эстонской республики, УК КНР, УК ФРГ, УК Испании). Во–вторых, в некоторых кодексах это отражается несколько иначе и они говорят о прекращении преступления по собственной воле (УК Японии, УК Голландии); правда, в УК Голландии данный признак изложен достаточно сложно: «по причине обстоятельств, зависящих от воли преступника» (не исключаем, что это дефект двойного перевода — с родного на английский и с последнего на русский). В-третьих, ряд УК ведут речь о собственной инициативе (УК Швейцарии) или о собственном побуждении (УК Республики Болгария, УК Республики Польша). В-четвертых, УК Дании выделяет добровольность отказа и отсутствие случайных препятствий для окончания преступления… В-пятых, некоторые кодексы отражают прекращение преступления при осознании возможности окончить его (УК Республики Узбекистан, УК Республики Беларусь, УК Азербайджанской республики, УК Латвийской республики). В-шестых, отдельные уголовные законы регламентирует максимальное количество признаков, так в УК Украины сказано об окончательном прекращении при осознании возможности доведения преступления до конца; в УК Республики Казахстан и УК Республики Таджикистан урегулировано добровольное и окончательное прекращение преступления при осознании возможности доведения преступления до конца.
Как видим, однозначного решения вопроса об отражении признаков добровольного отказа в законах различных стран не существует, многие страны различным образом к этому относятся; при этом не исключаем, что имеются и другие формы их отражения, не известные нам. Какой же из вариантов предпочтительнее при возможной унификации законодательства по данному вопросу? Ответ очевиден — тот, в котором наиболее полно они урегулированы, поскольку в таком случае ограничивается судебное усмотрение и снижается судебный произвол. Является ли таковым последний из рассмотренных вариант? Весьма сомнительно, в силу того, что здесь возникает необходимость сопоставления различных признаков между собой в целях выявления их родовидовой соотносимости. Для нас, например, ясно, что, применив термин «прекращение», законодатель не должен был вносить в определение добровольного отказа признак добровольности, поскольку последний создает прекращение, является основой признания прерванной деятельности прекращением. Очень похоже на то, что прекращение охватывает собой и окончательность отказа, так как для временного прерывания деятельности существует термин «приостановление», по крайней мере, в русском языке. Отсюда наряду с прекращением самостоятельным признаком может выступать наличие или сознание возможности доведения преступления до конца, который не входит в прекращение, поскольку характеризует собой возможное развитое события после прекращения. Но здесь возникает необходимость решения проблемы объективного (реальное наличие возможности) или субъективного (осознание возможности) оформления данного признака. Свое мнение по данному признаку выше я высказал. Таким образом, на наш взгляд, унифицированная норма по определению добровольного отказа может выглядеть следующим образом: «прекращение преступления при наличии реальной возможности завершения преступления» или при неиспользовании термина «прекращение» — «добровольное и окончательное недоведение преступления до конца при наличии реальной возможности завершения преступления»; достоинством первого является лапидарность, достоинством второго — раскрытое признаков в самом законе, что исключит двойственность толкования добровольного отказа в практике. При совмещении любого из указанного раскрытия признаков добровольного отказа со стадиями совершения преступления, на которых возможно прекращение преступной деятельности, мы получим полное и развернутое определение добровольного отказа, отвечающее суш его.
Заключение
В нашей работе сознательно упущены некоторые вопросы, непосредственно не относящиеся к теме и достаточно полно и ясно раскрытые в существующей литературе (ответственность за неоконченное преступление, сопоставление добровольного отказа и деятельного раскаяния и т. д.), тем более что ничего нового и интересного по ним автор предложить читателю не смог бы.
Основные выводы данного исследования.
Стадии совершения преступления и неоконченное преступление — тесно связанные и тем не менее самостоятельные институты уголовного права, которые должны занять в структуре уголовного права соответствующие их сущности места. Так, стадии совершения преступления должны входить органической частью в понятие преступления и находиться, по нашему мнению, между признаками и классификацией преступлений, поскольку в них раскрывается динамика развития преступления во времени и пространстве, показана в динамике структура преступления. Институт неоконченного преступления, по существу, завершает учение о преступлении как таковом и располагается после института соучастия, поскольку последний, как правило, связан с оконченным преступлением. После неоконченной преступной деятельности в учении о преступлении следует располагать множественность преступлений и обстоятельства, исключающие преступность деяния. Примерно такую схему предлагали уже и Модельный кодекс, и Основы 1991 г., и Проект УК России, кроме места соучастия в структуре, эту схему нужно довести до логического конца.
Необходимо скорректировать структуру раздела, регламентирующего неоконченное преступление:
«Глава 7. Неоконченное преступление
Ст. X. Понятие неоконченного преступления
1. Неоконченное преступление — это прерванная на той или иной стадии развития преступная деятельность.
2. Неоконченное преступление бывает пресеченным (прерванным помимо воли виновного) и прекращенным (прерванным по воле лица).
Ст. V. Приготовление
1. Приготовлением признается пресеченное до начала исполнения преступления виновное деяние по приисканию, изготовлению либо приспособлению орудий и (или) средств, сговору на исполнение преступления, а равно иному созданию условий исполнения преступления.
2. Уголовно наказуемо приготовление в менее тяжком, тяжком и особо тяжком преступлении.
Ст. М. Покушение
Покушением признается пресеченное виновное исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно.
Ст. Н. Добровольный отказ
1. Добровольным отказом признается прекращенная преступная деятельность на любой стадии ее развития, кроме наступления общественно опасного результата, при объективном наличии возможности доведения преступления до конца.
2. Отказ организатора признается добровольным при разобщении, и (или) декоординации действий соучастников, и (или) разрушения планирования запланированных им преступлений, и (или) предотвращения преступления, идея совершения которого внесена им. Отказ подстрекателя признается добровольным и приобретает значение такового при отказе созданного им исполнителя от доведения преступления до конца и ненаступлении общественно опасного результата. Частичный отказ подстрекателя, выразившийся в предотвращении преступления, не может быть признан добровольным и является лишь смягчающим обстоятельством. Отказ пособника признается добровольным при ликвидации им условий, созданных пособником для исполнения преступления.
3. Добровольный отказ исключает уголовную ответственность за преступление, в отношении которого он осуществлен».
Только такая регламентация неоконченного преступления позволяет сохранить ту систему формирования разделов в Общей части, которая в основном уже в ней содержится (например, понятие преступления и его классификация, понятие соучастия и его виды, понятие наказания и его цели и система), и сделать ее единственно приемлемой.
Она же призвана облегчить изучение и толкование неоконченного преступления. В результате изучения вопроса о неоконченном преступлении студенты должны:
правильно представлять себе соотношение Общей и Особенной частей уголовного закона в плане неоконченной преступной деятельности;
понимать соотношение неоконченного преступления и стадий совершения преступления;
знать признаки неоконченного преступления; уметь анализировать виды неоконченного преступления: прерванного только на стадии психической деятельности, приготовления, покушения и добровольного отказа;
представлять особенности прерванной деятельности в преступлениях, совершаемых с косвенным умыслом, при легкомыслии и небрежности, в соучастии и т. д.; видеть практическое значение этих особенностей.