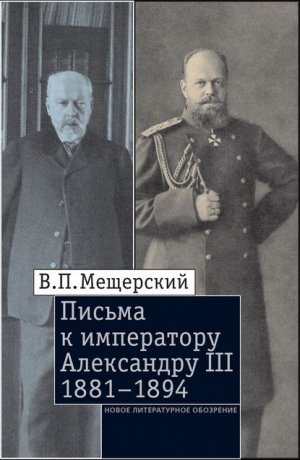
Александр III с семьей в Крыму. Ливадия. Май, 1893
От составителя
Издательство «Новое литературное обозрение выпустило уже две книги писем В. П. Мещерского к великому князю Александру Александровичу[1]. Настоящее издание писем В. П. Мещерского к Александру III, содержащее письма за 1881–1894 гг., завершает эту публикацию. В это время Мещерский почти не выезжал из Петербурга, и основное содержание его посланий к императору сводится к оценке внутри- и внешнеполитических событий, пересказу последних слухов и рассуждениям о различных назначениях. Рассказы о собственных переживаниях, часто встречавшиеся в его более ранних письмах, здесь отсутствуют, и о своих делах (издании газеты, постановке пьес) он упоминает не часто.
Письма Мещерского сохранились в фонде Александра III в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 677. Д. 105–117, 895–897) и представляют собой наиболее крупную подборку эпистолярного наследия князя.
Общая характеристика В. П. Мещерского и его отношений с великим князем, а затем императором Александром III была дана в предисловии к первому из томов цикла. Ниже только кратко излагаются эдиционные принципы, принятые в настоящем издании.
Публикуемые в этом томе материалы представлены в архиве в виде беловых автографов и распадаются на две части. Помимо обычных писем представлены так называемые «отрывки из дневников», составлявшиеся специально для императора и по форме похожие на дневниковые записи. Главное их отличие от писем – отсутствие обращения (об императоре пишется в третьем лице) и объединение записей за несколько дней в блоки.
Впервые идея о еженедельных посланиях такого рода возникла в 1871 г., когда князь обратился к Александру Александровичу с предложением: «…к концу каждой недели в субботу представлять Вам краткие мемории того, что за неделю истекшую было высказано в газетах, в журналах, слышно в общественных толках, чтобы облегчить Ваш труд следить за движениями современной жизни у нас в России»[2]. Однако реализовать эту идею Мещерскому удалось только спустя 13 лет. Рукописный дневник князя Мещерского лишь изредка тематически совпадал с печатным Дневником его газеты «Гражданин», служа как бы его дополнением. Но и в этих случаях текст газеты не дублировался. В рукописи, предназначенной только для глаз императора, князь мог себе позволить многое из того, что по цензурным или иным соображениям никогда не смогло бы войти в опубликованный дневник. В большинстве же случаев рукописный дневник посвящался тем вопросам, поднять которые в печати было просто невозможно.
Первые рукописные «отрывки из дневника» В. П. Мещерского, относящиеся к 1884 и 1885 гг., представляют собой нераздельные блоки с пронумерованными страницами и снабжены содержаниями, составленными самим князем (страницы содержания и вводного письма Мещерским не нумеровались). Для более позднего периода блоки эти сохранились не полностью, содержание, как и сквозная нумерация страниц, в них часто отсутствует. В то же время в архивных делах присутствуют разрозненные записи дневникового типа. В ряде случаев при архивации к ним был составлен перечень, включающий в себя записи, хронологически отстоящие друг от друга (д. 105 л. 1 а, 162, д. 116 л. 1). О позднем появлении этих перечней говорит и несовпадение названий разделов в содержании и написанных рукой Мещерского непосредственно в тексте (д. 116): «О студентах и денежных мерах» в содержании (л. 1) и «О студентах и Деляновских мерах» в тексте (л. 39); «В печати о Посьете» в содержании и «О печати и Посьете» в тексте (л. 59).
Ранние Дневники пронумерованы, причем некоторые из них имеют двойную нумерацию: чернилами и красным карандашом. Однако она не совпадает ни с хронологическим порядком написания дневников, ни с нахождением их в архивном фонде. Сохранившиеся надписи на архивных папках позволяют заключить, что эти перечни и нумерация возникли при первоначальном формировании фонда Мещерского из его бумаг, находившихся в Гатчинском дворце. Поэтому присутствующая в делах нумерация нами снята.
Дневники публикуются в хронологическом порядке, принятом нами при публикации писем и записок князя, адресованных Александру III. Время написания большинства Дневников легко устанавливается по указанному автором числу и дню недели, датировка оговаривается только в спорных случаях. Мещерский писал Дневники на сложенных вдвое листах, не вкладывая листы один в другой. Новая запись могла продолжаться непосредственно вслед за предыдущей либо начинаться с нового листа. Дневники писались на плотных листах, для сопроводительных писем Мещерский использовал более тонкую бумагу. Лишь в исключительных случаях она использовалась и для Дневников. При восстановлении хронологической последовательности учитывалась нумерация страниц Мещерским, тип используемой бумаги, размер и способ сложения листов отдельных блоков.
Все вырезки наклеены Мещерским на листы рукописного Дневника, один или два столбца на лист, соседствуют с рукописным текстом и служат его продолжением. Они воспроизводятся в тексте более мелким шрифтом независимо от их авторства. В некоторых случаях Мещерский упоминает о приложенных к Дневникам номерах газет, однако они в делах не сохранились.
Письма и отрывки из дневников князя печатаются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, но с сохранением стилистических и языковых особенностей автора. В частности, оставлено своеобразное написание слов, например «вкарабкиваться», «иллюзионорною», и рассогласование падежей (например, «железный канцлер, уверенный в себя и в свою Германию»). Явные грамматические ошибки и описки автора (двойное написание слов и слогов, пропуск букв), не имеющие смыслового значения, исправлены. Написание прописных букв приведено в соответствие с современными требованиями. Пропущенные и добавленные составителем слова и части слов помещены в квадратных скобках. Также в квадратных скобках указаны инициалы и раскрыты сокращенные автором имена, отчества и фамилии упоминаемых в документах лиц. Все даты, как в тексте, так и в примечаниях, приведены по старому стилю.
1881
[30–31 августа[3] ]
С самой минуты, когда 30 августа[4] увидел Вас под ярким солнцем залитым лучами любви к Вам и радости тысячей о свидании с Вами, непреодолимое чувство влечет к беседе с Вами до того сильно, что разум соображений не может победить разума сердца, и дерзновение становится в душе как бы обязанностью.
Куда бы не пошел, с кем бы не заговорил, несомненно одно: везде и все в настоящее время в России в живой зависимости от вопроса: будет или не будет венчание и помазание Вашего Величества на царство[5]. Всякое дыхание жизни в России в общении с этим вопросом: «Кто решится настаивать, кто решится советовать Царю теперь венчаться, кто приймет на себя ответственность за последствия такого совета», – так говорят иные.
Таким словам, носящим характер предосторожности, жизнь противопоставляет другие слова: надо, надо как можно скорее дать России зрелище миропомазания и венчания на царство своего Царя, ибо всякое медление в этом священном событии производит в иных смущение, в других ощущение, что свыше нет признавания великой и чудотворной силы Таинства Церкви, в третьих сознание, что сверху нет уверенности в порядке и доверия к народу, и во всех вследствие этого какое-то тяжелое неведение, сомнение, тревожное состояние опасения и смущения…
Кто может взяться за решение вопроса: в котором из сих мнений правда? Никто! Кто может советовать? Никто!
Бог один пошлет Вам на душу, Государь, наитие Своего Разума для решения сего вопроса.
Но прежде чем возглаголет Господь, тот, кто верует в Него и любит Вас, Государь, может, а порою и должен дерзать доводить до Вашего сведения мысли во благо и во славу Ваши, по мере человеческого разумения.
Толков не оберешься. Одни говорят: в Москву поехать надо, но на выставку, а не для коронации; другие говорят: хорошо ли посетить выставку, а отложить важнейшее в той же Москве – коронацию. Привожу эти два толка, как крайности, между которыми много других толков, и можно ли всеми руководствоваться.
Но посреди этих громко, а иногда легкомысленно высказываемых ежедневно людских суждений есть смиренные голоса глубоко верующих в Бога и глубоко Вас любящих людей, которые похожи на шепот молитвы в шуме и громе толпы. К нему нельзя не прислушиваться, ибо там чуется искренность и слышится чистота. Об этом-то вдохновенном верою в Бога и любовью к Вам шепоте я и дерзаю писать к Вам, Государь! Что может, говорят одинокие благочестивые люди, отдалять венчание на царство? Опасения, вызванные непобежденною еще крамолою?
Но, отвечают они, эти самые опасения как проявление неуверенности в порядке и безопасности, не суть ли одна из причин, одна из стихийных сил, поддерживающие дерзкое и преступное дыхание крамолы? Крамола есть мерзость, духовно однако связанная с испорченным обществом: всякое впечатление в этом порченом обществе отражается впечатлением в крамоле. В обществе неуверенность, крамола ободряется, общество ободряется, крамола падает духом, общество испытывает благотворное действие силы и неустрашимости Власти, крамола начинает отпадать от общества и гнить. В России это особенно несомненно. Крамола может при известных условиях дойти до поразительных размеров силы и при других условиях поразить своею ничтожностью, быстротою своего исчезновения, ибо вся ее сила, вся ее уродливая жизнь в полной зависимости от того волшебного, только в России существующего начала Власти, которое в ней, то есть в России, все творит и все решает. Власть видимо сильна, вся Россия оживает вдруг, и крамола от этого оживления России убивается, Власть слабеет, Россия вдруг замирает, и крамола от замирания России получает жизнь.
Не должно отрывать глаза от ужасов пережитого. В них страшно убедительная сила урока. Как только Власть стала считаться с обществом в смысле признавания за ним права требовать для мнимого блага России ослабления этой Власти, Власть явилась неуверенною в Себе и за Себя, и с ужасающею силою немедленно из общества, почуявшего ослабление Власти, стала зарождаться и развиваться крамола. И затем, чем лихорадочнее, чем бессвязнее с общим состоянием и течением дел распущенности становились меры борьбы с крамолою, меры, прежде всего проявлявшие сознание себя в опасности, сознание неуверенности в порядке и в праве оный требовать, и казни над одними сливались с заигрыванием с другими во имя популярности, и общество все более и более расшатывалось от зрелища нетвердой Власти, тем дерзновеннее и безумнее становилась крамола.
Уже одно то, что ее признали силою равною в борьбе с тысячелетнею Россиею, с вековою Монархическою Властью, дало крамоле адскую дерзость. И обожаемый наш Государь, Ваш Родитель, видимо падая под ударами злодеев, до бесконечности безумных, невидимо, увы, пал жертвою тех людей, которые, не понимая: что такое Россия, что такое Русский Царь для нее и в ней, что такое Русская Церковь, легкомысленно до преступности дерзали советовать Ему, Русскому Государю, не только потому чтó Он совершил, но и потому что Он был Царем, имевшему силы победить не то что крамолу, но мир весь, дерзали советовать, говорю я, для спасения Власти, ослаблять ее, для спасения России, заставлять ее думать, что у Русского Царя может оспаривать власть [А. И.] Желябов…
Что такое коронация? Для европейских государей это обряд, служащий торжественным дополнением или украшением вступления на престол; это так сказать более или менее пышная церемония. Совсем другой смысл и иное значение имеет коронация в России, для русского народа. Венчание на Царство и соединенное с ним миропомазание есть первое действие вступающего на престол Русского Царя. Это не дополнение, а осуществление самого воцарения, осуществление титула нераздельного от титула Царя – Помазанника Божия, оправдание слов: Божиею милостью в царском титуле, ибо милость Божия является посредством венчания и посредством миропомазания.
Отсюда понятно важное духовное значение для народа венчания на царство: перед лицом его Царь идет в Церковь испрашивать благодать Божию на царствование и в Церкви получает чудотворною силою миропомазания освящение самодержавной и неограниченной власти. Эту власть Русский Царь преемлет по верованию своего народа только от Бога; следовательно, пока видимого знака для народа нет того, что Бог освящает власть Царя посредством таинства, значение в народе Царской Власти невольно, так сказать чуянием, умаляется. Кроме того важно значение для народа коронации и тем, что свидетельствует о вере Царя, о признании себя без благодати Божией и без Его силы не в силах царствовать.
Европейские владыки могут медлить, могут даже пренебрегать коронованием. Они царствуют по договорам или вследствие переворотов. Но замедление для Русского Государя венчаться на царство является в глазах верующих русских людей как бы свидетельством того, что Царь не ставит выше всего и прежде всего торжественное обращение к Богу для испрашивания у Него силы, благодати и милости. Значит всякое медление в совершении таинства вносит сверху в жизнь и в душу верующего человека чисто религиозное смущение относительно своего Государя. Обычай последних царствований, соединив с коронациею ряд праздников, ввел медление этим событием целым траурным годом, хотя уже и это не совсем правильно, ибо увеселения не суть неотъемлемая принадлежность венчания на царство, тогда как венчание на царство есть неотъемлемая принадлежность вступления на Русский Царский Престол.
Но затем есть и другое значение у нас венчания на царство, в настоящее время особенно важное. Оно есть торжественное, всенародное, перед Богом и людьми, перед Россиею и целым миром исповедыванье самодержавной и неограниченной власти Русского Царя-Помазанника, и утверждение оной благодатными таинствами Церкви.
С этой точки зрения медление венчанием на царство в нынешнее время сопровождается важными для Власти неудобствами. С одной стороны, является как бы ежедневный повод ссылаться на факт медления коронациею как на доказательство, что нет уверенности в безопасности для Власти и порядка, что страшно влияет на волнение умов и на усиление смутного беспокойства; с другой стороны через одних умышленно, через других по легкомыслию входит в общество толк о том, что из опасения крамолы и в виду неуверенности в порядке ближайшие советники Царя, будто бы не отвечая за Его безопасность у Престола Божия во храме и в столице России, советуют медлить торжественным подтверждением Самодержавия Русского Государя, то есть первым действием нового царствования, первым и для всего народа важнейшим. Таким образом, тот злополучный факт, что с крамолою считается на Руси Власть Самодержавного Царя, столь роковым образом повлиявший на усиление крамолы и ослабление Власти в минувшее царствование, зарождается в толках, вызываемых медлением коронациею в обществе, при начале нового царствования.
Между тем именно это священное торжество для русского Царя и для его народа является в настоящее время безотлагательно нужным, как единственное средство положить конец беспокойству и сомнениям в обществе, и во всем блеске великого дня освятить для народа Своего Самодержавие Русского Государя.
Наконец в благоговейном шепоте благочестивых людей о сем священном предмете слышатся и такие мысли. Есть два способа обставить святое торжество. Один – по обычаю, и даже более против обычая, в обстановке особенной пышности и великолепия, дабы все умы испытали впечатление блеска и торжественности явления Самодержавного Царя своему народу в день венчания на царство!
Другой способ может сильнее еще первого повлиять благотворно на умы. У многих на душе мысль, что даже торжество венчания на царство не может изгладить в сердце Царевом воспоминания событий, в печали коих Он вступил на родительский престол. Под впечатлением этой мысли слагается в душе другая мысль: какую глубокую силу имели бы для России и во благо Власти такие слова в торжественном обращении Царя к народу, в которых Государь, объявляя о Своем намерении венчаться на царство и испросить у Бога благодать Помазания для царствования во благо и в славу России, не сомневается ни единой минуты в том, что его верноподданные поймут и разделят с Ним те чувства, которые при воспоминании о горе, испытанном Им и Россиею, не дозволяют Ему с священным торжеством соединять обычные увеселения.
Вот что я слышу в речах людей, честно Вас, Государь, любящих.
От себя да будет мне дозволено прибавить одно воспоминание. В годах моей молодости запечатлелись на всю жизнь в памяти сердца воспоминания из рассказов, со слов самого покойного Государя, о чудотворном действии на Него венчания на царство и миропомазания. Все сомнения и беспокойства исчезли: на душе стало светло, ясно и спокойно; смирение вошло в его душу: ощущение Божьей помощи стало ему несомненным; вера в Промысл Его стала несокрушима. Я сам лично об этом чудотворном действии коронования и миропомазания на покойного Государя слышал от Вел. Кн. Марии Николаевны.
О, да, ни на секунду не сомневаюсь в том, что Вас, Государь, ожидает при венчании на царство великое чудо явления над Вами Божией благодати. Вы войдете в храм удрученным, Вы выйдете из него светлым, сильным и непобедимым. Бог воскреснет для нас над Вами, и враги Его и враги Ваши расточатся.
30–31 августа, С.-ПетербургНе подписываю, Государь, ибо Вы знаете по почерку, кто Вам пишет.
1882
[12 января]
Окончив вполне труд мой вчера, с чувством, не нуждающимся в определении, осмеливаюсь преподнесть Вашему Величеству издание царствования Вашего дорогого всем нам Родителя в картинах[6].
Издание это сделано с целью распространить в народе в картинах, по возможности благолепных, верные образы о минувшем царствовании, дабы из рода в род семьи в народе могли беречь и передавать подробности об этом царствовании не в виде фантастически и уродливо сделанных изображений, а по картинам, близким к правде.
Это первый опыт такого издания. Да поможет мне Бог. Я начал оное с известного количества экземпляров в более или менее роскошном виде для лиц высших сословий и вслед за тем предполагал бы приступить к изданию, по цене доступному для народа. Текст написан именно для народа.
С благоговением дерзаю преподнести сие издание Вам, Государь, в смиренной надежде, что снисходительные к его недостаткам, Вы изволите поверить, что я употребил все усилия и старания к тому, чтобы недостатков было как можно менее.
О, Государь, из всех мук нынешнего времени самая тяжелая, самая адски мучительная для меня: с душою, ежесекундно рвущеюся к Вам, никогда не сметь даже помышлять о сей великой отраде.
Да хранит, Ваше Величество, Вас Бог!
С благоговением приношу перед лицом Вашим сквозь пространства всегда присущим, всегда осеняемом молитвами и желаниями блага, уверение в беспредельной преданности
12 янв[аря] 1882 года
Манежная, 2 СПбург
12 октября 1882 годаВесьма секретно
Прежде чем дерзать просить Ваше Величество удостоить прочтения приложенную к сему записку, да будет мне дозволено предпослать ей следующие строки. Так как дело, о котором идет речь в записке, связано с моим именем и с именем моего издания[7], и осуществление его отчасти может зависеть от степени доверия Вашего, Государь, к моей личности, то если Ваше Величество можете допустить, чтобы я, именно я, с душою, пережившею давно былое, с душою, пережившею 1-е марта[8] и живущею теперь, мог даже невольно, необдуманно, обратиться к Вам, Государь, с чем-либо, где личный интерес набрасывал бы тень на святость задуманного дела, тогда предайте, Государь, уничтожению все здесь писанное. Если же, напротив, Бог дозволит, чтобы Вы уверовали, что теперь, после пережитого, могут быть люди, им перерожденные и живущие только в Вашем трудном и обремененном святыми заботами духовном мире, тогда удостойте прочитать нижеизложенное, по твердому моему убеждению, достойное Вашего, Государь, внимания.
Впрочем, как Вы изволите усмотреть из прилагаемой записки, одна из главных причин проектируемого начинания заключается в сознании для себя долгом не доверять своим силам и своей личности в нынешнее время и в таком важном и священном деле, как отстаиванье интересов порядка и власти пером и печатью. Вследствие этого сознания я делаю попытку устранить от моего издания с одной стороны личные интересы, а с другой все недостатки и слабые стороны, происходившие от единоличного заведыванья охранительным органом печати, тем более нужную, что «Гражданин» есть в Петербурге единственный орган самостоятельно преданный порядку безусловно. Имеется в виду из этого журнала сделать орган кружка авторитетных и опытных людей, безусловно надежных[9][10], коему как постоянному руководительному совету я принимаю на себя обязанность подчиняться. Одновременно имеется в виду привлечь наибольшее количество талантливых писателей и сделать из «Гражданина» издание с одной стороны выдающееся по живому интересу, богатому содержанию, привлекательным сторонам (сильные статьи, романы, критика, картины), а с другой стороны общедоступное по цене, с шансами на успех между средними образованными сословиями, которое могло бы незаметно и постепенно вырывать читателей у других изданий с сомнительным направлением и служить орудием пропаганды порядка и порядочности против пропаганды и печати беспорядка.
Для осуществления этой безусловно нужной теперь цели потребна на первые два года денежная помощь, ибо надо уплачивать большие гонорары писателям и художникам и держать издание в невысокой подписной цене. Частные поддержки неудобны именно для консервативного органа, ибо, ставя оное в зависимость от капризов жертвователей, могут вредить цельности, твердости и строгости направления. Предпочтителен путь прямой и честный временной поддержки от правительства, но безусловно и строжайше тайный, дабы ни малейшим намеком не могло быть правительство скомпрометировано в арене борьбы печати с печатью. Как достичь этой тайны и блюсти ее, во избежание печальной участи «Берега»[11], изложено в записке.
Затем во избежание малейших сомнений на счет употребления с пользою просимой поддержки, то лицо, которое выдаст мне сумму, положим, министр внутренних дел, получает от меня же отчет в расходах по ней; а редакционный совет контролирует содержание издания и мое перо, и таким образом двойная отчетность, денежная и духовная, являются порукой того, что помощь правительства не компрометируется. А польза для интересов консерватизма может быть огромная. Устроится наконец что-нибудь цельное и прочное за порядок!
Засим остается прибавить, что я говорил об вопросе о денежной помощи только с одним министром внутрен[них] дел[12]. Как сказано в записке: жаль, ужасно жаль не воспользоваться нынешнею минутою – она не повторится – для дружного напора на печать беспорядка. А одинокие усилия, увы, бессильны.
С чувствами, не нуждающимися, Государь, в определении – остаюсь чем был и есмь
Вашего Величества
верноподданный К. В. Мещерский
12 октября 1882 года
Если последует одобрение на сии мысли, и Ваше Величество изволите переслать эту записку к гр. [Д. А.] Толстому, то об одном дерзал только просить: о подтверждении хранить тайну, ибо в ней залог успеха, а в разглашении вред интересам правительства.
Все говорят о вреде, и страшном вреде, который приносит либеральная или безнародная печать, все говорят о миллионах, потраченных на этот вред в печати в течение двадцати пяти лет, все говорят об опасностях, грозящих власти и России от разнузданности и враждебности к идее Самодержавия этой печати, все говорят о необходимости не только карать печать злонамеренную, но противодействовать посредством усиления печати благонамеренной, но, увы, доселе, с грустью приходится сознаться, печать беспорядка всесильна и богата, а печать порядка бессильна и убога.
Мысли, ниже излагаемые, суть опыт из области слов перейти к делу и устроить нечто осмысленное и цельное в виде издания такого, которое могло бы с одной стороны быть органом консервативных начал, а с другой привлечь к себе заманчивыми сторонами возможно большую читающую публику из той части общества, которую теперь завлекают и увлекают разные дешевые, но гнилые издания.
Еще в прошлом году я советовал графу [Н. П.] Игнатьеву сделать две попытки: одну – сельской газеты для крестьян, другую общедоступного журнала, с участием лучших писателей и с картинами и с статьями строго консервативного направления, в подражание распространенному в баснословных размерах 75 000 подписчиков журналу «Нива»[13], к стыду нашему в руках немецкого подданного. Мысль была такая: незаметно интересным чтением, хорошими рассказами, сильными и прочувствованными статьями, мало помалу производить пропаганду порядка и заставлять людей привыкать к звукам консервативной речи так же охотно, как теперь они привыкают к звукам речи либеральной.
Первая мысль о крестьянской газете осуществилась, хотя, к сожалению, далеко не так, как полюбилось бы такое издание народу, который в чтении любит рассказы о святых, о церковном, о царях, о военных подвигах, людях и событиях[14]. Вторая мысль замерла.
А между тем она важна и нужна, и именно теперь более чем когда-нибудь. Тогда, предоставленный самому себе, я решился прежде всего приступить к возобновлению «Гражданина» в виде опыта, дабы знать: 1) есть ли в обществе действительно реакция или склон к порядку, 2) есть ли кружок лиц, на который можно рассчитывать как на ядро для развития из него дальнейшего круга консервативных единомышленников и 3) могу ли я, то есть способен ли я повести дело, за которое берусь? Вопросы эти я очевидно поставлял для того, чтобы иметь данные для будущего, в виду осуществления мысли об общедоступном журнале, замершей в прошлом голу. Опыт дал с января по конец октября несомненно веские данные. Опыт был интересен. Во-первых, возобновлялось издание, вследствие его резко консервативного направления крайне непопулярное и многим ненавистное, во-вторых, возобновлялось издание без личных сил и средств. Произошло вот что. С 700 подписчиков в январе цифра дошла до 1500; ненависть и брань, пробудившиеся снова, доказали, что журнал с идеею Самодержавия в основе имеет силу и значение, ибо будь он без силы, не бранили бы! Но рядом с этим, сказалось, увы, и другое. Хотя, благодаря Бога, удалось издание улучшить, но вынужденное неимением средств одинокое ведение дела значительно повлияло в начале на успех издания. Явились такие недостатки и промахи в ведении дела, которые могли бы испортить все начинание, и единственный орган консерватизма в Петербурге уподобить булыжнику медведя в басне [И. А.] Крылова[15].
Но и тут Бог помог. К концу года ряд усилий и трудов привел к образованию известного кружка даровитых сотрудников. «Гражданин» как политическая газета стал на ноги, и если с одной стороны по мере его улучшения усиливается к нему ненависть противников, то с другой стороны зато ясно стало, что на известный процент образованного общества можно рассчитывать и что невзирая на многие мои недостатки и промахи я способен вести дело журнала, но при известных условиях.
Главное из этих условий было и есть обеспечение мне и журналу прочного руководительства, то есть постоянного состава или кружка авторитетных людей, которым я бы подчинял себя и свое падкое на промахи увлечения перо.
Но как это сделать?
Вот тогда с опытом уже 3/4 года в руках я вернулся, и счел себя в праве вернуться, к прошлогодней мысли об издании общеинтересного и общедоступного, но строго консервативного журнала с известною помощью от правительства.
Мысль эта не новая. В 1879 году она осуществилась в виде газеты «Берег»[16]. Но именно полное фиаско этого опыта дало точные указания на то, как опасно этою помощью правительства пользоваться неумело, и на то, что следует делать и чего надо избегать, чтобы помощь эта могла оказаться полезною и плодоносною. Опыт «Берега», получившего более ста тысяч рублей на год, неопровержимо доказал, что будь сделано все противоположное тому, что он сделал, и что с ним было сделано, получились бы и результаты противоположные, и вместо фиаско был бы успех.
Во-первых, основана была большая, дорогая, ежедневная новая газета. Это была огромная ошибка. Сразу потребовалась большая сумма, сразу потребовалась масса людей, сразу на газету накинулись и разорвали на клочки, сразу Цитович, никого и ничего не зная в Петербурге, очутился в самом фальшивом положении: с одной стороны роскошь обстановки, с другой полное одиночество, бессилие, безлюдие и в добавок недостаток подписчиков, ибо цена газеты дорогая: некому подписываться.
Во-вторых, выдававшие субсидию позаботились, кажется, особенно о том, чтобы все знали о субсидии; тайны не было никакой, сразу ее разгласили, и кончено: дело погибло.
И что всего хуже, компрометировали правительство во всех отношениях.
Пользуясь сим печальным, но поучительным опытом, я позволяю себе думать, что, делая противоположное, надо рассчитывать на успех.
Во-первых, помочь надо журналу уже старому, обстрелянному, занявшему свое место в жизни и печати. Про «Гражданин» и про меня сказали всю брань и ругань, которые имеются в русском языке. Нового не придумаешь. Тем не менее, он завоевал себе и место, и значение, и самые злые враги все-таки признали за ним одно: честность и самостоятельность убеждений. Это важное преимущество для издания: оно застраховано от последствий брани и ругани.
Во-вторых, помощь должна быть сравнительно не большая, дабы никого не могла своими последствиями поразить и давать повод толкам. Сколько крайне нужно для обеспечения журналу безбедности и средств иметь талантливых сотрудников, и больше ничего.
В-третьих, об этой помощи никто, кроме Вашего Величества и министра внутренних дел не должны были бы знать, что весьма не трудно было бы достигнуть, так как у министра есть суммы, назначаемые в секретное, ему лично известное распоряжение[17].
В-четвертых, на такую помощь от правительства следует смотреть как на временный скромный опыт, ни к чему не обязывающий и только нужный для того, чтобы дать изданию пережить первые 2, 3 года критического для всякого издания периода. Удался опыт, тем лучше; не удался, надо и можно прекратить помощь.
В-пятых, издание должно быть по возможности общедоступное по цене и по содержанию, а не исключительно политическое. Для этой цели я и предполагаю к «Гражданину» еженедельному прибавлять 12 книг с картинами, и все это пустить по прежней цене 9 руб. в год. Тогда публика заинтересуется, и тут же будет ее пропаганда.
В-шестых, нужен постоянный Совет редакции, то есть кружок лиц, которые своим постоянным руководительством могли бы обеспечивать изданию его стройность, оберегать оное от увлечений, крайностей и промахов моего пера и служить гарантиею за целесообразность и производительность испрашиваемой у правительства помощи.
Итак, помощь эта нужна: 1) для доставления возможности значительно улучшить издание и в то же время сделать оное по цене общедоступным, 2) для приобретения постоянного сотрудничества талантливых писателей и художников и 3) для облегчения такому в новом виде изданию возможности пережить два критические года.
По приблизительному расчислению поддержка эта нужна на два года в размере не свыше 3 тысяч рублей в месяц, или 36 000 р. в год. Если благодаря этой помощи временной преобразованный журнал получит успех, выигрыш для интересов порядка будет огромный, и в России (вряд ли в Петербурге) из читающего общества отвоюется у сомнительных изданий очень крупная часть читателей в пользу издания строго консервативного.
Если – что предвидеть трудно – успех будет недостаточен, то после 2х лет опыта помощь прекращается.
К этим соображениям следует прибавить:
1. Очень значительная часть читающей публики в России – растлевается и либерализируется и возбуждается против правительства совершенно против ее воли; публика эта накидывается на то чтение, которое подешевле, под рукою, и интереснее, равнодушная к тенденции политической; и что же? Это дешевое чтение подносит ей либеральная печать везде и во всех видах, консервативная печать в стороне, ее почти нет, и вот против воли публика испытывает действие противоправительственной пропаганды. Ясно, что точно таким же путем, невольным, должно стараться делать пропаганду порядка, предлагая публике дешевое и интересное чтение в хорошем духе.
2. Эта публика в России весьма легкомысленна, поверхностна и добродушна. Она не растлевается дурной печатью вглубь, она только окрашивается ее цветами и привыкает к известным либеральным звукам. Чьи краски и звуки сильнее, тот и воспитывает публику. Пока краски и звуки у вредной печати сильнее. Надо во что бы то ни стало попытаться пускать в публику сильные звуки и краски консервативные. Потом, когда все доселе еще поверхностное действие либерализма на публику перейдет глубже внутрь жизни, будет уже поздно делать попытки в пользу интересов порядка.
3. Также публика, кроме того, малодушна. На нее вследствие этого сильно влияет и то обстоятельство, что либеральная печать является везде в России во всеоружии и в блеске своего богатства, могущества и многолюдства, а консервативная печать, наоборот, прокрадывается так сказать в сумерках и в жалком виде своего убожества. Допускать, чтобы печать за порядок была жалка и смешна в своем убожестве, это большая политическая ошибка. Публику соблазняет и смущает эта разница в пользу печати либеральной, а для правительственных интересов вредно зрелище бессилия и убожества органов, стоящих за эти интересы. Наоборот, вид консервативного издания, обеспеченного материально и блистающего талантами своих сотрудников (наприм[ер], «Моск[овские] ведом[ости]» и «Русск[ий] вестн[ик]»[18] – но они одни во всей России) сейчас же произведет свое магическое действие и перетянет к себе много людей из малодушно обольщенных роскошью печати либеральной. Это неизбежное действие закона так сказать природы человеческой. Эти малодушные душою и инстинктами ближе к миру консервативному, но их тянет к либералам соблазн и смущение при виде убожества партии порядка.
Все эти соображения я представлял графу [Д. А.] Толстому на днях. Он признал многое верным и уважительным; он признал верною мысль о необходимости не только карать печать вредную, но и усиливать печать благонамеренную, когда она честна; но в виду отклоняемых министром финансов всяких сверхсметных расходов признал неудобным личную инициативу в таких вопросах, хотя бы при сочувствии к ним.
Тогда я сказал графу Толстому, что с его ведома я сам представлю о сем моему Государю, и вот, Государь, я дерзаю представить эти мысли на Ваше благоусмотрение.
Какой бы не был их исход, ничто, кроме смерти, не может помешать бороться до изнеможения за святые убеждения, но Вы не поверите, Государь, как жаль, как ужасно будет жаль упустить для борьбы благоприятную минуту, которая не повторится; в лагере противников начались расколы и смуты; в обществе сказывается реакция в одних и недоумение в других; число пошатнувшихся в вере в либерализм увеличилось, и наконец, Бог помог впервые образоваться у нас кружку тесно сплотившемуся талантливых и благомыслящих людей, готовых идти в бой на арену печати: при таких условиях напор в настоящее время хотя одного издания живого и общедоступного в читающем обществе, с направлением за порядок, за Власть и за церковь может иметь громадное влияние как доказательство усиления печати порядка и как орудие и начало пропаганды, могущей дать в два, три года несколько тысяч новообращенных[19].
1883
Первое мая[20]
Не внидете в эти торжественные по ожиданию минуты в суд с старым Вашим слугою по вопросу: почему дерзаю писать к Вам? Причины – чувства! Они достойны суда милостивого. Прежде всего имею за многое благодарить Ваше Величество!
Во-первых, за милостиво принятое Вами предложение на счет рассылки по 1 экз. издания Истории царствования покойного Государя[21] по волостным правлениям. Два месяца назад все 12 000 экз. были разосланы, и так как у меня от данных мне на пересылку денег остались лишние, то я на оные разослал оказавшиеся нужными сверх 12 000 еще 630 книг.
Во-вторых – за милостивое ободрение меня в смиренном труде моего пера.
В-третьих за то, что дозволили мне быть частичкою того моста, который, с Вашей высоты перекинутый в глушь одного из городов провинции, сделал счастливым одного человека Вашим благодеянием[22]!
За все сие благодарю Вас, Государь, с чувствами, которые слова вряд ли в состоянии выразить!
Но затем еще одно моление, еще одно желание. В нынешнем году минуло, увы, десять лет с того времени, когда я Вас перестал видеть и перестал слышать. В письме, 10 лет назад возвестившем мне мою участь, было сказано: «может быть через несколько лет свидимся». Я ждал этого дня, я просил его у Бога в молитве, но он не приходил. Теперешнее время необыкновенное время; каждое дыхание его будет скоро по благословению Божию, веянием любви, милосердия и радостного всепрощения! В уединении перед торжеством, в говении перед венчанием и помазанием на Царство среди множества чувств и мыслей пройдут перед Вами и года счастливой Вашей юности воспоминаниями, может быть, хотя одно из них заденет и меня; я не был ни злой, ни дурной, ни бесчестный человек, я был жертвою своего дурного характера, но любил Вас как мог, как умел; быть может тогда воспоминания и чувства, среди многих, которым Вы захотите простить вину, которых Вы захотите порадовать отблеском Вашего торжества святого и великого, выделят и меня, свидетеля Ваших юных лет! Права мои на это желанное счастье ничтожны, заслуг у меня никаких, недостоинство мое то же, но в душе голос тайно подсказывает мне, что я как будто дострадался до этого помилования, выстрадал это желанное счастье. Спутнику Вашей весны да будет сегодня всепрощение Ваше теплым и светлым лучом в холодную и одинокую мою осень! Вот о чем дерзаю молить Вас!
Увидеть Вас, услыхать Ваш голос вряд ли должно мне желать. В теперешнее время лучше мне трудиться пока есть силы в моем затворе! Но одного быть может мог бы дерзать желать: чтобы 10 лет назад написанное Вами мне письмо с объявлением мне моей казни не было последним, но чтобы теперь хоть две, три строки от Вас возвестили бы мне Ваше прощение. Никто мог бы об этом не знать. Вы бы могли через К. П. П[обедоносцева] переслать в пакете эти две, три строки в конверте на мое имя. Ни он, ни я об этом не сказали бы никому ни слова! Но Боже мой, как Вы бы меня осчастливили, какой ужасный камень, мучащий меня уже столько лет, свалился бы с души и воскресил меня! Это мечта, это желание, это молитва Вашего старого, жестоко наказанного, крепко страдавшего и всеми силами души любящего Вас и молящегося за Вас – слуги и верноподданного.
11 мая
Сейчас получил Ваше драгоценное письмо! Благодарю Вас! Благодарю, благословляя сердце, подвинувшее Вас, благословляя руку, написавшую сии строки. Так светло кругом стало, так облило радостью всю душу, так хорошо стало, что передать и выразить мое счастье не могу, поблагодарил Бога в порыве благодарного умиления! И сколько радостей за раз! Из Москвы пришло драгоценное письмо! Оно есть весть о прощении, забвении и мире! Оно возвращает надежду на свидание! Спасибо Вам!
С этим чувством смелее переносишься к Вам, Государь, в эти великие и святые минуты Вашей жизни[23], в Ваше теперешнее уединение и дерзаешь громко думать о том, о чем Вы думаете!
Дерзаешь прийти мысленно и сказать Вам с твердою, все существо проникающею верою в правду своих слов: Государь, много светлых знамений обставляют Ваше трудное на вид шествование по царственному пути, веруйте в оные твердо, и Бог будет с Вами всегда, везде всесильною помощью, чудотворною охраною и источником радостей и счастия Вашего народа!
Трудно передать вкратце, сколько благих последствий сказалось в жизни уже с тех пор, как Вы, осененные и вдохновленные Богом, избрали настоящий путь, соответствующий нуждам России. Та атмосфера слабоначалия, слабоверия и слабовластия, которою дышали сотни тысяч людей в России, стала поразительно наглядно очищаться от миазм, и почти всюду явились во-первых чувство власти и безопасности и смелость говорить за порядок и против безумия политических и либеральных мечтаний. Почва стала тверже у всех под ногами, и воздух стал чище и благотворнее для дыхания. Отовсюду в этот год приходят о том вести самые несомненные. Эпоха начинает переделываться, и ни единое из Ваших действий не осталось без влияния. Зло побеждаться начинает в своем корне, в своих причинах, а это главное; стихии жизни, слагающие разные строи политической жизни, начинают оздоровляться. Люди видимо отвыкать начинают от либеральных звуков и привыкают к звукам порядка и власти. В нашем кругу литературы это явление особенно поразительно и утешительно. То, что казалось немыслимым, то не только случилось, но принесло уже плоды. Два, три действия и проявления власти, и вот уже теперь несказанное смущение и смятение в так называемой печати либеральной. В главных журналах, воспитывавших 20 лет поколения в России – небывалые явления: сильное уменьшение подписки; «Вестник Европы» упал с 8000 до 4000, «Отечественные записки» поговаривают о ликвидации, «Дело»[24] с 10 000 упало до без малого 5000, ни одна газета ярко либеральная не идет; везде в редакциях стали бояться власти Правительства, и все это несказанно важно потому, что обозначает внутренний переворот в России. Везде все просят не реформ, а только власти твердой и спокойной.
Вот чудотворное знамение времени. Оно не призрак, о нет, оно поразительно очевидно и понятно.
И люди, избранные Вами в ближайшие советники так верно и мудро, мало помалу начинают заметно приобретать доверие многих, когда-то находивших их имена непопулярными! Их сознают нужными и полезными! В них веруют! И сколько есть и выделилось за последнее время людей для работы, которых твердость сверху – преобразила. И есть известный запас честных и способных людей, годных и для подвигов высшего государственного служения.
Словом, Государь, Вас окружает светлый и удивительный воздух самых отрадных и ободрительных веяний, знамений, явлений жизни и предчувствий, и Вы не поверите, как во многих самых разнообразных слоях общества горячо веруют в близость к Вашей душе Бога и в светлые знамения Вашего пути!
О, и Вы, Государь, в это веруете; все коленопреклоненно теперь за Вас молящиеся это радостно предчувствуют!
Но простите, перо увлеклось переполняющими душу мыслями. Теперь людям молчать надо, ибо теперь Бог посылает ангелов Своих научать, ободрять и вдохновлять Вас.
Простите же мне строки эти. Простите мне, что я мог мнить на счет Вашего не злопамятства, ибо не его боялся, а на счет права моего дерзать мечтать и просить о свидании с Вами!
Еще и еще благодарю Вас, Всемилостивейший Государь, за безмерную радость! Дай мне Бог заслужить ее! Вашего Величества с благоговейною и беспредельною преданностью
верноподданный
К. В. М.
Осмеливаюсь просить Вас, Государь, приложенные строки передать Государыне[25]. Не мог не написать их!
14 июля
Всемилостивейший Государь!
Уже месяц прошел с того для меня знаменательного дня, когда после 10 лет мы свиделись в первый раз! Свежо предание, но верится с трудом, ибо общее впечатление было такое: мне показалось, что это был сон со всеми характерными чертами и эпизодами сна чудного, сладостного, но сна: душа переполнена мыслями и чувствами, видишь и слышишь любимое существо, хочется это сказать, рвешься на этом остановиться, тут мелькнут воспоминания, хочется их остановить, хочется глядеть, разглядывать; душе так вдруг хорошо стало; хочется оставаться в этом состоянии долго, долго, впереди кажется стелется ряд этих мгновений непрерывно, но вдруг пробуждение: сон кончился, видения уже нет, голос смолк, и целое море недосказанного душой заволновалось в своем бессилии идти далее; остались одни ласки воспоминаний, для жизни остались только чудные отрывки прерванного сна!
Вот что я испытываю! А что я испытывал, входя к Вам, сидя у Вас, уходя от Вас, как выразить, не знаю. Та же комната, тот же воздух, вдруг раздался тот же голос Ваш, тот же взгляд Ваш, та же улыбка, забушевали воспоминания, загорелось сердце, все прожитое с Вами вдруг воскресло, все пережитое без Вас в эти десять ужасных лет заговорило тоже; там весна, свет, теплынь, ласки беззаботного веселья, здесь повеяло холодом, мраком, и Боже, как забилось сердце от тревожного неведения: как эти два прошедшие встретятся при нашем свидании?
Помню, что при расставании после этого свидания у меня вырвался крик со дна души: не отгоняйте меня совсем от себя прочь! Простите мне, Государь, этот крик. Он вырвался потому, что именно когда пришлось чудному сну прекратиться, еще сильнее стало желание с Вами видеться, говорить с Вами; вырвался он и потому, что нет и не было дня за эти годы, не было часа на дню, когда б не думал о Вас. Мысленно видишь Вас, как одни, под бременем возложенного на Вас Богом непостижимо трудного ряда дней, дел и забот, Вы проходите этот путь, а в то же время хочется и это сказать Вам, и то передать, и этим Вас порадовать, и тем Вас утешить…
Но смеешь ли? Смеешь ли желать, мечтать? И это неведение мучит. Что воскресло от прошлого, от нашего милого, дорогого, для меня священного прошедшего? Сокровище ли его: право задушевной речи, или только призрак чего-то неопределенного? Восстание ли это из могилы на мгновение, чтобы в нее вернуться, или воскресение это чего-то хорошего, святого для жизни?
Днями и часами томлюсь я этими вопросами. Зачем? – спросите Вы. Затем, что никогда сильнее, чем теперь, душа не горела жаждою общения с Вами там, где это общение мыслимо, возможно и не сталкивается с особенностями и условиями Вашего настоящего.
Вот почему во мне вырвались эти слова: не отгоняйте меня совсем от Себя прочь; я испугался мысли, чтобы светлое давно прошедшее не стало слабее мрачного недавно прошедшего! Простите меня.
Но как и чего дерзать желать? У Вас два дома, Государь: в обоих Вы хозяин. Один дом, видимый для всех, Ваш дворец. Туда мне доступ почти[26] немыслим. Там, сдается мне, места мне как гостю и желать не должно. По роду моей деятельности эта неуместность моя среди лиц, из которых большая часть или незнакома или недоброжелательна, как бы очевидна и даже необходима. От неизмеримого счастия иных Вас видеть, Вас слышать, для блага и пользы моего дела мне должно в мечтаниях отречься!
Но у Вас, Государь, есть второй дом: дом этот душа Ваша. Дом этот невидим. Входить в него можно видимый одним только Богом! Там безопасно от людей и свято от всего суетного, как в церкви! И вот об этом-то доме я дерзаю мечтать и молиться Богу, да откроется он мне. Как часто хочется сообщить Вам что-либо достойное Вашего душевного внимания, прочтешь что-нибудь, хотелось бы и Вам сие указать; услышишь что-нибудь, что узнать Вам очень интересно; является случай, где есть возможность призвать на дорогую, на дорогие вернее, Вашу и Супруги Вашей головы благословения кого-либо лишний раз, словом, как часто бывают минуты, когда душа рвется к Вашей душе в святом и достойном порыве.
Но смеешь ли? Раз посмеешь, а потом убоишься, как бы не наскучить, как бы не наткнуться на отсутствие права задушевного общения?
Вот пользования этим священным правом, руководимого честью, благоразумием опыта, благоговейным пониманием обязанностей, с этим правом соединяемых, дерзаю в мечтах желать.
Тогда хорошее давно прошедшее для меня выйдет из могилы и оживет; эта жизнь будет подобием монастырского затвора: отречение от света, но полное жизни общение духа с духовною областью жизни.
От времени до времени писать Вам без страха, что надоедаешь Вам, с светлым чувством, что можешь, смеешь быть в общении с душою Вашею, вот то счастье, о котором дерзаю спросить Вас: мыслимо ли оно? Мыслимо ли в этом виде воскресение нашего со дней юности моей и детства Вашего знакомства?
Тут никто кроме Бога нас не видит. Я буду класть письма как всегда в ящик почтовый, а Вы, Государь, если когда-либо удостоите милости и счастья ответа, Вы бы могли пересылать мне письмецо через К[онстантина] Петров[ича Победоносцева].
Одно могу обещать: злоупотреблять сим дерзновенно мечтаемым счастьем и правом не буду, памятуя все, что помнить должно.
Простите мне сии длинные строки. Я их пишу сегодня с сердечным лукавствием, ибо завтра день моего ангела, одинокий, и бесцветный в моем уединении. Лукавствие заключается в мысли, что, может быть, ради сего праздника луч радости прилетит от Вас в мой уголок и осветит оный в виде записочки-ответа.
Но при этом еще моление. Внемлите ему! Подарите мне Ваш кабинет-портрет с надписью: 16 июня 1883 г. Быть может, есть вместе с Царицею портрет? Не откажите, Государь!
С глубочайшею и благоговейною преданностью без предела
Мал. Италианская, 21
[14 декабря]
Простите, что дерзновенно прибегаю к защите Вашего Величества в вопросе, где вменяемые мне г. министром юстиции проступки публициста сталкиваются с самыми для меня заветными, коренными и священными убеждениями верноподданного. Еще в прошлом году г. министр юстиции угрожал мне преданием суду за те статьи «Гражданина», в которых он усматривает оскорбление и поношение судебного ведомства. Я обещал г. министру быть по возможности осмотрительным в отзывах о судах. С тех пор прошло несколько месяцев. Последний ряд судебных эпизодов, смутивших и оскорбивших тысячи и тысячи благочестивых лиц – вызвал в «Гражданине» несколько новых статей против вредного духа в новых судах. Верный своему обещанию, я постарался избегать резкостей, насколько это было возможно, и, не доверяя себе, я все-таки эти статьи прежде их напечатания отдавал на прочтение тому лицу, о котором я писал Вашему Величеству[27]. Тем не менее и эти статьи вызвали неудовольствие г. министра юстиции и требование подвергнуть меня за них каре[28].
Известие это меня повергло в уныние, ибо тут вопрос не личный, а вопрос, от которого содрогаются самые дорогие чувства и зависит впечатление на тысячи людей, ненавидящих новые суды за их дух, враждебный церкви, самодержавию и семье.
Г. министр юстиции усматривает в резких нападках на суды неуважение к правительству.
Дерзаю в опровержение сего мнения сослаться на печальную действительность. Нападками на власть, на правительство, насколько это возможно, дышат все почти органы печати; наоборот, эти же органы печати всегда и везде отстаивают новые суды и судебное ведомство, явно свидетельствуя, что они не считают суды правительством, а скорее чем-то своим, либеральным, чем-то антиправительственным.
Наоборот, единственные два, три органа печати в России, искренно и бескорыстно преданные всецело интересам власти и основам самодержавия – они, и только они непрестанно нападают на суды, потому именно, что видят в них ежедневно так сказать с одной стороны проявления розни с Высшим правительством, проявления неправосудия в угоду лжелиберализму и против интересов Самодержавия, а с другой стороны безответственность нарушителей правосудия. Ясно, что тут кроется печальное и роковое недоразумение. Либеральные органы печати хвалят новые суды за их противоправительственное настроение: их сотни; два, три консерваторские органа печати хулят эти суды за это настроение, и неужели эти два, три органа печати должны быть караемы за то именно, в чем они видят, и не могут не видеть, исполнение своего долга чести и преданности интересам Власти? Ведь эта кара не только не ослабит грехи новых судов, но усилит в них торжество своего могущества и своей безответственности! А затем какое тяжелое впечатление получат в душу читатели этих двух, трех преданных правительству органов печати, когда увидят, что один из них карается правительством за то, что он прямо и твердо нападает на новые суды за их враждебное русскому старому государственному строю настроение!
Смущенная мысль дерзает вопрошать почтительно г. министра юстиции: не полезнее ли в интересах Правительства, прежде проявлений строгости над двумя, тремя органами консервативной печати за их нападки на новые суды, увидеть строгость над этими судами, когда они оскорбляют общественную совесть? Тогда и нападки на суды в консервативной печати прекратятся, ибо тогда, и только тогда, все благонамеренные люди увидят в этих судах правительство.
Еще раз прошу прощения за дерзновенное обращение к Вашему Величеству с мольбою о защите. Часто приходится ощущать себя виновным в промахе пера или грехе мысли, но в этом вопросе дерзаю сказать, что совесть моя чиста!
Вашего Величества беспредельно и благоговейно преданный
верноподданныйКн. В. Мещерский14 дек[абря] 1883 г.Б. Садовая, 12
1884
[11 июня]
Прошел год с того счастливого для меня дня, когда после 10 лет разлуки я узрел Вас, я услышал Ваш голос, я получил от Вас разрешение от времени до времени писать! Год минул, и я не писал, не дерзал писать; начнешь писать, остановишься; слова Ваши, выражавшие уверенность в том, что я не стану злоупотреблять правом писать Вам, Государь, приходили на память, и я боялся, не мыслей своих, но нескладности своей речи, увлечений своих, неточности мысли, и останавливался.
Теперь опять берусь за перо. Мне кажется, что, воздерживаясь год от писания Вам, я пробыл в известной школе мысли и слова и обдуманнее предстою пред Вами; а с другой стороны кончился год, за этот год есть что сказать, могущего интересовать Вас, есть повод и причина писать. И вот, помолившись Богу, пишу.
Но как пишу? В этом вопрос. Пишу так, как будто Вы меня позвали и сказали: ну, Владимир Петрович, садитесь, у меня есть час досуга, и рассказывайте все, что вы за год слышали интересного, не стесняясь формою и не сухо, а так, как бы вы говорили в семье вашей и между порядочными людьми вашего образа мыслей. И вот я так и принимаюсь писать, с душою всецело полною Вами, но в то же время как бы не нарочно для Вас, без обращения к Вам. Благоговение этим не нарушается, но вольнее и оживленнее выходит речь.
11 июня 1884 г.
P. S. Дозвольте мне при этом высказать одно задушевное слово! По причине Вам, Государь, известной, я поставлен был в близкие отношения к товарищу гр. [Д. А.] Толстого И. Н. Дурново[29]! Не могу, видя 2 года близко, что это за человек, что это за царский слуга, не дать вырваться пред Вами чувству благоговения перед этим человеком. Без преувеличения этот человек отдает из добросовестности жизнь свою труду: 365 дней он работает 18 часов в день и работает за все министерство; при этом высокая честность, светлый ум, доброе сердце и избыток деликатности. И в довершение, как старый военный человек старых преданий и заветов преданности к Престолу без примеси либеральной фальши. Почему же я пишу об этом, спросите Вы, Государь! Во 1) потому, что Вы рады будете сие узнать, 2) потому, что я сердцем чую, что таких людей награды служебные не развеселят, а ласковое слово Ваше, проявление участия, проявление того, что Вы знаете о его трудах, при случае, при докладе выраженные, осчастливят, ободрят, и в 3) кто знает, если когда-нибудь понадобится Вам преемник [К. К.] Гроту, например, или гр. Толстому, может быть Вы вспомните об этом прямом, честнейшем и способном прекрасном человеке! Боюсь только, чтобы он не убил себя работою. И если бы Вы изволили сердечно сказать ему поберечь свои силы, может быть он бы Вас, Государь, послушался!
[Приложение:]12 июня 1884
Хотя очень трудно за год подводить итог прожитому в виде общего и определенного результата, тем не менее на вопрос: что можно сказать определенного вообще о прожитом годе, я бы ответил следующее на основании виденного и слышанного. Поворот к более спокойному и послушному отношению умов к Власти стал виднее и определеннее. Заметно, что привыкать начинают к мысли, что можно довольствоваться властью управляющею, и только, тогда как прежде от власти требовалось, чтобы она прежде всего давала и делала что-либо новое. Этот поворот умов к спокойному образу жизни важный и добрый признак времени. Заметен он, между прочим, в печати. Бесстрастные и твердо безличные отношения к ней правительства заставили печать сделаться спокойнее, сшибли с нее спеси и отчасти успокоили нервы.
Но к сожалению, если в общем состоянии умов заметен поворот к большему спокойствию, отчасти бóльшее спокойствие умов сливается с апатическим состоянием духа значительной части общества. Этой апатии две причины: 1) в общественной и государственной жизни гораздо менее предприимчивости, менее непредвиденного, менее приключений, менее проектов и, если можно так выразиться, менее азартной игры, 2) государственная служба стала скупее на чары и миражи блестящих и быстрых карьер, в военном мире в особенности, и эти обе причины вместе, подействовав одновременно на общество, испорченное зрелищем скачек с препятствиями, легкостью карьероделания, расшатанное в своих принципах, утратившее устои и собственный образ мыслей, неизбежно в виде реакции привели к апатии.
Апатия есть вредное состояние духа для государства, это несомненно; надо лечить эту болезнь ума и воли, но в то же время Боже сохрани от мысли лечить апатию политическими пряностями и острыми либеральными кушаньями в виде уступок власти. Тогда начнется или гангрена или сумасшествие общества. Прежде всего надо признать эту апатию как последствие реакции явлением неизбежным и мириться с ним; это историческое явление, которое пройдет постепенно и мало помалу. Во-вторых, разум жизни показывает, что лечить апатию общества можно, но не иначе, как отгоняя жизнь от центра к конечностям, от центра в провинцию. Надо пробудить и создать во что бы то ни стало живые интересы в провинции и всех туда привлекать. В этом, кажется, должна быть задача правительственной политики. Доселе и законы, и правительственные меры, и привычки государственной жизни вели дело наоборот, все здесь сосредоточивать, а провинцию забывать; оттого нет политической жизни вне Петербурга, как нет достаточной дворянской, деревенской жизни. Слабые представители власти и сильные кулаки-эксплуататоры сделали провинцию почти невыносимою для жизни правильной и порядочной.
Но как пробудить и создать провинциальную жизнь? Разумеется, вдруг, почерком пера ничего нельзя сделать. Надо положить только начало новому воззрению на провинцию; надо начать, и начать искусственно, чтобы потом дать жизни и времени продолжать дело естественно.
Но как начать?
Этот вопрос есть, сколько кажется, вопрос государственный: поднять и пробудить провинцию, отвлечь от центра личные силы, привлечь в провинцию лучшие силы, создать интересы провинциальные, местные, деревенские.
Если эта мысль выскажется сверху, то есть самим Государем, то, думается мне, это уже будет началом нового дела, началом новой эпохи. Высказанная ближайшим слугам Государя, высшим правительственным лицам, она наметит новую и главную мысль для общей правительственной политики и затем объединит всех министров в обсуждении вопроса: как эту мысль осуществить? Прислушиваясь к голосу живых людей, отмечаешь то, что, по их мнению, к пробуждению провинциальной жизни могло бы способствовать.
Например:
1. Восстановление долгосрочного и дешевого кредита для помещиков-землевладельцев.
2. Возбуждение вопроса: не может ли быть дворянским губернским собраниям предоставлено право кредитоваться у казны для покупки дворянских имений в случае их продажи или с аукциона или вольной продажи в недворянские руки?
3. Поощрение местных крупных работ в виде построек, сооружений и т. п. на местные средства.
4. Бóльшие пенсионные выгоды для служащих в провинции, чем для столичной службы.
5. Увеличение воспитательных средств, и в особенности кадетских корпусов, в губерниях.
6. Особенно тщательный и новый по духу так сказать выбор губернаторов; уменьшение доступа на эту должность чиновников и усиление доступа дворян-землевладельцев, без различия военных от невоенных.
7. Возвышение губернаторского звания, усиление его материального положения.
8. Прямое поощрение сверху тех дворян, которые живут в своих имениях, например, известные права на воспитание детей своих по истечении известного срока жизни и хозяйничанья в деревне.
9. Усиление прямых знаков Царского благоволения к губернским и уездным предводителям дворянства, заслуживающим одобрения и поощрения честною и полезною службою.
Не лишенною по-видимому практического смысла и остроумия является следующая мысль как средство: 1) заинтересовать провинциальною жизнью общество, 2) улучшить качество губернаторов и 3) помочь делу пробуждения провинции.
Мысль такая: разделить примерно Россию на три полосы; для каждой полосы назначить 4 месяца в году, в течение которой губернатор, губернский предводитель дворянства и председатель губ[ернской] земской управы должны заседать в особом Совете в Петербурге для участия в решении сообща с правительством текущих дел своих губерний. Совет этот состоял бы под председательством высшего сановника из представителей каждого министерства и из губернаторов, губ[ернских] предводителей и председателей губернских земских управ очередной полосы. В этом Совете обсуждались бы все губернские дела, по которым теперь производится беспощадно сложная переписка или по которым губернаторы бегают, приезжая в Петербург, по всем министерствам, ловя урывками чиновников и сановников. Таким образом в течение года Совет мог бы решать и оканчивать дела всех губерний, от министерств зависящие. Кроме того важно то, что в таких Советах по необходимости проявили бы себя неспособные губернаторы и напротив дельные и способные люди: в переписке неспособный губернатор скрывается бумагою и фразою своего правителя канцелярии, а в таком Совете он должен сам все делать. Надо думать, что такой Совет мог бы помочь улучшению делопроизводства, оживил интересы к провинциальной жизни и облегчил бы правительству трудную задачу искания людей для провинции.
Из текущих дел нынешнего года всего более говорили и говорят об университетском проекте[30]. Он послужил причиною серьезного разногласия не то что между либералами и консерваторами в среде государственных людей, но между самими консерваторами. К. П. Победоносцев представляет одну сторону; министры [И. Д.] Делянов и [Д. А.] Толстой другую. Предмет разногласия – экзамены: первый, то есть Победоносцев, за экзамены как прежде; вторые за экзамены на германский лад, с сторонними экзаменаторами из государственного люда. Трудна по-видимому задача Государя, имеющего решить: кто прав в этом вопросе? Обстоятельство, что Победон[осцев] не присоединился к Делянову и Толстому в вопросе об экзаменах, нельзя считать не важным; первый есть ум государственный, не увлекающийся, ум строго логический, с тонким чутьем: где фальшь. Мнение же вторых, то есть министров нар[одного] просв[ещения] и внутр[енн]их дел, есть в вопросе об экзаменах не столько государственное, сколько увлечение двух теоретиков, весьма узких и чуждых русской практической жизни, [А. И.] Георгиевского и [Н. А.] Любимова. Они из раболепства перед Германиею эту постройку экзаменов перенесли к нам, они же увлекли в эту мысль [М. Н.] Каткова и вот, тут, на практике, если эти госуд[арственные] экзамены применятся, может вот что выйти: сегодня могут экзаменаторы быть беспристрастными, а завтра, являясь из жизненной, чиновничьей и политической среды, они могут ввести в экзамены политическую страстность или тенденцию и сделать из экзаменов орудие борьбы той или другой партии. При нашей неустойчивости, при нашем усердии только в начале и беспечности в последствии можно опасаться, что эти экзамены обратятся в плотину: сегодня прочную и твердую, а завтра плохую, через которую рано или поздно нигилятина может добиться незаметно привилегии проникать в государственную службу успешнее порядочных молодых людей.
Казалось бы возможным и полезным вопросу об экзаменах в виду важности разногласия дать выясниться в совещании министров: вопрос, нужны ли у нас такие госуд[арственные] экзамены, так жизнью и выдвигается на обсуждение! Мало того, жизнь выдвигает другие вопросы: не нужно ли взглянуть на университеты гораздо проще и применить к ним понятие просто высшего учебного заведения и тогда подумать о том: не нужны ли репетиции в течение каждого года, не нужны ли экзамены ежегодно для перехода из курса в курс? Не нужны ли мундиры? Не нужен ли комплект студентов?
Вообще казалось бы нужным, если верить умным людям опыта, не торопиться этим вопросом об экзаменах. Не беда ему в виде проекта лежать до осени, а беда, если эта новинка на рыхлой университетской почве окажется непригодною или того хуже вредною.
Да и вообще верна ли исходная точка проекта? Вызван он сознанием необходимости водворить порядок в университетах. Но чем? Оказывается, вникая в сущность проекта, что университет хотят сделать вольным святилищем науки. Вот исходная точка и средство вернуть порядок.
Но так ли это, верно ли это? Где у нас в жизни элементы вольной науки? Оттого другой взгляд, кажется, тоже заслуживает внимания: не должен ли быть университет строго дисциплинированным высшим учебным заведением?
Все это мысли, о которых много толкуют.
Если возможно в кратких слова выразить, в чем заключается задача нынешнего времени в России, то определяется она такими словами: согласование теории с практикою. Можно безошибочно сказать, что прекрасные намерения и прекрасные цели для творчества прошлого периода реформ именно пострадали от избытка теории и от недостатка практической почвы. Теория или фраза погубила Францию при начале первой революции; почему она губительна и опасна, понять не трудно; теория или либеральная фраза не имеет пределов: незаметно поддаваясь теории, очень легко от теории крестьянского счастья, от всесословного или земского хозяйства прийти к теории уничтожения дворянства, а от нее к уравнению всех сословий под ценз образования, а от этой теории до теории бесполезности Самодержавия один шаг. Этот шаг почти был сделан. Наоборот, царствование Николая I было сильно тем, что оно стояло на практической почве, на почве сознавания и познавания нужд государства; тут самые нужды указывают пределы для правительственной инициативы и деятельности; тут правительство есть хозяин своего дела; тут нет ни увлечений, ни опасных скачков; узнать, что народу нужно, и постепенно удовлетворять нуждам его – не трудное и благодарное дело, и в то же время когда на этой почве стоишь, тогда и правительство само и общество ясно сознают, что другого пути для удовлетворения народных нужд кроме Самодержавия нет! Когда же стоишь на теоретической почве, тогда правительство не народными нуждами занимается, а разными вопросами, созидаемыми в головах проектеров и реформаторов, и, занимаясь ими, правительство мало помалу начинает, само того не замечая, отдаляться от народа, не слышит уже его нужд и дает себя забирать в руки и ослаблять тем самым проектерам, проектами которых оно занимается.
Теперь, куда ни взглянешь, с кем ни заговоришь, везде чувствуешь и слышишь общую нужду вернуться к практической жизни и освободиться от ига и гнета теории над жизнью.
Насколько теория сильна, это усматривается прежде всего в финансовой нашей области. Теория финансовая говорит, что российские финансы разорены, что бюджет обременен, что нужно сокращать расходы, что денег нет; практика финансовая, то есть русская жизнь, говорит: Россия вовсе не разорена, но благодаря тому, что правительство дало себя убедить в безденежьи, в необходимости уничтожать кредитные билеты, оно сузило рамки своей финансовой относительно России политики до крайней необходимости, отдалилось от общения с русскими внутренними нуждами и дало вследствие этого России сделаться в экономическом отношении ареною эксплуатации и наживы хищнической и кулацкой, а правильный, медленный, честный труд, лишившись покровительства правительства, так замер и затих, что можно с первого взгляда это затишье принять за разорение.
Но завтра вся экономическая жизнь в России может пробудиться и вступить на путь возрождения, если практика финансовая возьмет над теориею верх. Практические люди говорят так: Россия обременена внешними займами, это правда, и не только материально, в виде разорительных платежей золотом, но и нравственно, в виде доказательства недоверия правительства к своим внутренним обязательствам и к своим собственным государственным производительным силам; но Россия же может покрывать все расходы правительства в самых широких размерах, если оно, то есть правительство, свой собственный кредит, и кредит торговый, и кредит промышленный, начнет очевидно для всех и твердо основывать на внутренних займах, на поощрении правильного земледельческого помещичьего труда, на покровительстве всем видам промышленности, на сооружениях внутри России, на пробуждении всеми мерами провинциальной жизни. Один очень умный практик-финансист [И. А.] Вышнеградский, обсуждая последние наши внешние займы, высказал мысль весьма остроумную: не лучше ли вместо внешнего займа, когда нужны деньги, поступать казне так: выпустить столько, сколько нужно кредитных билетов, но в то же время ежегодно, и притом с известною торжественностью и в присутствии известных сословных свидетелей и с оповещением всенародным, складывать в особое хранилище в виде обеспечивающего фонда известное количество миллионов рублей золотом. На первый год быть может от выпуска кредитных билетов и от неудовольствия Берлинской биржи курс наш упадет, но зато как только все в России увидят, что казна ежегодно аккуратно откладывает в обеспечивающий фонд всю ту же сумму, и что фонд растет, доверие к казне станет внутри России ежегодно увеличиваться в геометрической прогрессии, и неизбежно вследствие этого курс наш должен будет подниматься.
Мысль эта оригинальна и дышит практичностью, но если ее высказать перед министром финансов, он, конечно, засмеется, ибо она совсем не сходится с финансовою теориею. И вот все подобные мысли, из практической жизни исходящие – встречают в лагере финансовых теоретиков полное недоверие, и наоборот, все финансовые теории, применяемые к делу, встречают на практике внутри России тоже недоверие. И выходит что же? Выходит нечто анормальное: правительство финансовое почти вовсе не участвует во внутренней экономической жизни России, а внутренняя жизнь России вовсе не участвует в финансовой политике правительства. Что же нужно, является вопрос. Люди практические говорят, что нужно уравновешивать и согласовывать теорию с практикою в финансовой области русской госуд[арственной] жизни. Такой честный, аккуратный, добросовестный и осторожный министр финансов как [Н. Х.] Бунге есть своего рода клад для правительства, но в то же время рядом с ним должно, по мнению практических людей, желать участия и другой стороны, стороны экономической практики. Но как это сделать? В ответ практические люди указывают на необходимость учреждения и действия особого министерства торговли и промышленности, которое являлось бы правильным противовесом Министерству финансов, не как противник его, но как другая сторона в каждом вопросе, где интересы финансовых операций должны быть выслушиваемы наравне с практическими внутренними нуждами России. Тогда явится спокойная, законная и постоянная арена для спора между финансовою теориею и финансовою практикою на глазах у правительства, вместо нынешнего глухого и скрытого антагонизма, и правительству несравненно будет легче справляться с государственными задачами. Например: правительство не может не сознавать настоятельной нужды в своих интересах увеличить содержание войск или строить громадную линию Сибирской жел[езной] дороги. В обоих вопросах теория финансов говорит: нет денег, и кончено! Практика же финансовая в виде министерства торговли и промышленности могла бы сказать: деньги есть, и указать на средства удовлетворять государственным нуждам, прямо, открыто, легально, с ответственностью перед правительством и государством, и правительство, имея два мнения, могло бы легче решать, чем при необходимости сообразоваться с одним мнением. Люди как [Н. А.] Новосельский, Вышнеградский могут оказать громадную услугу правительству своим практическим несомненно государственным умом, и кто знает, допущенные конкурировать с умами другого лагеря, лагеря финансовой теории, эти практические умы могут на легальной почве много помочь своими мыслями и сведениями[31].
[24 июня[32] ]
При сем дерзаю приложить маленький рассказ, выписанный из одесских газет.
Убеждение, что если Вы изволите прочесть этот рассказец, Вы захотите проявить Ваше Царское и человеколюбивое сердце, дает мне смелость рассказ доставить Вашему Величеству.
Смею полагать, что сию выписку, сделанную для «Гражданина» мною из Одесской газеты, можно было бы через Мин[истерст]во внутр[енних] дел проверить, и если сие известие справедливо, то Боже, сколько можно добра сделать несчастной семье ВАШИМ именем, и какое прекрасное действие будет иметь такое Царское деяние на всех!
Выписываю из газет.
«Редкий случай самоотвержения сообщает “Одесский вестник”: В последних числах мая от удара грозы в селении Кандель Одесского уезда загорелся дом, в котором помещалось волостное правление. Огонь быстро перешел и на соседний дом учителя Шнайдера. В момент общей паники кто-то крикнул, что в горящем здании правления осталось двое детей волостного писаря. Каждую минуту можно было ожидать, что крыша здания обрушится; маленький же домик Шнайдера уже весь был объят пламенем. Никто из толпы не решался идти на верную смерть, чтобы спасти малюток-детей писаря. Сам писарь и жена его отсутствовали. Толпа, оцепеневшая от ужаса, заколыхалась, когда увидела чью-то фигуру, быстро вскочившую в дверь горевшего волостного правления. Едва фигура скрылась в облаках дыма – крыша здания обрушилась. Оказалось, что это был учитель Шнайдер, бросившийся спасать детей; его вытащили из-под горевших бревен чуть живого и отправили в Одесскую больницу, где он, промучившись сутки, умер. Детей писаря в горевшем здании не было: они сами выбежали из дома, когда завидели огонь, и затерялись в толпе. Покойный Шнайдер прослужил сельским учителем 28 лет и, спасая чужих детей, осиротил свою семью, оставив жену и пятерых детей безо всяких средств к жизни и даже без крова».
Выписываю с мыслью, что может быть из читателей «Гражданина», всегда отзывавшихся на все доброе и благородное, найдутся такие, которые пожелают послать семье доблестного героя Шнайдера пособие, по мере средств, чтобы в то же время почтить память погибшего мужа и отца.
Адрес: Одесса, уездному исправнику, для передачи вдове кандельского учителя Шнайдера.
15 июля
Всемилостивейший Государь!
Почти никогда не осмеливаюсь Ваше Величество беспокоить просьбою прочитать одну из моих статей «Гражданина», считая себя того недостойным, но на этот раз, веря в правду моих мыслей и предчувствуя, что Вы удостоите сочувствия мою статью в ответ на нападки «С.-Петерб[ургских] вед[омостей]» на мои статьи, дерзаю умолять Ваше Величество прочесть прилагаемую здесь статью[33]. Вопрос университ[етского] устава столь важен в государственном смысле, что любящий свое Отечество и преданный Власти не может, пока Ваше решение не последовало – не говорить о нем.
Я послал по городской почте первый опыт письма к Вашему Величеству. Не знаю, дошло ли оно до Вас, Государь, и одобряете ли Вы форму и образ изложения. При письме было моление на счет семьи героя пожара в Одесском уезде. Дерзаю, зная Ваше сердце, о сем необыкновенном случае напомнить.
И еще дерзну. Сегодня я именинник. Если сие возможно, подарите мне через Конст[антина] Петров[ича Победоносцева] несколькими строками ответа. Так давно не слышал Вашего дорогого голоса, так давно не видел Вашего дорогого почерка.
А если многого слишком прошу, простите, Государь!
22 октября[34]
Вот я опять в своем одиночестве, перед своим письменным столом, в центре нашего гадкого Петербурга, – но мне легче дышится, светлее смотрится, теплее на сердце, душа точно моложе, и всем этим я обязан Вам, добрый Государь; оттого перо беру в руки смело и знаю наверное, что не наскучу Вам словами благодарности за получасовое свидание после 15 месяцев разлуки! 15 месяцев это много для почти старика как я, знающего, что впереди уже не жизнь, а остаток ее, хотелось бы, чтобы промежутки были чуть-чуть чаще, но и тут есть хорошая сторона: чем реже благо, чем реже радость, тем оно ценнее, тем глубже врезывается в душу каждая минута прожитого счастья. Но не это одно делает дороже наше свидание с большими промежутками. Мне выпала доля немногих невольно сравнить Вас 15 месяцев назад и Вас, Государь, теперь, сегодня. И от этих впечатлений благоговейно радуюсь; много, много сказали душе Ваша царственная возмужалость, Ваше просветлевшее чело, Ваш прояснившийся и успокоенный взор! Хорошо было мне их видеть, их увидеть, их запечатлеть в душе, и лучше с ними перед глазами теперь мне живется, – спасибо, спасибо Вам, Государь, за эти радости, за эти минуты.
Вы были так добры и милостиво внимательны спросить о судьбе «Гражданина». Подробно поговорить о нем я не мог и не смел. Но есть несколько мыслей, просящихся быть в откровенной беседе высказанными. Ежедневно благодарю Бога за доказательства того, что не недостойно просил Вашей помощи для этого дела; в прошлом году явилось значительное усиление числа читателей; в нынешнем году трудно было еженедельному изданию ожидать увеличения подписки, но зато, как я писал Вам, «Гражданину» удалось прошибить петербургскую броню и удвоить в Петербурге число подписчиков, а главное, удалось приобрести замечательно умных и дельных сотрудников в провинции; год назад приходилось двум-трем нам наполнять номер; теперь не хватает места для помещения всех статей, так сильно увеличился контингент сотрудников в провинции. «Гражданин» видимо входит в связь с разными центрами умственной жизни, и процесс проявления к нему внимания в России в нынешнем году сравнительно с прошлым стал не в сто, а в 500 раз больше! Это глубоко отрадно!
Но есть одна печальная сторона. Несомненное усиление значения «Гражданина», как органа правды и порядка, усилили к нему ненависть в печати либеральной, петербургской в особенности, до размеров невообразимых и чудовищных. Заговор замалчиванья «Гражданина» Петербургом – явление феноменальное. Его никогда не называют: его мысли берут как темы для страстного спора, но никогда не произносят имени «журнала». До смешного доходит эта злобная политика замалчивания, этот страх помочь успеху «Гражданина» хотя бы спором. Разумеется, в этом слишком явно видится признание врагами «Гражданина» за ним силы, но все-таки тяжел, очень тяжел этот новый фазис испытаний, ниспосылаемых труженикам «Гражданина». Не для самолюбия тяжело, самолюбие, Бог с ним, а тяжело потому, что мешает делу распространения журнала с очень умными сотрудниками в Петербурге. Но почему я смею так долго говорить о сем с Вами, Государь? А вот почему. Потому, что есть возможность пособить горю. Прежде, когда я был неосторожен в словах, увлекался, не опирался на достаточный круг надежных сотрудников, я не смел просить Вас о сем, ибо должен был бояться компрометировать. Но теперь, когда я подчинился контролю К. П. [Победоносцева], стал осторожнее и разбогател сотрудниками, дерзаю просить и умолять Вас, Государь, при случаях, к слову, упоминайте о «Гражданине» при министрах, Великих Князьях, дабы слагалось впечатление, что Вы уважаете этот журнал и интересуетесь им. Я убежден, что два, три слова, мимоходом Вами пророненные, будут иметь благотворную силу на судьбу «Гражданина» в известных сферах Петербурга[35]. В остальном Бог поможет. Мы же не посрамим святости просимой у Вас малой доли внимания! Не бойтесь, Государь! Еще и еще благодарю Вас!
К. В. М.
[19 ноября[36] ]
Осмеливаюсь, согласно данному мне позволению, при сем представить листы Дневника за 3 недели мною веденного. Писал его как будто не имея в виду, что пишу его для Вас, Государь, а прямо, под влиянием чувств и мыслей дня или минуты. Многое, быть может, сказано сгоряча, иное недосказано, иное быть может глупо, неумело, но за одно ручаюсь: ни в единой строке не покривил душою, ни в одной строке не уклонился от правды в впечатлениях и мыслях. Нескладное и неумелое простите, Государь, и, если сия форма изложения Вам нравится, то я полагал бы каждый понедельник присылать Вашему Величеству такой Дневник. Об одном только просил бы: о тайне сего Дневника. Я никому не говорил о сем, и только под этим условием моя искренняя нараспашку речь может пригодиться. Не правда ли?
С благоговейнейшею преданностью Вашего Величества
верноподданный К. В. М.
Понедельник 19 ноября
P. S. Я даже не говорил о Дневнике К. П. П[обедоносцеву], а сказал ему, что готовлю и посылаю через него Вам выписки из «Гражд[анина]» о путешествии по России.
На днях доставлю Вам замечательный и блестящий труд [В. В.] Крестовского о состоянии анархической пропаганды и об отношениях ее к народу в Весьегонском уезде Тверской губ. Это поразительно интересная картина[37].
22 октября О свидании в Гатчине
23 октября О Кахановск[ой] комиссии[38]
24 октября Об анархистах
25 октября Об Старобельск[ом] уезд[ном] предвод[ителе]
26 октября О кадетск[ой] моск[овской] истории
27 октября Еще о Кахановск[ой] комиссии
28 октября О духовенстве
29 октября Стихи о тайн[ом] советн[ике]
30 октября О военном мире
31 октября О полтавск[ом] губернат[оре Е. О.] Янковском
1 ноября О кадетск[их] корпусах
2 ноября О 1 департам[енте] Сената
3 ноября О безденежьи
4 ноября Об уездн[ых] предвод[ителях] дворян[ства]
5 ноября О свидании с Государынею
6 ноября О словах неловко и неудобно
7 ноября О влиянии Петербурга на людей
8 ноября По поводу выстрела в [П. А.] Морица
9 ноября Что теперь читают?
10 ноября О Сибирск[ой] жел[езной] дороге
11 ноября О министр[е] юстиции
12 ноября О речи мин[истра] юстиции
13 ноября О нужде в Минист[ерстве] промышленности и торговли
14 ноября О Кахановск[ой] комиссии
15 ноября О проекте Поземельн[ого] банка
16 ноября О высших женск[их] курсах
17 ноября О моск[овских] дворянск[их] выборах
18 ноября Дневные впечатления
22 октября. Понедельник
Г[осударь] дал мне милостивое и радостное позволение писать дневник, имея в виду, что Он его будет читать. Спасибо Ему. Сегодня виделся с Г[осударем]. Многое хотелось сказать, но с одной стороны волнение, а с другой – время. Эти 20 минут прошли как минута. Отрадно было слышать от Г[осударя], что Он сочувствует моим мыслям о помещиках, Он прибавил, что поручил министру финансов[39] разработать проект кредита для помещиков и вообще землевладельцев. Дай то Бог. Необходимо, чтобы Г[осударь] торопил министра финансов, то есть выказывал нетерпение и близкое участие к этому делу, ибо дело сие не в министре финансов, а в сильной и могущественной жидовской партии банкиров и поземельных банков в губерниях, которые всеми неправдами и силами хотят тормозить это дело кредита для помещиков. Им ненавистна идея поднятия дворянства, ибо они чувствуют, что с поднятием дворянства сильнее станет Самодержавие, и дальше уйдет замысел конституции, то есть жидовского полновластия. Крайне необходимо также, чтобы кредит для помещиков был как можно долгосрочнее и как можно дешевле. Увы, то, что выработал мин[истр] фин[ансов] solo-векселя[40], то почти недоступно для помещиков, во-первых, по краткости срока займа, во-вторых по множеству формальных затруднений, коими оно обставлено. До 1861 года был заем в Опекунском совете для помещиков под залог душ. Душ теперь нет, но условия займа 37 лет могли бы служить и теперь для устройства кредита помещикам. Смел бы думать, что отлично было бы, пользуясь теперь присутствием очень практически умных людей, прибывших из России для Кахановской комиссии, предложить министру финансов воспользоваться этими людьми и из них составить комиссию с членами от мин[истерства] финансов для разработки в эту зиму сообща проекта кредита для помещиков и вообще для поднятия помещичьего благосостояния! Могла бы выйти вещь блистательно и практически хорошая.
Вторник 23 окт[ября]
Виделся с одним приезжим кахановцем. От него узнал, что разлад между приезжими и петербургскими кахановцами все становится сильнее и яснее. Теперь очевидно, что они сойтись не могут, ибо расходятся в главном, в основах. [М. С.] Каханов сам умный и даровитый человек, но он идеал петербуржца-бюрократа; для него практика жизни в России – мертвая буква. Кроме того, люди, как [И. Е.] Андреевский, как два, три студентика, работающие в канцелярской лаборатории комиссии, путают и сбивают с толку своими теориями страшно. Отсюда разлад полный. Кахановский проект толкует о всесословности и о равновесии власти между правительством и обществом, а кахановцы приезжие говорят на основании практики, что никакой всесословности в России нет, что это вздор, а на счет равновесия они говорят, что теперь нет равновесия, ибо правительственная власть всюду слаба, а нужно теперь не о равновесии думать, а об усилении правительственной власти везде, в особенности в уездах, и чем ближе к народу, тем яснее должна быть сила правит[ельственной] власти. Нужен сильный начальник уезда, а они сочинили какую-то коллегию, какое-то присутствие, не ведая как бы того, что народ любит единоличную власть, а ненавидит всякие коллегии.
Среда 24 окт[ября]
Выписываю очень меткие мысли насчет анархистов; мысли эти принадлежат знаменитому социалисту Карлу Марксу[41].
«Сумасшедшие фанатики! Вредят только социальному делу и вообще бедному рабочему народу. Чего же они собственно хотят? Устранения государства? Хорошо. Положим, начинается общая революция (что почти невозможно, и я говорю это только для примера, как это представляют анархисты); анархисты, берущие в общем хаосе верх, объявляют, что государство устраняется, что армия, бюрократия, полиция и проч. уничтожаются, и всякому отдельному индивидууму предоставляется жить “как хочется”. Что же тогда наступит? Влияние и сила революции дадут себя чувствовать в этом случае себе там, где им не будут препятствовать власти, армия, бюрократия, полиция и проч. Но что же значит сила революции? Это ни что иное, как террор одной части общества над другой; государственная дезорганизация, беспорядок, беззаконность, варварство. Ведь не всему обществу приятно и выгодно будет существовать и действовать при таких ненормальных обстоятельствах, а кроме того и не все страны согласятся подчиниться силе анархии, и найдутся Вандеи, Тироли, Померании и проч., которые предпочтут свою государственную организацию анархии и образуют контр-революцию против революции анархистов. Что ж станут тогда делать анархисты, чтобы устоять против контр-революции и защитить свое существование? Они скоро начнут организовываться и должны будут создавать все то, что прежде уничтожали: армию против армии противника, власти против властей противника, бюрократию против бюрократии противника, полицию против полиции противника, совет или что-нибудь в этом роде против правительства противника, – словом, они восстановят все, что прежде сами устранили: правительство и государство готовы! Если первое дело революции состоит, как утверждают анархисты, в том, чтоб уничтожить государство, то вторым делом анархии должно быть восстановление государства, иначе продолжение революции будет невозможно».
Пока все обстоит благополучно. Но вот что далее:
«Положим, у какого-нибудь отряда волонтеров есть все средства, чтоб сражаться с неприятелем, только артиллерии у него нет. Наконец, после долгой и кровавой борьбы, удается отряду волонтеров отобрать у противника одну батарею.
Что ж они делают? Вместо того, чтоб обратить орудия дулами к противнику и стрелять в него, волонтеры заклепывают орудия, чтоб они никому более не вредили! Это оригинальная логика и есть логика анархистов».
Если под артиллериею подразумевается государство, правительство и т. п., то что подразумевать под заклепанием орудий?
Четверг 25 октября
Познакомился у [И. Д.] Делянова с интересным человеком, с предводителем Старобельского уезда Харьковск[ой] губ. [И. М.] Зилотти. Он отставной военный николаевского времени и живет годами в деревне и в провинции, богат и умен. В разговоре с нами он сказал между прочим:
– Если бы Государь меня спросил: ну что, Зилотти, у вас делается в губернии, я бы ответил: плохо, Государь, но может быть хорошо.
– А как сделать, чтобы хорошо было? – спросил Делянов.
– А вот как. Надо, чтобы ваши министры, Государь, – продолжал Зилотти, – это прежде всего, поменьше обращали внимания на болтовню газет, а побольше на то, что у нас делается. Еще 7, 8 лет, и трудно будет поправить; демократия одолеет; а теперь хотя и плохо, но все можно поправить.
– А как поправить? спросил бы вас Государь, – сказал Делянов.
– Я бы ответил только за свою губернию; ряд мер очень простых, и прежде всего восстановить мировых посредников[42] для крестьян с прежним полновластием, и немедленно.
Я попросил этого Зилотти написать мне вкратце свои мысли. Он дал мне слово прислать их из деревни.
– Ну как вы хотите, – сказал Зилотти, – сами посудите, ваше высокопревосходительство, как может быть хорошо. Крестьян освободили; были посредники, их уничтожили; были розги, их уничтожают; были хорошие волостные старшины, их прогнали; кого же мужику бояться? Создали земство, людей нет; настроили видимо-невидимо училищ – некому учить; разорили дворянство – не дают кредиту; дали новые суды, а к Царю закрыли доступ[43]; ну как тут не быть плохо. И вот что. Плакаться теперь поздно; теперь надо дело делать. Крестьянин спился, это правда; крестьянин обеднел, и это правда; крестьянин испортился, и это правда. Но у него одно осталось нетронутым: вера в Царя и страх Царя. Пока это есть – все можно спасти в 2, 3 года; но все работают теперь, чтобы это чувство у крестьянина растлить, все, а в особенности газеты. Вот почему я и говорю, что стыдно вам, гг. министры, заниматься газетною болтовнею, а надо все внимание теперь сосредоточить на уезде, на деревне, и все сделать, чтобы не дать в народе ослабеть чувствам его к Царю. Теперь это не трудно; через 7, 8 лет будет невозможно. Теперь только кое-где болячки; а потом будет гангрена; ее не остановишь!
Пятница 26 октября
Много говорят про кадетскую историю в Москве[44]. Все винят директора и [Н. А.] Махотина: первого за то, что он явил себя не педагогом, чтобы не сказать хуже, второго за такие назначения, как назначение этого директора. Он был начальником отделения в Управлении военно-уч[ебных] заведений[45], и вдруг с бумаг переводят на живые души и кого же – детей. Одна из многих несчастных идей Милютинского и Исаковского времени[46] жива и доселе: она заключается в сочинении какого-то типа военных педагогов! Нелепее и вреднее этой мысли трудно себе что представить. Прежде смотрели на вопрос проще, и лучше было. Педагогов делать и печь нельзя. Педагоги рождаются педагогами; а то, что они в книгах выучат или вычитают, то пустяки. Для педагога нужно две вещи: сердце, любящее детей, и нравственность; ума особенного вовсе не нужно; сердце дает ум и такт. Где же искать таких людей? А очень не трудно их находить, но только не между чиновниками или интеллигентами, Боже упаси, а между военными боевыми офицерами, строгими, с добрым сердцем, нравственными и честными. Боевой хороший офицер с сердцем, любящим детей, это идеал педагога для корпусов. Их надо искать, вот что хлопотно, а у нас не охотники искать; берут что под рукою, а под рукою у Махотина остатки Исаковского штатского материала. Будь я Государь, я бы непременно приказал военному министру[47] издать циркуляр по военно-учебным заведениям для того, чтобы обратить внимание на строгий выбор офицеров и воспитателей в военно-учебных заведениях и рекомендовать при выборе таковых отдавать предпочтение военному боевому офицеру, когда с любовью к службе, со строгою нравственностью соединяется в нем любящее детей сердце.
За такой циркуляр родители благословили бы военного министра.
Вот что слышал сегодня в разговоре с несколькими военными.
Суббота 27 октября
Бедная Кахановская комиссия, ей не везет; приезжие из России члены бьют ее в каждом сражении. Теперь идет сражение чуть ли не генеральное из-за всесословной волости. Идея всесословности есть скверная идея. И. Н. Дурново бранит меня за то, что я слишком бесцеремонно обращаюсь с проектерами Кахановской комиссии и называю антигосударственным замыслом их проект всесословности[48]. На это ответ простой. Не Каханов и не его товарищи хотят вреда правительству, но что у них есть в канцелярских тайниках злоумышленные, то есть либеральные чересчур, проектеры, в этом я клянусь. Сельское общество есть часть волости: и то и другое состоят из 98/100 крестьян и из 2/100 не крестьян. Сельское общество и волость доселе составляли как бы крепостные стены для народа; благо они были крестьянские, никто из разночинцев не мог проникать в крестьянский мир; благодаря крестьянскому составу сельского общества и волости до сих пор все усилия анархистов протереться в народ были тщетны; почему? Потому что и сельский староста, и волостной старшина были крестьяне. Что же будет, если кахановцам удастся пустить в ход (чего не дай Бог) свою мысль о всесословности. Сельский староста может быть не из крестьян, волостной старшина тоже; кто же может попасть в сельские старосты и в волостные старшины? Кто? Очевидно прежде всего те, которым надо проникнуть в народ, чтобы его совращать, то есть разная интеллигентная сволочь. Порядочные люди не пойдут ведь ни в сельские старосты, ни в волостные, да и много ли их в уезде? Во многих уездах не найти нужного человека на должность предводителя, не то что в старшины. Значит, посредством введения в дело принципа всесословности, придуманного Кахан[овскою] комиссиею, совершиться может легально завоевание крестьянского мира интеллигентами и проходимцами, а от них до анархистов только рукою подать!
Оттого приезжие кахановцы так решительно, почти единогласно восстали против идеи всесословности. Введите всесословность, и лет через пять преданного монархизму народа в России убудет на две трети.
Воскресенье 28 октября
Мысль услышанная и дельная. По инициативе К. П. Победоносцева началось дело о церковно-приходских школах[49]: дело хорошее, но страшно трудное. Нечего скрывать, что между духовенством все сильнее сказывается недостаток в хороших священниках.
Разумеется без решения как можно скорее вопроса об установлении прочного материального содержания духовенству трудно от него многого и требовать.
Но кроме того есть еще важное условие, без которого церковноприходские школы не могут идти: условие это внимание к хорошим священникам. Это сильнейший стимул к поднятию дела. А это к сожалению у нас весьма мало практикуется. Человек пожертвует 100 тысяч с целью получить орден[50], начальство за него хлопочет; а священник, который получает 10 рублей в месяц за уроки Зак[она] Божия в сельской школе и иногда 7 или 6 рублей издерживает на проезд в течение месяца, ничем не награждается. Его представляют к награде, а архиерей его имя вычеркивает, чтобы своим дать преимущество, или в массе представляет в Синод, и там бедный попик тонет в море представлений зауряд.
А нужно другое, и крайне нужно. И сделать это не трудно. Нужно, чтобы священникам, хорошо обучающим в сельских школах, и священникам, у которых хорошие церковно-приходские школы, каждый инспектор и каждый директор народных училищ вели особые списки; о том же могли бы вести списки уездные предводители дворянства, и затем чтобы 2 раза в год эти списки лучших священников представлялись для испрашивания наград обер-прокурору Свят[ейшего] Синода непосредственно или через местного архиерея, но с тем, чтобы архиереи их представляли отдельно от наградных представлений по епархии.
Эта мера могла бы разом оживить дело церковно-приходских школ.
Понедельник 29 октября
Для разнообразия и развлечения: сочинил стихи под заглавием: Песнь тайного советника[51]:
Вторник 30 октября
Слышал в разговоре между военными толки по поводу нелепых слухов об арестовании будто бы за политическую виновность одного измайловского[52] офицера. В этих толках запомнил мысли, по-моему, серьезные. Один офицер говорил так: «Слух этот вздор, но он наводит на мысль: возможен ли такой факт? По-моему, трудно допустить этот факт, но зато есть другой факт, по-моему, не менее серьезный: у нас вообще в полках товарищеское единение ослабляется. Теперь мыслимо то, что 30 лет назад было немыслимо в полку: что я, офицер моего полка, не знаю, как живет и что за личность офицер того же полка, мой товарищ. Жизнь вне полка теперь сильнее, чем прежде. Например, теперь офицер без средств занимается писанием в газетах, а для этого он должен видеться с разными литераторишками, а пожалуй и в общество их попадает; или например, офицер дает уроки, чтобы жить, а где он дает и с кем сталкивается, Бог его знает!»
– Но как это устранить? – воскликнули мы разом.
– Как, очень просто: увеличением содержания офицера настолько, чтобы он не нуждался в писаниях в газетах или в уроках, а во-вторых я бы всем офицерам дал квартиры в полку; жить в полку это очень важно для объединения офицеров, особливо молодых.
Среда 31 октября
Обедал сегодня с полтавским губернатором [Е. О.] Янковским. Он умный человек, бесспорно. Из его рассказов замечателен факт усмирения крестьянского мятежа приказанием сечь. После розог, влепленных барабанщиком роты первому говоруну, молодому парню, и он и вся громада крестьян разом смирились. А бунтовали они чуть ли не два года. При этом старики крестьяне просили Янковского как о милости, чтобы дозволено было сечь негодяев.
Янковский, по-моему, очень умно говорил о необходимости восстановить мировых посредников в том виде, в каком они были в 1861 году. Крестьянам нужна осязательная власть перед глазами.
Очень метко говорил также Янковский о мировых судьях[53]. По его мнению, главное неудобство этого учреждения то, что они избираются земством, а не назначаются правительством, и вот почему: так как мировой судья часто живет одним жалованьем, то его интерес сохранить место как можно долее; а для этого он старается угождать главным воротилам и кулакам уезда, в особенности в последний год перед новыми выборами; а кулаки и воротилы в уезде нередко или красные или мошенники. Если бы выборов не было, и правительство назначало бы по представлению губернаторов мировых судей само, то мировым судьям не было бы ни интереса, ни искушения кривить правдою в угоду местным воротилам.
Четверг 1 ноября
В «Гражданине» напечатана статья одного бывшего кадета, стоящая внимания, под заглавием: Штатские корпуса[54].
«Позорение прошлого, унижение, разрушение его входило одним из главных условий в наше “движение вперед”. Старались не оставить камня на камне, запахать самое место, где было здание. И что же созидали на месте этого? Странно сказать – часто ничего или, лучше сказать, созидали что-то такое отрицательное, так сказать полемическое. Надо было сделать непременно напротив тому, что было. Торопились ломать нервно, поспешно, даже весело. В этой быстроте торопливой ломки, говоренья, галденья, писанья – было что-то как бы обезьянье. Если и оставались какие прежние дела, то работавшие при таких делах стыдились их, старались делать прямо противное тому, что были должны делать, и – главное – подтачивать именно то дело, которое высоким доверием было передано в их преступные руки. Оставшиеся верными заветам и традициям прошлого, старавшиеся исполнять свои обязанности согласно прямому их смыслу, казались какими-то странными выродками – дикими, «допотопными». Ими пренебрегали и сверстники и высшие; их обходили как нечто уже до крайности обветшавшее, устарелое, негодное для этого веселого, торопливого, обезьяньего, бесцельного, прыганья и стрекотания. Здравый смысл заменили “новые идеи” такой низкой пробы, что они могли удовлетворять только такую пошлую и банальную толпу, какую выработали эпохи наши “оживлений” и “веяний”.
Жрецов у этого нового Ваала явилось множество, и то, что в течение стольких лет совершали они ему в угоду, довело теперь положение дел до острых проявлений, в которых ужаснее всего мысль, что современная жизнь и будущее детей теперь, так или иначе, в большинстве, находится в руках людей этого извертевшегося поколения. Первое, за что тогда взялись с жаром и что надо было осмеять, подточить и унизить, – это элемент военный, военное воспитание. И если здесь – влитием в войска нездоровых соков разночинства общей воинской повинности, систематическим развинчиванием дисциплины в корпусах, насильственным одемократизированием состава офицеров, уничтожением в их среде всякой связи, общности и товарищества – если всем этим еще не так много сделано, как можно было ожидать, это надо приписать неоцененным качествам и инстинктам массы народа русского и неоцененным условиям военного духа и военной жизни, которая даже и при теперешней ее распущенности и ослабевшей дисциплине все же делает свое дело, имеет свое влияние. Но надо всегда помнить, что никакие качества, никакая твердость не выдерживают постоянного, насильственного давления. Мы все говорим: “Ничего! Ничего не будет! Все это пустяки и преувеличения!” И говорим это обыкновенно до какого-нибудь мрачного явления, которое поражает нас и ошеломляет, и тогда только мы хватимся: отчего бы это вышло?..
Военные учебные заведения, как известно, подверглись коренной и в высшей степени легкомысленной, если не преступной, ломке. Для нас, крайне нуждающихся в массе средне-образованных людей, не имеющих ни в какой мере удовлетворяющего спрос даже низшего технического образования, вдруг оказались неудовлетворяющими военно-учебные заведения и презренными их традиции. Все это глупо, бестолково, не понимая, что делают, не понимая, куда толкают несчастную молодежь, – все потянуло в университет. Каков был этот университет, какие у него бывали профессора и что там делалось, мы теперь со всем этим немного знакомы. Началось усиленно-высокомерное отношение ко всякому, кто носит военный мундир. Болтуны, негодные ни для какой жизни и работы, пошлые фразеры, носившиеся с своим “университетством”, которое на деле ломаного гроша не стоило, – все это подняло такую пыль, что люди поскромнее просто растерялись. Выдумана была позорящая кличка “кадетский”, употреблявшаяся во всевозможных применениях как противоположность чему-то светлому, хотя это “светлое” было у всех на глазах: все видели, каково оно. Унизили значение корпусов, усиленно их расстраивали, сделали “штатскими”, демократизировали, наставили каких-то полуграмотных, странного вида лакеев-воспитателей, ломавшихся и либеральничавших с воспитанниками и смеявшихся над их военным начальством чуть не в глаза. Завели особые, жалкие семинарии для выделки “воспитателей” с какими-то сокращенными курсами; уронили значение офицеров в корпусе так, что выгоднее было снять мундир и идти в товарищи к этим наскоро выпеченным воспитателям-лакеям. Все, что бы ни делало, что бы ни внушало детям их военное начальство, все это расстраивалось и высмеивалось открыто этими “воспитателями”. С горестью смотрели русские люди, еще не потерявшие здравого смысла, на легкомысленное и злостное разрушение этого здания по камню. И поучительно, что в то время, когда для нас все это вдруг стало так “низко”, в классической стране учености и высшего образования – в Германии – корпуса продолжали стоять твердо и незыблемо, сохраняя неизменно свои вековые традиции, свой военный дух, свой крепкий уклад, не возбуждая никаких недоумений в истинно-образованном обществе и давая стране тот континент офицеров, которым она по справедливости может гордиться.
Но чувства и упования истинно-русских людей нашли и здесь себе отзыв в сердце нашего Верховного Вождя. В начале прошлого года, посещая военно-учебные заведения, Государь Император выразил желание, чтобы поддерживались традиции прежних кадетских корпусов, давших России столько славных имен и такую доблестную армию. Последнюю войну несомненно вели главным образом воспитанники прежних кадетских корпусов, и слава храбрости наших войск была ими достойно поддержана. На заслуги корпусов было ясно указано и в Высочайшем повелении, и в появившемся затем в “Правит[ельственном] вестн[ике]” разъяснении.
После всего вышесказанного более чем странными представлялись тогда речи главного начальника военно-учебных заведений, который вскоре после этого объезжал провинциальные корпуса. Он озабочивался в речах своих, говоренных перед корпусными офицерами, “успокоить либеральную прессу”, что смысл преобразований совсем не тот, какой эта пресса представляла; что возвращение к прежнему невозможно и что будет только некоторое усиление фронтовых занятий… И очевидно г. начальник военно-учебных заведений имел как бы основания утверждать это, ибо до сих пор никакого возврата к прежнему устройству нет и в помине, “яузские” воспитатели состоят при своих местах и дело “развинчивания” идет почти прежним порядком. Но какие учителя в последние годы оказались в корпусах, какие воспитатели – об этом лучше умолчать до поры до времени…
“Учитель” с давних пор был очень видным орудием “развинчивания” – даже в прежнее время. Обыкновенно это был большею частью учитель “русского языка” или “истории”. Бывали и “литературные” офицеры, но эти были конечно осторожнее. Отрава вводилась в организм медленно, но верно. Разумеется, эти люди (обыкновенно именовавшиеся “светлыми личностями”) думали, что делают доброе дело. Они портили детей и делали их иногда на все жизни неисправимыми, несносными, жалкими болтунами. “Меня тогда очаровывали монологи ‘Фауста’ (это в 15-то лет!), – вспоминает один бывший кадет, теперь старый либеральный болтун. – Творения Гумбольта, острый скептицизм Вольтера, идеалы гуманиста Руссо – всем этим я был напитан. Я хотел возвыситься до независимости от среды. Я всегда старался показать строевому начальству, как его презираю” (!). Одна “светлая личность” давала потихоньку мальчику книги, за которые эту личность просто стоило бы высечь – Герцена, Чернышевского, “Колокол”. Мальчика совсем свихнули. “Один из учителей ввел нас в перипетию ученых споров по химии. Одни из нас были за Пайэна, другие за Либиха. Уже тогда какая-то нелепая Сила, неподчиненная законам физики и химии, нами была вполне опровергнута. С нею исчезли из наших понятий, потеряли смысл, все функции и вариации этой Силы!” (Восп[оминания] о кад[етском] корп[усе]. Р[усская] М[ысль]. стр. 180)[55]. Мы привели это только как пример, к чему вели еще прежде эти “светлые личности”; теперь они конечно идут дальше, особенно при начальниках, которые и сами-то сбиты совсем с толку. Вообще, нужно сказать, у нас знакомы только с обличениями и тенденциозными воспоминаниями о кадетских корпусах. “Воспоминатели” в роде вышеупомянутого явились во множестве на усиленный спрос их в либеральной печати. Но и из их рассказов даже, как они ни тенденциозны, видно, что все недостатки, на какие они указывают – если даже эти указания и справедливы – совершенно устранимы и присущи не одному только военно-учебному ведомству. Вся хорошая сторона в смысле выработки бодрого и деятельного характера и личной отваги, в смысле сохранения сильного корпорационного, товарищеского духа и высоких понятий о чести – вся эта сторона игнорировалась и топталась в грязь. Но эта сторона неоценима и утрата ее – одно из величайших несчастий нашего больного, желчного и истрепавшегося поколения.
Пожелаем от всего сердца истинных и верных исполнителей ясно выраженной в Высочайшем повелении воли нашего Государя. Пожелаем, чтобы, как выражено в 1845 г. в рескрипте венчанного Деда Его, чтобы “это было хорошо выполнено и всеми понято не из послушания одного, но с убеждением”. И пусть, как сказано в том же рескрипте, “главная цель военного воспитания будет обращена к развитию в юношах правил нравственности, религии, высокого чувства чести и непоколебимой преданности и любви к престолу и отечеству”. “Лучшее доказательство, прибавляется в том же замечательном рескрипте, отличное служение офицеров, получивших образование под отеческим надзором вашим. Я горжусь ими”».
Пятница 2 ноября
Виделся с одним сенатором. Он не из либералов. Меня очень порадовало, что и он одобряет мысль, не раз высказанную в «Гражданине», о необходимости изменить личный состав 1 департамента Сената[56]. Мера эта по мнению сенатора крайне нужна в правительственных интересах. Раз добыто печальным опытом убеждение, что 1 департ[амент] Сената в его нынешнем составе состоит из людей настроенных враждебно к нынешнему министру внутренних дел[57], и выходят несогласия, компрометирующие правительство, очень легко это устранить: стоит только министру внутр[енних] дел испросить разрешение войти в соглашение с министром юстиции[58], и затем министру юстиции переместить сенаторов 1 департ[амента] в другие департаменты, а в 1 департамент с 1 января назначить сенаторов по соглашению с министром внутр[енних] дел.
Суббота 3 ноября
Не лишенную интереса картину представляют собою теперь все бухгалтерские и счетные отделения в министерствах. Приходится заключать сметы на будущий год; у всех нужда в увеличении расходов, и у всех же впереди неумолимая улыбка Н. Х. Бунге, с которою на все вопли и моления он отвечает: денег нет!
Деньги нужны, а денег нет, разве мыслимо государству жить при таких условиях. А разве правда, что денег нет? Нет, это только теоретическая правда, а не практическая. Эта печальная теория в связи с другою теориею об избытке у населения кредитных рублей. Выпуск кредитных билетов есть внутренний заем, основанный на историческом и несокрушимом доверии народа и государства к своему Государю! Нужны деньги, должны быть деньги, как только эти деньги нужны для блага государства и интересов правительства. Бояться Европы вряд ли основательно. Жжем ли мы кредитные билеты, или делаем мы их, где Европе это знать и проверять. Главное, чтобы в России не было застоя в нуждах и в промышленной жизни. Что мысль об избытке кредитных билетов и о пользе сожжения их – теория, и практически не верна относительно России – доказывает нынешнее время: курс наш поднялся, а внутри России страшный застой в торговле и промышленности, и цены на хлеб ниже minimum’a! Не ясно ли, что теория в полном разладе и даже в противоречии с практикою.
Воскресенье 4 ноября
У графа Д. А. Толстого есть мысль поднять дворянство посредством усиления его политического значения на месте. С этою целью, например, в контр-проекте Кахановской комиссии он полагает хозяином и средоточием уезда сделать уездного предводителя дворянства. Мысль эту раньше пытался проводить граф П. А. Шувалов. Я с нею никак не могу согласиться, и вот почему. Теперь дворянство разорено и бессильно; в иных уездах нет даже одного человека на должность предводителя. При таких условиях выводить на широкую и всенародную арену уездной жизни предводителя дворянства значит отдавать его, то есть дворянство, на публичное обличение своего ничтожества; что не случится в уезде дурного, все будут валить на предводителя, то есть на дворянство: последние остатки обаяния дворянства в глазах народа исчезнут, и навсегда. По-моему, надо прежде всего усилить дворянство материально, то есть дать помещикам подняться; надо им помочь кредитом долгосрочным и дешевым; надо искусственно заставить дворянство прильнуть к земле, выдавая, например, ссуды только тем помещикам, которые сами живут и хозяйничают в имениях; и затем, когда помещики поднимутся, когда они получат самостоятельность, тогда можно думать о предоставлении им политической роли в уезде. Да и то сказать, если правительство, чтобы поднять дворянство, вздумает себя связать такою реформою, на основании которой всякий уездный предводитель дворянства будет de facto[59] начальником уезда, то легко может случиться, что в иных губерниях, как Тверская, Рязанская, Костромская, Курская и др., попадут в начальники уездов предводители дворянства из самых ярых демократов. Казалось бы гораздо практичнее во главу уезда ставить лицо по назначению от правительства, и при этом, если в данной местности окажется хороший предводитель дворянства, то его и назначать в председатели проектируемого уездного управления.
Понедельник 5 ноября
Сегодня для меня был радостный день. Представлялся Императрице. Вошел к Ней благодарный за милость, вышел от Нее преисполненный радости. Эту радость только я в состоянии понять. Всегда прием Ее ласков и любезен; но всегда прежде я испытывал тяжелое ощущение перед Нею, что я в тягость Ей, а сегодня впервые мне показалось, что я не был Ей в тягость; и мне так легко было, так отрадно говорить от души. Мы не скользили над поверхностью предметов и вопросов, мы вникали в живую глубину вопросов. По поводу моего свидания с Государем, сказавши Ей, что многое не успел, а иное не посмел сказать, у меня вырвалась как бы криком давно томящая и мучащая меня мысль: о если бы, сказал я, Бог подвинул Государя прозреть всю историческую важность теперь, именно теперь, военного вопроса! Верите ли, бывают минуты, когда слышишь о впечатлениях, производимых тою или другою военною мерою, и рвешься к Государю воскликнуть: Государь, Вас делают иные меры тем, что Вы не есть, слишком суровым для военного мира; и сам себе кажешься преступником, что молчишь и в себе таишь то, что слышишь!
Дело вот в чем. Понятно, что главная сила Престола есть армия, в совокупном смысле слова. Сила эта не в оружии, не в ружье и не в сабле, а в духе, в чувствах, в преданиях, в духовной связи, соединяющей тысячами узелков и нитей войско и его быт с Государем. Тут есть именно много оттенков, много невидимых нервов, которые все вместе составляют как бы чувствительность, нервную именно отзывчивость военного мира. Уловить действие этих нервов невозможно, но что несомненно, что малейшая мера относительно войска, малейший шаг, малейшее проявление сверху того или другого отношения к войску, обходит весь военный быт от Петербурга до Камчатки и в каждом вызывает впечатление. За последние годы таких общих впечатлений было несколько, и все они вместе, увы, сложили во многих сферах военного мира не то убеждение, не то ощущение, что будто бы Государь не особенно дорожит войском, не особенно его любит. Это ложное убеждение – очень не хорошее явление в наше время, и кто предан Государю честно, тот не может ни минуты жить спокойно и с этим явлением мириться: ибо в ответ на это ложное убеждение, как нервное чувство, блуждающее в военном мире, в нем все сильнее распространяется мысль, что не стоит теперь служить в военной службе, что не стоит дорожить ею, гордиться ею, чтить ее идеалы, и т. д. Горе нам, если эти нервные мысли охватят многих, страшно подумать, что может из этого выйти. Теперь еще не поздно; теперь легко эти нервные ощущения в войске изменить именно потому, что нервы в войске возбуждены и, следовательно, восприимчивы столько же к дурному, сколько к хорошему; теперь даже малейшее проявление сверху сердечного внимания произведет усиленное действие.
Исторический процесс этого недоразумения весьма понятен. Первое сильное впечатление, испытанное во всем войске, было уничтожение начала производства в Свиту[60]. Все находили или, по крайней мере, многие находили эту отмену необходимою, но нельзя было избегнуть, чтобы впечатление от этой меры не было сильное и неблагоприятное; отнимался стимул, отнималась цель, светлая точка впереди у многих. Затем начался ряд мер внутренней реформы, отчасти новых, отчасти в виде продолжения старых, как напр[имер], Положение о запасе[61]. Все эти меры, сами по себе нужные и серьезные, носили характер чего-то строгого, неумолимого, и тою или другою стороною задевали или честолюбие одних или военные старые предания или чьи-либо материальные интересы. Словом, хорошая сторона реформ предоставлялась к оценке в будущем, а в настоящем размножалось количество недовольных!
С другой стороны, так случилось, что военный министр[62], вводивший все эти реформы, при всех своих достоинствах человек характера не ласкового, строгого, не сообщительного, строгий формалист, педантичен в проявлениях своей власти и, вводя реформы, не допустил нигде ни местечка, ни скважины для сердечного отношения к войску. Это отозвалось на всем военном управлении. О, если бы Государь мог бы хоть раз невидимкою поглядеть на сцены, происходящие в приемные часы в Главном Штабе, Он бы понял, почему я пишу эти строки и простил бы мне их. Кто раз увидел эти сцены, он их не забудет! Эти в лохмотьях офицеры отставные и неотставные, пришедшие справляться о пособии, которым говорят: нет, отказано, подождите до будущего года, и которые тут же рыдают, стонут, умоляют; эти генералы в запасе, которые со слезами на глазах, с Георгиями в петлице[63], с дрожащим голосом говорят громко: видно мы обесчестили русскую армию, коли нас заклеймили; эти вдовы, дочери, жены военных, которым говорят: нет денег, о, все это вместе ужасное зрелище, потому что все эти люди приезжают из всех концов России за последним лучом надежды в Петербург, и этот последний луч тут затухает, и они возвращаются восвояси, и там стоустая молва разносит по всем углам их печальные повести.
Отчего же это все происходит? Отчего столько обиженных, столько оскорбленных, столько огорченных?
Отчего?
Стоит прислушаться к военной молве, и услышишь ответ. Оттого, говорят военные, что во главе Главного Штаба стоит [Н. Н.] Обручев. Имя это зловещее. Имя это означает не по-солдатски преданного Престолу человека; имя это означает сухого, бессердечного и жесткого к солдату и к офицеру человека; имя это по молве ненавидимо всеми, да и в самом министерстве говорят, что и военный министр его не любит, и вот причина, почему сердцу нет и скважины в министерстве, где всякая мера касается миллиона солдат и десятков тысяч офицеров.
Но затем как всему этому временно неблагоприятному дать иное направление, благоприятное.
Опять-таки прислушиваясь к толкам и суждениям военного мира, приходишь к светлой мысли, что все это легко устранить, и поводы к неудовольствию легко обратить в источник благословений над головою возлюбленного Монарха.
Прежде всего необходимым является разом произвести сильное впечатление на весь военный мир, дабы в одно и то же время разом уничтожить все мелкие неприятные впечатления и истребить до корня нелепое мнение, что Государь не интересуется войском сердечно. Для этого единственным прекрасным средством является значительное увеличение содержания офицеров в войске. Это мера громадной важности. Офицер обеспечен, и вся Россия вздохнет спокойно. Если этот вопрос пойдет обычным путем бумажной переписки, то мин[истр] финансов[64] ответит мин[истру] военному, что денег нет, и кончено, все замрет. Но тут есть иной путь. Если Государь скажет министру финансов или напишет ему: я сердцем не буду спокоен, пока не увеличу содержание офицера: помогите мне это сделать, прошу вас, найдите мне 10 миллионов, – можно поручиться, что министр финансов будет слишком счастлив найти эти 10 миллионов, и они найдутся! И что за потрясающее действие имело бы объявление об такой Высочайшей воле или 1 января, или 26 февраля, или в Пасху, или 17 апреля!
Но из этих 10 мил. как бы хорошо было 1 миллион отделять ежегодно на раздачу пособий от имени Царя вдовам, дочерям и отставным военным, поручив это дело Главному Штабу!
Еще мысль, опять-таки подслушанная у военных. Какое сильное впечатление в духовном смысле произвело бы на весь военный мир назначение на место Обручева такого, например, человека, как Павла Шувалова, потому что он очень любим и сам очень любит военную службу, не как теорию, а как практику, это страшно подняло бы дух в войске, ибо сейчас же закипела жизнь, проникнутая любовью к солдату и к офицеру во всей частях войск.
Главный Штаб есть все для армии. Он дает тон, он дает дух. Если Гл[авный] Штаб без сердца, все военное управление относится к армии сухо и мертво. А сердце в отношениях к солдату и офицеру это половина того, что нужно для блага и силы армии.
Еще мысль. Поощрения и стимулы для военной службы нужны. Мало, чтобы солдат и офицер были обеспечены; надо, чтобы были и стимулы для честного и хорошего самолюбия. Стимул свитской награды уничтожен; необходимо его заменить. И вот в военных кружках слышится мысль такая: как хорошо было бы учредить для военных чинов, заведывающих частями, начиная с роты и эскадрона, представления ежегодно к наградам особенным, за отличное состояние части, засвидетельствованное лично корпусным командиром и командующим войсками округа, и чтобы при этом печаталась мотивировка награды в Высочайших приказах. Это было бы благороднейший из стимулов.
Еще мысль. Много горько и больно обиженных генералов, обиженных зачислением в запас. Не мыслимо ли известную категорию, напр[имер], получившие боевые награды, генералов – например к Георгиевскому празднику – из запаса перечислить в действительную службу с зачислением по роду оружия, мотивируя сие тем, чтобы зачисление в запас не могло ослаблять значение добытых военною доблестью на поле брани военных отличий. Сколько было бы утешенных и обрадованных генералов. Как глубоко сказалось бы в такой мере именно сердечное участие к военному миру.
Весьма могло бы случиться, что военный министр был бы против назначения Шувалова на место Обручева, но сам собою является вопрос: что же из этого: ведь военный министр несомненно скрытый враг Обручева, а все-таки сжился с ним; значит он подавно мог бы сжиться с человеком, который нелюбовь к нему военного министра искупал бы любовью к себе всего военного мира.
Вторник 6 ноября
«Петербург такая растлевающая и миазматическая помойная яма, что и такого живого и непетербургского человека, как вы, и того заражает», – говорил я сегодня милому Ивану Николаевичу Дурново по поводу бесед наших о Кахановской комиссии. Он меня бранит за то, что я иных кахановцев называю заговорщиками, а зачем же он их то кахановцев не бранит за то, что они заговорщики. Есть два скверных слова, чисто петербургских: неловко и неудобно. Их сейчас же употребляют в Петербурге сановники, как только речь заходит о необходимости проявить энергическую правительственную власть. Сделайте в Петербурге и в Москве и в больших городах гор[одских] голов по назначению от правительства – неловко, отвечают петербуржцы! Признайте необходимость пересмотра Положения о земских учреждениях! Неловко, отвечают сановники. Уничтожьте Кахановскую комиссию; неловко, говорят сановники.
Пересмотрите судебные уставы – неловко, отвечают сановники.
Что означает это слово: неловко?
Что? Увы, ничего более, как страх либеральной болтовни газет.
Среда 7 ноября
Из воспоминаний недавнего прошлого на ту же тему: что такое Петербург?
Что, например, сделал Петербург из такого живого и практически полезного человека, как [Н. А.] Качалова? Помню, как я умолял покойного кн. Дмитрия Оболенского уговорить [М. Х.] Рейтерна и не назначать Качалова в Петербург – испортите его! Сбылось.
Но всего поразительнее действие Петербурга на [М. Т.] Лорис-Меликова.
Я его помню в 1877 году под Карсом на Кавказе. Это был умный армянин сам по себе, но паче всего это был кавказец боевой офицер, направления самого консервативного.
Приезжает он в Петербург. Пошла на него мода. Дошло дело до назначения его председат[елем] Верховной комиссии[65]. Я с ним виделся тогда. Беседовал с ним около часа. Он еще не был новым Лорисом, но Петербург начинал уже в нем сказываться. Впечатление это было так сильно, что я, вернувшись домой, написал ему письмо. В этом письме я ему говорю: бойтесь трех врагов, которые Вас могут погубить: 1) петербургской печати, 2) петерб[ургских] великосветских дам и 3) петербургских чиновников.
Замечательно, что именно эти 3 врага сгубили Лориса. Петербургская печать стала его богом; [Е. Н.] Нелидова и Кия, как женщины Самсона, отрезали ему волосы[66] и заколдовали; и петербургский чиновник с [П. А.] Валуевым во главе убедили его, что пора пришла сочинять Конституцию для какой-то России.
Четверг 8 ноября
Сегодня все кумушки болтают про выстрел в Морица. Эпизод этот фантастичен. Кто-то подлетел на дрожках в 11 м часу вечера на Михайловской к Морицу и будто бы выстрелил. Мориц будто бы крикнул, дворники тоже, а молодец стрелявший уехал. Мадам Красовская уверяет с ужасом, что это был выстрел из мести, за то, что Мориц в качестве почетного опекуна травит акушерок, и уверяет мужа, что и в него будут стрелять. А другие кумушки уверили графа [Д. А.] Толстого, что этот выстрел предназначался ему, и молодец стрелявший принял Морица за Толстого! Толстой, очевидно, не просиял от таких толкований фантастического выстрела над ухом Морица. Бедный Толстой, я ему не завидую, не потому, чтоб думал, что в него выстрелят, но потому, что [П. В.] Оржевский его буквально парализирует и держит в цепенении страхом и угрозами всяких ужасов, будто бы ему готовимых анархистами. И ведь то ужасно, что Оржевский может рассказывать Толстому что хочет en fait de complots[67], кто его проверить может. Мне жаль и потому Толстого, что он несомненно Оржевского не любит, а ничего против него не смеет. Завтра, не будь Оржевского при Толстом, последний помолодел и ожил бы на 10 лет. Странная игра случая.
Пятница 9 ноября
Что читают теперь более всего, задали мы сегодня себе вопрос в разговоре. По сведениям, имеющимся в разных публичных библиотеках, оказывается престранное явление. Пушкина, Гоголя не читают. Чернышевского, Белинского, Добролюбова не читают; «Русский вестник»[68] мало читают, «Вестник Европы» почти не читают; духовных книг не читают; либеральные книги читают мало. Что же читают? Читают нигилистические журналы и грубо реальные романы.
Нечто подобное замечается в земстве. Либералы вышли из моды, консерваторы бессильны. Кто же большинство? А большинство люди ничего не желающие и ни во что не верящие, и люди цинично и грубо реально относящиеся к делу.
Оттого то именно теперь, при сильной апатии и грубости общества, при полном дискредите либерального лагеря – было бы всего удобнее усиливать в провинции правительственную власть.
Никогда не вернется более удобная к тому минута, подобная нынешней.
Суббота 10 ноября
– Вы за какое направление, Северное или Южное, то есть Казанское или Самарское, – то и дело что слышишь теперь вопрос по поводу Сибирской жел[езной] дороги.
– Ни за то, ни за другое, – сказал собеседник. – Я бы начал линию из Тюмени в Сибири, затем построил бы из Казани, затем Самарскую, и Самарскую соединил бы с Казанскою линиею.
Слышал мысль еще смелее.
– Знаете какая линия самая была бы важная для нас? – говорил собеседник. – Азиатская, через весь наш Азиатский край до Мерва. Эта линия стоила бы взятия Константинополя. Англия бы нам предложила миллиард отступного; мы бы ей сказали: миллиарда не нужно, и строить бы принялись эту линию.
[П. А.] Валуев издал очень хорошую книгу: благочестивые размышления на всякий день[69].
Грешный человек, на день его рождения я сочинил следующее благочестивое размышление.
Воскресенье 11 ноября
В сегодняшнем «Гражданине» из-под пера сотрудника Аристида вышла не лишенная интереса статья по адресу [Д. Н.] Набокова[71].
Мне доставляло большое удовольствие, не скрою от ваших читателей, следить за поездкою г. министра юстиции по России. Хотя поездка эта была молниеобразна и могла при известной натяжке быть истолкована мыслью доказать, что земля наша вовсе не велика (ибо пять лишь суток потребовалось для проезда с юга до Москвы) и что порядок в ней есть (ибо будь беспорядок, не пришлось бы так скоро сановному путешественнику перелетать из края в край), но все же она факт интересный в государственном смысле.
Вот ряд лет, как вся Россия поголовно (за исключением интеллигенции) стонет и изнемогает под бременем новых судебных учреждений; вот ряд лет, как эти новые судебные учреждения изощряются над темою: обессилить администрацию не судебную, а доказывать свое самодержавие; судебное начальство все слушало и слушало эти стоны одних, эти сетования других, и в прекрасный день решило: дай-же посмотрю однако, на месте, что делают судьи и прокуроры? И вот состоялась поездка министра юстиции. Так, по крайней мере, в простоте душевной я объясняю себе мотивы, создавшие эту поездку. И что же мы видим? В каких-нибудь 90 с чем-то дней министру юстиции удается быть и в Вильне, и в Киеве, и в Крыму, и в Харькове, и, наконец, в Москве. Что важного было открыто сановным путешественником в этих осмотрах – газеты не оповещают; но думаю однако, что, кроме порядка, ничего удостоверено не было, ибо если открыты были бы беспорядки, то вероятно мы бы узнали об этих открытиях через газетных репортеров.
Во всяком случае, какая благодарная задача для министра юстиции – поездка по России! Будь я министром юстиции, в какой восторг привел бы меня живой интерес такого путешествия по святым местам нашей Немезиды! Шутка сказать: узнать лично и на месте – что правда и что неправда на счет обвинений и похвал, которыми характеризуются наши новые суды! Узнать: правда ли, что новые суды со всеми прокурорами, присяжными поверенными, мировыми судьями суть не что иное, как огромная паутина, покрывающая и запутывающая всю Россию до того плотно, что любой паук может задушить любое правительственное и любое частное лицо, как ему угодно и сколько ему угодно, или это не правда?
Узнать, правда ли, что суды, прокуратура, присяжные поверенные составляют на Руси трогательную по единодушию и единению семью, где никто из трех ничего не смеет против каждого из двух, ибо действуют по принципу товарищества: один за всех, и все за одного, или это не правда?
Узнать: правда ли, что прокуратура в губернии так поставлена относительно политического розыска, что может любого губернатора лишить возможности знать: есть ли у него в губернии государственные преступники или не имеются, или это не правда?
Узнать: правда ли, что в уголовном процессе адвокат [в] десять раз могущественнее прокурора и [в] сто раз могущественнее судей, или это не правда?
Узнать: правда ли, что гражданские процессы тянутся в новых судах дольше, чем в старых, и стоят гораздо дороже, чем в последних, или это не правда?
Узнать, правда ли, что нотариусы в губернии – это самодержавные и неограниченные владыки, которые могут безответственно и безнаказанно драть с живого и с мертвого все, что им вздумается, или это не правда?
Узнать: правда ли, что мировые судьи, завися в своем материальном содержании от избирающего их земства, мирволят в отправлении своей юстиции земским интересам и коноводам до возмутительных размеров, а в конце трехлетия, желая быть избранными вновь, дозволяют себе такие поблажки избирателям, пред которыми бледнеют самые гнусные грехи старой юстиции, или это не правда?
Узнать: правда ли, что мировые судьи руководствуются во многих местах правилом: в делах, где обиженная сторона полиция или вообще правительство, непременно решать дело против правительства или в пику правительству, или это не правда?
Узнать: правда ли, что мировые съезды суть во многих местах ни что иное, как добрые семьи каждого мирового судьи, где держатся правила: рука руку моет, или это не правда?
Узнать: правда ли, что, под предлогом судебных издержек с тяжущихся или подсудимых тянут слишком много, и эти излишки куда-то деваются и с кем-то делятся, или это не правда?
Шутка сказать, говорю я, мало ли подобных «правда ли?» я задал бы себе как интересные вопросы для исследования на месте, будь я министр юстиции.
Мало того, я бы, например, год целый копил отовсюду собираемые рассказы о злоупотреблениях судебного ведомства на месте, в провинции, и пустился бы в путь с целью, между прочим, проверить все эти рассказы.
Затем я бы отправился в путешествие.
Но как?
Предварительно оповестив свой маршрут? Боже сохрани! Первым условием моей поездки было бы строжайшее инкогнито. Я бы слишком хорошо знал наперед, что оповести я о своем приезде тот или другой город, по независящим от меня или непредвиденным обстоятельствам случалось бы всегда так: все, что в беспорядке, было бы в порядке; а лица, которые могли бы мне указать на беспорядки, как раз находились бы или в отсутствии, или в стороне от моей дороги. Словом, я бы нашел все в порядке.
А поехал бы я так, чтобы никто не знал о моей поездке: начал бы с уездного городка, с местечка; зашел мимоходом к мировому судье в городке, к мировому судье заехал бы в уезд, поговорил с народцем, посидел бы в камере, порасспросил бы кое-кого, оттуда к судебному следователю, к товарищу прокурора, в уездный острог, с полициею потолковал бы, в волостное правление заглянул бы, с помещиками потолковал бы, особливо с теми, которые имели или имеют дела или тяжбы в судебных местах, и затем нагрянул бы в любой окружной суд в самый разгар заседания, в ряды публики… и так далее, и так далее…
И вот, побывавши нежданным гостем везде в губернии, я только тогда заявил бы себя министром юстиции – и начал бы проверку мною собранных сведений… Затем я бы собрал всех чинов судебного ведомства и сообщил бы им мои выводы и замечания.
При этом я непременно сказал бы речь, и эту речь велел бы напечатать для руководства во всем судебном округе.
Речь сказал бы я такую приблизительно:
«Господа, – начал бы я, – прежде чем указать каждому из вас на открытые мною при личном ознакомлении с делом злоупотребления, недостатки и беспорядки, я признаю полезным поделиться с вами некоторыми общими мыслями, которые должны служить для вас руководительными началами в вашей службе и в ваших отношениях к лицам и учреждениям, вне нашего ведомства стоящим. Мысли эти должны в то же время рассеять в вас недоразумения, с течением времени вошедшие в умственный мир судебного ведомства посредством газетного и общественного толкования.
Мысли эти следующие:
Во-первых, я должен вам напомнить, что я, как министр юстиции, прямой и непосредственный начальник ваш, ваш – в смысле всех чинов, входящих в состав судебного ведомства, без исключения; и если по букве закона это может казаться не совсем очевидным, то по смыслу нашего общего государственного строя, и вследствие жизненной в том потребности я все-таки ваш прямой начальник, и за каждого из вас, господа, отвечаю перед священным для каждого русского лицом Самодержавного Главы правительства. Я отвечаю за вас, следовательно, я требую от вас исполнения вами обязанностей не только должностных, но и нравственных, и не попущу ни в ком уклонения от этих обязанностей. Для меня, господа, важны не буквою закона определенные ваши права; оберегать вы сумеете их сами; для меня важны ваши обязанности, и я главный блюститель за их исполнением. Мне важно не то, чтобы вы были собою довольны, а то, чтобы вами были довольны, чтобы все были довольны, начиная с губернатора и кончая каждым честным жителем губернии. Когда это будет, тогда и я буду доволен тем, что буду в праве, как начальник ваш, свидетельствовать перед Главою правительства о ваших достоинствах и полезной деятельности. Итак не живите в мысли, что я для кого-либо в судебном ведомстве могу быть не начальником, и знайте, что ни единое уклонение от долга, кем бы оно сделано ни было, – не будет мною оставлено без взыскания.
Вторая мысль, господа! Многие легкомысленные люди пустили в обществе мнение или молву, что судебное ведомство есть какое-то отдельное в государстве учреждение, относительно которого права правительства не столь неограничены, как относительно всех других ведомств в Империи. Мне смешно и совестно из такого нелепого толка делать предмет серьезного между нами разговора, но я, к сожалению, должен на этот толк обратить ваше внимание. Этот толк, это мнение – нелепость, и крупная нелепость. По свойству и существу возложенных на судебное учреждение обязанностей, священных и великих, оно не только не может дерзать думать быть независимым от Верховной Власти, но должно стремиться более всякого другого учреждения в Империи быть покорным, верным и послушным слугою своего возлюбленного Монарха, ибо на наше ведомство, господа, возложена труднейшая и в то же время святейшая из обязанностей правительства, – быть совестью его, быть решителем в вопросах жизни, чести и имущества каждого из ста миллионов верноподданных русского Государя. Нашему ведомству не только не нужна независимость от Царской Власти, напротив: чем полнее и честнее наша зависимость от Царской Власти, тем ближе мы к Чистому Источнику правосудия, и тем дальше мы от людских страстей и пороков, волнующих нашу жизнь, растлевающих ее правду и посягающих даже на растление суда. Мы, судебное ведомство, мы должны служить всему народу примером справедливости и примером верноподданной преданности Самодержавному Правительству, – без этого мы будем судьями нечестивыми и народу противными!
Третья мысль, господа, близко соприкасается с второй. Я лично мог убедиться, что иные чины нашего ведомства поставляют себе в известный гонор и в право быть непочтительными и являться свободно-мыслящими пред губернаторами.
Не останавливаясь на глупости такого гонора, я остановлюсь только на лживости этой мысли. Я требую от всех чинов судебного ведомства почтительного признания постоянно и везде в губернаторе, во-первых, представителя Верховной Власти в губернии, во-вторых – начальника губернии. Вы жители губернии, следовательно, вы подчинены губернатору – не как чины судебного ведомства, но как жители губернии, ему вверенной; сверх того, вы обязаны ему почтением и как чины судебного ведомства! А кто из вас будет с губернатором непочтителен, того я на службе судебного ведомства не потерплю. Мало того, я требую из уважения к вам, к вашему делу и к правительству, чтобы вы были почтительны в пределах, указываемых вам тактом, и с полициею… Это нужно в интересах власти, и я этого от вас требую. Показывать свое превосходство или свою самостоятельность перед полициею пренебрежением к ней мог бы мальчишка-гимназист; но для вас, господа, это было бы грешно, смешно и вас недостойно».
На этом я кончил бы общую часть моей речь. И затем повел речь с каждым отдельно по делам судебным.
При этом я разумеется бы напомнил:
1) О праве собственности.
2) О необходимости быть строгим к преступникам.
3) О нелепости социальных и тенденциозных вопросов в судебной практике.
4) О том, что все равны перед судом, и
5) О том, что суд должен быть вне и выше всех человеческих страстей. И думаю я, после такой поездки в нескольких губерниях, я бы года через два без ломки уставов дошел бы до умственной метаморфозы в судебном ведомстве и завел в нем новый дух…
Понедельник 12 ноября
Много толкуют о речи [Д. Н.] Набокова в Москве. Не везет нашим министрам, когда они говорят публичные речи. Общий смысл речи таков: все в судебном мире прекрасно, все жалобы и нарекания на него неосновательны! Невольно, прочитав эту речь, говоришь себе: если только для этого министр юстиции прокатился по России, то не стоило и беспокоить ему свою особу, ибо вот сколько лет, как Министерство юстиции своими действиями доказывает, что все у него в судебном ведомстве прекрасно и все жалобы и нарекания на суды неосновательны. О провинившихся судах или чинах судебного ведомства мы что-то не слыхали, а как министр юстиции сердито и страстно требовал наказаний над органами печати, осмеливавшимися доказывать, что далеко не все в судебном мире прекрасно, это мы не раз видели. Но вот что смешно. Телеграфное агентство услужливо передало речь министра юстиции немедленно. Газеты и в обществе заговорили об этой речи: кто похвалил, кто посмеялся; [М. Н.] Катков тот прямо ее признал апокрифическою. В особенности курьезом показалось слово о стеклянном колпаке[72]. Набоков приезжает в Петербург и как будто сам пугается того, что наговорил. Встречается он с И. Н. Дурново и говорит ему смущенный: «Помилуйте, Бог знает что за речь мне приписывают газеты, я совсем этого не говорил».
– А что же вы говорили, спрашивает И[ван] Н[иколаевич].
– Я говорил вот что.
И[ван] Н[иколаевич] слушает, и каково его изумление, когда он убеждается, что Набоков почти буквально говорит ему то, что напечатали газеты. Доходит дело до стеклянного колпака.
– Извольте видеть, первую часть речи я говорил, стоя посреди членов судебного ведомства, так сказать как министр юстиции, а насчет колпака я говорил уже ходя по зале, с некоторыми из судебных чинов.
И. Н. Дурново телеграфирует в Москву, чтобы узнать, кем и как была передана в Телеграфное агентство[73] телеграмма с речью министра. Ответ получается внушительный: речь министра юстиции записана чинами суд[ебного] ведомства дословно и передана от них для напечатания.
Набоков сконфузился, а все-таки «Правительственному вестнику» пришлось сделать кое-какие цензурные изменения в речи министра юстиции.
Вторник 13 ноября
Замечательно благотворное действие провинции на людей. Недавно например я встретился с одним из приезжих кахановцев, князем [Л. Н.] Г[агари]ным, из Рязанск[ой] губ. Он из правоведов, немного старше меня. Помню, что он считался у нас глупеньким. Теперь, после стольких лет жизни в провинции, он оказывается просто практическим дельным человеком. Сегодня приезжает ко мне ген[ерал И. Г.] Ностиц. Его ли я не помню, когда он от нечего делать даже в фотографы записывался и всех угнетал своею скукою. И что же? Последние годы он прожил в провинции и стал неузнаваем: положительно умный и очень интересный человек; часы с ним приятно и полезно проводить. Скука его покинула. И когда он вышел от меня, я подумал: жаль, что такому человеку теперь не дают деятельности. Как крупный винокур и крупный землевладелец, Ностиц очень умно и знающе говорил о безусловной необходимости в настоящее время министерства промышленности и торговли. Застой в промышленности и торговле, говорил он, в настоящее время в России очень серьезное и критическое событие; сущность этого застоя заключается в отсутствии предприимчивости, а отсутствие предприимчивости происходит от недоверия капиталистов к эпохе. Но это недоверие капитала, откуда оно происходит? Посмотришь поближе и увидишь, что главным образом оно происходит от отсутствия серьезных отношений и внимания правительства к нуждам промышленности. Министерство финансов призвано по закону интересоваться этими вопросами. Но оно не может ими интересоваться; ни времени нет, ни людей нет, а главное, его задача иная. Министерству финансов нужны доходы для покрытия расходов, это главное, а как добываются эти доходы, для Министерства финансов вопрос второстепенный. Доказательств тому много. Не есть ли акцизная система[74] [К. К.] Грота самое ужасное доказательство, что Министерство финансов на вопрос о промышленности смотрит как на подробность незначительную. Акцизная система требует 250 мил. доходу, а что она уничтожила все тысячи мелких винокурен и нанесла удар сельскому хозяйству в сотни миллионов убытков – об этом Мин[истерство] финансов знать не имеет возможности и времени; именно это разорение сельского хозяйства от уменьшения в громадных размерах скотоводства и мелкого хозяйства – и есть подробность для Министерства финансов. Для него в прошлом году было безразлично: какой вред может произойти для промышленности от элеваторов иностранной компании, и оно патронировало эти элеваторы[75]. Для М[инистерст]ва финансов безразлично отдавать разные отрасли хозяйства и богатства в России иностранным капиталистам, разоряющим постепенно природные силы России хищническою эксплуатациею и переводящим деньги, добытые в России, за границу, и оно отдает иностранцам все, что они просят. А между тем все это à la longue[76] ведет Россию к внутреннему банкроту. С другой стороны, теперь наступает всемирный переворот в хлебной промышленности вследствие общего падения цен на хлеб и избытка его на рынках. Переворот этот созидает ряд новых вопросов в сельском хозяйстве, от решения которых зависит вся экономическая будущность России. Кому же этими вопросами заниматься? Кому ведать все жгучие вопросы нынешнего трудного в России промышленной и торговой времени? Вот почему для исследования всех вопросов промышленности, для борьбы с кризисом уже наступившим, для пробуждения от застоя, для возвращения доверия к предприятиям в капиталистах, для изучения промышленных нужд – страшно и безусловно сказывается нужда в министерстве промышленности, торговли и сельского хозяйства. А где люди, является вопрос. И люди есть. Люди, как [И. А.] Вышнеградский, [Н. А.] Новосельский, [И. Г.] Харитоненко в Харьковск[ой] губ. далеко не дюжинные люди!
Бедный Ностиц; от тронул меня: «Вот, сказал он, показывая на эполеты, – и я признан негодным для моего государства, – и крупные слезы полились по его лицу. – А что на сердце, прибавил он, – вы бы пожалели меня, кабы знали!»
Среда 14 ноября
Вчера был у [И. Д.] Делянова и застал у него его товарища, кн. [М. С.] Волконского. Разговор шел о Кахановской комиссии, где заседает и Волконский. Последний сказал, что доселе никто не знает, какого в сущности мнения сам [М. С.] Каханов. Они рассматривают мнения, например, трех членов, двух членов, семи членов прежней комиссии, но чье это мнение, никто не знает.
Делянов рассмеялся и со свойственною ему удалью, когда речь зашла о том, что такое Каханов, и когда я сказал, что Каханов это идеал петербургского бюрократа, – сказал другое.
– Каханов, я вам скажу, вот что за человек: сегодня он будет за правительство, а завтра, если ему предложат голос в какой-нибудь Convention nationale[77], он руками и ногами подпишет резолюцию: à bas le gouvernement[78], недаром его [М. Т.] Лорис[-Меликов] выбрал!
– Я одно только знаю, – сказал я, – что Лорис много сделал и ошибок и промахов, но самое главное зло, им сделанное, это создание Кахановской комиссии. Мы не наплачемся над нею. Еще впереди все ее беды. Помилуйте, он поставил благодаря Кахан[овской] комиссии всю провинцию в лихорадочное ожидание каких-то либеральных реформ, а правительство поставлено вот уже 3 года в нелепое и унизительное положение обороняться от покушений Кахан[овской] комиссии на власть, и притом от покушений, исходящих из комиссии, составленной из правительственных лиц.
И Делянов и Волконский признали, что я прав.
– Граф [Д. А.] Толстой, сказал Делянов, по моему, должен был в самом начале, когда он принял министерство, сказать Государю: Ваше Величество, дозвольте закрыть Кахан[овскую] комиссию, пока она не закрыта, я не могу отвечать за успокоение умов.
А теперь поздно; теперь надо дать Кахан[овской] комиссии доделать свое дело.
Четверг 15 ноября
С грустью записываю следующее. Сегодня у меня обедал гр. [А. А. Голенищев-]Кутузов, прелестный поэт, тверской помещик и член Взаимного поземельного банка[79]. Разговор шел насчет помещиков. По этому поводу гр. Кутузов рассказал, что, несмотря на то, что работы в Министерстве финансов на счет устройства Поземельного банка[80] окружены величайшею тайною, им, членам Взаимного поземельного кредита, удалось узнать кое-что из этих работ. Оказывается, прежде всего, что работает над этим проектом комиссия из 4 лиц, безусловно красного направления. Проект этого банка в том виде, в каком его готовят внести в Государственный совет, является роковым и дерзким покушением обмануть намерения и желания Государя. Основания этого проекта таковы, что будущим банком могут будут воспользоваться только те помещики, которые в нем не нуждаются, то есть те, у которых имения не заложены; те же, у которых имения уже теперь заложены в разных поземельных частных банках, не будут в состоянии получать ссуды из государств[енного] земельного банка. Между тем прекрасное намерение Государя помочь помещикам было вызвано именно теми ходатайствами дворян, которые указывали и жаловались на свое безвыходное положение вследствие тяжелых условий, в которые их поставили займы в разных банках. Таким образом, работа проекта совершенно противоречит воле Государя. Следовало ожидать, что Министерство финансов разработает проект, как устроить помещикам переход от залога имения на тяжелых условиях в частном банке к займу на лучших условиях в казенном банке. Но об этом забыто, и таким образом большая часть помещиков останется разоренною.
Но это ничто сравнительно со вторым ужасным заговором, замышляемым против помещиков составителями проекта земельного банка. Они думают так устроить, чтобы этот земельный банк слить с Крестьянским банком[81] и устроить так. Положим, мне нужны деньги, я прошу ссуды: банк мне выдает по нормальной оценке, то есть minimum стоимости земли; напр[имер], десятина земли стоит 100 рублей; банк мне выдает 10 рублей; но тот же банк говорит мне: продайте вашу землю крестьянам, и банк вам выдаст за нее 90 рублей… Другими словами этот проект в его настоящем виде есть осуществление ужасного замысла уничтожить везде, где сие возможно, помещичье землевладение и всю землю передать в крестьянские руки.
Мы ахнули все от ужаса. Остается надежда, что Госуд[арственный] совет не пропустит такой проект, а в особенности, что Государь, узнав истину, потребует осуществления Своих намерений. Я завтра увижусь у гр. Кутузова с человеком, знающим это дело, попрошу его статью написать по этому вопросу, как будто для «Гражданина», и представлю ее, если позволено мне будет, Государю.
Пятница 16 ноября
Был днем у [П. А.] Грессера. Он сообщил мне, что слава Богу все тихо, и понемногу дело делается. Сетует только на то, что гр. [Д. А.] Толстой слишком озабочен мыслию, что его хотят убить. В разговоре он мне интересные наблюдения сообщал насчет Высших женских курсов[82]. По его словам эти курсы настоящая клоака анархической заразы: все эти курсистки меньше [в] сто раз думают о науке, чем о роли фанатичной проповедницы разврата и анархизма между молодежью. Доказательства налицо. В последнее время бóльшая часть арестуемых из молодежи! Оказывается, что значительная часть этой мужской молодежи прямо или косвенно совращена студентками высших женских курсов! А если принять в соображение, что в Киеве[83] видную роль в агитации играли те же курсистки, то невольно приходишь к вопросу: да отчего же их не закрыть, эти курсы; во 1) потому, что вот сколько лет, как они существуют, а пользы от них никакой, а 2) потому что значительный процент этих курсисток прямо является деятелем в анархической пропаганде. Грессер говорит: хоть бы перевести их куда-нибудь. Нет, не перевести, а просто закрыть, то есть больше в них не принимать, дабы мера не могла показаться крутою.
Вечером был у гр. Кутузова. Там застал 4 помещиков; одного из Тверской губернии, он говорит, что у них крестьяне живут с ним в патриархальных отношениях; другой, харьковский, сказал то же; третий, симбирский, говорил, что у него крестьяне невыносимы; главное их занятие кража, разбой и поджог; четвертый, саратовский, говорил, что в начале, когда он купил имение – крестьяне на него смотрели косо и не кланялись. Тогда он пошел в село пешком и как встретит крестьянина, снимет шапку, и учтиво кланяется; затем что же? Дня через три крестьяне стали кланяться за версту и мало-помалу с ним подружились.
Все помещики эти отзывались с грустью о solo-векселях, называя их насмешкою Министерства финансов над бедными помещиками. Помещику, у которого имение стоит 1 миллион, дают 10 тысяч рублей под solo-вексель, и так как эти 10 тысяч даются под залог земли, то немедленно налагают на имение запрещение, и бедный помещик лишается возможности где бы то ни было получить в других банках хотя бы одиннадцатую тысячу.
Суббота 17 ноября
Слышал от приезжего из Москвы, что смерть бедного [В. А.] Шереметева поставила в затруднительное положение дворянство. Кому занять его место? Уездным предводителем Моск[овского] уезда – князь [П. П.] Трубецкой, потерпевший забаллотирование в прошлом году. Кандидатом Шереметева был [Д. С.] Сипягин, волоколамский предводитель, слишком молодой и без веса. Говорят, что в виду этого дворянство хочет просить выборов и тогда в предводители избрать графа Сергея Дм[итриевича] Шереметева. Выбор был бы очень удачен в виду прекрасных свойств этой личности и его такта.
Виделся с Ф. А. Оомом, который очень озабочен вопросом: кто будет преемником [К. К.] Грота[84].
Если бы меня спросили, я бы сказал: И. Н. Дурново, нынешнего товарища мин[истра] вн[утренних] дел. У него все данные именно для такой должности, где прежде всего нужно теплое сердце и большой такт. Это человек николаевских преданий, честный и не только с теплою, но с горячею душою! Его мечта получить право немного отдохнуть после действительно невообразимых трудов и быть признанным достойным Государственного совета; но мне кажется, что если дать ему немного отдохнуть, этот глубоко преданный Государю человек мог бы еще пригодиться на какой-либо самостоятельной должности. Пока, смешно сказать, этот человек, я нарочно считал, работает средним числом ежедневно 18 часов. Какое неравномерное распределение: министр работает около 6 часов, товарищ его втрое больше.
Воскресенье 18 ноября
Обедал вчера у [И. Д.] Делянова и сообщал ему мысли на счет Высших женских курсов. Делянов разделяет совершенно недоверие и нелюбовь многих к этим курсам и намерен возбудить вопрос о закрытии этих курсов, но не разом, а посредством прекращения нового в них приема. Слава Богу.
Был сегодня у К. П. Победоносцева, который рассказывал нам о восторге архиереев после приема Государя. Они уезжают с ободренною и просветленною душою.
У Батюшковых[85] виделся с [Н. А.] Махотиным. Он рассказывал московскую историю кадетского корпуса[86]. Курьезно, что нас было четверо слушавших.
– А никого не высекли? – кто-то спросил.
– Нет, и речи не было об этом.
– Жаль, – ответили мы в один голос.
Махотин выглядит хорошим человеком, но в нем не слышно и не видно энергии.
– А начальника корпуса неужели не сменят? – кто-то спросил.
– Неизвестно, – был уклончивый ответ Махотина.
1 Понедельник 19 ноября О [Б. М.] Маркевиче
2 Вторник 20 ноября О Кахановск[ой] ком[иссии]
3 Среда 21 ноября То же
4 Четверг 22 ноября О высших женск[их] курс[ах]
5 Пятница 23 ноября О духе молодежи
6 Суббота 24 ноября О последствиях моей статьи о высш[их] женск[их] кур[сах]
7 Воскресенье 25 ноября О кредитных билетах
8 Понедельник 26 ноября О [Д. Н.] Набокове
9 Вторник 27 ноября О Каханов[ской] ком[иссии]
10 Среда 28 ноября О [С. С.] Жихареве
11 Четверг 29 ноября Умное письмо одного помещика
12 Пятница 30 ноября Интересное дело: котики на Командорск[их] остр[овах]
13 Суббота 1 декабря О кадетских корпусах, братья г[енерала П. П.] Карцева
14 Воскресенье 2 декабря О мерах против застоя и уныния
15 Понедельник 3 дек[абря] О Рыковском процессе
15[87] Вторник 4 дек[абря] О монархии и толпе – по поводу поражения кн. Бисмарка в парламенте
Понедельник 19 ноября
Еще одна смерть в нашем без того убогом людьми и талантами лагере. Бедный [Б. М.] Маркевич умер вчера вечером после мучительных страданий от удушья и постепенного паралича сердца. Он умер можно сказать с пером в руках; незадолго до этой развязки он мечтал о развязке своего последнего романа: «Бездна»[88] и, так не кончивши его, умер. Умер в полном сознании и верующим христианином. Мир его праху. Последними годами страданий, тяжелых минут лишений и глубоким перерождением его нравственной личности он искупил и блестящие увлечения молодости, и промах служебный[89], искупил вполне и искупил прекрасно. Его искупление проявилось в той твердости, с которою он остался верен всем заветам и убеждениям консервативной партии. Это много значит. Как в несчастиях друзья сказываются, так в невзгодах и люди показываются. Покинутый всеми, Маркевич пошел в рабочие пера, и это перо не склонил ни перед каким идолом, не продал для улучшения своего положения.
Теперь он оставляет жену и сына студента. В отставке, он не мог, умирая, ни о чем просить для облегчения быта семье, лишающейся с его смертью главного источника дохода, его труда!
Но быть может, если министр нар[одного] просв[ещения] возьмет на себя доложить Государю, Царская милость взыщет семью талантливого писателя своим проявлением.
Вторник 20 ноября
Смею находить, что моя VII статья о Кахановской комиссии, заключающая в себе итог или резюме работ первой комиссии по вопросу об уезде, достойна внимания, ибо указывает на покушения первоначального проекта Кахановской комиссии на правительственные интересы и народную цельность слишком, увы, убедительно[90].
Итак, сказали мы, проектеры Кахановской комиссии первого состава предполагают во главу уезда поставить лицо по выбору земства и с содержанием от правительства, и этому лицу поручить относительно уезда права губернатора относительно губернии, с званием председателя уездного присутствия. Уездное же присутствие проектируется составить из нескольких отделений: 1) полицейского, 2) по крестьянским делам, 3) учебного, 4) по воинским делам.
Само собою разумеется, что с введением этого присутствия уездный предводитель дворянства, которому доселе поручается председательствование в вышепоименованных отдельных присутствиях, возвращается к прежней своей исключительно дворянской должности. Такова в главных чертах реформа, проектированная Кахановскою комиссиею первого состава относительно уезда.
Мы рассматривали ее по частям, обращая внимание на главные пункты и не касаясь подробностей, за неимением ни места в журнале, ни времени, и посвятив этому рассмотрению 6 статей, мы по необходимости должны были дробить общую картину задуманной реформы на отдельные очерки. В настоящей же статье, чтобы яснее было читателям увидеть, насколько Кахановская комиссия следовала в своих работах Высочайшей воле, ей преподанной, насколько она отрешалась от предвзятых теорий и тенденций и была беспристрастна, и, наконец, насколько ее озабочивали интересы восстановления порядка в уездной жизни посредством усиления правительственной власти, мы представим краткий, по возможности, очерк того, во что проектеры Кахановской комиссии первого состава задумали обратить уездное управление снизу до верху.
Припомним при этом: 1) что в инструкции, Высочайше объявленной Кахановской комиссии, строго наказывается ей не касаться сословий иначе как в их отношениях к общему государственному управлению; 2) что Кахановская комиссия в своих соображениях неоднократно упоминает о принципе равновесия между правительственною властью и общественными учреждениями, и 3) что земское самоуправление в том виде, в каком оно существует, она предполагает оставить без изменений.
Итак, начинаем снизу.
С сельского общества. Доселе сельское общество крестьянское имело ту для правительства охранительную силу, что состояло из домохозяев, то есть из лиц, оседлостью, собственностью и общинным началом объединенных, в интересе коих было охранять как бытовой, так и полицейский порядок в районе своего общества.
Что же предлагает Кахановская комиссия первого состава? Она предлагает составить такое сельское общество, где введены будут два новые начала: 1) начало бессословности или всесословности как самостоятельная основа самоуправления, в явное нарушение предподанной ей по Высочайшей воле инструкции, и 2) начало равноправности между домохозяевами и всеми лицами, в районе общества живущими.
В практическом смысле это означает: 1) уничтожение в основе уездного строя крестьянского сословного начала; 2) уничтожение охранительного начала в управлении сельским обществом, посредством приравнения домовладельца и землевладельца с батраком; 3) отнятие у сельского общества крестьянских хозяев права избирать сельского старосту и предоставление этого права какой-то бессословной массе, где большинство голосов может оказываться на практике на стороне бобылей, батраков и бродяг, временно приписанных к обществу.
Предоставляем читателям судить: где в этих предначертаниях кроется идея порядка и охранительных правительственных интересов, и какими практическими выгодами, в интересах кого бы то ни было, правительства или населения, искупается то главное неудобство и прямое посягательство на интересы государственного порядка, которое, как мы указали прежде, заключается в открытии настежь и законным путем дверей в крестьянское сословие всем элементам беспорядка, смуты, социализма и анархии.
Переходим к волости. Здесь что мы видим в проекте? Практическая жизнь представляла на основании Положения 19 февраля довольно крепкое и цельное управление крестьянским строем, в котором волость подчинялась избранному волостному старшине из крестьян, а старшина с волостью, в свою очередь, подчинялись единоличной власти назначавшегося правительством мирового посредника. С течением времени, поддаваясь либеральным влияниям сумбурного лжеобщественного мнения и демократизма печати, правительство сделало неисправимую ошибку, отняв у крестьянского строя волостного начальство – мирового посредника, у волостного старшины и волостного суда право наказывать крестьян розгами, и весь крестьянский мир целого уезда поставило в фиктивную зависимость от непременного члена присутствия по крестьянским делам, который уже потому стал мнимым начальствующим лицом, что избирается земством, и кроме того лишен был физической возможности делить свое время между заседаниями уездного присутствия и между поездками по волостям. Когда совершилось это либеральное изменение в заведывании крестьянским самоуправлением, тогда весьма скоро практическая жизнь крестьянского мира обнаружила свою главную нужду: в усилении власти над крестьянами, или, говоря проще, крестьяне почувствовали нужду и восстановлении над ними власти мирового посредника единоличной, и везде, в тысячах картин, сказалось безвластие.
Теперь что же, в ответ на эту нужду, придумывает Кахановская комиссия первого состава?
Как мы видим:
1) Она увеличивает вдвое район волости, то есть затрудняет фактический надзор за крестьянами, главным населением волости.
2) Она вовсе отнимает у крестьян – крестьянскую над волостью власть волостного старшины, который, при всех безурядицах, все-таки, как крестьянин, во многих местах избиравшийся из лучших по волости домохозяев, умел по-крестьянски держать волость в известном обаянии своей власти, и прямо передает эту власть над крестьянскою волостью земству, то есть установляет волостеля или волостного начальника по выбору от земства, и в то же время отстраняет от этого нового волостеля права власти над ним правительственной полиции.
Таким образом, еще очевиднее, чем в сельском обществе, проект Кахановской комиссии вводит бессословное начало в волостное управление, вопреки преподанной ему Высочайше утвержденной инструкции.
И выходит что же?
В то самое время, когда из конца в конец России стоном стоит одна насущная всенародная нужда: в усилении правительственной власти и страха этой власти, в то самое время, когда практическая жизнь вопиющими фактами изображает несостоятельность и вред политический и экономический от земства в том виде, в каком оно существует, Кахановская комиссия первого состава проектирует:
1) Усилить земское самоуправление посредством предоставления ему права избирать волостеля, то есть начальника не хозяйственного, а административного и полицейского волостного управления.
2) Ослабить правительственную власть посредством подчинения всего крестьянского мира (под предлогом всесословной волости) волостелю, избираемому земством, и с устранением правительственной полиции от власти над этим волостным начальником.
Здесь переходим к уезду.
Здесь прежде чем свести итог проектированных Кахановскою комиссиею изменений и объяснить их практическое значение, мы считаем нужным вкратце указать на то, какую роль в настоящее время играет в уездном управлении земство и какую роль играет правительство. Тогда яснее скажется потребность нынешнего положения вещей.
1) Уездный исправник, как мы сказали прежде, очень мало имеет власти относительно крестьянского управления и никакой власти не имеет относительно хозяйства и внешнего благоустройства уезда.
2) Земское управление, кроме полновластия в хозяйственном отношении, имеет весьма широкую сферу деятельности по части народного образования, по закону ему предоставленному только в хозяйственном отношении, но отвоеванному им у правительства в течение 20-летнего периода земской деятельности.
3) В комитете народного образования, или в уездном учебном комитете, правительство имеет только два голоса – инспектора и исправника – против председателя управы, членов земской управы, уездного предводителя дворянства, городского головы и непременного члена по крестьянским делам.
4) В крестьянском присутствии правительство имеет только один голос – уездного исправника – против председателя земской управы, председателя мирового съезда, товарища прокурора и непременного члена.
5) Засим в съезде мировых судей, избираемых земством, правительство имеет за себя только мнимый голос товарища прокурора.
В итоге, если взвесить в настоящее время при нынешнем порядке вещей элемент правительственный и элемент не-правительственный, то мы получим на весах 4/10 на стороне правительства, а 6/10 – на стороне общественного управления.
Между тем Кахановскою комиссиею проект преобразования уездного управления основан на мысли – установить равновесие между правительством и общественною властью.
Что же из сего проекта выходит?
Выходит нечто невероятное.
Выходит, если бы вздумалось применить на деле реформу, проектируемую Кахановскою комиссиею первого состава, то правительство утратило бы даже свои 4/10 веса в уездном управлении, и весь уезд окончательно и во всех отношениях перешел бы в ведение земства.
1) Председатель уездного присутствия, то есть начальник уезда, был бы избираем земством.
2) Начальник полицейского отделения уездного присутствия был бы подчинен земству, посредством выбора земством председателя и уездного присутствия, и полицейского отделения.
3) Учебный комитет, или учебное отделение, имело бы только одно правительственное лицо, инспектора училища.
4) Отделение по крестьянским делам не имело бы ни одного представителя правительства.
5) Мировой съезд остался бы всецело земским.
Вот каким образом проектеры Кахановской комиссии думают установить равновесие между правительственным агентом и общественными учреждениями.
Таким образом то, что мы говорили в начале о замыслах комиссии, то именно, как мы это несомненно и неопровержимо доказали, под разными масками – в проекте Кахановской комиссии осуществляется: весь этот проект реформ в уезде есть не что иное как попытка совершить 4 дела разом:
1) Нанести еще удар, и последний, правительственной власти в уезде.
2) Уничтожить политическое значение дворянского предводителя.
3) Продолжить положение о земских учреждениях расширением земского самоуправления до полновластия в уезде во всех уже отношениях, и
4) Уничтожить крестьянское сословие в государственном смысле со всеми его здоровыми и охранительными началами.
Спрашивается, как назвать нами разобранные работы Кахановской комиссии первого состава: замыслами против народных охранительных начал или рядом добросовестных недоразумений и ошибок, введенных проектерами не нарочно, а случайно!..
Пускай читатель ответит за нас.
Среда 21 ноября
Какая драма. Умер старый музыкальный и театральный критик [М. Я.] Раппапорт, столько лет писавший в разных газетах. Писал он хорошо, жил честно, резко отличался от тех отвратительных газетных писак, которые за деньги хвалят и за деньги бранят. И что же? Он умирает в бедности. Жена его, пораженная горем, заболевает, и в день, когда немногие друзья бедного писателя собрались на маленькую квартиру вынести гроб его, у постели жены стоял доктор и считал минутами остатки ее жизни. Через день после погребения мужа пришлось заботиться о похоронах его вдовы. И вот семья детей в нищете!
В городе говорят о какой-то блестящей речи, произнесенной будто бы в Кахановской комиссии графом [Петром А.] Шуваловым по поводу разбирающегося проекта [А. Д.] Пазухина и [С. С.] Бехтеева. Прения все продолжаются. Основная мысль проекта уничтожить институт мировых судей и заменить его участковыми начальниками, которые будут избираться дворянами и местными интеллигентами университетского образования и будут соединять в себе судейскую и полицейскую должности. Вряд ли этот проект пройдет. Большинство комиссии против! В субботу будет голосование.
Четверг 22 ноября
Сегодня мы похоронили бедного [Б. М.] Маркевича! Не было ни речей, ни венков, не было ни одного литератора из чужого лагеря! Как будто Маркевича не существовало в русской литературе! На похоронах и на панихидах заметил группу студентов; все это товарищи сына Маркевича. Сердце радовалось, глядя на этот опрятный, чистый и светлый кружок порядочных молодых людей. Тут и сыновья кн. М.[С.] Волконского, и сын профес[сора Н. А.] Любимова[91], и молодой князь [Э. Э.] Ухтомский, и несколько других: все это молодые люди в полном смысле слова порядочные и соединенные в тесный приятельский кружок, где веруют в Бога, преданы монархии, любят литературу, любят музыку, и где все веет чистою и благородною молодостью.
Как характерно! Я написал и напечатал в последнем № «Гражданина» резкую статью против Высших женских курсов[92]. Написал я ее 1) под влиянием потрясающего рассказа одного старика отца, у которого дочь погибла в разврате благодаря высшим женским курсам, и 2) под влиянием слов [П. А.] Грессера, не знающего, что делать с 800 студентками, из которых 200 учатся, а 600 занимаются политическою пропагандою, оргиями и развращением молодых людей, и 3) под влиянием рассказов одного студента, говорившего о ночных оргиях курсисток с студентами и т. д.
Казалось бы, за закрытие этих высших женских курсов должны были бы стоять все люди порядка. Ничуть! Модный предмет, либеральная игрушка, святыня, как можно до них прикасаться. Вот если дворянство надо ругнуть, это дело хорошее, а ругать высшие женские курсы нигилисток – помилуйте, это преступление! И под суд автора, и громить и ругать его, и все засуетились и забегали даже к Конст[антину] Петров[ичу] Побед[оносцеву], чтобы жаловаться на «Гражданин». И [И. Д.] Делянов съежился от страха, а сам втихомолку говорит, что надо закрыть курсы!.. Фу, гадость какая!
Пятница 23 ноября
Был у меня приезжий из Москвы, проф[ессор П. Е.] Астафьев, кажется, инспектор классов[93] в Катковском лицее[94]. В разговоре он сообщил мне интересные и утешительные сведения об умственном и нравственном перевороте к лучшему в молодежи Катковского лицея. Правда, что эта метаморфоза обусловлена и ограничена именно этою молодежью, так как в Катковск[ом] лицее воспитываются молодые люди по большей части из состоятельных и хороших дворянских семейств, но все же и это утешительно. Он говорил мне, что молодежь любит занятия, большая часть тверда в принципах и в вере, честна, не проявляет никаких разочарований ни отрицаний, много читает, любит поэзию, интересуется, словом, жизнью и имеет все свойства молодежи. Период нигилизма исчез без следа.
Суббота 24 ноября
Для кого нонче Екатеринин день[95], а для меня день пытки. Сегодня раздался главный выстрел в меня за мою статью о нигилизме в Высших женских курсах в виде торжественного заявления педагогического совета Высших женских курсов в «Новом времени», что все в моей статье есть ложь и клевета[96].
Само собою разумеется, что пытка не в этом, а пытка в том, что я всегда один в борьбе, и никто у нас не поддерживает того, кто выступает против замаскированных рассадников анархии и нигилизма. В Германии почему Власть сильна? Потому что всякий, кто за нее борется, находит с верху, то есть в Бисмарке, до низу, в последнем чиновнике, поддержку. Орган печати, стоящий за правительство, может увлечься, может ошибиться, может слишком резко выражаться; пусть дерут его на клочки газеты либералов и демократов, но правительственные люди никогда не отступятся от борца за него, никогда не выдаст его[97]. У нас, увы, наоборот; и нигилисты печати съедают, и правительство сторонится от своего. Так бывало со мною не раз. И в этом эпизоде я встретил то же равнодушие. Я согласен, что я слишком резко написал, но, Боже мой, неужели [И. Д.] Делянов, главный начальник этих высших курсов, не знает, что все, увы, правда в моей статье, что высшие женские курсы с каждым годом все сильнее разводят оргии растления и анархии между молодежью, что в каждом политическом процессе есть курсистки, что в одном Петербурге до 900 курсисток, из которых бессемейных более половины, а евреек чуть ли не больше половины, – а между тем к этому же Делянову является председатель Педа[го]гических курсов [А. Н.] Бекетов, известный либерал, и требует от Делянова разрешения написать мне бумагу с требованием отказаться от этой статьи, чуть ли не под угрозою суда. Делянов вместо того, чтобы сказать: я лучше вас могу судить о том, верно ли или неверно судит князь Мещерский о высших женских курсах, а вас прошу в дело не вмешиваться; если в статье «Гражданина» есть резкости или неверные цифровые данные, я укажу на них князю Мещерскому и уверен, что он настолько порядочный человек, что сам сознает свои погрешности; а выкидывать газетные штуки с треском и фейерверками я вам запрещаю, а запрещаю потому, что, к сожалению, действительно, ваши высшие женские курсы приносят правительству гораздо более вреда, чем пользы, и гораздо более хлопот, чем утешения.
Но не такую роль повел добрейший Иван Давыдович с нахальным Бекетовым. Он как бы дал себя закричать и уполномочил Бекетова требовать от меня, чтобы я отказался от своей статьи. Разумеется, все газеты подхватят дружно этот скандал, все закидают меня грязью, и из всего этого шума выйдет в ореоле высший женский курс, и пойдут толки о всемогуществе этих курсов и о бессилии против них тех, которые испуганы вредом этих курсов!
Тут что грустно? Не то, разумеется, что меня травят и бьют с какой-то бешеною злобою, потому что я говорю прямо, храбро и открыто, а не лавирую между двумя берегами или между двумя течениями, ища разумной средины, которой нет; сегодня я жив, завтра я умер, обо мне не стоит говорить, но грустно то действие, которое на умы производит зрелище, как одиноки борцы в печати за правительство, и как сильны, дружны и солидарны многочисленные борцы против интересов старого порядка. Это зрелище смущает хороших людей и ободряет дурных. К. П. Побед[оносцев] собирается, как он говорил мне, издать циркуляр по дух[овному] вед[омству] с напоминанием архиереям их долга удерживать священников от посылки дочерей своих в высшие женские курсы[98], а Делянов дозволяет Совету этих курсов торжественно и всенародно заявлять, что эти курсы – идеал совершенства. А [П. А.] Грессер рядом с этим не знает, куда деваться от бесчинств и вредного влияния курсисток на молодежь!
К. П. Поб[едоносцев] нашел тоже, что моя статья была слишком резка и что напрасно были вставлены цифровые исчисления, да и сам я сознаю это, но по его совету я написал для завтрашнего дня другую статью, в которой, извиняясь, если кого-нибудь оскорбил, и опровергая смысл, данный печатью моим цифрам – статистических исчислений, я в то же время объясняю, почему самой статьи в ее главных мыслях я не могу взять назад – потому, что за меня все здравомыслящие люди и общественное мнение. Написанную в этом смысле статью К[онстантин] П[етрович] одобрил.
Воскресенье 25 ноября
Виделся сегодня с богатым сибирским чайным торговцем [А. С.] Кузнецовым, живущим в Москве. Он печальные рассказывает подробности о всеобщем застое и безденежьи внутри России и в Москве. Одним из признаков несомненных этого безденежья всеобщего является всегда разница в чайных оборотах. Как только меньше спроса на чай, значит, народ отказывается по случаю безденежья от чая, и именно в северных губерниях и в Сибири. Рассказывал он интересную вещь про кредитные рубли. Министерство финансов, говорил он, вопреки всеобщей, так сказать, нужде в выпуске кредитных билетов, продолжает упорствовать в своей системе не выпускать, а жечь билеты. И что же из этого выходит? Выходит только барыш для менял, а для всего торгового мира убытки: и вот почему. Приезжает купец в Москву платить деньги по векселям; он привозит с собою кредитные билеты, но ими он не платит, а идет он к меняле и покупает на них будущие купоны разных билетов, платя за них дешевле, чем за проданные билеты; меняла получает за это за комиссию и сверх того выгоду от разницы между кредитным билетом и купоном. Купец этими купонами платит другому купцу по векселям. Затем получивший вместо денег купоны купец опять идет к меняле и променивает их с убытком на кредитные билеты. Таким образом меняла наживает на эти операции до 90% в год!
Кузнецов говорит, что никогда так много не было несостоятельности, как теперь: банкроты за банкротом, и все вследствие безденежья и застоя.
– Что же делать? – спросил я его.
– Надо прежде всего поднять сельское хозяйство, поднять помещичий быт, надо поддерживать все заводы в России, усиливать заказы, строить как можно более железных дорог и не скупиться, – прибавил он, – выпуском кредитных билетов. Это наше русское, домашнее, государственное дело – а не иностранное.
Характерную вещь рассказал Кузнецов. На Амуре уже завелись немцы из Германии; весь сахар там покупают не русский, а из Гамбурга.
Понедельник 26 ноября
[Д. Н.] Набоков вчера на вечере у себя имел вид ликующий. Он говорил между прочим: j’ai enfoncé Katkoff[99].
Думают иные, что эту победу он выводит из Царских слов на адресе с поздравлениями по случаю 20-летия суд[ебных] учреждений. По мнению одних, эти Царские слова будут приняты как торжество Набокова; по мнению других, и я того же мнения, в этих словах есть весьма выдающийся оттенок; в них сказано: «уверен, что они докажут на деле свои чувства»; в этом, по моему, все; Государь не благодарит за то, что они доказали, а благодарит за чувства с уверенность[ю], что они докажут, то есть все сводится к будущему.
В прошлую субботу я читал свою комедию в Театральном комитете[100]. Сегодня узнал, что она принята была единогласно. Лестно! Но давать ее не могу. Все курсистки наполнят театр и закидают меня если не картофелями, то яблоками или башмаками и зашикают до бесчувствия.
Получаю записки анонимные в роде следующих:
«Надо быть и прозябать в вашей аристократической плесени, чтобы так гнусно и подло судить об высших женских курсах».
Или другой образец красноречия: «Впрочем, стоит ли с вами говорить; ваше дело быть придворным лакеем и полицейским сыщиком».
Как аргументы в пользу Высших женских курсов это убедительно!
Вторник 27 ноября
Кахановская комиссия отсрочивает свои заседания до 15 января. Приезжие из провинции члены разъезжаются по своим губерниям – страшно озлобленные против некоторых главных чиновников-теоретиков и интеллигентов, орудовавших в первоначальной Кахановской комиссии и сочинивших знаменитый ныне рассматриваемый проект.
Но все же недаром они, эти приезжие кахановцы, здесь просидели и недаром дрались за каждую букву проекта. Победа за ними. Замыслы [М. С.] Каханова и его Комиссии дельцов обличены и разрушены почти все. Победа здравого смысла и практики над теориею выразилась в нескольких фактах.
1) Скверная и прямо революционная идея всесословной или бессословной волости окончательно похерена. Волость остается крестьянскою.
2) Шутовской проект волостелей вместо волостных старшин с мыслию приманить на эту должность молодых студентов – то есть другими словами впустить нигилистов в центр народа – провалился.
3) Замыс[е]л предоставить земству избирать будущего начальника уезда тоже устранен.
4) Замыс[е]л предоставить тому же земству избирать будущих участковых начальников над крестьянскими волостями – тоже похерен.
Нельзя не порадоваться этому, и нельзя не отнести значительною частью успех этих побед к заслуге гр. [Д. А.] Толстого, столь умело на этот раз выбравшего личный состав приглашенных из провинции людей. Практические люди, а не говоруны, как оказались знаменитые эксперты по кабацкому делу при [Н. П.] Игнатьеве[101].
Среда 28 ноября
Виделся с [С. С.] Жихаревым; умный, очень умный человек! Назначили в Сенат, где он должен быть в Кассационном д[епартаме]нте; там он не сидит, а живет себе в деревне. А между тем такого умного и преданного правительству человека следовало бы назначить сенатором в I департамент Сената[102]. Он один дал бы тон первому департаменту. Странная судьба Жихаревского дела[103]. В семидесятых годах ему поручили знаменитое политическое следствие на Волге. До 1500 человек им было схвачено. Из них после разных процеживаний 193 преданы были суду. Из 193 этих почти все были оправданы. И с тех пор по настоящее время – все арестуемые, все казненные оказываются из 193. Ясно, что Жихарев попадал в цель, арестуя в то время. Но Боже мой – что за ненависть, что за ругань, что за проклятия посыпались на Жихарева в то время: и арестовывает он зря, и бездушный он чиновник, и безнравственный человек, и пьяница, и негодяй… Чего-чего только не наплели на него – и сломали-таки ему шею.
А между тем в чем виноват был в сущности Жихарев? В одном: что он по-Муравьевски[104] поступил и решился разом покончить с крамолою и вырвать ее с корнем. На цель его не поглядели, и глядеть не хотели, а набросились на разные подробности, и давай чернить Жихарева. Увы; у нас так всегда: как только человек действует круто и энергично в интересах правительства, сейчас же сами правительственные люди на него восстают. Как я спорил на эту тему с К[онстантином] Петр[овичем] П[обедоносцевым].
– Помилуйте, – говорит К[онстантин] П[етрович], – скольких он заарестовывал по пустякам, скольких он озлобил, это ужасный был человек.
– Помилуйте, – отвечаю я ему, – вы верите обвинителям и врагам Жихарева, а ему не хотите верить, за что же? Что из лишнего усердия чиновники Жихарева арестовывали, может быть, напрасно, я не спорю, но за что же вы не ставите ему в заслугу, что он ни одного анархиста не выпустил из кинутой им сети; все до одного в нее попали. И ведь он ни одного не казнил, а после него сколько было казненных и сколько было арестованных, и все оказывались Жихаревские.
– Очень может быть, но он все-таки человек опасный.
– Эх, говорю я, верьте мне, что Жихарев человек опасный для врагов правительства, а не для правительства, и оттого-то ему шею так скоро и сломали.
Во всяком случае, в Жихареве я ценю вот что: ему ли не быть озлобленным после всего, как его оплевали и оскорбили? А между тем он ни на йоту не озлоблен, он глубоко остался преданным консервативным интересам, и в этом строго правительственном духе воспитывает своих сыновей и живет.
Четверг 29 ноября
Получил очень умное письмо от одного помещика Новоладожского уезда[105].
«Не могу не остановиться с серьезным вниманием на 6-й странице № 46 “Гражданина”, где между прочим сказано: “гораздо разумнее и целесообразнее в интересах правительства было бы позаботиться, прежде всего, об усилении дворянства землевладельческого – экономическом, дабы дать ему возможность мало-помалу восстановить свою независимость” и т. д. Интересно знать, какое же это усиление экономическое? Прежде всего, мне кажется, надо позаботиться о правде, о законности повсюду на Русской земле и возвратить порядок без особенных привилегий, как, напр[имер], ныне дающиеся мужику против барина. Некоторые петербургские газетчики воображают нашего крестьянина каким-то аркадским пастушком. Мужики и бабы, по-ихнему, все то же, что пейзане и пейзанки в балете, и недостает им разве только розовых ленточек на шляпки, а то бы вполне были милашки, с коими косматому, нечесаному пропагандисту приятно бы предаваться вакханалиям. Ну, это до поры до времени, и разумеется, когда у космача, под пьяную руку, те же пейзанки вышибут очки, да еще пейзане поколотят: тогда увидит он совсем другое и призадумается как ходить в народ с пропагандой! Мы, русские помещики, избегая пьяного народа, смотрим трезвыми, простыми глазами, без всяких стекол, увеличивающих или уменьшающих беду, состоящую в том, что мужик волю-то взял, а труд отложил, забыв, что только труд кормит. Волю, данную Царем, крестьянин понял как своеволие, в большинстве случаев.
Примеров тому множество. Имея возможность пропагандировать, и конечно, совершенно другое, нечто противоположное учению косматого пропагандиста в очках, часто неумытого и засаленного, мы оттого и ненавидимы стали так называемой либеральной прессой. Еще негодование ее на нас началось в 60-х годах, так что зазорно было называться помещиком. Слово “помещик” представлялось (и заметьте огулом, – без исключений) синонимом: разбойника, развратника, вора, мошенника и т. п. Одним словом – мерзавца во всех отношениях.
Вот каково было наше положение*[106], но это допускалось бюрократией, дружившей с народившимися кулаками потому только, что они из народа, еще довольно темные людишки и неопасные на случай взятки! Помещика же, понятно, бюрократия остерегалась и, рассыпаясь в любезностях, только фальшивила! Потворство развитию дурных народных инстинктов породило во многих случаях ослушание местной власти, вилявшей во все стороны, по пословице: “И Богу свечку, и черту поклон!” Пьянство и безнаказанная грубость, доходившая до дерзости, вместе с обычною леностию и бессовестным корыстолюбием, жаждой к легкой наживе рабочего класса – соделало пребывание помещиков в своих усадьбах – невозможным. Многие стали распродавать свои имения и, конечно, кулаки воспользовались… Посмотрите через год с небольшим, что скажет правдивый историк, когда исполнится 25-летие эмансипации? Улучшился ли в действительности быт крестьян и насколько при новых помещиках – Разуваемых и Колупаевых[107], с тех пор как, волею милостивого Монарха, при содействии честных людей снято со старого дворянства – это позорное крепостное право, столь угнетавшее человеческую личность! И дворянин-помещик стал легче дышать, не так как бывало во время оно – при крепостных. Но ведь легко дышится и в Техасе, в прериях или оазисах Средней Азии, где важнее всего справляться: в порядке ли револьверы и проч., на случай нападения хищников!..
Думаете, этого еще мало, чтобы только легко дышать и забота была бы об исправности оружия? Надо еще что-нибудь, если мы живем не между дикими и называем свою страну – благоустроенным государством, в котором и не пьяницам жилось бы весело-вольготно. Вот недостающая-то такую малую толику – безделица и заставила помещиков средней руки (класс наиболее культурный, независимый), получающих около 10 тыс. и более годового дохода, распроститься уже не с матушкой, а мачехой-Россией и чуть не целыми колониями селиться в Париже, Дрездене, частию в Неаполе и других местах за границей, где действительно можно жить, не неся, по крайней мере, ничем незаслуженных обид и оскорблений.
Об аристократии, конечно, излишне упоминать, так как, получая ежегодно сотни тысяч рублей для прожития, – везде будет хорошо и вольготно. Где же этим господам не бывает почета и уважения, в противоположность мелюзге, нашей братии-дворянам, поневоле оставшимся с семьями в своих родовых поместьях за невозможностью бежать куда-либо всего с одной или двумя тысячами рублей годового дохода, да к тому же и без протекции, дающей хорошие служебные места!.. Поистине, если мы безропотно теперь переносим свое безотрадное положение, оставаясь такими же твердыми, правдивыми и благородными, как предки в годину испытаний, то уже здесь, на сей русской земле, для нас чистилище и другого, в загробной жизни, – не потребуется…
Для нас-то, вероятно, вы и проектируете поддержку материальную, заботясь об усилении экономическом дворянства землевладельческого; но ведь не от единого хлеба человек жив бывает! – Это раз, а другое, если б это и сбылось, как сон или как мечта (особливо при теперешнем-то безденежьи, чуть не банкротстве), не породила ли бы такая мера чувства зависти, а засим еще больший антагонизм между сословиями, а это едва ли полезно с государственной точки зрения честному правительству, отвергающему правило: разделяй и властвуй, и, с Божьей помощью, стремящемуся к устойчивости и общему благоденствию подвластных народов.
Не верю я, чтобы пособие, извне приходящее, – приносило большую пользу. Надо в самих себе искать силу, никому не обязываясь, тогда польза будет прочнее и производительнее; а как проявить самопомощь, самодеятельность при теперешней распущенности народа? – вот вопрос, пусть-ка излюбленные вами тайные советники разрешат. Всякая энергия падает, когда беспрестанно наталкиваешься на озорство крестьян-соседей. Даже больше того… У меня, например, двух лесников убили за то, что честно исполняли свой долг, и это так и осталось – безнаказанным! Когда первого лесника убили, то виновных не нашли или не хотели найти. При убийстве же второго столько было улик, что разбойник сам признался, но присяжные (в большинстве из крестьян) оправдали! Суд применил убийство к несчастному случаю при общей, будто бы, драке, а потом эти же присяжные высказывали, что жаль было такого зажиточного мужика ссылать в Сибирь. Кто же за него будет подати платить, ведь придется на мир разложить!
Вот аргументация и сила присяги, да и суд хорош, нечего сказать. А что, если бы было, да наоборот: вор-то был бы застрелен при нападении (со своей медвежьей силой), да еще самим помещиком, то как оправдали бы – вот интересно? Думаю, – очень не легко бы было оправдаться, когда свидетелями угроз, перешедших в нападение, – были только темный лес да ясное солнышко, а ведь это могло случиться… и после этого извольте оберегать свою собственность[108]? А беспрестанные потравы полей и лугов, уничтожение или кража изгородей, оберегающих поля, воровство сена – зимней порой и многое другое, тому подобное; наконец, нынешняя прислуга и рабочие, думающие, как бы только вперед жалованье забрать! Все это вместе взятое положительно парализирует труды и старания помещика, волею судьбы обреченного на всякого рода унижения, убытки и виновного лишь в том, что верит в Бога, чтит Царя и, исполняя завет предков, ни при каких случаях и самотруднейших обстоятельствах – не кривит душой. Положим, чистилище, в коем мы обретаемся, и полезно для души, но ведь, по нашему православному учению, чистилища никакого не полагается, и речь идет о здешней земной жизни. Сделайте же эту жизнь сносною. Пусть не отравляется она нам как в отношении нравственном, так и хозяйственном. Водворив порядок, придет и энергия у нас и любовь возродится к труду на своих родных полях. Что может быть честнее и лучше этого! Иные господа и из-за границы вернутся, только не добивайте нас варварством и оружием неправды; ведь пригодимся еще – поверьте! Мы соль земли Русской и хотим быть первыми между равных: вот все наше самолюбие! Никому и никаких привилегий не надо. Они излишни и не современны, а от всяких подачек (для восстановления материальной независимости нашей) пожалуйста избавьте. Мы гнушается ими и хотим как жили, так и умереть дворянами…
Ладожанин»
Пятница 30 ноября
Интересное дело. Прибыло сюда два господина; один американец, живет в «Европейской гостинице», сорит деньгами, ведет grand train[109]; другой русский, некто [А. Ф.] Филиппеус; оба по тому же делу, по делу о котиковом промысле на Командорских островах, изображающем собою сотни тысяч, если не миллионы, дохода для промышленников, а для нашей казны, как всегда два двугривенных с небольшим. Несколько лет назад такой же ловкий американец, как ныне прибывший, приехал в Петербург и в несколько недель, благодаря крупной взятке, данной кому-то в Минист[ерст]ве иностранных дел, состряпал концессию этих островов для котикового промысла в пользу американской компании[110], за несколько тысяч рублей платимых ежегодно казне. В эти несколько лет компания этих американцев нажила миллионы, и операция оказалась настолько выгодною, что эта американская компания, несмотря на то, что ей остается 8 лет по контракту пользоваться котиками, уже теперь принялась хлопотать, чтобы ей уступили эти острова еще на новый срок, после 8 лет, и в виде приманки предлагает известную сумму накинуть немедленно, в пользу каких-то больниц на тех островах. Но явился русский конкурент, этот Филиппеус, человек необыкновенно предприимчивый, умный, годы проводящий в тех краях, как агент, взявший на себя подряд провианта на Команд[орские] острова и во все местные порты. Когда он прежде хлопотал, ему сказали в Петербурге: вы одни, а американцы являются в виде компании, второе вернее; и ему отказали. Теперь он снова является и просит не возобновлять контракта с американцами, 1) потому что они – американцы, а он русский; 2) потому что он теперь не один, а есть целая группа московских меховщиков, начиная с Сорокоумовских, которые готовы составить компанию; 3) он, Филиппеус, предлагает те же условия, как американцы, но с тою лишь разницею, что ту сумму, которую предлагают и могут предлагать разбогатевшие американцы, он предлагает заплатить с рассрочкою, и 4) американцы истребляют котиков беспощадно, и теперь взялись за песцов (вопреки контракту) и бесчинствуют там потому, что их много, и они платят взятки всем, кто только берет, тогда как если будет русская компания, за нею будет надзор действительнее и строже.
И вот теперь идет в Петербурге бой между Филиппеусом и этим американцем. Дело пока находится в министерствах, а потом поступит в Комитет министров. Но насколько эти американцы пронырливы и ловки; не далее как 2 года назад генерал-губернатор Восточной Сибири был за Филиппеуса и за русскую компанию. В нынешнем году он командировал на Команд[орские] острова одного чиновника особых поручений, и что же? О чудо, этот чиновник возвращается в Иркутск полнейшим союзником американцев и врагом Филиппеуса, и теперь [Д. Г.] Анучин, со слов своего чиновника, стал горою за американцев!
Все это тем более курьезно, что в нынешнем году Вашингтонский Сенат постановил ни в каком случае не отдавать никаких промыслов на своих островах иностранцам! Но даст Бог, на этот раз не окажется в министерствах у нас, кого подкупить американскими деньгами.
Суббота 1 декабря
Генерал [П. П.] Карцев поместил в «Гражданине» очень хорошую статью о кадетских корпусах[111].
В числе многих преобразований, совершенных в военном ведомстве в 1860 годах, одно из заметных, по своим последствиям, мест занимает уничтожение бывших кадетских корпусов и основание вместо них военных гимназий.
Никто не будет оспаривать, что прежние кадетские корпуса имели свои недостатки, что многое можно было и следовало изменить в них, соответственно духу времени и требований науки; но они имели такие военно-образовательные достоинства и такие перед русскою армиею и перед обществом заслуги, которых никогда не могут достигнуть другие общеобразовательные заведения, хотя бы из их стен выходили профессорами.
Для чего же произведена была ломка? Для чего изменена система, освященная полуторастолетним опытом? Разве нельзя было отстранить недостатки, не нарушая достоинств? Неужели для этого надо было посягать на то, что составляло основные начала военной подготовки, и ослаблять те условия и требования, без которых нельзя вести военного воспитания.
Прежние кадетские корпуса, в течение полутора веков своего существования, дали русской армии тот состав офицеров, который прославил ее во всех войнах, в достоинство которых веровал и солдат, и фельдмаршал, – веровало общество, до тех пор, пока новаторы не начали, своими нововведениями, подрывать это доверие и подрывать сначала молча, не представляя причин, оправдывающих необходимость упразднения корпусов. Если же подобные причины потом и приводились, то без всякого расследования, указывая только на одно дурное. Разнузданная печать того времени с радостию ухватывалась за единичные факты, выставляя их как общие и, желая угодить известным взглядам и личностям, говорила часто о том, чего в корпусах не было, или было, как во всяком заведении, исключением. О том, что было в них хорошего, а его, как читатель увидит ниже, было не мало, умалчивалось. Можно было подумать, что преобразование делается только из жажды ломки, или из желания доказать, что только новаторы могут создать что-либо полезное и разумное, а все, что было до них, никуда не годится. И вот под ореолом гуманности и науки старое было разрушено и введено было новое.
Если бы заведениям, заменившим прежние кадетские корпуса, не было придано название военных, то можно бы было придти к заключению, что преобразование делается в виду уменьшения числа офицерских чинов армии. Но оставить гимназиям название военных и дать им гражданское направление – значило изменять дух и военное воспитание войск.
Жаждавшие перемен старались выставить еще и то, будто кадетские корпуса стоят слишком дорого, а между тем не давали армии и третьей части необходимого ей ежегодно числа офицеров. В доказательство этого приводились статистические данные, но не за то время, когда корпуса были в их лучшем фазисе, а за последние годы пред преобразованием, когда многое расшаталось, и когда учащаяся молодежь приняла иное направление. Тогда удаление из корпусов, за леность и дурное поведение, делалось десятками, так что едва 1 из трех достигал выпуска. Подтверждая выводы цифрами, следовало брать их за несколько лет назад. Наконец, всякому известно, что для армии не столько важно число офицеров, как их служебные качества и направление.
Кадет прежних корпусов, вместе с научным образованием, с детства приучался к безусловному повиновению, к самой точной исполнительности, к перенесению трудов, сообразных его возрасту, уважению к старшинству, – одним словом ко всему тому, что составляет главные элементы военной службы и достоинства воинского звания. Эти качества зарождались в прежнем кадете с первых дней поступления в корпус; они росли с ним, входили в кровь и плоть его. С ними он засыпал и просыпался, с ними пил и ел, с ними входил в классы и в церковь. Как мальчик, как школьник, он в рассеянности нарушал их, и хотя подвергался, быть может, не всегда соответственным вине наказаниям, хотя в юности даже и огорчался ими, но, выходя из корпуса и ознакомясь с жизнию, всегда потом чувствовал привязанность к месту воспитания, где протекла его юность, к тем начальникам, над которыми подсмеивался, на которых сердился как мальчик, но о которых потом вспоминал с благодарностью. Конечно, и тогда были несправедливости и превышения власти, но никогда кадет не слыхал от своего офицера-воспитателя или от своего учителя ничего, что порождало бы в юноше разочарование. От этого в прежних корпусах не было примеров, чтобы кадет посягал на самоубийство, убегал бы из заведения или увлекался политическими бреднями.
Прежний кадет – это олицетворение преданности к Царю и Родине. Он сознавал, что им обязан своим воспитанием, старался своею службою отплатить за это и всю жизнь оставался верен тем правилам, которые дала ему корпусная жизнь. Все мелочи военно-служебного быта, все элементарные знания службы, приобретаемые привычкою и практикою, прививались гораздо прочнее, чем теоретическим преподаванием, и усваивались сами собою. Без крайней необходимости кадет никогда не оставлял военной карьеры, потому что любил ее. Его не сманивали материальные выгоды и никакие соблазны не могли заставить его изменить свои убеждения.
Теперь кажется даже непонятным, почему лица, ратовавшие в 1860-х годах за преобразование системы военного воспитания, не дали себе труда вникнуть, что все деланные на корпуса нарекания были преувеличены и умышленно раздуты; что все газетные толки о том, будто из кадетских корпусов выходят только неучи, не могущие усваивать современных требований военного дела, – все это было тогда ни что иное, как модная пустая болтовня людей, не понимавших того, что должно составлять главные достоинства военнослужащего. Заметим, что и болтовня-то эта стала плодиться тогда, когда те, кому хотелось найти предлог к уничтожению корпусов, стали заявлять о необходимости иной системы. Это было роковое время начала 60-х годов.
Что кадетские корпуса конца 50-х годов сделались не тем, чем были прежде, что в них проникла распущенность и вольнодумство, что в некоторых из них обнаружились потом проступки, выходящие из ряда, как-то: неповиновение, нарушение порядка и дисциплины, – виноваты не они, – их привели к этому. Мальчики везде и всегда будут мальчиками, школьниками, стоит только распустить их. Раз что начали несвоевременно и круто ослаблять строгость режима и, в виду отстранения произвола, делать возможные облегчения, ограничивать власть ближайших начальников, подводить все под коллегиальные решения, произошло то, что по естественному ходу вещей не произойти не могло. Кто следил за нововведениями не по одним предписаниям и циркулярам, а вникал в их применения и последствия, тот, конечно, видел, какие личности, в указанный выше период времени, стали поступать в корпуса воспитателями и учителями. Вместо прежних офицеров, быть может и менее научно-образованных, но людей испытанных правил и твердых убеждений, в корпусные офицеры пошла молодежь, не отрезвленная опытом жизни, полная каких-то неопределенных стремлений, способная не сдерживать, а напротив – разжигать воображение юноши. Такие офицеры шли в 60-х годах в корпуса даже не для того, чтобы иметь оседлый род службы, а лишь бы только избавиться от фронтовых требований в полках и где-нибудь временно пристроиться, а затем уйти, куда выгоднее. От этого они оставались в корпусах иногда несколько месяцев, искали одной популярности среди молодежи и менялись, как действующие лица на сцене. Те, которых не хотели оставлять в корпусе, как явно обнаруживших непригодность, возвращались в свои части; другие выжидали только времени, чтобы приготовиться к поступлению в одну из академий, и уходили сами. Но как те, так и другие в короткое время своего пребывания успевали внушать юношам многое, от чего бы следовало оберегать их. Могут сказать, что эти офицеры были прежде кадетами, стало быть из корпусов же вынесли свои взгляды и убеждения. Верно, но не вполне; во-первых, в прежнее время они ни в каком случае не пошли бы в воспитатели, а во-вторых – взгляды и убеждения привились к ним от молодых учителей 60-х годов.
Директора корпусов в первой половине 60-х годов тоже беспрерывно менялись. Каждый их них чувствовал, что дело пошло не по-прежнему, что личная его власть и право постепенно заменяется коллегиальным началом; что самостоятельность его как начальника подрывается. Это не могло не влиять на лиц даже с сильными характерами; лиц же более или менее слабых и уступчивых заставляло подчиняться обстоятельствам. Они уже не заботились о будущем и думали только о том, как бы настоящее проходило без особенных, выдающихся происшествий. В подобном положении им приходилось уже не приказывать и требовать, а просить. Чрез это подчиненная им молодежь, несдерживаемая офицерами, старавшимися держать себя перед кадетами не начальниками, а товарищами, почувствовала слабость власти и начала этим пользоваться.
То же самое произошло и с составом учителей. Желание поднять научную сторону воспитания, чего, впрочем, и достигли, но достигли в ущерб нравственной, привело к допуску в состав корпусных учителей таких, которые приносили пользу только голове, но не сердцу кадета. Тот корпус считался передовым, в числе преподавателей которого были личности с репутацией бойких представителей своей науки, но кто они, какое их прошлое, каких они убеждений, понимают ли они будущее назначение своих учеников, – об этом не спрашивалось. Директор и инспектор быть может потом и замечали у этих учителей кое-что не подходящее, но заявлять опасались, из боязни прослыть отсталыми, людьми старого режима, врагами прогресса. Молодежь же с своей стороны льнула к подобным учителям, потому что видела в них критиков корпусных требований и гонителей воспитательных стеснений. Такие учителя делались маленькими идолами в их глазах.
Можно ли же было за все это осуждать кадетскую систему воспитания? К половине 60-х годов корпуса действительно пришли в такое положение, в котором оставлять их было невозможно. Но вместо [того], чтобы исправить их, излечить от того, что, не по их вине, привилось к них, решено было уничтожить самые корпуса и заменить их военными гимназиями.
Опыт указал, что вновь организованные заведения оказались чем-то весьма неопределенным. В противуположность кадетским корпусам, их спешили поставить на гражданскую ногу и с энергиею уничтожали все то, что напоминало кадетство. Между воспитателями явились чиновники; но, определяя их, не справлялись, имеют ли они расположение к условиям той службы, к которой должны готовить своих воспитанников. Мальчикам оставили военную форму, не требуя от них неразлучной с нею точности и аккуратности. Из всего этого вышло что-то отставшее от военного и не приставшее к гражданскому.
В конце семидесятых годов, хотя и глухо, стало высказываться мнение, что данное новым заведениям направление и устройство не соответствует той карьере, по которой пойдут их воспитанники. Тогда начали понемногу и полумерами изменять допущенное увлечение. Но полумеры редко приводят к цели: не удовлетворяя желающих улучшения, они обыкновенно возбуждают ропот тех, против кого принимаются. Общее желание возвратиться к прежней системе доходило до того, что в обществе ходили слухи о скором восстановлении кадетских корпусов, что потом и осуществилось.
Не будем спорить о том, где науки преподавались лучше и полнее, и кто был образованнее, военный ли гимназист 7 или прежний кадет 5 общего класса; но что последний был более подготовлен к усвоению военных наук, чем переводимый из военной гимназии, – это верно. Для переводимых в училище, сколько нам случалось от них слышать, труднейшими предметами были уставы и военная администрация. Прежним кадетам этого предмета, как науки, не преподавали; но они, выходя из корпуса, отлично знали порядок строевой подчиненности, обязанности офицера как учителя низших чинов, обязанности унтер-офицеров, фельдфебелей, вахмистров; еще не снимая кадетской куртки, они умели исполнить всякое поручение, доступное младшему офицеру, не нуждаясь в справочных книжках. Прежний кадет, которому не читалось ни дисциплинарного устава, ни устава о наказаниях, поступал в полк готовым офицером: его не приходилось уже на службе учить элементарным ее основам, он не подкарауливал, как бы уйти из строя, в его взглядах и убеждениях не было отпечатка той статскости, которая появлялась у воспитанников гимназий вследствие того, что самые впечатлительные годы юности проведены ими под надзором гражданских воспитателей. Кадету, начиная службу, не приходилось работать над своими привычками и взглядами, чтобы войти в общую военную колею.
Людьми, чуждыми военной среды, слова наши могут быть приняты за неуважение к званиям и службам других ведомств и за осуждение гражданских деятелей, сопричастных военному ведомству. Спешим оговориться, что мы далеки от подобного и преклоняемся перед всякою полезною деятельностью. Слово «статскость» мы употребили в смысле незнакомства с особенностями военно-строевого быта, в смысле малой к нему склонности и непривычки к условиям военной жизни.
Тот метод, который был введен для подготовки к этому в новых заведениях, как бы он ни был строг, не заменит прежнего кадетского, хотя бы юнкер училища был в казармах и содержал караулы. Юнкера училища несут внутреннюю службу по уставу, они носят шинель из солдатского сукна, исполняют в своих ротах хозяйственные обязанности и отчетность и проч. Но все это они начинают в 18 лет и исполняют только в течение двух. Такой срок, по нашему быть может и ошибочному мнению, крайне короток для того, чтобы юноша усвоил прочное военное направление и приобрел любовь к строевой работе.
При возрасте, в котором молодые люди оставляли гимназию и поступали в военные училища, мелочные требования военного воспитания не могли казаться привлекательными; они не столько занимают, сколько тяготят взрослого юношу, тогда как детский возраст кадета видел в этих требованиях развлечение и забаву, втягивался в них с удовольствием.
Нам скажут, что молодой человек, кончивший гимназическое образование, может гораздо основательнее судить о той карьере, которую избирает, и если чувствует к ней призвание, то взгляд его на будущее серьезнее, чем увлечение мальчика. Мысль верная в общем смысле, но не вполне применимая к тому, о чем идет речь, т. е. к молодежи, которая шла в училище со стороны или переводилась из военных гимназий. Со стороны шли или не имеющие средств платить за университетское образование или неподготовленные к нему. Для первых – военное училище являлось даровым местом обучения, для вторых – возможностью помимо 4-хлетнего университетского курса достичь общественного положения в 2 года. Как для тех, так и для других призвание к военной службе было ни при чем. Из военных гимназий переводились все поголовно, окончившие курс, следовательно и здесь о призвании не было речи.
Выпущенным из училищ в первое время поручали в полках заведыванье учебными командами, приготовлявшими рядовых в унтер-офицеры. Не мало было примеров, что хорошо приготовленные по грамотности оказывались крайне слабыми по служебным предметам, единственно потому, что заведующие командами считали их второстепенными, тогда как они-то и составляют служебные достоинства унтер-офицера. Не ясно ли, что причина этого заключалась в системе, данной тогда воспитанию будущих офицеров в военных гимназиях.
Быть может, впоследствии многое изменилось, но так было в первые годы по уничтожении военных корпусов. Введенное тогда – имело свои последствия.
Выходившие в то время из училищ в полки армии долго не сходились с новыми сослуживцами, держали себя особняком, нередко давали заметить, будто они куда выше тех, которые ими начальствуют. Им было как-то не по себе в строевой офицерской среде, а потому их иногда невольно считали как бы оппозиторами, недовольными тем или другим действием командира. Были ли виноваты в этом молодые люди? Нисколько. Виновата была замена военного воспитания гражданским, гимназическим. При этой замене не принято было во внимание, что, какими бы сведениями не наполнять юные головы, прочное нравственное воспитание и военное направление, для готовящихся стать в ряды армии, должно быть впереди научного.
Нам возразят, что в военных гимназиях поддерживали тот же режим, какой был в корпусах, что воспитанники раз или два в неделю обучались фронту, что они к столу, в классы, в церковь ходили строем, обязаны были отдавать честь всем офицерам и т. д., и что уничтожено только то солдатство, которое существовало между кадетами.
Во-первых, между кадетами прежнего времени было не солдатство, а то безусловно точное исполнение приказаний и порядка, которое должно существовать во всяком военно-воспитательном заведении. Во-вторых, так ли все делалось в гимназиях, как было указано, и не смотрели ли там на нарушения оставшихся в силе военных требований сквозь пальцы. Да наконец и могли ли иначе поступать воспитатели-чиновники, не знавшие сами этих требований и не симпатизировавшие им. Нам по крайней мере известно, что мальчикам, под видом отдыха, позволялось днем лежать на кроватях, и на наше удивление было отвечено: «Что же делать, теперь такие правила». В одном из заведений начальник требовал повсеместной чистоты; а между тем ему было замечено, что такая приторная чистота не пригодна готовящимся быть военными. Знаем и такой случай: бывший в гимназии, проведя 2 года в училище, является в полк. Он подходит к полковому командиру с словами: «Я приехал». – «Очень рад, – отвечает ему полковник, – откуда и куда едете?» – «Из училища в ваш полк». Это не выдумка, а факт, и являвшийся таким образом был потом сам воспитателем и педагогом.
Все эти примеры, и много других, могли бы мы привести для того, чтобы подтвердить, что направление, данное заменившим кадетские корпуса заведениям, было неправильно. К чему было в таком случае оставлять военную форму и обучать фронту? Да и производилось-то это обучение для проформы, никто не проверял его, никто им не интересовался. От этого-то и зарождались понятия, что в военной службе есть мелочи, на которые развитому юноше не стоит тратить внимание, тогда как их не существует. Все требования этой службы, от самого малого, азбучного, до самого главного составляют непрерывную цепь. В ней малое звено и ничтожный винт так же важны, как и большие. Пусть начнет ржаветь малое – и прочность всей цепи делается сомнительною. Не счистите ржавчины вовремя – цепь лопнет.
Со времени бывшего упразднения корпусов слышались сетования на ослабление духа товарищества, прежнего соревнования и прежнего единства. Это и натурально, потому что в училища стекались молодые люди из различных гимназий и из разных гражданских заведений; между ними не было ничего общего, их ничто не связывало между собою. Начинающий воспитание в одном заведении оканчивал его в другом, совершенно при других условиях и другой обстановке, где ни его, ни он никого не знает. Стоит побывать на годичных обедах, которые введены в военном обществе, в дни основания прежних кадетских корпусов, чтобы в смысле товарищества и взаимной связи видеть разницу между бывшими кадетами и получившими воспитание в гимназиях. Первые встречаются как братья, вторые – как знакомые. Прежний кадет, несмотря, что их остается в военной среде меньше, не упускает случая повидаться с товарищами юности, молодое же поколение является в весьма ограниченном числе. Те, кому не случалось бывать на годичных товарищеских обедах, очень ошибутся, если подумают, что в произносимых при этом речах и спичах читаются панегирики прошлому и осуждается настоящее. Напротив, тут рассказываются и вспоминаются анекдоты, обрисовывающие недостатки прошлой кадетской жизни, читаются сатиры и декламируются стихи на былое, но все это без малейшей горечи или озлобления; напротив, и среди юмора слышится нотка сердечной любви и благодарности к корпусу, где прошли юношеские годы собеседников.
То, что научный уровень образования стоял в прежних кадетских корпусах ниже, чем в военных гимназиях и училищах, мы считаем вопросом открытым. Теперешние программы полнее; но что же мешало расширить их прежде? А чтобы кадеты учились хуже, и хуже знали преподаваемое, этого никто доказать не может. Разве мы не знаем знаменитых профессоров, ученых инженеров, лучших артиллеристов, образованнейших офицеров Генерального штаба, воспитывавшихся в прежних корпусах? Правда, их остается немного; но этому виновато время, и если бы корпуса оставались без перерыва, то и нарекания на недостатки их научного направления не существовало бы.
Один из самых усердных вводителей гимназического направления, в минуту откровенности, высказался, что упразднение кадетских корпусов было, в отношении армии, одною из чувствительных ошибок. От него же мы услышали, что в основу необходимости устроить на развалинах корпусной системы гимназическую положена была мысль, что прежде надо образовать гражданина, а потом уже военного; что, не испытавши наклонности и призвания юноши, нельзя произвольно обрекать его быть военным, что всякому вступающему в годы зрелости надо предоставить свободный выбор карьеры.
Рассмотрим, вполне ли видны эти педагогически фразы в отношении заведений, о которых идет речь.
Бесчисленные примеры доказали, как много прежних кадет, сняв военный мундир, были потом известными и полезнейшими гражданскими деятелями. Еще более было примеров, что лица военного звания, из бывших кадет, с честью исполняли обязанности чиновников высших степеней, хотя и не имели специальной подготовки к тому делу, к которому были определяемы. Были и такие примеры, что кадеты, выпущенные в гарнизонные батальоны, были потом, да и до сих пор остаются, на видных гражданских местах. Причина этого в том, что данное им с детства направление и вся обстановка их жизни приучили их к порядку и точности, придали их характеру терпение и настойчивость.
Разберем другой довод.
Способности и наклонности мальчика, за редкими исключениями, формируются в том или другом направлении, зависимо от той среды, в которой он живет, и развиваются в том духе, который указан целью его воспитания. Отдайте сына в лицей – и из него выйдет юрист; определите в семинарию – он будет духовным; поместите в коммерческое училище – получите негоцианта. Конечно, случается и иначе, но это будут исключения.
Говорят еще, что развитой и гимназически образованный юноша может всему научиться, а тем более тем не хитрым вещам, которые требует от офицера строевая служба. В том-то и дело, что хитрым вещам он, пожалуй, научится, а простым – нет, потому что пренебрегает ими, и что эти простые вещи усваиваются не по книге, их на классной доске не начертишь, – подчинения и ответственности не нарисуешь, и усваиваются они не в один или два года, а с детства.
Предчувствуем, что на нас подымется вся клика тех, для кого одно слово в защиту прошлого служит сигналом к тревоге! Было время, когда довольно клеветали на прежнего кадета, и бедный кадет не защищался, потому что чувствовал себя под гнетом такой силы, бороться с которою было не по плечу. Дайте же ему возможность хоть теперь сказать слово в свою защиту.
Одним из любимых доказательств необходимости закрыть прежние корпуса – было обвинение их в том, что они допустили образоваться в их среде особому типу, известному под именем старый кадет. Вспомните, как глумились над ним новаторы, не понимая ни его происхождения, ни его безвредных особенностей.
При наружной оригинальности, старый кадет, в действительности, всегда был существом крайне добрым и честным. По лености или по малоспособности он дурно учился, чрез что делался старожилом своего класса. Не переводился он в следующий класс иногда и потому, что учителя, раз взглянув на него как на отсталого и неспособного, потом оставляли его в покое. Позволяя себе отступать от форменности вседневной одежды, он имел куртку пошире, сам вставлял себе клинья внизу панталон, шапку носил на затылке, заворачивал обшлага рукавов. Большею частью он был отличный фронтовик и, как обладающий особенною силою, – первый гимнастер в роте. В то же время он был ярый гонитель ябедника и льстеца, защитник обижаемых, ненавистник любимчиков, враг интригана. Старый кадет охотно принимал на себя вину товарища, а иногда целого класса, и сильно отплачивал тому, кто выдавал виновного. Он не любил ходить в отпуск; корпус был его домом, рота – его семьею. Первый басист в хоре песенников, первый игрок в лапту и городки, он страстно любил лагерь. Если он не особенно дурно вел себя, его обыкновенно выпускали в гарнизон, в противном случае в юнкера, года на три и на четыре. И то и другое он не считал наказанием, так как не претендовал на лучшее.
Таких «старых кадет» было 3–4 человека в двух старших ротах корпуса. Зла они не делали, а если в существовании этого типа и была дурная сторона, то верно не вреднее той, которая, под другим только именем, существовала и по уничтожении корпусов.
Не могущих следить за курсом удаляли из гимназий, и они делались обузою для семьи, обращались в пролетариев, умножали собою число людей вредных обществу. С старыми кадетами этого не случалось. Сколько мы ни знали их на службе, из них всегда выходили честные и примерно исправные служивые. Конечно, идти далеко они не могли, но были хорошими начальниками инвалидных и этапных команд, и солдаты любили их.
Другою причиною упразднения корпусов и образования вместо них военных гимназий – называли необходимость отделения старшего возраста от среднего и младшего, говоря, что этого требуют основные начала педагогии. Но разве этого отделения не было в корпусах? С тою только разницею, что тогда не видели причины, как трудно найти ее и теперь, почему все заведение не может обедать и гулять вместе. Неранжированная рота всегда составляла младший возраст, 3 и 2 – средний, 1-я и гренадерская – старший. Единственное отступление делалось для унтер-офицеров, которые, принадлежа старшему возрасту, распределялись по другим, как начальники отделений.
В военных гимназиях между воспитанниками не было установлено ни старшинства, ни каких[-нибудь] наружных отличий. Может быть для этого существовали педагогические причины? Ведь есть же педагоги, доказывающие вред экзаменов и оценки знания и успехов баллами; или уверяющие, что ленивых следует наказывать не оставлением на лишнее время в классах, а запрещением, на определенный срок, посещать их. Таких хитрых побуждений заставить ленивого учиться мы не понимаем, но что отсутствие наружного отличия, как поощрения и награды, имеет невыгодные стороны, – это несомненно.
В прежних кадетских корпусах лучшие по нравственности и успехам кадеты производились в те самые начальнические звания, какие существуют для нижних чинов в войсках. Там были ефрейторы, унтер-офицеры и фельдфебеля. Носившие эти звания исполняли в строю все присущие им по уставу обязанности, а в административном отношении только то, что не отвлекало от классных занятий. Кадетские роты, как и полковые, делились на отделения (или капральства) и на десятки. Первыми начальствовали старшие унтер-офицеры, вторыми – младшие. Такое начальствование не было номинальным. Каждый должен был исправлять определенные, возложенные на него обязанности и отвечать за подчиненных. Соблюдение личной опрятности, чистота одежды, знание начальства, исправное отдание чести – все это поверялось унтер-офицерами, и нарушение чего-либо кадетом падало на их ответственность. Теперешнему поколению учащихся кажется это странным, а так было и приносило громадную пользу в будущем.
Кадет, пройдя поименованные звания и обязанности, с ранних лет привыкал к подчиненности и ответственности. По выпуске в офицеры ему и в голову не приходило (как часто случалось потом) обижаться, если начальник сделает ему выговор или взыщет с него за неисправность солдата. Получая взвод или капральство, ему не надо было над ними учиться как управлять ими и спрашивать советов; он знал, с кого что требовать, кто за что должен отвечать и, таким образом, в деле службы он сряду по вступлении в часть был действительным помощником командира и начальником своих солдат. Прежнему кадету ничто в службе не казалось ненужною мелочью потому, что он собственным опытом убедился, как в ней все разумно связано и как важно нарушение чего-либо. Все входило в привычку, а привычка – вторая натура, – и входило без особенного труда. Всякое повышение в корпусе, хотя и увеличивало обязанности, радовало и поощряло его.
Нам возразят, что все, о чем мы говорили, делается в военных училищах, где существуют и унтер-офицеры, и фельдфебеля. Согласны, что делается даже больше, потому что у кадет не было артельщиков, но когда и на каких основаниях применяется?
Во-первых, в портупей-юнкера[112] производят за несколько месяцев до выпуска, когда молодой человек уже мечтает об эполетах и темляк для него не особенно лестен. Во-вторых, едва ли с портупей-юнкера взыскивают за длинные волосы, за неотдание чести, за неряшливый выход в строй у его юнкера. Да и странно было бы взыскивать с 18–20-ти-летних юношей, когда не взыскивали с 13 и 14-летних. В возрасте под 20 лет уже поздно приучать к тому, о чем надо было позаботиться в детстве. Раз же, что не взыскивается – нет ответственности, а без ответственности нет и службы!
Взгляд, что нельзя давать чины детям, а унтер-офицерское звание есть чин, жалуемый за усердную службу, кадет же еще не служит, – может быть и верен. Но разве дело в названии? Пусть лучшие кадеты будут называться старшими, подстаршими, вицунтер-офицерами, как угодно, но все-таки полезно отличить их наружными знаками, возложить на них известные обязанности и ответственность, установить подготовительную подчиненность.
В настоящее время военные гимназии вновь переименованы в кадетские корпуса. Это произвело повсеместное, самое благоприятное впечатление. Радовались этому все военнослужащие, радовались сами воспитанники гимназий, радовался всякий отец, желающий видеть своего сына военным. Надеясь, что преобразование не ограничится одною переменою названия, он ожидает, что нынешние кадеты получат чисто военное воспитание, которое укрепит в юношах религиозные начала, привязанность к военному званию и непоколебимую преданность к Монарху, одним словом, все то, что составляло необъемлемые свойства и достоинства кадета прежнего времени.
Да не подумают читатели, что высказанным нами мы хотели умалить достоинства и заслуги тех вышедших из военных училищ, которые своею настоящею службою в мирное время и славными подвигами во время войны доказали и доказывают, что русский офицер, при всякой системе его образования, с достоинством несет свое звание. Нашею целью было только сказать, как ошибочно было не влить в прежние кадетские корпуса все то хорошее, что предполагалось дать военным гимназиям и, не уничтожая корпусов, оставить неприкосновенным то, что составляло их полуторавековые достоинства.
Зайдите в бывшие помещения кадетских корпусов – и вы увидите там портреты их питомцев, оказавших особые заслуги на различных поприщах службы. Взойдите в корпусные церкви, отданные училищам, и на их стенах прочтете сотни имен бывших кадет, павших в боях за своих Государей и за честь России. Хотя имена эти украшают храмы заведений иных наименований, но они неразрывно связаны с рассадниками, воспитавшими героев.
В течение полутораста лет кадетские корпуса были предметом неусыпной отеческой заботливости своих Монархов. Царские Дети стояли в кадетских рядах, разделяя с ними свои труды и забавы. Кадет понимал и ценил это. Его сердце всю жизнь сохраняло тот трепет и то замирание восторга, которое оно ощущало в юности при каждом слове, при каждом взгляде Царя!
Вспомним петергофские лагери, штурмы каскадов, гулянья в Александрии, развод 1 июля, кадетские маневры[113]. Годы унесли это счастливое время юности и оставили одно воспоминание. Но эти светлые воспоминания нам дороги, мы гордимся ими, они услаждают старость прежнего кадета.
Кадет 1834–1842 г.Воскресенье 2 декабря
Вчера в 5 часов вечера, ожидая обед – скончался внезапно сенатор генерал от артиллерии князь Алексей Васильевич Оболенский. Это был один из тех праведников, ради которых спасаются грады и веси. Глубокая и горячая вера его проникла всю его жизнь, все его помыслы и все его дела. По поводу этой кончины с князем Михаилом Александровичем Оболенским случился вчера комичный эпизод. В 6 часов вечера является гробовщик; лакей спрашивает: кого вам.
– А вот дозвольте мерку снять с покойника.
– С какого покойника?
– А вот с вашего князя.
– Пошел к черту, князь наш слава Богу жив.
Гробовщик сует десять рублей лакею – прося войти, князь, услыхав разговор, спрашивает, в чем дело. Лакей ему доносит, что вот мол гробовщик хочет его хоронить…
Видел сегодня трех помещиков из трех разных губерний, одного полтавского, другого харьковского, третьего тамбовского. Увы, невеселые вести они рассказывают. Самое невеселое из того, что они рассказывают, есть то, что помещики консервативного направления, не совсем разоренные или не бедные, продают свои имения за бесценок и уезжают жить за границу совсем.
Трудное, страшно трудное время переживается всеми теперь, и опасное. С тяжелыми годинами и эпохами Россия знакома. Но такая эпоха, как нынешняя, совсем иного рода; она заключается в том, что быстрый и незаметный для глаза процесс разрушения государственных основ совершается снизу, и если не будет остановлен, готовит ужасы для будущего.
Покойный Государь сказал по поводу освобождения крестьян: лучше сверху, чем снизу[114]. Понятно, Он намекал на революцию или, вернее, на громадную социальную реформу! Теперь, увы, то, что думали предотвратить, начиная сверху, начинается снизу, в этом нет сомнения. Народ начинает кое-где хотеть всю землю, и этот же народ везде теперь голодает, или, вернее, бедствует, вследствие быстрого падения цен на землю и сокращения везде помещичьего хозяйства, и с другой стороны, вследствие общего застоя в торговле и промышленности, лишающего его заработков. Таким образом то, что составляет самое худшее из усложнений – для государства, то именно теперь случается с Россиею: экономическое безысходное положение соединяется с началом социализма в народе, разумея под социализмом требование себе всей земли…
Что же делать, спрашивают все с тревогой и тоской. Что? Прежде всего надо объединить правительство в отношении этого вопроса. Теперь каждый министр работает за себя, и никто с другими не сходится. Гр. [Д. А.] Толстой никого не видит, министр финансов[115] никого не видит и т. д.: тогда как теперь надо чуть ли не ежедневно министрам сходиться для обсуждения сообща: что делать в виду общего застоя и общего сельскохозяйственного кризиса? Будь я на месте Государя, я бы теперь вот что сделал.
1) Я бы собрал Совет министров для обсуждения следующих вопросов: а) как немедленно положить конец своеволию, грабежам, поджогам, потравам, порубкам, нарушениям рабочими договоров относительно помещиков, словом, как сделать, чтобы ввести порядок и страх власти в крестьянском населении; затем по обсуждении вопроса я бы поручил министрам внутрен[них] дел, государствен[ных] имуществ[116] и К. П. Победоносцеву сообща выработать проект мер безотлагательно; б) следует ли, то есть нужно ли учреждение особого министерства торговли и промышленности? в) что сделать в виду застоя в промышленности внутри России?
2) Я бы собирал Совет министров каждые две недели для обсуждения вопросов в течение 2 недель являющихся и требующих общего обсуждения.
3) Проект устройства поземельного кредита для помещиков – ныне вырабатываемый в Министерстве финансов, я непременно велел передать на обсуждение тех членов Кахановской комиссии, которые приглашены из провинций.
Понедельник 3 декабря
Тяжелые впечатления и грустные размышления наводит Рыковский процесс[117] на душу. Сколько лет этому гиганту мошеннику все воздавали почести, сколько лет Рыковский скопинский банк пользовался привилегиями своего положения и покровительством нашего финансового правительства; оно ему дозволяло какими угодно рекламами заманивать к себе тысячи небогатых людей; оно проявляло к нему не только спокойное доверие, но как бы свое благорасположение; оно ни разу не подвергло строгой ревизии, когда можно было предвидеть крах и предупредить разорение тысячей людей. И вот свершается крах! По всей России раздается крик изумления и стон отчаяния… Все взоры устремляются на правительство с мыслию и с вопросом: неужели оно не поможет?
Нет, Министерство финансов отворачивается от ужасного зрелища и умывает себе всенародно руки, говоря: погибайте, это не мое дело!
Между тем оно могло и в последние минуты спасти банк, не [И. Г.] Рыкова ради, а тысячей жертв его ради, назначив временное заведыванье банком и снабдив его значительными капиталами для оборотов в виде ссуд. Это тем более печально, что то же Министерство финансов на глазах у всех не очень давно, когда крах Взаимного кредита в Петербурге был неминуем, через Государственный банк спасло Взаимный кредит и тысячи лиц от разорения денежными ссудами[118]. Но здесь был Петербург, интересы друзей [Е. И.] Ламанского и Кии, а там вся Россия, тысячи темного люда, и на них махнули рукою, и их предали.
А между тем тут является вопрос политической мудрости и нравственности: может ли правительство не считать себя нравственно ответственным перед многими обманутыми жертвами за Рыковскую катастрофу, раз что оно ничего не сделало для предотвращения краха, дозволяло Рыкову свои плутовские операции и молчанием своим ободряло и как бы поощряло верить в силу Скопинского банка.
Ведь все это происходило в монархическом самодержавном государстве, где нельзя ни одной строки, ни одного транспаранта напечатать без именно дозволения правительства! Не знаю, как смотрят на это финансисты теоретики, но прислушиваясь к говору людей, страдаешь за правительство, ибо его обвиняют, и чувствуешь, что эти обвинения наносят Самодержавию вред.
Чувствуешь и понимаешь тоже, что если бы правительство признало себя ответственным в деле Рыковского банка, то оно бы приобрело этим громадную нравственную силу. Что же? Дело еще не безвозвратно погибло. Отчего не остановиться на мысли, что по окончании судебного дела было бы возможно задать Министерству финансов вопрос: нельзя ли изыскать способ вознаграждения за убытки вкладчиков: например – выплачивая убытки в течение известного количества лет, ассигновав на то известную ежегодную сумму? Комиссия в Министерстве финансов могла бы этим заняться?
Так хочется, чтобы поводов благословлять Главу Правительства все было больше и больше! Во всяком случае вопрос: что можно сделать для несчастных жертв Скопинского банка, стоит быть поставленным.
Вторник 4 декабря
Курьезное и зловещее событие совершилось в германском парламенте. Большинство отказало кн. Бисмарку в ассигновании средств на учреждение должности директора при Министерстве иностранных дел!
Ясно, что дело не в директоре, а в том, что большинство в парламенте хочет воевать с имперским канцлером на жизнь или на смерть. Вероятно правительству прийдется распустить парламент; а потом что? That is the question[119]. Во всяком случае интересно, что в состав германского парламента нового выбора вошла по-видимому довольно организованная и сильная партия северо-германских адептов народодержавия или, что то же, анархистов под другим именем и хотящих анархии под другим соусом. Эта партия теперь уже обнародывает свою программу; она проста: царствование народа над правительством, свобода ассоциаций, свобода печати, освобождение рабочих от зависимости от правительства и полная ответственность министров перед народом. К этой программе есть дополнение: сокращение военной службы на год всего навсего, уничтожение милитаризма и отделение церкви от государства, то есть уничтожение церкви.
Вот к чему привели недавние заигрыванья князя Бисмарка с демократами. О, Боже, сколько раз в нынешнее время приходится вспоминать слова императ[ора] Николая Первого, по поводу народного возмущения сказанные Им двенадцатилетнему сыну[120] в 1830 году: «Помни всегда, что Государь, получив от Бога скипетр и меч, не должен никогда убегать от возмущения, если суждено ему умереть, он должен умереть на ступенях трона».
В этих простых словах вся мудрость и тайна монархического завета. Бегать от возмущения значит заигрывать с толпою или бояться демократии; толпа всякая есть демократия; толпа есть сила – но сила разрушения. Монарх есть тоже сила, но сила порядка. Когда Монарх делает уступки толпе, он усиливает толпу и ослабляет Себя всегда, неизменно и везде; это аксиома; а усиление толпы есть шаг к разрушению монархии. Всякая толпа есть разрушительная стихия, даже самая благодушная, почему? Потому что толпою всегда руководят люди, желающие из зависти и из честолюбия занять место правительства и Монарха. Людовик XVI погиб только тогда, когда сделал последнюю уступку толпе для своего спасения. Людовик XVI давно уже не стоял на ступенях трона с мечом и скипетром в руках; он уже боролся в толпе, на улице, он сам себя давно развенчал уступками толпе. Первое марта застигло уже русскую монархию на роковом пути уступок толпе. С нею заигрывали, с нею считались, ее называли общественным мнением, ее боялись!
Бисмарк под старость лет вздумал из толпы себе делать партию, союзников. И вот эта толпа, принявши формы многоголовой демократической гидры, является через несколько лет в парламенте его соперницею, его личным врагом!
Толпа есть прежде всего детское существо, и затем толпа есть холоп. Когда Монарх силен и не признает толпу, толпа его боится и безмолвствует пред ним; как только Монарх малейшим образом проявляет, что считает толпу за силу, толпа из ребенка, из раба, делается зверем и лезет разрушать трон. Это аксиома. Монарх должен все во имя народа и его блага сметь святого и благого, но никому Он не должен дозволять сметь быть народною силою. Он один – народная сила!
Среда 5 декабря По делу [И. И.] Мироновича
Четверг 6 дек[абря] О кн. Бисмарке
Пятница 7 дек[абря] Об Остзейск[ом] кр[ае]
Суббота 8 дек[абря] О кредите для помещиков
Воскресенье 9 дек[абря] О судебном вед[омстве]
Среда 5 декабря
Все толкуют о приговоре по делу [И. И.] Мироновича об убийстве Сарры Беккер[121]. Какая рознь во мнениях. Одни с восторгом говорят о справедливости суда, другие возмущены несправедливостью. Дело в том, что тут опять, как когда-то в деле [В. И.] Засулич[122], слишком бесцеремонно и пристрастно сказались отношения разнузданного и дряблого общества к нашему суду. Семенова явилась какой-то героинею в ореоле симпатичного психического субъекта; а Мироновича суд закатал главным образом потому, что газеты его травили за год до начала суда, а травили его газеты потому, что он был антипатичен, а антипатичен он был потому, что был прежде полицейским.
В деле этом сказались две особенности. Во-первых, полная несостоятельность нашей следственной части: предварительное следствие по этому делу было из рук вон плохо ведено, а во-вторых, несерьезность наших судов. Все эти 8 дней судебного производства были скорее похожи на разыгрывание в лицах одной из глав романа Достоевского, чем на серьезный уголовный процесс[123]. И затем, когда дело окончилось, стало несомненным, увы, что отныне новый прецедент вводится в наш судебный мир: можно кого угодно схватить, посадить под следствие, отдать под суд без всякого повода серьезного, и когда окажется, что доказательств виновности нет, то пригласить психиатра или эксперта и основать приговор на догадках и мнении этого эксперта.
Четверг 6 декабря
Видел сегодня приехавшего из Берлина Солнцева; прожил он там без мала три года и вынес убеждение, что там дела идут не ладно. Пропаганда социализма, давшего руку анархии, идет очень быстро и главною вспомогательною силою имеет религиозный вопрос. Князь Бисмарк кажется на этом проигрывает свою шахматную партию, и его вчерашние друзья, социал-демократы, собираются ему сделать мат. Тайна этого печального положения очень по-видимому понятна. Бисмарк для борьбы с Римом и с клерикалами – вздумал искать себе поддержку в социал-демократах, то есть в партии безверия и атеизма, с одной стороны, а с другой – в партии разрушения того, на создание чего Бисмарк посвятил всю свою жизнь, то есть Империи. А теперь приходится расплачиваться с такими союзниками. Расплата это критический час для Германии. Вся католическая Германия, отброшенная Бисмарком от политического руля вследствие недоверия к ней, – держится в стороне, а католическая ведь Германия это монархическая Германия, и во всяком случае христианская и консервативная; Бисмарк лишился ее опоры навсегда. Вся лютеранская Германия разделилась на два лагеря: на христианский и атеистический. В данную минуту последний благодаря прежней ошибке Бисмарка, пожелавшего пококетничать с демократами, оказывается политически сильнее… Значит Бисмарку остается: за него часть лютеранской Германии и военная партия, больше ничего. При таких условиях далеко не уедешь в мирное время. Будь война, князь Бисмарк был бы спасен, но в мирное время ему приходится идти на политику авантюры и борьбы с парламентом, а чем она кончится – неизвестно! Распущением парламента? Да, но будет ли лучше новый парламент, that is the question!
Про Россию Солнцев мне говорил следующее. В крайнем случае Бисмарк был бы, по мнению берлинских политиканов, не прочь от войны с Россиею, чтобы отвлечь от своего дела разрушения Империи партию социал-демократов, ежегодно усиливающуюся.
К этой войне с Россиею есть постоянно два сильные стимула: первый – военная или юнкерская партия, которой мир надоел; и партия социал-демократов в союзе с национал-либералами, это сильная партия. Она ненавидит Россию как представительницу антикультурной народной силы и как сильный христианский народ; это ненависть сатаны к Церкви. Упускать сие из виду нельзя. Война с Россиею может быть вызвана необходимостью выйти из политического кризиса.
Пятница 7 декабря
Виделся сегодня с [И. Е.] Шевичем, губернатором лифляндским. Он говорит, что положение его до нельзя трудное. И действительно трудное. Во-первых, ему приходится все молчать, чтобы не сказать такое слово, которое могло бы быть или переврано или принято в том или другом смысле; во-вторых, ему невозможно, как русскому, не желать, чтобы достоинство всего русского серьезного было всегда оберегаемо и на первом плане; в-третьих, как губернатору всероссийского правительства, ему невозможно не признавать и не помнить, что вся сила земельная и вся сила общественная в руках немецкого общества; в-четвертых, ему нельзя не ведать, что все остзейское дворянство настолько же фанатично и преемственно предано Императорскому Дому, насколько оно в то же время не любит русский народ и ненавидит православие; в-пятых, как консерватор, он, Шевич, не может не сочувствовать консервативному строю Остзейского края, первенству в нем дворянства, и бояться, чтобы к идее борьбы за русскую силу не примешивалась идея борьбы демократического начала с аристократическим.
В виду всего этого Шевич, по-моему, очень мудро держится такой политики: 1) всеми силами стараться об усилении и прославлении главного русского начала, консервативного и животворного: Православия.
2) Мелочи и подробности жизни – дающие пищу сплетням и взаимному раздражению – игнорировать вовсе.
3) С дворянами стоять и быть на легальной и утонченно вежливой почве.
4) Требовать законного везде и ото всех.
5) Избегать всякой демонстративной политики в ту или другую сторону, когда она не в пользу Православия и не в пользу Самодержавия.
Трудность ведения дела в Остзейском крае обусловливается двумя причинами: 1) в русской интеллигентной партии есть партия демократическая и антиправославная; 2) в партии, поднимающей аграрный или земельный вопрос, есть сильная партия революционная. Что это так, доказывается тем, что у нас все нигилистические и антимонархические газеты стоят горою за угнетаемый будто бы остзейский народ.
Очень дельна по-моему мысль о необходимости учредить в Риге кадетский корпус.
Суббота 8 декабря
Слышал сегодня следующее. Министр финансов будто бы совсем приготовился к тому, чтобы на желание Государя устроить для помещиков дешевый кредит отвечать отказом и мотивировать отказ этот тем, что невозможно получить уверенность в том, что деньги, которые станут занимать помещики, шли бы на имения, а не на пустяки. Но вдруг, рассказывал мне один чиновник Министерства фин[ансов], Бунге изменяет свое отношение к делу и начинает говорить о необходимости все-таки устроить кредит для помещиков. Перемену эту приписывают желанию Государя.
Во всяком случае, аргумент Бунге не заслуживает никакого внимания, ибо весьма не трудно устроить кредит для помещиков так, чтобы он пошел на хозяйство земли, а не на кутежи. Стоит только потребовать обеспечения за [2 слова нрзб.] для правительства проведенных ссуд посредством дворянских собраний уездных и губернских. Раз дворянство поручится коллективно, то оно же может отвечать за то, чтобы деньги, выдаваемые в ссуду, шли на имение, и сверх того не трудно было бы от помещиков, занимающих деньги на имения, требовать расписки или обязательства в том, что помещик будет или жить в деревне или заведывать имением через управляющего, но в аренду его отдавать не будет. Во всяком случае мысль о том, чтобы проект кредита для помещиков отдать на обсуждение приезжих членов Кахановской комиссии, признается многими практическою мыслию.
Воскресенье 9 декабря
Какая гангрена умственная и духовная свирепствует в нашем судебном ведомстве. [Д. Н.] Набоков в своей речи в Москве[124] чуть ли не до небес восхвалял судебное ведомство! Но Боже мой, какое заблуждение. Если где-нибудь растление старого русского здравого смысла и старой монархической духовной жизни сильно и является сильным агентом революционной пропаганды, то это именно в судебном ведомстве. Оттуда фальшь, и вредная фальшь, идет в жизнь. Не только знаменитые процессы, как дело Засулич, а теперь дело Мироновича проявляют эту фальшь, но и в будничных делах она является. Например, один товарищ прокурора мне рассказывал, что в той самой Москве он обратился по одному делу к присяжным с такими словами: «Вы будете призваны, гг. присяжные, произнести приговор по совести; но помните, что права миловать преступника никто не имеет в России, кроме Царя! Или он виновен, или он невиновен!»
Что же оказывается?
Оказывается, что немедленно вслед за этим товарищем прокурора председатель суда обращается к тем же присяжным и говорит: «Товарищ прокурора вам напомнил, что вы не имеете права помилования, это верно, но я считаю нужным вам напомнить, что вы имеете право решать вопрос о невменении обвиняемому преступления». Присяжные обсудили дело и вынесли разумеется оправдательный приговор.
На суде Мироновича явился сумасшедший психиатр Балинский и сочинил новую причину освобождать преступников от наказания; и суд ее принял, не взирая на всю ее нелепость: психопатия!
Так идет сумасшествие в суде crescendo[125]: прежде был: рефлекс, потом аффект, затем явилось исступление, а теперь психопатия!
Пользуюсь сим, чтобы принести Вашему Величеству мой запоздалый привет с Новым годом. Как бы не нужен он ни был, этот привет, мне доставляет известную отраду сказать Вам: да благословит Бог Ваш год, Вашу жизнь, Ваш ум, Ваше сердце, Вашу Супругу, Вашего Первенца, Ваших детей[126], и в Вас и через Вас нашу бедную Россию.
Может быть осчастливите меня двумя строками! А если и этого не заслуживаю, то простите сию вырвавшуюся из сердца просьбу с тем же добрым снисхождением, с которым прощали не раз слабости и промахи человека Вам преданного, Государь, беспредельно и нелицемерно!
верноподданный К. В. М.
Понедельник 24 декабря О Киевск[ом] унив[ерситете] и Харьк[овском] технологич[еском] институте
Вторник 25 дек[абря] Об анархистах
Среда 26 дек[абря] О моск[овском] генер[ал]-губ[ернаторе]
Четверг 27 дек[абря] Умная финансовая мысль
Пятница 28 дек[абря] О судах и взятках новых
Суббота 29 дек[абря] Петербург[ские] легенды
Воскресенье 30 дек[абря] Письмо от брата
Понедельник 31 дек[абря] Размышления
Вторник 1 января У [И. Д.] Делянова
Среда 2 января Пенз[енский] губернатор
Четверг 3 января О «Гражданине»
Пятница 4 января Умная мысль на счет дворянства
Суббота 5 января Обед у [Г. О.] Гинцбурга
Воскресенье 6 января [С. А.] Рачинский и нар[одная] школа
Понедельник 24 декабря
Киевский университет после погрома формируется[127]. До закрытия в нем было 1600 студентов; теперь принято 1000; двести, говорят, улетучились, а 400-м двери пока не отворяются. 400 человек это много. Не доказывает ли эта крупная цифра неуменье киевского начальства попасть в цель. Очевидно не все 400 – негодяи! Когда в Петербурге были последние студентские беспорядки, [П. А.] Грессер напал на 50 человек студентов, и, как оказалось, попал так метко, что после исключения этих 50 молодцов все затихло в среде студентов; беспокойные успокоились, оставшись без своих коноводов. К сожалению, киевский попечитель округа[128] не Грессер. У него нет ни нюха, ни твердости. А у добрейшего Ивана Давыдовича[129] подавно. Чуть ли не три года варили историю открытия в Харькове никому не нужного Технологического института, варили, варили, созвал Делянов свой Совет[130], судили, рассуждали и решили: Технологич[еского] института в Харькове вовсе не нужно. Казалось бы [И. Д.] Делянову на этом настоять! Нет, [Н. А.] Ермаков убедил Бунге, что Россия погибнет без Технологического инстит[ута] в Харькове, и вот Делянов представляет в Госуд[арственный] совет против собственного убеждения проект штата Харьковского технологического института![131]
И что же? Годика через два заведется в Харькове гнездо нигилизма почище всех нынешних; начнутся истории, скандалы, а Делянов будет ссылаться на министра финансов. А между тем очевидно вся вина на нем.
Вторник 25 декабря
Получил от нахалов, именующих себя обществом, отчет за 4 месяца о приходе и расходе сумм на политических ссыльных и заключенных, по городской почте в конверте на мое имя. Оборот этого отчета до 2000 рублей, внесенных разными анонимами и кружками! Какие-то рабочие артели, свободные ассоциации и т. п. Я сообщил про этот отчет [П. А.] Грессеру; он имел уже о нем понятие; по его словам, главные деятели ассоциации – студенты!
Всякий раз, когда побуду с Грессером, думаю про себя: как жаль, что Грессеров у нас так мало.
Кстати о надзоре. Что-то очень начинает слабеть надзор Мин[истерства] внутр[енних] дел за печатью. Одну за другою разрешают газеты с новыми программами. Разрешили в Москве газету «Светоч». И в какой грубый обман дает себя вовлекать Главное управление по делам печати. Был в Москве «Московский телеграф»; редактором был известный социалист [И. И.] Родзевич. Газету эту закрыли за явно противоправительственное направление. И что же? Этот Родзевич берет подставного редактора, подставного издателя, им разрешают издавать газету «Светоч», а этот мерзавец Родзевич затем публикует, что газета «Светоч» будет издаваться при типографии Родзевича, и о двух подставных именах издателя и редактора ни слова![132] Вообще, хорошо было бы обратить внимание гр. [Д. А.] Толстого на то, что чересчур много разрешается газет совсем неизвестного и ненадежного направления.
Среда 26 декабря
Был у Конст[антина] Петр[овича] Побед[оносцева]. Сегодня утром он вернулся из Москвы, куда ездил констатировать странную и курьезную распрю между митрополитом[133] и княз[ем] Влад[имиром] Анд[реевичем] Долгоруковым. Действительно, курьезная распря. Князю Долгорукову надо непременно, чтобы в большие праздники в Храме Спасителя происходило подобие Царского выхода, и народ имел самый крошечный доступ в Собор; митрополит настаивает на том, чтобы большая часть Храма отдавалась народу.
Курьезен этот московский магнат, под старость лет ставящий в такую непомерную цену свой внешний престиж. Надо надеяться, что митрополит в этом споре победит, ибо[134]
Видел одного помещика, приехавшего с выборов в Саратовской и в Тамбовской губерниях[135]. Он рассказывает, что в обеих губерниях нашел серьезное и хорошее настроение дворянства. Положение незавидное, но никто не падает духом; все полны надежд, что Царь в нынешнее трудное положение войдет в него близко и, не нарушая ничьих интересов, поможет дворянству подняться.
Четверг 27 декабря
Подписка на «Гражданина» дает знаменательные и утешительные результаты в нынешнем году. Усиливается подписка в рядах административных лиц в провинции и в рядах интеллигенции: губернаторы стали подписываться, между военными она усилилась, в гимназиях гораздо более подписываются. Это признак несомненный, что смелая речь «Гражданина» произвела свое действие, и пропаганда консервативных идей делается сама собою.
В «Гражд[анине]» помещена краткая статья с проектом финансовой меры одного умного русского человека, стоящим внимания[136].
Настоящее крайне тяжелое положение финансов в России происходит от многих причин, но одна из них, и едва ли не главная, есть слишком дорогой кредит. Недвижимая собственность в России, находящаяся в залоге в разных банках и городских кредитных обществах в сумме одного миллиарда рублей, платит только от 5 до 10 проц. в год, не считая погашения. При таких тяжких условиях никакое хозяйство выдержать не может, и последствия – продажа тысяч имений и домов при отсутствии покупателей, а результат – всеобщее обеднение. Искони веков все полезное, хорошее в России исходило от правительства. Так и теперь, откуда ждать спасения? – от того же правительства, и вот путь для проявления этого нового благодеяния, от которого спасутся от разорения не сотни и тысячи, а сотни тысяч и миллионы соотечественников, причем и правительство и заемщики получат значительную пользу.
Денежные рынки наши переполнены разными бумажными знаками, так что выпуск новых каких бы ни было знаков кроме вреда ничего не принесет. Но если теперь существующие дорогие бумаги заменить более дешевыми, выгода несомненна. Правительство открывает государственный банк для залога недвижимых имуществ в России и выпускает знаки в 100, 1000 и 10 000 р. Знаки именные или безъименные. Знаки эти будут приносить владельцам их по одной копейке в день на сто рублей, что составит в год 3,60 проц[ентов], считая для удобства все месяцы по тридцати дней. Знаки эти не могут выпускаться иначе, как взамен других знаков банков и городских кредитных обществ, покупаемых вышеозначенным государственным банком. Заемщики будут платить 4 проц. в год и 1 проц. погашения, так что в сорок лет долг уплачивается. Имущества оцениваются оценщиками от банка по материальной ценности и доходу, причем меньшая принимается в оценку. Сгораемое обязательно страхуется в сумме, превышающей ссуду. При переходе в государственный банк имения, заложенного в другом банке или обществе, оценка производится вновь оценщиками банка.
Всякое имущество, оцененное и получившее ссуду в государственном банке, вносится в государственную ипотечную книгу и владельцу выдается ипотечный лист, выражающий ценность его имущества и определение границ будущего возможного кредита.
Заемщики платят два раза в год по 21/2 проц[ента] за каждое полугодие вперед, с четырехмесячною льготою и с платежом 1/2 проц[ента] пени за каждый месяц.
Неоплаченные имущества подвергаются продаже с публичного торга. Причем недополученная сумма ссуды взыскивается с виновных. Дальнейшие ссуды разрешаются, но не выше ипотечного листа и с преимуществом государственного банка. Остаток от 4 проц[ентов], по которым выдается 3,60 проц[ента], именно 0,40 проц[ента], равно как и пени за несвоевременный взнос, идут на содержание государственного банка и его отделений. Оценщики банку ничего не стоят, ибо при оценке взыскивается часть процента от владельца закладываемого и оценяемого имущества. Остальные подробности должны быть разработаны по образцам прежнего государственного заемного банка, приказов общественного призрения, кредитных обществ и поземельных банков.
Выгоды приведения этого проекта в исполнение весьма значительны, и вот перечень более выдающихся:
1) Заемщики платят теперь от 5 до 10 проц[ентов] в год, на что миллиард долгу составляет, взяв средний процент платежа, т. е. 71/2 проц[ента], 75 000 000 р. Будут платить 4 проц[ента], составит 40 000 000 руб. Остаются в их пользу ежегодно 35 000 000 р. Понятно, что все заложенные имущества в других банках и городских кредитных обществах перейдут в государственный банк, и столь вредные частные банки и общества закроются. Операция эта совершится самым легальным путем, ибо и теперь всякий заемщик имеет право вносить сверх обязательных платежей, и таковые платежи идут ежегодно в тираж.
2) Государственный банк будет выпускать столько бумаг, сколько извлечет из обращения других бумаг и получит значительную пользу, ибо будет покупать бумаги ценою от 80–95 проц[ентов] за 100, что на миллиард составит 100 000 000. Бумаги частных банков и городских кредитных обществ упадут еще в цене, ибо, за переходом хороших имуществ в государственный банк у них останутся только обремененные невыносимыми долгами имущества, а по тем придется всем банкам приплачивать, а они этого сделать будут не в состоянии.
3) Так как теперь большинство капиталов приносит 5 % и более, а новые знаки будут выдавать только 3,60 %, то все государственные 5 %, восточные и другие правительственные бумаги возрастут в цене, т. е. те, которые уже выпущены правительством и могущие быть вновь выпущены.
4) Новые знаки банка 100 р., 1000 р. и 10 000 р., обеспеченные недвижимым имуществом, представляют ценность несомненную и заменят собою сторублевые билеты в обращеньи и правительство будет их принимать вместо кредитных билетов. Через это все сторублевые билеты выйдут из обращения и число выпущенных правительством сторублевых билетов убавится миллионов на 200 руб. Всякому удобно получать даже на необходимые деньги проценты, значит, все пожелают иметь новые билеты. Это мы видим теперь на сериях, только новые билеты будут удобнее к расчету.
5) Столь необходимая и так давно не осуществленная ипотечная система, наконец, получит прочное основание, и столь шаткий кредит в России станет на более твердую ногу.
6) Частные банки и городские кредитные общества, принесшие так много вреда, – закроются. Лица, которым будет поручена оценка и охрана, будут находиться на коронной службе, значит и злоупотребления будут наказаны, а это есть одна из гарантий надежности дела.
Весь проект этот есть ничто более как эскиз, он требует большой разработки; но если правительство примет его, много, много добра сделает оно. Много облегчит горя и беды, и спасет целые семьи от разоренья вследствие вовлечения их частными банками в самое тягостное, безвыходное положение.
В. Т.
К сожалению, голоса частных лиц не выслушиваются нашими финансистами!
Пятница 28 декабря
Был сегодня у пермского губернатора[137]. Он рассказал мне характерный эпизод для определения отношений судов к администрации. Какой-то становой пристав Пермской губ. попал под суд за взятки. Судебный следователь, отчасти из личности, отчасти чтобы показать свою силу над полициею, взял да посадил в тюрьму этого пристава во время следствия, что было противозаконно, так как по наказанию, которое ожидало этого станового, ссылка в Сибирь, он мог быть во время следствия отдан на поруки. Арестант жалуется в окружной суд, и в суд[ебную] палату[138]. Оба учреждения отвечают, что жалоба до них не касается. Наконец дело поступает в губернское правление, для предания станового суду. Губернатор, сообразуясь с законом, находит, что становой пристав может быть отдан на поруки, утверждает постановление губернского правления об освобождении из тюрьмы арестанта на поручительство. Тогда прокурорский надзор поднимает вой, как смела администрация вмешаться в дело судебного ведомства, и сейчас же жалобу в Сенат. Сенат, разумеется, отменяет распоряжение губернатора, и станового опять сажают в тюрьму до окончания дела. На днях суд состоялся и станового осудили на поселение в отдаленные губернии Сибири за взяточничество.
Но в той же Пермской губернии, и именно в Екатеринбурге, был прокурор Попов. Становой брал взятки по-старому, а прокурор Попов брал по-новому: он занимал деньги у всех, даже у полиции и у тяжущихся, и никому не платил; затем купил себе имение. Узнали судебные власти про его проделки. И что же? Предали суду как станового? Нет, попросили уехать и причислили к Министерству юстиции, держали так с годик и затем, невзирая на позор, назначают товарищем прокурора в Москву. Вот сильное доказательство, какую войну ведет с правительством судебное ведомство.
Суббота 29 декабря
К концу года по Петербургу гуляют легенды, героями которых являются те или другие государственные лица. Например, легенда о [А. А.] Половцове, который будто бы уходит, а уходит потому, что прогнал из дома [А. Л.] Штиглица судебного пристава, пришедшего опечатывать имущество, и потому что скрыл будто бы значительную часть полученных женою его капиталов[139]. Легенда даже сочинила целый разговор Государя с министром юстиции[140] по этому поводу и услужливо назначила Половцеву преемника в лице [А. Н.] Куломзина. Откуда взялась эта чепухообразная легенда, не знаю. Другая легенда повествует о помолвке дочери князя [М. С.] Волконского с сыном Вел. Кн. Михаила Николаевича Георгием. Третья легенда – о какой-то ссоре [А. Я.] Гюбенетта с [К. Н.] Посьетом, и об уходе первого.
[Е. Н.] Семенова, знаменитая героиня дела об убийстве Сарры Беккер, как гласит молва, явилась снова к прокурору заявлять, что она убила Сарру Беккер.
Все жалуются на безденежье, а между тем в январе предвидится до 30 балов, и 200 рублей за платье барышни считают дешевизною.
Воскресенье 30 декабря
Получил от брата[141] из Крыма очень встревоженное московскими толками письмо. По-видимому бестактность или, проще, глупая болтовня [А. А.] Киреева, сопровождавшего В[еликого] К[нязя] Конст[антина] Ник[олаевича] в Москву, в ее гостиных главная причина этой тревоги. Она характерна, и самое письмо брата характерно, ибо свидетельствует, как чутки горячо и честно преданные Престолу сердца к малейшему даже фантому опасности.
Вот что брат пишет: «Depuis quelques jours je suis dans de grandes angoisses; et ne sais, si je n’en deviendrai pas fou avec beaucoup d’autres. La visite du G. D. C. à Moscou m’a déjà plongé dans la désolation. L’histoire du conservatoire est naturelle; il en est le chef, et y va souvent. Mais cette fois il a fait tout cela avec церемонии; il est allé voir des écoles, des fabriques, (au moment où les ouvriers se remuent, ce qui du reste n’est pas étonnant, l’inspecteur des fabriques de Moscou, étant le professeur à l’université [И. И.] Янжул, un des plus rouges de la bande) et en outre le chef cette fabrique [Н. А.] Алексеев, qui est un des candidats aux fonctions de Голова. Plus mauvais signe encore – ce gueux de [Vl. A.] Dolgor[oukov], à son premier passage, s’est dit malade, qui a été cette fois fort aimable diner, etc., etc… Le général K[ireiev] a été chez les nôtres (у жены брата) et là très ouvertement a dit que Tolstoy branle dans le manche, et que si on le chasse, – [А. В.] Головнин fera de suite chasser [I. D.] Delianoff. Lui, le général K. se réserve dans le partage très modestement sa place de [К. П.] Победоносцев. Il est stupide, on le sais, mais qu’il parle de tout cela si ouvertement, c’est preuve qu’ils[142] n’abandonnent pas ni la lutte, ni l’espoir d’une victoire. Est-ce vrai? Si – oui, c’est donc la mort de la Russie!»[143]
В ответ на это испуганное письмо, я немедленно телеграфировал брату в Ялту: «Reçu lettre, rien ni vrai, ni vraisemblable»[144], желая его успокоить и дать встретить новый год с облегченною и успокоенною душою. Тем не менее это письмо доказывает, как велика еще нервная тревожность в честном русском обществе.
Понедельник 31 декабря
Кончаю год, как русский – с надеждою, как христианин с верою, как издатель с благодарностью к Богу, как Владимир Петрович – с глубокою грустью. Безусловное молчание Государя на мое письмо[145] явилось несомненным доказательством того, что я не стою той милости, которой просил при мысли о десятилетии моего издательства; а не стоить этой милости значит быть очень далеким от Его сердца, а кто от Его сердца так далек, тот меньше имеет сил и прав быть Ему полезным и пригодным, чем он желает, мечтает и просит о том Бога.
Мысленно прошу Государя простить мне мою просьбу; не вернусь к ней и, кончая в своем одиночестве год, рад, что без всякой горечи благодарю только Государя за все, за все, и грусти минуты не даю ни смущать себя, ни клонить к унынию.
Я бодро и твердо верю, и сильнее прежнего, что Бог не оставит Государя, ибо Он чист и честен и благолюбив перед Ним. Ложь и дурные замыслы разобьются об Него.
1885
Вторник 1 января
Сегодня узнал, что Государь подписал указ о присоединении к ведомству Мин[истерства] нар[одного] просвещения тех женских учебных заведений, которые вошли в состав Учреждений Импер[атрицы] Марии[146] случайно. Со всех сторон слышу одобрение этой меры и сочувствие к ней.
У [И. Д.] Делянова видел будущего попечителя Петерб[ургского] учебного округа, генерала [И. П.] Новикова. Признаюсь, не я один удивлен такому выбору Делянова. Про него можно сказать, что он странный человек, на которого в нормальное и в острое время вряд ли можно положиться спокойно и уверенно. Новиков мне и многим кажется из способных выкидывать штуки.
У Делянова застал [М. С.] Волконского, его товарища. В разговоре про то, про се, коснулись вопроса будущего государственного земельного банка. По этому поводу кн. Волконский рассказывал, что ему на днях пришлось с одним из дельцов в Министерстве финансов по этому вопросу иметь разговор и услыхать от него характерное слово.
– Как это вы на себя берете такую трудную работу, – говорит Волконский этому финансисту, – и не приглашаете в вашу комиссию для сотрудничества никого из людей знакомых с земельным вопросом, хотя бы например некоторых членов Взаимного поземельного кредита.
– И без них как-нибудь дело сморганим, – ответил спокойно финансист чиновник.
Это «как-нибудь сморганим» выражает всю сущность чиновнических отношений к делу, к которому Государь относится с душою.
Повторяю: так бы легко было сказать министру финансов[147]: пригласите в Комиссию вашу, разрабатывающую проект Госуд[арственного] Позем[ельного] банка, приезжих членов Кахановской комиссии, по указанию министра внутр[енних] дел, и несколько представителей Взаимного поземельного кредита. Как бы дело выиграло! Я бы на месте [Д. А.] Толстого непременно испросил бы разрешения предложить сие министру финансов, пока не поздно. А потом, как финансисты-чиновники сморганят дело, тогда уже поздно будет.
Среда 2 января
Сегодня в числе гостей вечером был у меня пензенский губернатор [А. А.] Татищев. Курьезно, я не раз в Петербурге слышал в чиновничьих сферах толки про простоту и чуть ли не глупость Татищева. Почему это? А потому именно, что у него бездна здравого практического смысла и отсутствие кабинетного, мертвого, чиновничьего ума. Он олицетворение практического рассудка того губернатора, какой нужен теперь России до зарезу, губернатора русского человека и губернатора-джентельмена, барина, но не заграничного, а чисто русского.
Пермский губ[ернатор А. К.] Анастасьев умнее Татищева; оба – практически умны и оба говорят буквально одно и то же, хотя друг друга не знали, пока не познакомились здесь: дотоле не будет ни порядка, ни спокойствия, ни доверия к правительству в России, дотоле не прекратится застой во всех отраслях жизни, пока не будет приступлено к радикальному подчинению земства правительственной власти, и второе, пока судебное ведомство не будет поставлено в другие отношения к правительству. Земство и судебное ведомство в их нынешнем виде – это постоянные источники анархии и разрушения монархической власти в России. Успехи этой пропаганды страшны, и страшны именно в России. Земство быстро идет к своему банкроту, это правда, но идя к банкроту, оно просто разоряет народ поборами и вооружает его не против себя, а против правительства, так как народ земства понять не может, а все земские сборы он считает правительственными сборами. Суд же, по словам Татищева, со времени последней поездки Набокова по России и обнародования его знаменитой речи в Москве – стал просто циничен в своей дерзости к администрации и в своем пренебрежении к высшему правительству.
Четверг 3 января
Выпустил сегодня первый № «Гражданина» в новом виде. Новость вида заключается в том, что журнал будет выходить два раза в неделю вместо одного. Для провинции это существенно важно в тех местностях, где почта получается два раза в неделю и где, следовательно, не нужно будет выписывающему «Гражданин» получать ежедневную газету.
Да и в Петербурге есть известный смысл издавать газету не 1 раз, а 2 раза в неделю. Вопросы нередко вспыхивают как порох; три дня спустя смотришь, вспыхнувший вопрос успел постареть и затухнуть. Все дело в том, чтобы сказать вовремя.
Подписка в Петербурге опять усилилась против прошлого года.
В провинции же статистика подписчиков по сословиям такая: больше всего: 1) духовенства, 2) дворянства. Менее всего: 1) земских управ и 2) судебного ведомства!
Пятница 4 января
[А. А.] Татищев пензенский явился ко мне сегодня с замечательно меткою и тонкою мыслию. Два дня назад нас было несколько человек у меня за чашкою чая. Мы обсуждали вопрос о дворянстве или, вернее, вопрос: что всего нужнее для дворянства. Все мы единогласно пришли к мысли, что всего нужнее и одинаково нужнее: кредит для хозяйства и воспитание дворянского юношества. Для последней цели нужны в каждом городе, где есть гимназия – общежитие или пансион для дворянских детей, где бы родители могли воспитывать своих детей на дворянские средства, пансионерами. Вопрос остался открытым: откуда брать эти нужные деньги? Ясно, что с одной стороны в некоторых губерниях потребуется помощь от казны, а именно там, где дворянских сумм к тому не имеется, а в других местах эти пансионы могут быть учреждаемы дворянскими средствами.
Сегодня по этому поводу Татищев высказал мысль, простую до нельзя, но на которую никто доселе не обращал внимания. Мысль такая: вот более 20 лет, как земство в каждой губернии ассигновывает большие суммы ежегодно на народное образование.
Кто главная платежная сила в земстве?
Дворяне!
На кого идут деньги, собираемые земством на народное образование?
Только на крестьян!
Вся меткость мысли Татищева основана на вопросе: справедливо ли, чтобы земские суммы на народное образование вообще в губернии, в которых половина – дворянские деньги – шли исключитель[но] на крестьянские школы?
Не будет ли гораздо справедливее половину земской суммы, сбираемой на народное образование, и именно дворянские деньги, обратить на содержание дворянского приюта или пансиона при гимназии, а крестьянские деньги на крестьянскую школу?
Суббота 5 января
Вчера был характерный обед у обер-жида [Г. О.] Гинцбурга. Гинцбург есть в России глава еврейской партии: в этом никто не сомневается. Он и очень богат, и очень умен. Но вот что грустно, его богатство все становится обширнее по мере того, как его ум изощряется в приобретении все большего влияния. Кроме того характерно и интересно, что Гинцбург действует с удивительным цинизмом и нахальством. Он не церемонится проявлять свое презрение к русским людям, когда они ему нужны. Едва назначение [А. П.] Игнатьева в Сибирь стало известным, как Гинцбург появился с визитом к нему. Причина понятна. Гинцбург приобрел множество золотых приисков в Сибири и развел там большие еврейские колонии. И вот после визитов Гинцбург зовет Игнатьева обедать. Игнатьев едет и застает Лукулловский обед[148]. В числе гостей разные генералы-тузы; en tête[149] гр. Пав[ел] Шувалов, затем Бобриков[150], [Д. Г.] Анучин; последние два оказались amis de la maison[151]; [Н. О.] Адельсон, а с другой стороны гинцбурята и главноуправляющий золотыми приисками Гинцбурга в Сибири[152]. Гинцбург угощает, но сам не ест, чтобы не поганиться с русскими. Подают шампанское, и что же? Бобриков предлагает разные тосты и между прочим такой тост: за здоровье хозяина, как благороднейшего человека, твердо и неуклонно идущего по своей дороге, доблестного труженика, доказавшего нам, что несмотря на различие в религии, он не делает различия в национальностях и т. д.
Омерзение берет от таких бокальных речей. Гинцбург их слушает с улыбкою, выражающею: хвалите, холопы, я изволю вас слушать…
А рядом с этим интересно припомнить, что еврейская комиссия графа [К. И.] Палена[153] за два года еще не начинала своей законодательной деятельности… Она издержала 37 тысяч на издание исторических трудов, и затем стоп машина!
Воскресенье 6 января
Видел счастливого человека сегодня у [К. П.] Победоносцева, это С. А. Рачинский. До него не касаются никакие политические злобы дня! Он живет себе в своей деревне, в своей школе[154], как в мирной, любящей семье, и все остальное для него не существует. В его жизни школьного отшельника, впрочем, случилось важное событие. Событие это появление нового товарища в лице молодого [Н. М.] Горбова. Горбов, кончивший курс университета, страстно полюбил дело Рачинского и поехал к нему, приглядываться к его сельской школе. Результатом было то, что он основал возле Рачинского, в своем имении, другую сельскую школу и поселился между детьми жить с ними и учить их, и теперь, как говорит Рачинский, обе школы до того полны, что уже принимать новых учеников нет возможности. Народ буквально обожает эти школы, и дети льнут к ним, как пчелы к меду. Мед же заключается в церковности этих школ.
Рачинский говорит, что он может теперь умереть спокойно, найдя себе преемника. Ведь у него ревностные ученики в том же деле, например, один князь Николай Николаевич Мещерский начал такое же школьное дело в Могилевской губернии.
Но увы, все это капля в море! Делянов большой грех несет на душе. Он совсем не помогает делу развития церковно-приходской школы, не поощряет, не ободряет, не направляет дело. Что хорошая, что дурная народная школа, ему все равно, и хороший священник, и хороший учитель не видят от министерства проявлений к ним участия и поощрения!
Пятница 8 марта[155]
Истекшая неделя имела главным предметом разговоров и толков Высочайшее повеление на счет Кахановской комиссии. Надо сказать, что это распоряжение пришло как раз вовремя. Трудно исчислить как много эта злосчастная комиссия наделала вреда внутри России, заволновав умы и возбудив тревожные вопросы щекотливо политического свойства в среде помещиков, только что начинавшей успокаиваться. Я ежедневно получаю по несколько писем из провинции с вопросами: правда ли это, правда ли то на счет Кахановской комиссии, и при этом плач и сетования.
Но нет худа без добра. Существование и дебаты Кахановской комиссии дали несомненное мерило того, что может правительство ожидать от так называемых деятелей и своих, сановных, и общественных в либеральной сфере. Ясно, что ничего не умерло еще в головах наших петербургских сановников из того, что так гибельно извратило прекрасные намерения прошлого царствования; та же страсть либеральничать, в угоду каким-то стриженным и нигилистам, на счет правительственной власти и правительственного обаяния, та же легкомысленность в обращении с серьезными вопросами порядка и народной нужды; то же заигрывание с дурными страстями и инстинктами толпы еле-еле грамотной и кроме всего этого – то же незнание жизненной правды и провинциальной России.
Одним из поразительных эпизодов в этом отношении в Кахановской ком[иссии] за последнее время был эпизод с [Н. А.] Вагановым, заседающим в виде представителя Министерства двора и Ведомства уделов. Как такой заядлый красный попал в доверенное лицо у [И. И.] Воронцова[-Дашкова] – это Бог один знает, но после эпизода в Кахановск[ой] ком[иссии], будь я на месте Воронцова, я бы не потерпел его и суток при себе.
Шел вопрос о том, кому председательствовать в проектированном комиссиею уездном управлении. Большинство высказалось за то, что председателем должен быть уездный предводитель дворянства. [М. С.] Каханов заключает дебаты и спрашивает: значит, вопрос исчерпан, особых мнений нет. Все молчат.
Вдруг встает Ваганов.
– У меня особое мнение. Я прошу его записать и приложить.
– Какое?
– Председатель уездного управления должен быть избираем земством.
– А утверждаем?
– Никем! – нагло ответил Ваганов.
Все переглянулись. Никто не ожидал такой дерзкой противоправительственной выходки. Затем, когда стали расспрашивать и усовещевать Ваганова, он отбросил всех возражавших оппонентов и сказал: «Это мое убеждение, и я от него не отступлюсь!» К мнению Ваганова никто не присоединился.
Но Кахановская комиссия имела еще ту пользу, что она резко обнаружила разлад между Петербургом и его бюрократическим миром, и провинциею. Приезжие члены из провинции ни с чем не могли согласиться из того, что выработала Кахан[овская] коммиссия в виде основных положений реформы в провинции, начиная с сельского общества и кончая губернатором. Все предлагавшееся они нашли дутым и народу не пригодным.
Наоборот, все, что приезжие из провинции члены Кахан[овской] комиссии предлагали, ссылаясь на нужды жизни, все то петербургские члены комиссии отрицали или как слишком отсталое, или несогласное как будто с духом бывших реформ.
Самым видным из приезжих членов Кахан[овской] ком[иссии] был несомненно симбирский [А. Д.] Пазухин. Это молодой человек, умный, даровитый и, главное, неувлекающийся. Он практически знаком с нуждами русской жизни и не с луны хватает мысли для реформы, а прямо из прозаической правды.
По его мнению, предпринимать теперь какую-нибудь многосложную уездную реформу неосторожно, неразумно и бесполезно, так как не хватает главного, людей для нового какого-нибудь строя жизни в уезде. По его мнению, надо сделать лишь то, что крайне нужно и на что хватит людей в провинции.
Мысли Пазухина сводятся к трем главным вопросам: 1) к вопросу об изменении порядка земских выборов, 2) к вопросу об подчинении крестьянского мира и управления власти и контролю и 3) к вопросу о замене учреждения выборного мировых судей учреждением по назначению от правительства мировых посредников.
Цель этих легко осуществимых изменений двояка: 1) подчинить крестьян власти и 2) дать возможность помещикам жить в уезде безопасно и спокойно. Цель эта однако в зависимости от весьма существенного вопроса: как отнесется к вопросу об упразднении института мирового судьи и о замене его мировым посредником – Министерство юстиции?
Из разговоров с Дурново И. Н. я мог заключить, что мысль Пазухина весьма сочувственно ценится и Министерством внутренних дел. По мнению И. Н. Дурново, когда Кахановская комиссия окончит свои заседания, и весь ворох ее законоположений поступит к министру внутрен[них] дел[156], следовало бы немедленно приступить к осуществлению самого нужного: к правильному устройству полицейской власти в уезде, к кое-каким улучшениям в крестьянском самоуправлении и, главное, к восстановлению мировых посредников, как они были в 1861 году, с двойною властью, судебною и полицейскою. Разумеется, от Набокова и всей компании красных Госуд[арственного] совета следует ждать самого отчаянного сопротивления к осуществлению этой нужнейшей реформы, но надо верить и надеяться, что Государь прикажет Набокову согласиться или уволит его, но мысли о мировых посредниках вместо мировых судей даст осуществиться.
Вторым интересом дня – отъезд графа [Д. А.] Толстого, подавший повод высказываться разным толкам и мнениям. Но оставляя в стороне эти толки, интересно остановиться на том, что происходило по случаю отъезда графа Толстого в близком мире, его окружающем. Опять явился острый и роковой вопрос: как быть с [П. В.] Оржевским? Вопрос этот действительно роковой. Оржевский относительно себя и госуд[арственной] полиции отнял у графа Толстого совсем его личность. Для Оржевского графа Толстого нет, а есть игрушка и орудие в его руках. Оржевский отнял у гр. Толстого не только энергию, не только волю, но даже самоличность. Он действовал постепенно и исподволь, наводя страх на бедного Толстого, и довел его до мысли и даже до убеждения, что малейшее со стороны Толстого неподчинение его, Оржевского, воле, повлечет на него, гр. Толстого, немилость Оржевского, а немилость эта в свою очередь повлечет за собою предоставление гр. Толстого на произвол анархистов. Как ни невероятно и ни смешно это, но к сожалению это несомненная истина. И вот когда зашла речь об отъезде гр. Толстого, и он сообщил об этом Дурново, последний более чем основательно сказал гр. Т[олстому], что при таком продолжительном отсутствии его весьма неудобно делить управление министерством на две части, между им и Оржевским, так как немыслимо, чтобы ответственный перед Государем за министерство управляющий им не знал, что делается в области государственной полиции; мало того, постоянно может быть опасность от такого qui pro quo[157]. По общей полиции, напр[имер], в случае где-либо открывшихся беспорядков управляющий министерством предписывает одно, а Оржевский может предписать другое, даже совсем противоположное. Бедный Толстой согласился с этими доводами, но все-таки не решился изменить прежний порядок. Почти слезно, с нервною дрожью он упрашивал Дурново не настаивать на чем бы то ни было, что могло бы быть неприятным Оржевскому.
Грешный человек, я не мог не посоветовать Дурново просто откровенно доложить Государю об этом затруднительном состоянии, коего вредные последствия нельзя даже приблизительно рассчитать, в случае, не дай Бог, малейших беспорядков.
Вообще этот частный факт еще раз наводит на размышления о том, как неудачно при уничтожении III Отдел[ения] и шефа жандармов был оставлен пост полуминистра и полушефа жандармов – в связи с должностью товарища министра внутренних дел. Прежде всего является вопрос: на что такой полушеф жандармов с политическою ролью, раз есть министр внутренних дел, и есть Департамент полиции государственной с его директором? Политическая роль такого полушефа прежде всего смутна и неопределенна; а вследствие этого для человека самолюбивого, честолюбивого и властолюбивого – является областью самых темных интриг, самых необузданных захватов власти, самых невообразимых фальшивых положений и недоразумений, от которых в конце концов страдают прямые интересы власти и порядка, да и самые интересы охраны и полиции.
Отчего страдают?
А вот отчего! 1) Государь едет куда-нибудь; министр его сопровождает; и полушеф жандармов хочет ехать. Его не берут. Не берут, он сердится и дуется, и что же? Дайте столько-то жандармов и полиции для усиления надзора, говорит ему министр; не могу, отвечает полушеф, у меня здесь не хватит, и не дает. Не дает потому, что дуется.
2) Министр дает приказания и инструкции губернаторам; положим, руководствуясь ими, губернатор нуждается в помощи жандармского штаб-офицера в губернии; тот ему на это отвечает: я ничего не могу, я получил приказание от своего начальника слушаться только его, и конец.
3) Петербургский градоначальник признает нужным принять экстерную меру; он хочет ее принять; министр согласен; но полушеф объявляет свое veto[158], и конец.
4) Губернатор сообщает важное донесение министру в собственные руки или, когда еще важнее, Государю; полушеф его призывает или пишет ему бумагу и самым дерзким образом его выругивает за то, что он, губернатор, смел написать министру в собственные руки, минуя его! Мало этого, он является к министру и под угрозою требует, чтобы министр сделал такому губернатору выговор за то, что он написал министру, а не ему, полушефу, и министр подчиняется.
Словом, трудно исчислить, какой существенный вред приносит и может приносить такое совершенно фальшивое и даже не безопасное положение министра и Министерства внутренних дел при полушефе жандармов, имеющем в руках всю полицию в империи.
А между тем легко было бы устранить эти неудобства, упразднив вовсе эту должность полушефа и оставив директора Департ[амента] госуд[арственной] полиции в непосредственном подчинении у министра, а губернаторам в свою очередь подчинить губернский жандармский состав в полицейском отношении, а градоначальнику в Петербурге предоставить более широкие права в области государственной полиции и розыска, при непосредственной зависимости от министра внутренних дел. Так думают опытные люди, увидевшие на деле все неудобство ставить государственную полицию в зависимость от личных интриг, вопросов самолюбия и невольных стремлений играть роль в ущерб единству власти и объединению дела. В личном же управлении как отдельною частью жандармы могли бы быть заведуемы начальником штаба жандармского управления.
Много говорят, а в Москве в особенности, о банкротствах крупных домов, одно за другим раздающихся, как роковые выстрелы[159].
А рядом с этим повсеместные стоны и жалобы на отсутствие кредитных билетов. Невероятные творятся вещи: платежи принимаются в Москве коммерческими домами не деньгами – их нет в обращении – а купонами на пять лет вперед, на 1890 год!
А Министерство финансов продолжает все жечь и жечь кредитные билеты.
Везде просят иного взгляда на наши финансовые дела. Ухудшение идет все crescendo и с страшною быстротою. А между тем Министерство финансов как будто ничего не видит и не слышит из того, что на Руси делается, и ни на чьи стоны и вопли не обращает внимания.
Вот почему куда ни пойдешь и с кем ни заговоришь, везде слышишь толки о том, как настоятельно нужно министерство торговли и промышленности именно теперь. Мне кажется, что это далеко не так трудно, так как бесспорно человек, как [И. А.] Вышнеградский, совершенно подходит к этому делу и дорос до него. Это было бы громадное по своим последствиям благотворное событие. Надо полагать, что Бунге был бы очень рад отделить от себя эту часть, тем более, что она не при нем, а при Н. А. Ермакове, который в данную минуту представляет собою дряхлость замершей рутины, и больше ничего. А между тем в его одряхлевших руках вся мануфактура и торговля России, шутка сказать. Беда еще та, что дряхлые люди бывают упрямы и капризны, как нервные бабенки. Так и Ермаков. На днях слышал от Делянова плач над судьбою прекрасного проекта, Вышнеградским составленного и Деляновым представленного, на счет устройства профессиональных или технических школ в России. Делянов торопит осуществление этого столь нужного дела, а Ермаков возьми весь этот проект и положи его под сукно, под предлогом обсуждения, и всякому встречному говорит: не хочу мол давать ходу этому делу, и кончено. Делянову хочется настаивать у министра финансов на скорейшем рассмотрении проекта, хочется, но колется: начнешь настаивать или пожалуешься на него, пожалуй, рассердится и начнет отказывать в деньгах!
Всякий раз, когда я с К. П. Победон[осцевым] говорю с сокрушением об ужасном вреде нынешнего Министерства юстиции для интересов Самодержавия прежде всего, К. П. во всем соглашается со мною, но с тою лишь разницею, что поднимая руки горé, он прибавляет: что прикажете делать, а кого вы назначите на место Набокова, никого не придумаешь.
Не раз, а сто раз я думал об этом вопросе. Он кажется заколдованным кругом, но только кажется. На деле он вовсе не заколдован. Будь я на месте Государя, я бы ни минуты не колеблясь, упросил бы принять управление Министерством юстиции никого другого, как того же К. П. Побед[оносцева], не отрывая от Святейшего Синода. Если гр. [Д. А.] Толстой мог соединять в себе Минист[ерство] нар[одного] просвещения с Синодом, то легче еще соединять в лице К. П. тот же Синод с Минист[ерством] юстиции. Назначение его имело бы громадный смысл, такой же, как имело назначение гр. Толстого после [Н. П.] Игнатьева. Это было бы эпохою в анналах суд[ебного] ведомства и переворотом. Его имя высказало бы программу. Девять десятых лиц суд[ебного] ведомства сразу бы переменились. Новый дух сразу бы облетел всю Россию. Сенат бы изменился. И с Божиею помощью в два, в три года судебный мир был бы преобразован. Нужно ли прибавить, что К. П. один из первых, если не первый юрист в России. Разумеется К. П. начал бы с отказа принять это место. Но при настоянии разумеется патриотизм и преданность возьмут верх. Но главное не отрывать его в то же время от Синода, где его деятельность дала уже плоды замечательно богатые и отрадные.
Это мечта, но Боже, как хорошо было бы ее осуществление!
Из всех толков о дворянстве и о том, что сделать было бы нужнее в интересах дворянства, и с тем вместе в интересах самодержавия, без сомнения вопрос о дворянских детях заслуживает главного внимания. Без забот об этом юношестве нет и не может быть речи о будущности русской монархии.
А между тем об этих дворянских детях всего меньше думают. Их бросили на произвол судьбы, и притом ужаснейшей судьбы. Выйдет ли из дворянского ребенка верный слуга престола или цареубийца-заговорщик, государству все равно.
План военной и военно-учебной реформы [Д. А.] Милютина носит в своей удаче печать проклятия. Это был план ума, захотевшего в близком будущем отнять у Престола его исторически прочные силы. [А. В.] Головнин с одной стороны, Милютин с другой, оба разрушили до основания здание воспитания дворянских детей, столь мудро и предусмотрительно воздвигнутое Николаем I.
Гражданские гимназии были все с пансионами в провинции, и поставлены в близкие отношения к дворянству. Дети в них не учились только, а воспитывались только в дворянском духе. Головнин разрушил пансионы при гимназиях немедленно. Дворянские дети стали жить, то есть воспитываться, на улицах, в читальнях, в подвалах, в мещанских притонах и в публичных домах.
Милютин разрушает кадетские корпуса и создает окружные юнкерские училища, где сын дворника готовится в офицеры наравне с сыном потомственного дворянина, и в военных гимназиях вводит в виде воспитательного элемента штатский нигилизм.
Результаты не дали себя ждать. Гимназии сделались рассадниками анархизма самого бесшабашного, а в военном быту не много осталось армейских полков, где бы нельзя было указать на группу молодых офицеров, порвавших связи и общение с преданиями старого военного мира, и только для вида сходящиеся на службе с старыми офицерами или с молодыми офицерами, не испортившимися в пройденной ими школе.
Это уже начало разложения военного духа. Несомненно, что если к воспитанию дворянской молодежи не будут приложены заботы и усилия особенные, этот дух растления быстро пойдет свершать свое роковое дело.
Между тем помочь делу не трудно. В военном мире стоит только закрыть окружные юнкерские училища немедленно, а в кадетских корпусах допустить прием не дворян на известный процент.
Что же касается гражданских гимназий и реальных училищ, то казалось бы возможным именно теперь, в виду юбилея Дворянской грамоты[160] поручить министру народного просвещения сообща с министром внутренних [дел] безотлагательно разработать вопрос об устройстве во всех губернских и гимназических городах дворянских общежитий или пансионов, имея в виду согласовать материальное в этом деле участие дворянства с правительственною помощью.
Осуществление такого дела не миф и не мечта; оно возможно. Для него есть данные.
Во 1) В иных губерниях есть оставшиеся пансионы дворянские.
Во 2) В иных городах есть казенные здания, которые быть может могли бы быть приспособлены к цели.
В 3) Большая часть дворян все же платит в год известную сумму в год на содержание гимназистов сыновей где-нибудь в частных квартирах. Через губернаторов и губ[ернских] предводителей дворянства легко было бы привести в известность приблизительно в каждой губернии, что ассигнуется родителями на содержание детей гимназистов, и сумму эту принять за норму для определения платы за казенного пансионера.
В 4) Во всяком случае приобщение к обсуждению этого вопроса местных губернаторов и предводителей дворянства значительно ускорило и облегчило [бы] осуществление этого дела.
Тон английских газет, задорный и воинственный, как будто задает себе задачу нас запугать[161]. А послушаешь наших дипломатов, оказывается, что нам следует держаться тона умеренного по той де причине, что мы к войне не готовы. Вот уж жевание все той же роковой нелепости, завещанной нам кн. [А. М.] Горчаковым. В 1870 году я отлично помню, как кн. Горчаков с ужасом и страхом говорил об опасностях войны с Англиею по поводу нашей декларации относительно Парижского трактата[162]; понижение тона, почтительных фраз вот чего просил канцлер наш от покойного Государя. Но покойный Государь не послушался ни канцлера, ни Милютина, говорившего о невозможности войны, и велел отправить категорическую декларацию в Лондон. Горчаков не ел, не спал и все бредил про войну с Англиею, как результат нашей телеграммы. И что же? Приходит ответ Англии, с сожалением преклонившейся перед совершившимся фактом.
Но тогда у Англии не было Судана. А теперь у нее Судан[163].
Разумеется ей решиться на войну сто раз труднее теперь, чем прежде…
Понятно, что и нам скверно идти на войну, но все же именно вследствие этого чем тверже и категоричнее наш тон, тем сильнее шанс избегнуть войны; чем слабее наш тон, тем ближе мы к войне.
Войны и потому желать не следует, что об ней страстно мечтает кн. Бисмарк; втравив нас в войну с Англиею, он разом достигает трех целей: вреда для Англии, простора для германских дел в колониях и ослабления России, не говоря уже о 4 цели, о блокаде наших портов, в явный выигрыш берлинской торговли.
Вот почему так желательно, чтобы наши дипломаты не дали бы нашему тону с английским кабинетом понизиться.
23 мая[164]
При сем осмеливаюсь представить некоторые выдержки из Дневника.
Засим осмеливаюсь тоже умолять Ваше Величество в доставляемом Вам 2 раза в неделю «Гражданине», если сие возможно, удостаивать пробегания в конце каждого № Дневника. Не знаю, почему, но убежден, что в связи с этими нецензурными выдержками, Вы изволите найти кое-что интересное.
23 мая
19 апреля Легенды о Царе.
21 апреля Дворянский юбилей. Промахи гр. [А. А.] Бобринского.
23 апреля Слухи и толки по пов. преемства гр. [Д. А.] Толстого.
29 апреля О самодержавии.
1 мая Пермяк о Пермской губ.
9 мая Статья [В. В.] Крестовского об Афганской границе.
10 мая О дворянском банке.
12 мая Два предводителя после приема у Государя.
15 мая У К. П. П[обедоносце]ва.
16 мая Между моряками.
20 мая Несчастный.
22 мая Честный старик.
19 апреля
Замечательно, что со всех сторон и во всех домах говорят об отъезде Государя в Москву, точно это факт решенный. По Невскому потянулся ряд придворных карет, в чехлах. Куда едут? В Москву, решают все. Даже в таких серьезных кружках, как Английский клуб, говорят о поездке Царя как о событии несомненном[165]. Цель поездки двоякая: объявить Манифест о войне[166] и праздновать Дворянский юбилей[167]. В Москве, говорят мне, ждут Государя тоже. За последние дни настроение к войне обострилось. По мнению москвича одного, между купечеством идет толк такой: приезжай, Государь, и скажи нам, что на войну денег мало, мы бы показали нашему Царю, мало ли у Него денег! Поворот от сонливого равнодушия к патриотическому настроению несомненен.
Легенд уже много ходит. Главные вертятся все около [Н. К.] Гирса и рисуют его страшно испуганным и запуганным – перед Государем, твердым, спокойным и неустрашимым. Такая легенда, например: Гирс приносит Государю проект ответной депеши на имя [Е. Е.] Стааля. Государь ее взял, прочел, потом взял карандаш и все зачеркнул, сказав: «Завтра я вам пришлю другой проект, вы его подпишите и отправите». Действительно, на другой день Гирс получает другой проект, читает и восклицает: «Comme c’est bien écrit!»[168]
Вторая легенда уверяет, что Государь совсем устранил Гирса на эти дни, а сносится прямо с [И. А.] Зиновьевым.
Третья легенда о разговоре с министром финансов по поводу войны. Денег нет, будто бы сказал Бунге.
– У меня 70 миллионов, и у моего сына есть несколько миллионов, – будто бы ответил Государь, – на эти деньги можно начать войну, и я уверен, что таких, как мы, найдется в России несколько!
Легенда эта ходит в бельэтажах, в клубах и в народе.
21 апреля
Не могу сказать, чтобы впечатления сегодняшних торжеств были особенно удовлетворительны. Они – петербургские – эти впечатления, а Петербург никогда не дает того, что может желать русское чувство. Открытие выставки мизерное, жалкое[169]. Какого-то архиерейчика засунули с двумя попиками в маленькую комнату Соляного городка, с дурными в добавок певчими, наехали гости, толкотня, давка, и больше ничего. Самая выставка, что за мизерность! Неужто не нашлось места в Петербурге более удобного и поместительного! К 2 часам мы съехались в Дворянском Собрании. Зал наполовину пустой. На галереях масса дам в роскошных туалетах. Царская ложа полна. В публике шел толк, что ждут Императрицу. Проповедь Арсения перед молебном – казенная и пошлая. Пение Исаакиевского и митрополичьего хоров: «Тебе Бога хвалим» изумительно прекрасное. После многолетия произошло нечто, смутившее многих. Виноват предводитель [А. А.] Бобринский. Он везде и всегда мальчишка. По общему мнению, ему следовало перед началом молебна попросить всех членов Царской фамилии сойти из ложи в залу и стать впереди молящихся. Тогда бы этой смутившей всех неурядицы не было бы. Архиерей поцеловал крест, повернулся, дал его митрополиту Московскому[170] поцеловать, затем стоит, все оглядываются на Царскую ложу; тут опять Бобринский дал промах; ему бы пойти и попросить великих князей сойти и приложиться к кресту, нет, он идет к архиерею и отправляет его в ложу; архиерей через залу с крестом в руках идет и по ступеням взбирается в ложу. Все смутились, ибо вышло, что члены императорской фамилии как будто не удостоили сами пойти к Кресту, а потребовали, чтобы Символ Спасителя пришел к ним. Словом, вышло проявление неуважения к Святыне, которого, очевидно, не хотели сделать никто из членов Императ[орской] фамилии. А случилось благодаря бестактности и ненаходчивости Бобринского.
Он и мальчишка, и глуп, и очень самодоволен.
– Будут речи, – спрашивает его кто-то.
– Разумеется нет.
– Отчего разумеется?
– Оттого, что то, что надо сказать, не позволят сказать, а что можно сказать, мы не хотим сказать, – ответил этот глупый и пошлый мальчишка.
Затем опять какофония.
Рескрипт[171] с его прекрасными мыслями совсем пропал, как чтение и как эффект. Очевидно, читать его должен был или губернатор[172] или И. Н. Дурново! Вдруг поднимается на 2 ступени близ Царской ложи мальчишка предводитель и читает рескрипт скверно, не громко, без чувства и каким-то нерусским акцентом!
Одним словом, досада взяла, и только! Да вдобавок он забыл пригласить петербургских дворян специальным приглашением, этот мальчишка! Рескрипт, как слышу, все хвалят. Но жаль, что в нем помещено было о банке; впечатление высокого настроения сейчас же портится: выходит, как будто банк есть награда дворянству за преданность, и как будто в банке спасение дворянства! Жаль, очень жаль, что по случаю юбилея ничего не сделано для воспитания дворянских детей. Это главная, существеннейшая из всех нужд. Я говорил об этом с И. Н. Дурново.
– Денег нет, – отвечал он, ссылаясь на Бунге.
– Грешно это говорить и грешно с этим мириться, – упрекнул я Дурново. – Русскому Царю нужны прежде всего преданные дворяне, а не богатые; деньги должны быть, чтобы помочь дворянству устроить судьбу своих детей в учебных заведениях так, чтобы они не были в обстановке нищих и мещан и семинаристов.
– Я с вами согласен, – ответил И. Н. Дурново, – но убедите в этом Бунге.
23 апреля
Нехорошие известия о здоровье графа [Д. А.] Толстого снова наводят на вопрос: кому быть его преемником? Об этом говорят чуть ли не во всех гостиных. Называют [А. А.] Половцева, называют [А. М.] Дондукова[-Корсакова]; называют [М. Н.] Островского. А сегодня к великой радости моей слышал в чиновничьих толках имя [Ф. Ф.] Трепова. Я говорю: к радости, ибо если кто назвал Трепова, то значит поворот умов должен был в эти последние годы быть весьма значительным. Имя Трепова означает с одной стороны энергию и строго консервативное направление; а с другой стороны Трепова предали и от Трепова отреклись, когда произошел знаменитый скандал Засуличского процесса. В этом-то смысле, совсем независимо от вопроса: сколько вероятия в назначении Трепова министром внутренних дел, я радуюсь тому, что в чиновничьих кружках его называют кандидатом. На мой взгляд это историческое знамение времени, означающее, что умы настолько отошли от недавнего прошлого, что не ужасаются такого резкого проявления антилиберализма.
Всех более «ахов» и «охов» вызывают толки про кандидатуру Половцова. Он лично собою ничего не представляет: когда-то ловкий человек, теперь мешок с деньгами, и больше ничего. Не дай Бог никогда такому человеку стать в положение, от которого будет зависеть судьба многих, а благо России подавно. Он представляет собою, во-первых, Шуваловскую партию, то есть все не русские инстинкты, во-вторых избалованную и, следовательно, необузданную денежную силу. Сила эта растлевающая и вредная, ибо с одной стороны она заключается в связи его денег с известным количеством влиятельных лиц, занявших у него деньги, а с другой стороны в связи со всеми денежными тузами и воротилами, не исключая, разумеется, и жидовских. Затем, как государственная личность, он успел уже достаточно проявить себя весьма узким, личным и нередко мелочным в своих взглядах и чувствах. Слух, пущенный о Половцове, обратно слуху, пущенному о Трепове, – есть печальное знамение времени, как зловещий признак перешедшего к нам из растленного и гнилого Парижа поклонения деньгам. Без Штиглицевских миллионов кто бы произнес имя этого человека!
Про М. Н. Островского вот что говорят. Он государственный человек надежный и способный, это бесспорно; но против него три выставляют пункта: 1) он болезнен и вряд ли справится с работою; 2) он никого и ничего не знает в М[инистерст]ве внутренних дел, так что ему пришлось бы начинать с азбуки в такую минуту, когда на очереди стоят в М[инистерст]ве внутр[енних] дел неотложные важнейшие вопросы, требующие решения, в 3) и это чуть ли не важнейшее, Островский слишком воспитанник бюрократического мира, чтобы справиться с таким трудным, прежде всего живым делом. В М[инистерст]ве государственных имуществ, по отзывам его сослуживцев и подчиненных, – это отсутствие в Островском государственной самобытности и личной инициативы сказывается необыкновенно сильно и наглядно. Не только ни одно назначение, но и ни одно решение по самому маленькому вопросу Островский на себя не принимает без предварительного подчинения себя директору департамента или другому чиновнику. В этих условиях Островский при всей своей высокой честности и даровитости к сожалению не человек борьбы, а между тем пост министра внутренних дел теперь более чем когда-либо требует борьбы с лагерем либеральной оппозиции, и сильной борьбы, для проведения нужных реформ во имя усиления власти и порядка в провинции.
Но кого же тогда желать на место министра внутр[енних] дел? По-моему, опять-таки единственный подходящий к уровню задач его есть К. П. Победоносцев!
Если не суждено ему быть министром юстиции, то отчего не думать о нем как о преемнике графа Толстого. Лишь бы сохранялось за ним и обер-прокурорство Святейшего Синода, которое ни в чьих руках не могло бы быть лучше.
29 апреля
Четыре года назад все честно преданные люди были обрадованы Манифестом о Самодержавии[173], положившим конец всем шатаниям и стремлениям в область либеральной авантюры.
Четыре года спустя сам собою является вопрос: достаточно ли сделано для укрепления Самодержавия?
К сожалению, прошедшее так расшатало весь строй государственной жизни, так все и всех сбило с толку, так извратило все мысли и понятия о главном и важном, что теперь еще далеко до полного торжества принципа Самодержавия во многих сферах государственной жизни.
Кто не приедет из провинции, тот непременно жалуется на недостаток порядка в провинции, а недостаток порядка происходит, по мнению всякого провинциала, от недостатка власти.
И с каждым днем ощущение этого недостатка власти становится сильнее. Сильнее становится потребность в Самодержавии на месте, в провинции.
Там его нет, там царствует полное разновластие.
Губернатор доселе – ничего своею властью не может.
Нет начальника в губернии, и еще менее есть начальник в уезде. Отсюда два последствия: крестьянский быт все сильнее разрушается; помещикам все труднее жить.
Что надо для применения идеи Манифеста 29 апреля к провинции – успело очень ясно высказаться, и в этом отношении приезд из провинции людей с практическим опытом в состав покойной Кахановской комиссии – много помог уяснению вопроса: что надо?
1. Надо усилить власть губернатора и сообразно с этим увеличить его содержание.
Примечание. Одна практическая мера, маленькая по существу, могла бы иметь громадное значение как средство усилить значение губернатора в провинции: постановить, что представление к наградам по всем ведомствам лиц, служащих в провинции, не исключая и судебного (это главное!), должно происходить через губернатора и с присоединением его отзыва. Губернатор тогда возвысится волшебно.
2) Надо назначить начальников уезда, и
3) Надо восстановить старых мировых посредников с предоставлением им дел мировых судей и с подчинением их ведению Министерства внутренних дел.
Все это до зареза нужно, а между тем с болезнью гр. [Д. А.] Толстого все это кануло в море забвения.
Казалось бы, хорошо было бы, если на управляющего Министерством внутренних дел[174] возложено было к осенней сессии нынешнего еще года внести по этим пунктам проект в Госуд[арственный] совет, и предоставить ему для разработки такого проекта пригласить дельнейших губернаторов и людей, как [А. Д.] Пазухин симбирский.
Еще пример: как замедляется вследствие болезни гр. Толстого удовлетворение страшно жгучих нужд внутри России. Вопли и стоны со всех сторон о невозможности вести хозяйство при нынешних отношениях между нанимателем и рабочими побудили гр. Толстого поторопиться составлением проекта положения о найме рабочих[175]. Зимою он должен был быть выработан и весною представлен в нынешнем же году в Госуд[арственный] совет. И что же? Проект готов, но в Государст[венный] совет не внесен потому, что его хотел внести и отстаивать сам министр внутр[енних] дел. Таким образом одно из самых горячих дел отложено опять на год, и нынешнее лето принесет опять нескончаемый ряд бед и драм в сфере хозяйских предприятий в России, и в помещичьем быту в особенности.
1 мая
Сегодня был у меня один пермяк и много рассказывал интересного про свою Пермскую губернию.
Это интересное главным образом относилось к земскому положению губернии и как нельзя вернее дополняет и подтверждает то, что рассказывал мне так печально красноречиво бывший губернатор [А. К.] Анастасьев. По мнению этого пермяка, весьма образованного молодого человека, Пермской губернии, считающейся и доселе одною из богатейших губерний России, в близком будущем грозит полное и страшное разорение с одной стороны, и целая эпоха серьезных беспорядков с другой стороны, так как начало смут и социальных междоусобий деятельно уже теперь полагается пропагандою посредством земских школ. В настоящую минуту Пермская губерния представляет интересную и угрожающую картину. Все бывшие помещичьи заводы, где никто из владетелей не живет, и все крестьянские громадные и богатые села находятся в полной эксплуатации земских собраний и управ по уездам. Каждые три года эти собрания, по большей части составленные из кабачников и писарей, избирают в члены уездных земских управ известное количество членов, где 3, где и больше. В иных уездах кандидаты на эти должности члены управ платят даже взятки избирателям, чтобы быть выбранными. Почти всегда выбор падает на самых смелых и предприимчивых плутов. Избранный член земской управы пробывает 3 года на своей должности и после трехлетия уходит, но как уходит? Уходит с более или менее круглым или округленным состоянием. И так каждые 3 года! Кто бы поверил таким ужасающим цифрам?! Пока в большей части уездов других губерний норма всех земских сборов по уездной смете не превышает 100 тысяч, 150 000 рублей, в иных уездах Пермской губернии она доходит до 1 миллиона! И этим миллионом распоряжаются кабачники и пьяные, выгнанные с должностей волостные писаря!!! Любимым предметом расходов является народное образование, но Боже мой, что за насмешка, и с тем вместе, постоянная угроза правительственным интересам, и что за лафа нигилистам и социалистам. Школы строят, подбирают сельских учителей те же кабачники, и затем начинается то в одном училище, то в другом очень скверное обучение народа посредством никуда не годных учителей. Правительственный надзор почти отсутствует, так как инспектору[176] при громадных расстояниях очень трудно чаще одного раза в год заглядывать в школу, много два раза, а для инспекции со стороны земства назначаются полуграмотные купчики или те же кабачники.
Из всего этого вытекает, и по мнению переведенного в Чернигов Анастасьева, и по мнению такого простого жителя, что правительство сделало большую ошибку, введши земские учреждения в Пермскую губернию.
Но затем что, раз эта ошибка сделана?
Затем, следовало бы, ввиду особенных условий Пермской губернии, и именно для ограждения населения от тягостей постоянно возрастающих земских сборов, предоставить губернатору в виде временной меры, в изменение статей Земского положения право:
1) назначать председателя и членов управ по уездам, и
2) утверждать сметы уездных земских собраний по всем статьям расхода.
Это было бы великим благодеянием.
9 мая
Смею полагать, что даровито и ясно составленная статья Вс. Крестовского о русско-афганской границе достойна быть занесенною в Дневник. Сегодня она появилась в «Гражданине»[177].
В течение последних двух-трех недель, среди разного рода сенсационных известий в печати по поводу англо-русских дел, проскользнули, между прочим, слухи, идущие из английских источников, о том, будто бы жители территорий Бадахшана и Шугнана посылают к нам своих уполномоченных с просьбою о принятии их под русское покровительство, а также и о том, будто Россия отказывается от своих притязаний на Зюльфагар, взамен чего Англия уступает ей Пендждехский оазис. При этом были и такого рода комментарии, что Зюльфагарский проход не имеет для нас никакого стратегического значения, так как его будто бы весьма легко обойти в брод на Герируде, чем, конечно, в случае надобности, русские войска и воспользуются, а потому-де лучше сделать англичанам эту чисто фиктивную уступку взамен Пендждехского оазиса, имеющего для нас действительно стратегическое значение.
Для человека, не посвященного в тайны дипломатических сношений, конечно, весьма трудно судить насколько подобные известия справедливы. Но если допустить, что они имеют свою долю основательности, хотя бы только потому, что о них заявляют такие солидные органы английской и германской печати, как «Daily News», «Times», «Крестовая» и «Кельнская» газеты[178], то оставить их без рассмотрения с нашей стороны было бы едва ли уместно.
Внимание обеих заинтересованных сторон, по-видимому, сосредоточено только на крайнем западном участке будущей русско-афганской границы, между Герирудом и Мургабом, на протяжении около 120 верст от запада к востоку, тогда как все протяжение русско-афганской границы, включая сюда и бухарские владения, тянется на расстоянии около 1200 верст, а Зюльфагар на западе и Шугнан на востоке составляют ее конечные пределы. С Шугнаном уже и теперь русские владения соприкасаются непосредственно, от Топчатынского до Узбельского перевалов, на протяжении около 65-ти верст.
Что касается до Зюльфагара, то очень может быть, что уступка его, при обладании Ак-рабатом и Пендждехским оазисом, не имеет для России серьезного значения собственно в стратегическом смысле. Но для человека, хотя несколько знакомого с азиатами, дело это представляется совсем в другом свете, если взглянуть на него со стороны политической.
Какое дело сопредельным азиатам до того, что уступка эта, в сущности, фиктивная, что сделана она из любезности, лишь в угоду национальному самолюбию англичан, дабы позолотить им горькую пилюлю и доставить министерству Гладстона сколько-нибудь приличный выход из того фальшивого положения, в какое оно само себя поставило! Азиаты всех этих тонкостей европейской политики не знают и не понимают, да никогда и не поймут, – не их простого ума это дело! Но за то они будут знать и воочию видеть тот факт, что вот русские заняли было Зюльфагарский проход, а потом взяли и ушли, очистили его и отдали афганцам, не смотря даже на свое победоносное дело при Таш-кепри. Почему русские сделали так? – По понятию азиатов, на этот вопрос ответ может быть только один: «Потому что хотя Аллах, за грехи наши, и допустил уруса побить афганов на Кушке; но все же афганы с инглизами настолько сильны, что урус их побаивается и предпочел сам уйти из Зюльфагара, когда узнал, что афганы готовы идти на него с большими силами». Кто действительно силен и прав, тот, по понятию азиатов, никогда ничего добровольно не уступает: уступка есть первый признак неправоты или слабости. Таково их простое убеждение. И нет сомнения, что не только англо-индийские газеты, но и английские негласные агенты, в которых у англичан никогда нет недостатка, изо всех сил постараются объяснить нашу уступку именно в таком смысле, что необходимо им для поддержания своего поколебленного ныне престижа. Поползновения английской печати придать делу именно такой оборот начались уже и теперь, когда мы сделали только тень уступки требованиям английского кабинета. А что же будет, когда уступка Зюльфагара станет совершившимся фактом! На страницах англо-индийских газет и в устах туземных английских агентов она разрастется в акт блестящего торжества англичан над Россией, которую-де принудили дать формальное обязательство никогда и ни в каком случае не занимать Герата.
Но это еще не важно, в виду условий дальнейшей русско-афганской границы, к рассмотрению которых я и позволю себе теперь обратиться, начиная со второго участка оной, от Мургаба до Амударьи. Здесь крайне важным является вопрос: по каким именно местам пройдет пограничная линия этого участка?
По сообщениям английских газет, а также и на картах, недавно появившихся в витринах книжного магазина Ильина (что в здании Главного Штаба), линия эта проложена от Меручака по открытой степи на Келиф, минуя целый ряд оседлых, культивированных территорий, каковы Маймене, Андхой, Шибирхан, Ахча, Балх и проч., оставляемых во владении афганцев, хотя непререкаемость прав этих последних на означенные территории еще весьма сомнительна, ибо не только отец нынешнего эмира бухарского, но и сам Музаффар-Эддин[179] до 1867 года пользовался над Балхом, Хулмом, Андхоем и проч. сюзеренною властью, и эти территории, в числе двенадцати вассальных ханств, лежащих между левым берегом Аму и Гиндукушем, «охотно платили ему ежегодно небольшую дань, чтобы под его защитой быть обеспеченными против афганских и других нападений»[180]. Так говорит историк Бухары, известный Арминий Вамбери.
Если пограничная линия мургабо-келифского участка действительно пройдет по пустыням совершенно открытой, песчаной почти безводной степи, то это будет граница не только фиктивная, но и крайне дорого стоющая. Чтобы доставить ей действительную охрану от набегов и прорывов зарубежных аламанщиков[181] и от контрабандного ввоза английских товаров, необходимо будет держать на линии целый ряд пограничных, достаточно сильных постов, для которых все снабжения, продовольствие, фураж и топливо придется доставлять из Пендждеха с одной и Келифа с другой стороны, или же закупать все это на наличные металлические деньги в противулежащих оазисах, то есть, другими словами, становиться относительно первейших статей насущной необходимости в зависимость от доброй воли или от каприза нашего соседа. В обоих случаях это ляжет постоянным и весьма обременительным расходом на государственное казначейство при отсутствии взамен того каких бы то ни было выгод, не говоря уже о прочих неудобствах. Будучи в зависимости от редких пресноводных колодцев, посты эти не могут быть расположены на столько близко один к другому, чтобы служить действительною охраной пограничной линии и быстро подавать друг другу, в случае надобности, взаимную помощь. История терско-кубанской линии достаточно убеждает, что даже на хорошо обселенных и защищенных кордонах, при отлично выработанной системе пограничной охраны и при громадной практической опытности в этом деле боевого казачьего населения, взаимная поддержка, в случаях прорыва кавказских горцев на русскую степь, далеко не всегда являлась своевременною. А что же будет здесь, в пустыне, и в особенности когда почти параллельно границе, отступая от нее в глубь страны всего на какие-нибудь сто с небольшим верст, пройдет линия среднеазиатской железной дороги! Каким вечным соблазном для аламанщиков будет эта дорога, более чем слабо защищенная от возможности устраивать на ней крушения поездов, с целью грабежа товаров и пассажиров. Не говорю уже о контрабандном ввозе произведений английской промышленности, в подрыв нашим торгово-промышленным силам. Известно, например, что в настоящее время английский индийский чай (так называемый ак-чай) совершенно вытеснил со всех среднеазиатских рынков наши кирпичные чаи[182]. То же, по всей вероятности, вскоре будет и с нашими котонадами[183], если граница осуществится так, как проектируют ее карта Ильина и английские газеты. А что англичане при первой же возможности устроят в Герате и Мазар-и-Шерифе склады своих товаров, в этом, конечно, не может быть никакого сомнения.
Для устойчивости пограничной линии, ее необходимо следует ввести в район культивированных оазисов, каковы на протяжении данного участка суть: Меручак, Маймене, Андхой, Ахча, Шибирхан, Балх, Мазар-и-Шериф и Таш-курган, которые собственно и должны быть нашими пограничными пунктами, где содержание гарнизонов будет в значительной мере облегчено нам средствами местной производительности и тою податною суммой, какая придется с населения сих оазисов. Тогда нам нечего опасаться ни прорывов через границу, ни грабительских покушений на крушение железнодорожных поездов, так как собственный наш исторический опыт в Средней Азии уже достаточно показал нам, что кочевое население степи умиротворяется тотчас же, как только мы выносим линию своих фортов вперед, за пределы его обычных кочевок. Так и в данном случае: если граница будет проведена по оазисам, то кочевое племя туркмен Алиели войдет в состав нашей территории и поневоле будет жить спокойно, так как Андхой, Маймене, Шибирхан, Ахча, Балх и Мазар-и-Шериф, к коим оно тяготеет экономически, будут заняты русскими гарнизонами. В противном же случае Алиели останутся, как и теперь, независимым племенем и, примыкая непосредственно к нашей степной границе, будут, во-первых, вечно пробавляться прорывами через линию для покушения на железную дорогу, а во-вторых, сделаются весьма удобным материалом для всяких враждебных нам подстрекательств со стороны наших противников, и нам, волей-неволей, все-таки придется вскоре двинуться вперед, для занятия вышесказанных оазисов, хотя бы и вопреки англо-русскому договору, если таковой состоится. Такова сила вещей, которая рано ли, поздно ли, но неизбежно вынудит нас к подобному шагу. А потому не лучше ли не связывать себя заранее обязательствами, которые не могут быть исполняемы нами без постоянного ущерба не только казне и частным интересам, но и своему государственному достоинству.
Что до населения этих оазисов, то оно все такое же, с каким мы и теперь имеем дело у себя в Средней Азии, то есть: сарты (в смысле оседлых жителей, представляющих собою помесь тюркской расы с арийскою), туркмены, узбеки и таджики, которые всегда смотрели на господство афганцев как на иго и, без сомнения, с удовольствием променяют его на твердую и справедливую власть России. Если они уже Бухаре платили дань за защиту их от афганцев, то мы можем встретить в них только союзников, а никак не противников, и тем более теперь, когда престиж Русской Державы столь высоко стал во всей Азии.
Перехожу к третьему участку русско-афганской границы.
В межиречьи Вахша и Пяндьжа, образующих своим слиянием Аму-дарью, лежит обширная страна, изрезанная множеством высоких горных хребтов с их скалистыми отрогами, страна возвышенных нагорных равнин и глубоких долин, орошаемых горными реками и ручьями, сполна принадлежащими к бассейну Аму. Рельеф страны, постепенно повышаясь к востоку, образует наконец «крышу мира», – метафорическое название, данное народами Востока Памиру. В пределах этого межиречья лежат территории: Куляб, Бальджуан, Дарваз и Шугнан. Северо-западная часть последнего, примыкающая к Дарвазу и, частию, к русским владениям, называется Рушаном, а южная, простирающаяся до гребня Гиндукуша, – Ваханом. С запада к Шугнану примыкает территория Бадахшан, ограниченная с юга Гиндукушем, а с севера – течением реки Пяндьжа (левым берегом оного). Куляб, Бальджуан и Дарваз входят в состав бухарских владений и управляются беками, частию наследственными (Куляб), а частию по назначению бухарского эмира. Бадахшан подпал под владычество Афганистана вместе с прочими территориями левого берега Аму-дарьи в половине 60-х годов текущего столетия, а в независимом Шугнане появились афганцы только с лета 1883 года. Осенью того же года они проникли на бесспорную бухарскую территорию и заняли Куляб, а оттуда вторглись и в Бальджуан, при чем перерезали до двухсот человек жителей, осмелившихся защищать свое имущество[184],[185]. Тогда эмир Бухарский, чрез особое посольство, обратился в Ташкент, с извещением об этом обстоятельстве, а равно и о том, что отряды афганских войск все лето делали постоянные рекогносцировки на левом берегу Аму и промеры в реке, при чем иногда позволяли себе переправляться и на правый берег. Указывая на это в своем письме, эмир, между прочим, заметил, что если бы он был по-прежнему самостоятельным государем, то сумел бы, при Божьей помощи, управиться и собственными силами с нарушителями неприкосновенности его владений, но теперь, как покорный союзник Российской Империи, прежде чем предпринять какие-либо меры, считает долгом обратиться за советом и помощью к представителю русской власти в Ташкенте. В конце 1883 года разрешено было оказать эмиру помощь в виде отсылки в Бухару одной тысячи старых ружей; отправка же трех или четырех инструкторов для бухарских войск и инженера для укрепления горных проходов против Афганистана была признана неудобною. Между тем, кто знает, что такое бухарские войска, для того нет сомнения, что, предоставленные самим себе, они никогда не будут в состоянии серьезно бороться, даже и в горной войне, с войсками афганцев, превосходящими их и количеством, и качеством, и вооружением, и степенью военной подготовки, в смысле войск регулярного строя. Кроме того, политическая связь горных бекств с Бухарою довольно слаба и держится только на старых условиях защиты их от афганских и прочих нападений, а потому, вынужденные обстоятельствами, эти бекства легко могут подчиниться влиянию более сильного Афганистана. Свойства же самой страны Вахшо-Пяндьжинского межиречья таковы, что могут представить нашему противнику все выгоды для ведения продолжительной горной войны. Там, по характерному выражению наших казаков, ходивших туда в конвое с несколькими учеными экспедициями, – «сам черт глину месил и горы ворочал». Опираясь тылом на Афганистан и подняв горное население, всегда более воинственное чем жители равнин, да вооружив его усовершенствованными винтовками, наш противник, скрываясь за спиною афганцев и местных горцев, может, при случае, устроить нам нечто в роде повторения Кавказской войны, тем более, что Дарваз и Шугнан примыкают непосредственно к южной границе нашей Ферганской области, представляющей в данном районе страну точно такого же горного характера.
В настоящее время связь Шугнана с Афганистаном еще очень слаба и обусловливается только насильственным захватом афганцами Шугнанской территории, а потому, если Шугнан действительно просит о принятии его под русское покровительство, то этим не мешало бы нам воспользоваться теперь же, ради собственного спокойствия в будущем. Если Шугнан с Бадахшаном и не доставят нам пока особенной выгоды, хотя и обладают некоторыми горными богатствами[186], то несомненно, что в руках нашего противника они могут сделаться самым удобным поприщем для нанесения нам большого и продолжительного вреда горною войною и внесением постоянных подстрекательств и смуты в среду наших подданных, соседних горцев Ферганской области, которые и без того не совсем еще умиротворились.
С добровольным присоединением к нам Шугнана и Бадахшана мы подошли бы к Гиндукушу, то есть к единственной нашей естественной и потому спокойной границе в Средней Азии. В этом случае основным принципом нашего будущего разграничения смогло бы быть следующее положение:
Все что лежит к северу от Гиндукуша и его западного продолжения, Сиаг-Куха, то наше, а все что к югу от этого хребта, то английское.
Таким образом, в наши пределы вошли бы все те земли, которые с некоторого времени получили название Северного Афганистана, – название произвольное, так как между коренным населением этих земель афганцев нет, кроме гарнизонов и нескольких административных чиновников, об утрате которых местное коренное население не пожалеет. Опасаться же неприязни афганцев нам нечего, ибо, помимо превосходства наших военных сил, самый Гиндукуш будет стоять между ими и нами достаточно надежною преградой.
Гиндукуш, несомненно, был бы не только самою выгодною в оборонительном и политическом смысле границею, но и самою дешевою, так как нам пришлось бы содержать пограничные военные посты только при нескольких доступных перевалах, которые все наперечет и более или менее нам известны[187]. С этою пограничною стражей весьма удобно могла бы соединиться и таможенная служба, которая при этих условиях могла бы представлять нам действительную гарантию против ввоза англо-индийской контрабанды.
Редко когда политические обстоятельства слагались столь благоприятным для нас образом, как в настоящую минуту. Если когда мы могли бы покончить с этим вопросом без войны, но радикально, то это именно теперь, когда англичане по необходимости должны уступить нашим требованиям. Всякая другая граница, кроме Гиндукуша, не может считаться прочною и окончательною. Повторяю: естественная сила обстоятельств, рано или поздно, заставит нас двигаться к этому неизбежному пределу. Но есть все основания опасаться, что это движение произойдет уже далеко не при таких счастливых условиях, как могло бы быть ныне. Часть кредитов полученных ныне министерством Гладстона, как слышно по газетам, предполагается употребить в помощь Абдуррахман-хану на укрепление, согласно требованиям современной фортификации, и на вооружение Герата, Маймене, Андхоя, и проч.
Таким образом, года через два-три против нашей открытой, на песке лежащей границы создастся целый пояс крепостей, сооруженных по планам английских инженеров (которые, как слышно, уже и командируются на место) и вооруженных английскою артиллериею. А если Абдуррахман допустит в свои войска английских инструкторов (чего также домогаются англичане), то к тому времени они, может быть, обратятся в более серьезную силу, чем та, с какою пришлось иметь дело на берегах Кушка генералу Комарову. Кроме того, подчинение Герата английскому влиянию откроет широкий и легкий путь английским мануфактурным произведениям в наши степи, в полный ущерб нашей торговле с ними, а со временем, при возникновении каких-либо особенно благоприятных обстоятельств (например, в случае нашей войны в Европе), если английский гарнизон займет Гератскую цитадель, то прямым последствием такого шага будет подчинение Персии английскому протекторату, и тогда появление английского флага в персидских портах Каспийского моря едва ли долго заставит ожидать себя, а вместе с этим все наше дело в Средней Азии, и даже самое пребывание наше там, потеряет для нас всякий смысл и значение.
В виду всего этого, мы должны наконец твердо убедиться теперь же, что для нас в Средней Азии нет иной нормальной границы, кроме Гиндукуша, если только мы дорожим там своими задачами, своим спокойствием, своим карманом и своим достоинством, как великая держава.
10 мая
Ни единого, увы, слова неправды или преувеличенного нет в том, что писал не раз о дурных замыслах воротил в М[инистерст]ве финансов насчет Дворянского банка. Даже самые беспристрастные люди, как [Н. В.] Исаков, даже самые благожелатели [Н. Х.] Бунге, как [А. А.] Абаза, громко говорят о тенденциозном и антидворянском характере проекта Дворянского банка, составленного по воле Государя, желавшего этим банком дать средство дворянам помещикам выпутаться из сетей и безвыходного положения. Проект банка явился в Госуд[арственный] совет с характером как будто неточного исполнения воли Государя. Почти все это сознают, и все это говорят Бунге, но бедный Бунге, увы, совсем в руках [Ю. Г.] Жуковского, [Е. Е.] Картавцева и Кии самых ярых красных, посаженных в М[инистерст]ве финансов, и ничего не может…
Главное, в чем воля Государя не исполнена, заключается в том, что Бунге по настоянию этих красных воротил ни за что не хочет допустить мысли соединения операций и устава Дворянского банка с Взаимным поземельным банком, и хочет предоставить и этот банк, и его массу заемщиков их собственной судьбе, тогда как именно из-за этих-то заемщиков, разоренных в конец, все дворянские ходатайства и просили правительство о помощи. Затем, как совершенно основательно говорят «Московские ведомости», невольно возникает вопрос: зачем по проекту Бунге предполагается выдавать ссуду облигациями, а не кредитными билетами? Ясно, что цена облигации будет зависеть от биржевой спекуляции и что заемщик вместо 100 рублей может получить по курсу 98, 96 рублей, за что же?
Затем, наконец, нельзя скрыть, что в сущности своей все-таки весь проект Дворянского банка проникнут затаенною мыслью, которую, впрочем, составители его, гг. Картавцевы и Жуковские не скрывают, как можно менее помогать дворянству!
В виду этого, так как проект Дворянского банка не менее важен в государственном смысле чем, например, был проект Университетского устава, невольно ссылаясь на мудрый прецедент, введенный Государем, было бы возможно допустить такую комбинацию: положим, проект банка поступает из Государственного совета на Высочайшее утверждение. К нему будут приложены возражения весьма дельные, сделанные в департаментах Госуд[арственного] совета, и между прочим очень дельные мнения [М. Н.] Островского… На все эти мнения и возражения Бунге почти не обратил внимание. В виду этого казалось бы, что если последовала Высочайшая воля: согласовать проект Двор[янского] банка с интересами заемщиков Взаимного поземельного кредита и возражениями, в департаменте Госуд[арственного] совета высказанными – все дело было бы спасено. Оно замедлилось бы, но что значит несколько месяцев летних сравнительно с пользою дела!
12 мая
От Делянова слышал такой рассказ. Был у него саратовский предводитель дворянства[188] и рассказывал ему, что он представлялся Государю вместе с петербургским предводителем гр. [А. А.] Бобринским. При представлении будто саратовский предводитель сказал Государю, что с 29 апреля 1881 года Россия живет в сравнительно успокоенном состоянии, так как получила уверенность, что отныне строй Самодержавного управления поколеблен реформами не будет. Когда оба предводителя возвращались на железную дорогу, в одной карете, мальчишка Бобринский обращается к саратовскому предводителю с вопросом.
– Скажите, – говорит он, – неужели то, что вы сказали Государю, есть ваше убеждение?
– Ваш вопрос, граф, меня изумляет, – ответил саратовский предводитель, – если бы это не было мое убеждение, разве я бы сказал Государю… Я не торгую своими убеждениями.
Этот эпизод очень характерен – как обрисовка глупого либерального фанфаронства Бобринского.
Либералов à la Бобринский в известном кругу немало. Они себя выдают за консерваторов; но консерваторы эти – это Шуваловская партия! Они сегодня за поляков, завтра за евреев, после завтра за немцев, но никогда ни за Россию, ни за Царя! Их страсть трипотажи[189] и интриги.
Когда гр. [Д. А.] Толстой прибыл в Москву совсем обескураженный от хода болезни и хотел просить отставки, [Петр А.] Шувалов поехал к нему умолять его не выходить в отставку и подождать во всяком случае до октября.
– Jusque là, – сказал он, – nous chercherons un remplaçant…[190]
Le remplaçant est tout trouvé[191], это все тот же [А. А.] Половцов, друг Шувалова, и весь расчет основан на мысли в эти 4 месяца как-нибудь подготовить кандидатуру их remplasant!
15 мая
Застал К. П. Победоносцева согревающимся после прохлады и дождя поездки на открытие канала[192], съежившимся и хилым. Стал его уговаривать летом отдыхать, а он руки поднимает и говорит: «Где тут отдыхать, некогда, разве вот в августе, а тут все архиереи мрут, и не дай Бог как тяжело!»
В разговоре коснулись графа [Д. А.] Толстого и неизбежного вопроса его преемника.
К[онстантин] П[етрович] совсем обескуражен, уверяя, что положительно не на ком бедному Государю остановиться. Нет, и нет, что хочешь делай!
Из слов его выходит, что пока как будто всего лучше оставаться на положении statu quo[193], с [И. Н.] Дурново управляющим Мин[истерством] вн[утренних] дел, а там может что и выяснится.
Дай то Бог! Во всяком случае лучше действительно statu quo, чем неизвестность в нынешнее время. Дурново, по крайней мере, во всем может действовать сообща с К. П., у него опыт и знание дела!
Узнал от К. П., что в области Мин[истерства] нар[одного] просвещения все перессорились из-за введения Университетского устава. Предсказания К. П. сбываются. [М. Н.] Катков здесь днюет и ночует, и хочет все вершать по своему, запрягшись в корень и пристегнув [А. И.] Георгиевского справа, а [Н. А.] Любимова влево; Делянов не поддается, он с профессорами составляет другой лагерь; Катков ругает Делянова, Делянов подсмеивается и говорит Каткову: «Ну уж вы чересчур», и в итоге очень туго подвигается дело. На главном споткнулись, на применении дела.
А давно ли страстный и личный Катков, ругая Победон[осцева], говорил громко, что Делянов человек с характером, да еще с твердым, а теперь его ругает бабою и на него жалуется тому же Побед[онос]цеву!
16 мая
Сейчас был с моряками. Разумеется, предметами разговоров были эпизод с «Державой» и миноноски[194].
Моряки осуждают [И. А.] Шестакова за то, что он из-за ценза[195] ставит в общую очередь Государеву яхту, не принимая в соображение, что командиров яхты Государя нельзя сменять, не подвергая до известной степени самую яхту и Государя на ней зависимости от неопытности и незнания судна командира.
Строго судили тоже офицера, отдавшего канат не во время. Все офицеры и вся команда «Державы» чуть не плачут от досады и горя, что этот эпизод случился.
Много толковали о миноносках. Выбрали 17 для конвоирования «Александрии», а между тем оказалось, что могли только конвоировать три; остальные все должны были или отстать или остановиться. У всех механизмы более или менее неисправны, и ни одна не дает даже 14 узлов[196], а на пробе так каждая давала 15; теперь большая их часть дает 10, 11 узлов.
20 мая
Узнаю сегодня, что граф [Д. А.] Толстой настолько поправляется, что думает в начале июня приехать сюда, faire acte de présence[197], представиться и затем снова для лечения проститься до октября.
Таким образом бедному [И. Н.] Дурново прийдется снова сидеть без отпуска.
Видел сегодня несчастнейшего человека и слезы самые непритворные на глазах его. Человек этот [К. Д.] Далматов, устроивший выставку кружев и шитья, собранных им по всей России. Из Министерства госуд[арственных] имущ[еств] его от штатной должности уволили; устроил он выставку в музее [А. Л.] Штиглица[198], издержал до 500 рублей, а публики всего было 400 с чем-то человек, то есть до 200 рублей; семья, дети, ни гроша, лишение места, равнодушие всех и пренебрежение к его труду, вот что получил несчастный за свои 2летние труды! Даже министр финансов не удостоил заглянуть на его выставку. 2000 рублей ему пособия сделали бы этого несчастного счастливым и спасли бы его буквально от нищеты и разорения. Жаль его видеть и слышать бедного! Малейшее внимание к нему свыше могло бы поднять его упавший дух, вернуть бодрость, а главное вернуть ему место на службе с жалованьем.
22 мая
Видел сегодня старика [А. П.] Озерова. Много говорили о прошлом и нынешнем. Вот носитель чистейшей и теплейшей преданности преданиям и Трону. Он мне, между прочим, рассказывал, что как-то на днях виделся с [К. П.] Победоносц[евым], и тот ему говорит: «Что вы, Александр Петрович, ничего не делаете?» Бедный старик с грустью ответил: «Господи, как я был бы счастлив чем-нибудь быть полезным». Пока он не дряхл, действительно, этот прекрасный старик является как бы созданным для воспитательной части, и именно женской; в нем столько сердца и теплоты. После ледяного [К. К.] Грота все остыло в ведомстве женских учебн[ых] и благотворит[ельных] заведений. [Н. Н.] Герард – золотой человек, но он холодный. А. П. Озеров – наоборот – это источник теплого света.
[27 августа]
Предполагая, что письмо сие дойдет до Вашего Величества около 30 августа, прежде всего приношу из глубины любящего Вас сердца мои смиренные поздравления с днем Вашего и Нашего Ангела и желания Вам лучшего из благ: осуществления желаний Вашего сердца!
Смел бы сказать: завидую Вам, Государь, думая, как теперь, после стольких официальных передвижений, Вы находитесь в приюте мирной семейной услады, где все дышит покоем и миром, вдали от людского шума и громкой суеты.
Воображаю себе и другое: что теперь у Вас более досуга, а потому осмеливаюсь послать Вашему Величеству несколько пакетов.
Первый в переплете – это собранные мною письма о России, печатавшиеся за этот год в «Гражданине». При последнем свидании Вы изволили разрешить мне собрать эти письма воедино и доставить оные Вам для просмотра ввиду вопроса: может быть, они окажутся интересными для прочтения Цесаревичу.
Вторая и третья тетради суть доклады или записки, представленные тем самым лицом, которое ездило по России и писало письма в «Гражданине»[199], графу [Д. А.] Толстому. Может быть, Вы удостоите пробежать эти записки, как картины местной жизни, живо и не без таланта изложенные.
Поездка двух лиц по России, с Вашего милостивого разрешения предпринятая в прошлом году на 3 года для собирания сведений о настоящем моменте жизни в провинции – дала половинные только результаты. [В. В.] Крестовский, отличный и талантливый романист, оказался, к сожалению, именно к этой работе исследования на месте и описания с натуры совсем неподходящий. Зато помощник его, молодой [И. И.] Колышко, начинающий службу в М[инистерст]ве вн[утренних] дел, проявил и несомненный талант, и уменье работать и передавать наблюдения языком дельным и ясным. Ему принадлежат и письма, печатавшиеся в «Гражд[анине]», и записки, представленные графу Толстому по двум губерниям[200], и имеется в виду еще записки по Костромской, Казанской и Пермской губерниям.
Могу похвастаться этим, ибо он мой ученик, и я нюхом угадал в нем талант. Однажды он написал мне письмо. В этом письме я увидел зачатки таланта и затем стал руководить его чтениями, занятиями, убеждениями, словом, воспитанием, и Бог дал мне радость увидеть в нем не только даровитого человека, но главное честного, трудолюбивого и правомыслящего труженика и гражданина. Но и то сказать надо: на одном утешаешься, а на девяти, ох, как жутко обжигаешься и обманываешься.
Посмею еще поделиться отрадною вестью. В нынешнем году «Гражданин» шагнул гигантским шагом: он проник с одной стороны во все высшие сферы государственных людей, а с другой стороны он стал выписываться в известных трактирах, что служит прямым доказательством, что его спрашивает публика и им интересуется. Затем все газеты делают из него выписки, и орган кн. Бисмарка «Nord-Deutsch[e] Allg[emeine] Zeit[ung]»[201] не редко им, то есть «Гражд[анином]» и моими Дневниками, занимается. Словом, заговор молчания побежден и разрушен. С «Гражданином» стали считаться. Значит, Бог дал, что три года усилий не пропали даром.
Но не легко все это дается, должен сознаться. Во-первых, нельзя никуда уезжать, ибо есть много сотрудников, но, увы, такого, который бы думал тождественно как редактор, не имеется, а между тем в иную пору малейшее изменение в оттенке мысли может повредить журналу, так чувствительны читатели этого журнала к малейшему слову, выражающему оттенок мысли. Подчас и 46 лет сказываются. Во-вторых, стараясь стоять за правду, то есть за средину между двумя крайностями, ух, сколько врагов наживаешь. Характерные в этом отношении эпизоды осмелюсь Вам прислать на днях в давно прерванной посылке листов Дневника. Уверен, что Вас это заинтересует и позабавит. Хоть теперь, например: по вопросу об остз[ейских] распрях из-за языка[202]: я написал две статейки в смысле указаний необходимости немцам не только подчиняться новой правительственной программе, но идти ей навстречу и помогать правительству, и что же? От немцев получаю анонимные колкости, и от русских, что будто бы слишком деликатничаю с немцами, и все это потому только, что считаю нужным в интересах правительственного дела писать тоном, не возбуждающим страсти, которые всегда всякое дело портят. Есть другое толкование: может быть то, что я писал – глупо, но не решаюсь это думать, так как люди серьезные мне дали аттестат одобрительный. Во всяком случае, смею вырезать эту мою последнюю статейку и приложить к письму[203], с вопросом: одобряете ли Вы, ибо сие для меня главное.
Что делается в Питере, спросите Вы? Ничего ровно: чинят мостовые, мерзнут и готовятся к открытию осеннего сезона. Общее состояние – апатия, и больше ничего!
Приехал сюда наш новый посол в Берлине, гр. [Пав. А.] Шувалов. Мне кажется, что его политический взгляд верен, хотя он расходится со взглядами многих. Сущность его взгляда есть мысль о серьезном для нас значении союза с Англиею как единственною нациею, которая может быть нам пригодна и нами куплена известными умелыми уступками…
И в самом деле, нам, непосвященным в тайны дипломатии, сдается, что Бисмарк сильнее всех желает нас втравить в войну с Англиею, убивая одним выстрелом двух зайцев: парализируя Англию на море для завоевательных целей германского флота и ослабляя Россию на суше. Быстрое развитие герм[анского] флота и дерзкая политика Германии относительно колоний только и может быть успешным под условием держания Англии в полуспокойном состоянии и под угрозою войны с Россиею. Теперь в эпизоде с Испаниею[204] мы видим это ясно, как день. Будь Англия в спокойном состоянии и в мире с нами, разве посмел бы Бисмарк так нагло действовать относительно Испании и вообще вводить принцип захвата и насилия в нравы государственного международного права.
Вот почему так как усиление германского флота есть прежде всего ближайшая угроза нам, то казалось бы в наших интересах все возможное делать, чтобы выходило наперекор планам Бисмарка, и Англия могла бы поскорее стать в положение соперницы Германии и союзницы нашей, в виде угрозы Германии, в виде помехи ее замыслам на море.
Все это приходит в голову назойливо и невольно, глядя на ход развертывающихся событий, и должен чистосердечно признаться, чем более живу и вникаю в смысл так называемых европейских событий, тем более убеждаюсь, что нашей исторической роли во всем стоит преградою нами же созданная объединенная Германия. Оттого всякий раз, когда задаешь себе вопрос: в чем же должна заключаться наша политика, ответ обрисовывается так: бережно блюсти мир со всеми, но в то же время зорко следить за событиями с одною целью: уловить минуту, когда будет удобнее нанести удар Германии.
Во всяком случае, одно несомненно, если нам суждена война, одна война для России желательна, это война с Германиею – но в удобный момент. Весь ее рост, все ее развитие неизбежно и роковым образом происходят на счет России, во всех отношениях и в особенности в экономическом. Но вся мудрость политики должна заключаться в том, чтобы всего менее Германия могла бы догадываться о замысле России: более чем когда-либо нужно в ней поддерживать убеждение в миролюбии России, и затем ждать момента. А пока есть один вопрос, требующий, как кажется, внимания: это заселение нашей западной границы германскими подданными сплошь по всей линии. Казалось бы возможным дать 5-летний срок для выселения всех германских подданных на расстоянии 50 верст от границы, и сделать это втихомолку, без малейшего шума, в силу секретного предписания.
Затем что сказать о себе, смея надеяться, что Вас хотя немного моя крошечная жизнь интересует. Я вступил в страшный мир театра, et suis dans la gueule du lion[205], по поводу моей комедии «Болезни сердца», которую хотят ставить в ноябре в Алекс[андринском] театре. Le lion это великий [А. А.] Потехин, режиссер театра. Они изволили меня милостиво принять и осыпать любезностями, комплиментами и обещаниями на счет великолепия постановки. Что будет из сих любезностей, не знаю: сбудутся ли они, или это только кошачьи ласки, и суждено горе родить мышь, любопытно будет узнать. А мне грешному очень бы хотелось поставить эту пьесу безукоризненно. Затруднение пока в букете артисток найти прелестную княжну, как гений добра, и нахальную кокотку с голосом, как гений зла… Excusez du peu![206]
За сим прошу прощения за то, что смел на трех листах изложить мою беседу с Вами, добрый Государь!
Да хранит Вас Бог! Еще раз дерзаю поздравить Вас и от глубины души пожелать Вам благ и отрады, много, много и много. Да будет с Вами во всем Бог, и да даст Он Вам непреклонно веровать в Его об Вас Промысл. Осмеливаюсь поздравить и Государыню – и если сие не превосходит меры дерзновения, просил бы, умолял хоть о двух, трех строчках от Вас! Не откажите умоляющему Вас беспредельно Вам преданному и благоговейно почитающему Вас, верноподданному
Караванная 18
27 августа 85 г.
13/14 сентября[207]
Позволяю себе при сем препроводить несколько отрывков из Дневника за последние дни.
В них один день, понедельник 9 сентября, отмечен для меня трауром. Это день, когда я почуял и понял связь между объявленным мне выговором и тем мучительным для меня состоянием, в котором нахожусь перед совокупностью признаков Вашего неудовольствия! По-видимому оно не сразу явилось, ибо с января, увы, не осчастливлен ни одним откликом даже общения. Я все жил в уверенности, что если иногда прорываются из-под пера проступки, то иногда заслуживаю ободрения и одобрения.
Но увы, 7 месяцев молчания, и надежды после 30 августа иметь радость получить хоть два слова привета, разразились для меня великою печалью. Смысл этой печали я поясняю в Дневнике. В нем душа писала. Простите мне, Государь, мою вину. Обещаюсь впредь употреблять все усилия к тому, чтобы не вызывать поводы к неудовольствию и бороться с охватывающими меня порывами.
Простите, Всемилостивейший Государь, а если простили, то, умоляю Вас, когда-нибудь, в свободную, случайно, минуту, не откажите как-нибудь проявить, что Вы иногда хоть признаете меня годным… Вы не поверите, как мучительны бывают минуты, когда вдруг западает сомнение, и не знаешь, что делать, где искать хоть луча просвета. Ни звука в ободрение, в разъяснение, ни улыбки, ни взгляда… Давно назад я начал службу Вам моими первыми силами. Теперь служу как могу, как Бог помогает, последними силами, не отказывайте, Бога ради, иногда, изредка мне в замечании, в мысли, в слове… Достаточно намека Вашей мысли, чтобы мне всецело ей подчиняться и ею руководиться, а когда неудовольствие приходит таким ударом… никакое слово не может передать, как оно мучительно!
Да хранит Вас Бог, Государь добрый и милостивый, и да положит Он Вам на сердце поверить моим словам горя и преданности и простить мне мои вины вольные и невольные!
P. S. Может быть, если даст Бог, Вы мне простили, и улягутся события, выдастся минута свободная, Вы мне черкнете, во избежание официального мира, письмецо могло бы просто быть закинуто в почтовый ящик, так как передаточной инстанции нет здесь[208].
Караванная 18
13/14 сентября
Четверг 29 августа
Есть вопрос, которым, сколько кажется доселе по старой рутине, у нас очень пренебрегают, несмотря на то, что он для правительственных интересов один из важнейших вопросов, это назначение губернаторов. Графу [Д. А.] Толстому в особенности в этом отношении не везло. Как известно, рука у него на выбор людей более чем тяжелая, прямо несчастливая. Кто-нибудь ему порекомендует приятеля или протеже, он немедленно его представляет. Так например случилось с Пермскою губерниею. Губерния эта по своим особенностям чуть ли не одна из труднейших губерний. Был в ней губернатором [А. К.] Анастасьев, человек умный, крутой и энергичный. Он начал борьбу с злейшим врагом Пермской губернии, с ее земством, составленным, как известно, из кабачников, разжившихся волостных писарей и интеллигентных (какая насмешка!) мещан! Анастасьева переводят в Чернигов. Казалось бы, необходимо было особенно усердно отыскать человека, который мог бы продолжать начатое Анастасьевым дело, с умом, энергиею и опытностью. Но нет; Тимашев рекомендует en passant[209] своего оренбургского родного человечка, некоего [В. В.] Лукошкова, и вот он приезжает в Пермскую губернию. Приезжает, и что же он решает. Решает он так: объехать Пермскую губернию (ее размеры ведь 1/4 всей Европы) в 1 месяц и 10 дней; но объехать для чего? Для того, чтобы познакомиться с нею? Ничуть! Для того, чтобы везде, где можно, отменить Анастасьевские распоряжения, и 2) для того, чтобы составить проект реформ, нужных в Пермской губернии, и привезти их в Петербург! Другими словами, ничего не зная о губернии, на изучение которой нужно по крайней мере год или два, так сложны и своеобразны местные вопросы, он задается двумя задачами: 1) взбаламутить всю губернию, и 2) ввести в заблуждение правительство. И вот образчики того, что происходит во время объезда губернатора Лукошкова в виде картинок с натуры. В Тагиле: крестьяне как везде в Пермск[ой] губ. ждут каких-то земель от Царя, между ними волнения. Собрался сход. Губернатор готовится говорить им речь. Главноуправляющий заводами спрашивает его: что он намерен сказать мужикам?
– А я вот что им скажу: я скажу, что я начальник губернии, представитель Царской власти, что они с… дети должны меня слушаться, что они должны быть спокойны и терпеливо ждать, пока приедут чиновники и дадут им земли…
Все ахнули…
– Бога ради, ни слова об этом, умоляет главноуправл[яющий]; ведь они все получили, им никакой земли не следует, вы подымите этими словами всю губернию; крестьяне поймут, что вы им обещаете новые земли.
С трудом уговорил губернатора.
В другом месте: Анастасьев издал очень дельный циркуляр, на основании которого он строжайше внушал непременным членам крестьянских присутствий не вмешиваться в вопросы выборов волостных старшин и назначения волостных писарей, так как большая часть непременных членов тоже из бывших волостных писарей и страшные взяточники, и за каждое назначение старшиною или писарем брали взятку. И вот один из смельчаков непременных членов жалуется Лукошкову на этот Анастасьевский циркуляр. Лукошков не только выслушивает, но и верит этой жалобе, и трах, одним почерком пера велит отменить циркуляр Анастасьева.
В другом месте: жалобы крестьян, спор с заводовладельцами: сложное дело, касающееся более 3000 рабочих.
– Ну, это сложно, – решает мудрый Лукошков и, обращаясь к своему чиновнику особых поручений, поручает ему расследовать дело, составить записку, изложить свое мнение, а сам уезжает…
Все это слышал сегодня от двух пермяков, совсем испуганных Лукошковым. И едет он сюда с массою записок и проектов.
30 августа. Пятница
Между двумя ведомствами, гражданским и военным, сегодня явилось разногласие. В «Правительственном вестнике» появился приказ наград гражданских чинов, а военного приказа в «[Русском] инвалиде»[210] не появилось, к большому разочарованию многих.
Погода, дождливая на первую половину дня, стала веселою на вторую, и народное гулянье удалось вполне. Слышал сегодня чудеса про знаменитого [О. С.] Костовича, отставного сербского офицера, долго слывшего за сумасшедшего, но теперь входящего уже из мрака, где 13 лет он терпел лишения и насмешки, в яркую область славы и осуществления своей idée fixe[211]. Idée fixe эта – аэростат. Поселенный благодаря военному министру[212] в хорошее помещение близ Смольного, он теперь счастлив и весел, как ребенок. Близится час, как он говорит, когда весь мир увидит плод его долголетних усилий – воздушный полет столь же спокойный и безопасный, как поезд железной дороги. Он открыл два секрета: первый – искусство управления шаром – безусловно, и второй: состав, именуемый искусственным деревом, который оказывается легче картона и прочнее железа. По поводу этих двух открытий он говорит, что когда узнают его секреты, всякий рассмеется при мысли, как просто то, что он первый нашел![213]
Пока этот секрет он открыл только одному генералу. По его словам, он надеется в будущем году совершить первую большую поездку на шаре, вмещающем 6 персон с багажом. Курьезно, что каждый фунт и полуфунт лишнего веса требует больших и сложных математических расчетов, но, говорит он, со временем каждый лишний пассажир, каждый лишний багаж будут требовать такой только расчет, который в состоянии будут делать всякий кондуктор или артельщик. Чтобы судить о качестве работы этого гениального сумасшедшего, можно остановиться на следующем факте; чтобы сшить свой шар, объема Михайловского манежа, ему нужны были особенная иголка и особенные шелковые нитки. То и другое он искал по всему свету, выписал все образцы, и только после года розысков нашел нужную иголку в Америке, кажется, и нужный шелк в Болонье, куда он специально для заказа ездил. Материя шелковая, из которой шар сделан, до того прочна, что ее и кипятком, и кислотою поливают, и ничего; состав, им открытый для труб, проходящих через весь шар и служащих к управлению и движению шара, при всей легкости до того прочен, что его можно бить молотками сколько угодно, и ничего…
Все это прекрасно, все это несомненно предвещает в скором времени осуществление полета на воздухе правильного и человеку подчиненного. Но, увы, это же гениальное открытие наводит на мысль: не для зла ли больше, чем для добра, осуществится оно на сем свете? Страшно подумать, какую силу могут на воздухе приобресть разрушители… и во всяком случае еще один будет сделан страшный шаг к разрушению общества!
2 сентября. Понедельник
Видел сегодня приехавшего из Нижнего и побывавшего несколько дней на ярмарке. Его отзывы о ходе ярмарки скорее утешительны. Распродажа шла довольно оживленно, платежи в сравнении с прошлым годом были лучше, несостоятельностей меньше, но одно очень плохо шло – это железо. Цены низкие – и заводчики поставлены в печальную необходимость или продавать в убыток или везти обратно железо в склады.
От него слышал, что Вел. Кн. Владимир Александрович всех собою обворожил в Нижнем, так он был любезен.
Про [Н. М.] Баранова он говорил мне так: Баранов как губернатор для нас не существует; мы, нижегородцы, его знаем только как проектера и как любителя экстраординарных событий; Баранов живет для каких-либо событий; нормальное, тихое управление для него не существует; оно делается возле него другими людьми. К этому вседневному, будничному делоотправлению Баранов слеп и глух; ему докладывают об каком-либо текущем вопросе, а он в это время думает, как бы устроить то или это; мы знаем Барановские проекты, но мы не знаем его решений по нашим делам губернской и уездной жизни.
Характеристика довольно интересная и кажется верная.
Курьезное явление. В «Нов[ом] времени» читаю известие о том, что граф [Д. А.] Толстой занимается в деревне вопросами местного самоуправления и вообще изучает уездную жизнь. Je suis allé aux renseignements[214] и узнал, что известие это попало в газету не без ведома самого графа Толстого. Дай Бог, чтобы его здоровье настолько исправилось, чтобы он мог действительно заниматься уездом, но пока он далек от этих занятий. Один мой знакомый, рязанский помещик, на днях обедал у графа Толстого в деревне и нашел его сравнительно лучше, но все-таки не прочным на вид. В министерстве его ждут все-таки в октябре, а в Английском клубе уже давно назначили на место бедного графа Толстого [М. Н.] Островского, а [П. А.] Черевина на место [П. В.] Оржевского, с правами шефа жандармов.
Не лишен интереса слышанный мною сегодня вечером рассказ о Сибири относительно поляков. Долгое время разных поляков преступников и замешанных в политич[еских] делах ссылали в Сибирь. Теперь приходится считаться с этими поляками. Они буквально завоевали Сибирь, особливо Западную, и заполонили собою все сферы жизни, начиная с заводской и кончая учительскою должностью. В Западной Сибири, например, есть царек, поляк [А. Ф.] Поклевский[-Казелло]. Он прибыл туда маленьким чиновничком, а теперь один из сильнейших богачей и воротил края, распоряжающийся всем водочным производством и водочною торговлею без конкурентов и без ограничений своей власти. Губернатор Тобольска[215] его покорный слуга, а русский кто бы смел подумать только тягаться с Поклевским – немедленно топится и изгоняется. Господин, рассказывавший про Сибирь, между прочим очень забавно описывал свой разговор с одним евреем на пароходе на Волге, ехавшим в Петербург добывать деньги для разработки золота. Жид этот ехал из Сибири. Разговор зашел о взятках.
– Все у нас берут, сказал жид, и подлец тот, кто скажет, что он не берет; потому нет такого человека на земле, которого назначили бы в Сибирь, и не брал бы… В Сибири брать так же необходимо, как воду пить, как хлеб есть. Самое большое, когда приезжий чиновник три месяца не берет, на четвертый берет.
7 сентября
Был у меня сегодня египетский наш дипломат [М. А.] Хитрово с важным известием о присоединении Восточной Румелии к Болгарии путем удавшегося восстания[216]. Из его слов видно, что это известие явилось в Мин[истер]стве иностр[анных] дел неожиданностью. Что-то не верится. Чьих это рук дело – вопрос интересный. Хитрово гадает также неопределенно, как и я. Может быть австрийское, в связи с присоединением Боснии и Герцеговины к Австрии: une compensation pour les slaves en générale[217]! Во всяком случае жаль, что это дело приходится признавать успехом для антипатичного князя Болгарского. Болгария пусть увеличится, но князю Александру возвеличиваться – досадно давать. Отчего бы, раз Берлинский трактат попирается и нарушается совершившимися фактами, с одной стороны Австриею, с другой Болгариею, и России не нарушить своих обязательств и не добиться низвержения этого князя Болгарского, мотивируя сие новыми политическими усложнениями, и, устроивши временное русское управление, назначить русского великого князя? Во всяком случае, если и низвержение кн[язя] Александра невозможно, то казалось бы возможным немедленно под предлогом сохранения порядка отправить целый состав военно-русского управления[218].
Узнал от Хитрово новость, что самый горячий славянофил – это наш парижский посол [А. П.] Моренгейм. Вот человек, сказал он, которым следовало бы воспользоваться для нынешнего болгаро-румелийского усложнения. От Хитрово узнал еще, что в краткую бытность теперь в Москве он много слышал о популярности Государя в Москве и о восторженных толках по поводу политики правительства в Остзейском крае. Подтверждение этого слышал от Чайковского, брата музыканта[219], на днях прибывшего из Москвы и говорившего с купцами тузами ее, [К. Т.] Солдатенковым, [Н. Н.] Коншиным, Третьяковым[220] и Кею. Нельзя не радоваться этому, хотя в то же время строго консервативные интересы правительства требуют мудрого сочетания самой твердой политики русской с уважением к тем основам в Остзейском крае, которые оберегать для правительства выгодно и полезно. В том, что новая политика правительства начала свое действие с введения русского языка, видна мудрость и прозорливость. Дальнейшие действия этой политики пусть будут учреждение правительственной полиции, новых правительственных судов (но дай Бог – без присяжных) и введение земских учреждений, – но Боже сохрани касаться земельного вопроса. Это обоюдоострый меч, всегда отражающийся вредом для интересов Самодержавного правительства. В Остзейском крае два элемента, совершенно отличные один от другого; дворянский – остзейский, и остзейский недворянский. Дворянский элемент есть скорее русский элемент, потому что он прежде всего антигерманский; остзейский же недворянский элемент – прежде всего не русский, потому что он германский и склонен к Германии. Это элемент городской, ученый, чиновный и интеллигентный. Мне кажется, что первый элемент, дворянский, было бы мудро в правительственных интересах привлекать к себе, не давая ему соединяться в оппозиции со вторым элементом, литтератским. Для этого казалось бы политичным для разработки всех реформ, признанных нужными в Остз[ейском] крае, пригласить, например, в совещание с правит[ельственными] лицами несколько лучших из дворян, как это делалось в Кахановской комиссии. А затем, что всего нужнее – это усиление торжественности и внешней силы нашей Православной Церкви в Остз[ейском] крае. Снаружи она слишком убога и смиренна.
Понедельник 9 сент[ября]
Сегодня для меня по тяжести впечатления настоящий понедельник. [И. Н.] Дурново меня призвал и объявил мне строгое внушение за статейку мою о дипломатах, помещенную в Дневнике две недели назад[221]. Глубоко взволнован этим, ибо вероятно это произошло по приказанию свыше, и значит Государь мною недоволен. Я как обухом треснут. Ясно, что основанием к обвинению меня послужило уверение, что я выдумал то, что написал, тогда как наоборот, я потому и написал строки, вызвавшие неудовольствие, что речи этого дипломатика, увы, не вымышлены, были сказаны, и вызвали во мне, как вызвали бы во всяком русском, негодование. Много дум мучительных и тяжелых вызывает во мне этот эпизод. Он не так мал и не так случаен, как может это казаться. Ясно, если принять в соображение долготу времени, истекшего между написанием статейки и разразившеюся надо мною бурею, что она вызвана по неудовольствию и по жалобе на меня [Н. К.] Гирса. Гирс вероятно признал ложью мной приведенный разговор, и кончено. Я бесповоротно виноват и не могу с ним спорить, как не могу пред ним оправдываться. Значит всякий раз, когда я буду говорить об области дипломатической с укором нашим дипломатам, или прибегать к шутке, или писать против его убеждений, он будет на меня жаловаться и, что еще для меня хуже, отождествлять нападки на дипломатию с нападками на высшую будто бы правительственную политику и утруждать из-за этих маленьких эпизодов печати самого Государя, представляя мои проступки в том виде, в каком он захочет.
В данном случае, например, по совокупности признаков я чую и предчувствую неудовольствие на меня Государя, но что я могу сделать, сопоставляя свою ничтожную личность с личностью министра, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить над собою гнет этого неудовольствия. Поверят ли мне? А между тем, если бы Государю случилось услыхать те подобострастные и гадкие речи, которые я записал в Дневник, в которых, как всегда, маленький дипломатик без малейшего достоинства к своему, к русскому, к родному, пресмыкался перед австрийцами в каком-то приниженном восторге от их любезности, к кому же? к нашему Государю… точно для Него это была милость, то клянусь честью, Государь испытал бы то же, что я, та же краска бросилась бы в лицо, то же негодование Им бы завладело. Увы, не тайна для меня – причина этой скрытой злобы русских дипломатов против «Гражданина». Она та же, что злоба [Д. Н.] Набокова. Я высказал без обиняков и без маски свой политический образ веры. Со времен Александра I русскую дипломатию, воспитанную в духе страха и поклонения перед Европою с одной стороны, и в разобщении с русскою народною жизнью с другой, я признавал и признаю виновницею всех бед России. Они виновники всех недоделанных и только разорявших нас войн, они производят те ужасные минуты застоя и нравственного цепенения, которые государству вреднее войн и поражений. Они нам дали Парижский трактат. Они создали громадную Германию. Они из войны 1877 года сделали позор и плач России. Они создали Берлинский трактат. Они, и только они, роковые виновники того духовного смрада и мрака, который предшествовал ужаснейшему 1 марту[222]. Они враги народного чувства, слитого в одно дыхание с чувством Царя. Вот что я говорил не обинуясь, а затем в нынешнем году я стал говорить еще яснее, и относительно внешней нашей политики сказал, что только один Государь, а не дипломаты, чувствует и мыслит за Россию, и тогда перед тою Европою, которая дипломатов наших пугает, восстает величественный образ страшного по силе народа, готового за честь и достоинство своего Государя идти на смертный бой во всякое время! Народное чутье и чувство Царя одно и то же, а дипломаты наши ничего общего с этим чутьем не имеют. И когда я сказал в нынешнем году, что Государь один ведет переговоры с Англиею, а дипломаты только мешают и портят всякое дело, тогда злоба их, понятно, стала еще сильнее! Вот почему теперь так трудно мое положение. Я совершенно отличаю и отделяю Государя, как главу, как вождя, как дух, как гений нашей политики, от дипломатов; я верую твердо в Цареву правду, в Цареву мудрость, в Царево бесстрашие и, увы, верую в ложь, кривду и малодушие наших дипломатов; а дипломаты, обвиняя меня, рассуждают так: нападающий на дипломатов нападает и на Высшее правительство!
Тяжело испытывать это недоразумение, да и мучительно, ибо, увы, вижу уже на себе последствия Царского неудовольствия. Ни звука от Государя. Мучусь в этом безмолвном сомнении, и тяжело, страшно тяжело.
Вторник 10 сент[ября]
Везде только толки о Филиппопольском coup d’état[223]. Мнения не резко расходятся. Одни говорят, что следует преклониться перед fait accompli[224]. Другие говорят, что роль России – отвернуться. Третьи – говорят, что нужно созвать снова Берлинскую конференцию. Затем есть и воинствующие толки. Одни говорят о том, что если Турция двинется против Болгарии, то наша роль – защищать Болгарию. Другие говорят: вот бы теперь послать три дивизии в Болгарию и поставить там русского великого князя; и так далее! Все это слышишь в гостиных. Я, грешный, дерзаю думать по-своему. Мне бы хотелось отделить в этом событии князя Болгарского[225] от судеб Болгарии. Счастливый поворот в судьбах этой страны становится антипатичным потому, что тут так деятельно замешан князь Болгарский. Мне он гадок и ненавистен, как двоедушный и коварный князь Болгарский. Он мне представляется и врагом и изменником России. Отсюда – беспредельное желание ему зла. Его надменный и напыщенный манифест[226] есть глумление над теми, кому он обязан за себя и за свой народ всем! Под перо просится мысль о том, как было бы хорошо, если можно было бы в наказание за его проступки сместить и низвергнуть. И тогда сам собою явился бы вопрос: раз Берлинский трактат нарушен, и в виду нового положения Болгарии не хорошо ли было бы Болгарским князем сделать русского великого князя. Во всяком случае сочувствовать перевороту, без нас сделанному в Болгарии, нами освобожденной и нами устроенной, вряд ли должно. Здесь говорят, что Австрия сильно подозревает тут тайную руку России. Если так, то не следует ли из такого подозрения вывести, что Австрия, именно она, тут при чем-нибудь. Другие хотят тут видеть английскую штуку. Темна вода во облацех!
Вторник 10 сентября[227]
Говорят о болгарских офицерах, будто бы призываемых отсюда в Болгарию. Шутовской манифест князя Болгарского читается с невыразимою досадою. Неужели, думается, ему эта штука сойдет? А [М. А.] Кантакузен, спрашивают здесь многие в недоумении. Одно из двух: если он ничего не знал, значит он дал себя одурачить на всю Болгарию; если он знал, значит он виновен перед русским правительством в том, что не предупредил его, и очень и серьезно виновен.
Странно и непостижимо! А из Константинополя ни звука, точно все пришли в оцепенение.
А курс тем временем упал, придравшись к случаю.
Здесь начинает выясняться разногласие в толках о событии. Одни говорят: самое лучшее нам не вмешиваться, пусть будет, что будет! Другие говорят, что теперь удобная минута свергнуть князя Болгарского в наказание, сообща с державами, и, устроив правительство в Болгарии в русском духе, добиться сообща от султана соединения обеих Болгарий, чтобы таким образом это соединение совершилось по инициативе России, а не в силу переворота. Смел бы думать, что второе мнение более в наших интересах, чем первое. Предоставить Болгарию собственной участи не значило бы дать ей сделаться против нас второю Сербиею?[228]
Курьезно, что все наши радикальные газеты, «Русский курьер» en tête[229], восторженно приветствуют Филиппопольский переворот! Еще бы… Им симпатично это событие как блестяще удавшаяся революция!
Сегодня обедал у меня [М. А.] Хитрово египетский. Сильнее, чем когда-либо мы все обедавшие, нас было четверо, испытали, какой это даровитый, приятный и умный человек. Как жаль, что такому человеку его начальство дает стареть, когда на избыток людей способных жаловаться трудно, особливо между людьми знающими Восток и его дела. Теперь, именно теперь, в этих усложнениях на Балканском полуострове, думали мы, как бы он мог пригодиться. В Египте наши интересы дальние, а на Балк[анском] полуострове они – ближайшие, и нет сомнения, что такой человек как Хитрово в самостоятельном положении и с его преданностью Государю, преданностью старого завета, мог бы оказать правительству громадные услуги. Но сколько слышал, кроме [И. А.] Зиновьева, никто из тузов Министерства иностр[анных] дел к нему не благоволит.
Пятница 13 сентября
Довольно ясно обнаружились теперь в нашей газетной печати оттенки и различия в оценке Филиппопольского события. Газеты красного направления и вся так называемая мелкая печать высказались безусловно за переворот и за его последствия и смело требуют признания совершившегося факта. Посредине, как всегда, стало «Новое время», а безусловно против, как будто сговорившись, высказались два органа печати: в Москве Катков, в Петербурге «Гражданин».
В государственных сферах говорят так: пускай присоединение останется, но князя Болгарского следовало бы прогнать.
Долго беседовал сегодня с Деляновым. Он признает мысли мои правильными.
Мне кажется, что в этом вопросе главное: принцип. Россия не может санкционировать порядка вещей нового где бы то ни было, происходящего из революции, когда государство, где революция торжествует, находится в такой близкой зависимости от России. Согласиться на признание всего случившегося историческою необходимостью и узаконить революцию своим безмолвием, не значит ли признать силу и право за революциею. Сегодня Румелия, завтра Македония и так далее, и затем невольно этот же принцип революции должен подкрасться и в Россию во имя каких-то фантастических прав каких-то народностей.
Делянов основательно говорит: развязать бы Турции руки, пусть вздует болгар, и прогнать князя Александра; тогда болгары поймут, что значит предпринимать революции без согласия России.
Трудно с этим не согласиться. К тому же надо принять в соображение, что теперь еще время удобное для расправы с болгарской революционною сволочью, так как народ еще там в детстве и не причастен к этой революционной агитации. Но через несколько лет, если теперь не расправиться с революционерами энергично, растление проникнет и в народ болгарский, и нынешние враги России в лице разных Каравеловых могут уже перейти в народ.
О том, что это за люди, нынешние воротилы Болгарии, можно судить по следующему эпизоду, рассказанному мне Деляновым.
Была там в Софии русская начальница училища, Дьячкова, почтенная и хорошая женщина. К ней попала в учительницы болгарка. Вслед за тем Дьячкова узнает, что эта болгарка пишет в газетах самые скверные против России статьи. Она немедленно сообщает о том русскому резиденту, который после неоднократных усилий добивается наконец, что эту болгарку сместили.
Но что же затем?
Затем через две недели [П.] Каравелов объявляет Дьячковой, что она может убираться[230].
Увы, увы, сегодня уже через городских друзей узнал, что не ошибся в предположении на счет жалобы на меня со стороны мин[истра] ин[остранных] дел[231]. Один из секретарей канцелярии м[инистерст]ва передавал вчера одному моему знакомому такие слова: «On est mécontent du “Гражданин” en haut lieux»[232]. А мне знакомый или приятель сообщил об этом на Невском. Веселая была прогулка.
[24 сентября]
При сем осмеливаюсь препроводить еще несколько отрывков из Дневника.
Да благословит Бог Ваше путешествие обратно на родину[233]. Итак, увы, не дождусь ни слова! Грустно так, что и сказать не могу.
Вашего Величества с беспредельною и благоговейною преданностью
верноподданный К. В. М.
24 сент[ября] 1885 года
Вторник 17 сентября
В «Руси» [И. С.] Аксакова появилась очень умная статья, приписываемая теологу философу Влад. Соловьеву[234] по поводу опубликованной Министерством народного просвещ[ения] экзаменационной программы для университетов и специально для юридического факультета. Тут пришлось коснуться вопроса о Самодержавии. Эта часть программы написана Катковым. А в pendant[235] к этому вопросу в той же программе, но по церковному вопросу, помещены не совсем ловкие строки о Церкви. Все это вместе дало повод автору статьи «Руси» направить несколько стрел по адресу Каткова – хотя о нем не упомянуто, – и возбудить вопрос: насколько нынешнее устройство нашей Православной Церкви соответствует своему идеалу, и затем другой вопрос: насколько уважение к Самодержавию обязывает признавать неприкосновенными и авторитетными действия и деятельность подчиненного Государю правительства?
Во всяком случае, статья эта заслуживает прочтения. Она не из дюженных!
Суббота 21 сентября
В «Моск[овских] вед[омостях]» появилась в высшей степени замечательная статья, посвященная рассказу о том, какой участи подверглись крестьяне одной волости (кажется, Тверской губ.) за то, что 10 лет боролись с анархистами, засевшими в их местности и свившими гнездо, из которого вышли цареубийцы. Дело это печально кончилось для крестьян. Привожу выдержки из этой статьи в том виде, в каком они были помещены в «Гражданине». Но тут интересен факт: как относились к этой борьбе губернаторы и судебное ведомство? Вот что грустно. Администрация давала руку судебному ведомству, чтобы прямо и косвенно мешать крестьянам торжествовать в борьбе с крамольниками.
Мне бы казалось, что такое дело, или обещающее на суде разоблачений имеющих волновать умы, или свидетельствовать компрометирующе об администрации, в интересах престижа власти, и в особенности для предупреждения новых волнений между крестьянами, – следовало бы немедленно прекратить, и если бы это сделано было по Высочайшей воле, оно бы имело сильное и благотворное действие.
Привожу эту статью[236].
Делаем выдержки из замечательного сообщения «М[осковских] вед[омостей]» от 17-го сентября:
«Заговор против жизни Государя употреблял в дело весь арсенал революционных идей, вербуя ими своих агентов и исполнителей. В ход были пущены и доморощенный нигилизм, и привозной социализм, и новоизобретенный анархизм. Казалось, можно было ожидать с часу на час взрыва.
Всем памятно, как едва заметными переходами сливалось у нас не только нелегальное с легальным, но изменническое с официальным. В это время твердым и вполне здравомыслящим человеком был русский мужик. Пропаганда смущала нашу интеллигенцию, вербовала студентов, гимназистов и гимназисток; но все ее усилия проникнуть в толщу народа оставались напрасными. Бог знает, что было бы, если бы не здравомыслие мужика. Он вынес на себе всю эту страшную суматоху. Только надолго ли хватит его, если бы, чего Боже упаси, продолжались наши нестроения? Иной раз очень нелегко доставалось тем добрым людям в наших весях, которые, в простоте своего сердца, принимали вправду долг присяги и, не ограничиваясь простым отпором преступной пропаганде, возмущались духом и вступали в борьбу с ней.
Вот сущность дела крестьян Б-ской волости.
Как в этой волости, так и в соседних, около 1877 и 1878 гг. одно лицо, бывшее до того адвокатом в одном из губернских городов, сделалось уездным предводителем дворянства и поселилось в своем имении, верстах в шести от села Б.; около этого же времени новые лица заняли места и непременного члена в уездном крестьянском присутствии, и станового пристава. У ex-адвоката, ставшего предводителем, оказался живущим шурин Б-ского священника, привлекавшийся к следствию еще по Каракозовскому делу[237]. Первым делом новых властей было назначение волостных писарей. В одну волость был назначен писарем будущий цареубийца Соловьев, под вымышленной фамилией Почкарева; но местному волостному старшине и священнику удалось выжить от себя этого молодца, и тогда бывший адвокат взял его писцом к себе. В другую волость на должность писаря поступил Богданович (Кобозев), под именем Витевского; в Б-скую волость был рекомендован Страхов.
В Б-ской волости был одиннадцать с половиною лет старшиной С.; он отказался принять Страхова в писаря, но вслед за тем начались придирки к нему предводителя и непременного члена, и С. должен был выйти в отставку; новый старшина взял Страхова с его сестрой Марьей и помощником Ширяевым, и стал плясать под их дудку: пошла смена волостных судей и выборщиков (по одному от десяти дворов), для подбора взамен их новых, во вкусе волостных писарей. Назначение Богдановича-Кобозева писарем в соседнюю волость тоже сопровождалось сменой старшины и даже отдачей его под суд. При большой местной земской больнице (содержание коей обходится тысяч в десять или более в год) весь персонал оказались все одной и той же партии. Все члены партии держались дружно, устраивали сходки, между прочим, в селе Б., на которых и уездные власти, и предводитель обходились с волостными писарями запанибрата.
Раскинув свою сеть на несколько волостей, шайка начала свою пропаганду раздачей известных книжек и внушениями народу, что власти не будет, а будет равенство, свобода от податей и т. д. Тем из крестьян, которые возмущались подобными проповедями, делались всякого рода притеснения. Урядники, неблагосклонно относившиеся к пропагандистам и их подручникам, один за другим сменялись и переводились в другие местности.
Крестьяне пошли, прежде всего, по соседству к предводителю с жалобой на распространяемые социалистами толки о переделке земель, о неплатеже долгов, о замене властей общественными управлениями… “Сидите смирно, вас не трогают, – ответил им предводитель дворянства, – а будете копошиться, вас волостной суд будет драть” (!!!).
После такого ответа предводителя, крестьяне идут в уездный город к исправнику, к непременному члену, к жандармскому капитану – результат тот же. Исправник выгоняет жалобщиков чуть ли не в шею, со словами: “Драть вас надо”. Непременный член принимает их ласково, но уговаривает сидеть смирно. Жандармский капитан тоже принимает их ласково, затем приезжает через месяц в соседнее село, вызывает туда в становую квартиру С. и Х. и там уговаривает их “честью” дело бросить и жить мирно (это с будущими-то цареубийцами!). “Если вам убытки какие, – говорил при этом представитель тайной полиции, – мы все вам готовы сделать”.
Потерпев неудачу в уездном городке, крестьяне обратились в губернский. Написали два прошения: одно губернатору, другое губернскому жандармскому начальнику. Губернатор оставил жалобу без последствия; ответ на нее в этом смысле был прислан в волостное правление и читался публично, что дало только повод к насмешкам над жалобщиками, которых увлеченные пропагандистами глупцы стали дразнить, говоря, что им “нос натянули”.
Но жандармским начальником, по-видимому, заявления крестьян были приняты во внимание; о поселившихся в упомянутых волостях под чужими именами господах пропагандистах стали, должно быть, наводиться справки, о чем они, при их коротких связях с властями, не замедлили осведомиться. Волостные писаря поспешили скрыться при помощи своих сторонников, снабдивших их в дорогу всем необходимым; точно так же были выпровожены и фельдшера земской больницы. А месяца через полтора после побега бывших волостных писарей, один из них, Соловьев, стрелял в покойного Государя…
Писаря бежали, но их покровители, местные заправители дела остались; остался и подобранный состав волостных и сельских управлений. Жалобщикам на пропагандистов приходилось терпеть: одних сажали под арест, к другим применялось право волостного суда наказывать розгами до двадцати ударов. Один из местных зажиточных торгующих крестьян Х. тоже был приговорен к телесному наказанию, и лишь с трудом удалось ему избежать розог, после ходатайств, обошедшихся ему рублей в триста. Затем стали составлять приговоры об удалении жалобщиков из общества.
Несколько крестьян решились отправиться в Петербург искать там себе защиты, но в первый раз не доехали и вернулись с дороги, послав свою жалобу по почте на имя генерала Гурко; дошло ли их прошение – они не знают.
Но вот приезжает сенатор ревизовать губернию. Узнав о том, несколько крестьян едут к нему с запиской о социалистской пропаганде в их местности. Сенатор выслушивает крестьян, обещает приехать на место, велит ждать. Ждали, но не дождались. Вместо сенатора приезжает один из его чиновников. Обращаются к этому чиновнику, рассказывают ему все вышеизложенное. “Неужели все это правда?” – говорит он, возмущенный рассказанными фактами… Тем не менее, сенаторский чиновник уговаривает крестьян “оставить дело: у них-де теперь все тихо”… Тихо, а через три дня после того пришла весть, что Государя убили?
“Что, взяли?” говорили при этом крестьянам их супротивники: “ездили, хлопотали, а Государя не спасли. Делается по-нашему, а не по-вашему”.
Тогда, наконец, пять человек поехали в Петербург и явились в канцелярию бывшего тогда министром внутренних дел Лорис-Меликова, откуда были препровождены к тогдашнему петербургскому градоначальнику Н. М. Баранову, который допросил их всех по одиночке и, в ожидании резолюции, велел ходить к себе каждый день. Через восемь дней крестьянам было сказано, чтоб они ехали домой, что, по воле Государя Императора, для расследования их дела назначена особая комиссия.
Действительно, месяца через два прибыла на место комиссия. Дознание продолжалось 18 дней. Затем крестьяне имели счастие услышать, что они правы в своем деле, что все ими заявленное подтвердилось и что дело пойдет в Министерство юстиции.
Но и после расследования комиссии никаких перемен к лучшему в ходе местных дел не произошло. Положение крестьян-жалобщиков стало еще тяжелее, всякие каверзы против них только усилились. Терпеть и ждать стало невозможно. Несколько человек и в числе их бывший преображенский гвардеец вновь едут в Петербург искать защиты. Являются, прежде всего, к одному высокостоящему лицу, под начальством коего служил прежде преображенец. Заявления крестьян были выслушаны, после чего крестьяне были препровождены к тогдашнему министру внутренних дел, графу Игнатьеву, который все у них выспросил, велел написать, с их слов, протокол и пригласил, по их просьбе, Писарева, расследовавшего дело, которым при этом была подтверждена справедливость крестьянских заявлений.
Эта поездка крестьян в Петербург не осталась без результатов: вскоре за тем и губернатор, и уездный предводитель, и непременный член, и жандармский капитан, и исправник, и становой были сменены (говорят, будто исправника приютил в своем имении смененный губернатор, а становой состоял помощником исправника в другом уезде той же губернии). Но всеми этими мерами укоренившееся зло не могло быть исправлено. Покровитель Соловьевых, Богдановичей и Страховых, ex-адвокат перестал быть предводителем, но остался влиятельным соседом в пяти, шести верстах; остались на своих местах и прежние, воспитанные своими руководителями, сельские власти. Притеснения крестьян-жалобщиков продолжалось по-прежнему. Волостной суд стал бить их по карману, налагая на них пени и присуждая их ко взысканию, а на волостной суд управы нет. Излюбленные Соловьевым и компанией судьи могут делать что хотят: это-де суд крестьянский.
Терпели около года, а затем поехали с просьбой уволить старшину к новому губернатору. Губернатор принял их сурово.
Встреченные в своем селе злорадными насмешками торжествующей партии, жалобщики, летом 1882 года, вновь поехали в Петербург, но толку не добились. Вскоре, по возвращении домой, они вновь обратились к губернатору, посетившему их местность. Жалобщики подали ему прошение с изложением всего дела и всех притеснений. Не прочитав прошения и до половины, губернатор вышел из себя, разорвал просьбу на четыре куска и бросил при всех под ноги.
После этого крестьянами было послано по почте из Москвы новое прошение к министру внутренних дел, последствием чего было предписание сменить старшину Б-ской волости. Смененный старшина продолжал, однако, оставаться при должности почти до лета нового года и против правил принял на себя руководство новыми выборами. На это была принесена жалоба в уездное присутствие, но тотчас же возвращена без последствий. В результате оказалось, что выбраны прежние выборщики и прежние судьи, старшиной стал его первый кандидат, а первым кандидатом второй. В общем, состав сельского управления остался почти тот же, который был подготовлен проживавшими в той местности около года прежними бежавшими волостными писарями и их компанией.
Перед выборами в волостном правлении произошел пожар, точнее, три одновременные пожара: сгорели бумаги на столе и на шкафах в трех противоположных местах, причем один огонь с другим не соединялся.
Это было точно. Что же? Кончилась ли этим мартирология крестьян Б-ской волости? Четыре с лишком года они сначала боролись с злоумышленною пропагандою, а затем тяжко поплатились за свою ревность в борьбе. Каково было людям зажиточным в крестьянстве, уважаемым в своем околотке, находиться в ежеминутной опасности быть засаженными в тюрьму, осрамленными телесным наказанием, исключенными из общества? Чего стоили им поездки в столицу, обивание порогов у разных властей, причем им приходилось бросать свои дела, нести тяжелые для крестьянина издержки, терпеть убытки! Вся беда в том, что эти люди вправду понимали долг верности Царю. Следовало бы ожидать, что, наконец, их оставят в покое, что впредь не будут уже придираться к ним и тормошить их. Но вот что было далее.
Вышеприведенный рассказ появился в “Московских ведомостях” за десять дней до коронации. Некоторые из крестьян Б-ской волости, именно те самые, которых рассказ этот главным образом касался, рвались быть в эти торжественные дни в Москве и для этого обращались к волостному писарю за паспортами. Были, должно быть, опасения, чтоб они чего-нибудь еще не наговорили; паспорты волостным писарем не выдавались им под тем предлогом, что в волостном правлении не имелось паспортных бланков. Произошла размолвка, причем два брата крестьянина, просившие паспорт, обозвали писаря “социалистом”, за что тот подал на них жалобу мировому судье, который приговорил их к денежному штрафу и аресту, а мировой съезд, куда обе стороны апеллировали, усилил меру наказания, приговорив их к аресту на два месяца, хотя обвиняемые не отрекались от употребленного ими выражения и, опираясь на трех свидетелей, показали, что писарь, услышав о желании их ехать в Москву на торжество коронации, произнес слова, заключавшие в себе оскорбление Величества. Дело пошло на кассацию. Сенат, отменив решение мирового съезда, передал дело в общие судебные места с тем, чтобы, буде следствие обнаружит к тому основание, подвергнуть обоих братьев-крестьян суду за ложный донос. Первым делом следователя было засадить обоих братьев в кутузку!!..
На следствии оба брата настаивали на своем показании и дополнили его новыми о связи означенного писаря с Соловьевым, Страховым, Богдановичем (Кобозевым), ссылаясь при этом на свидетелей. Свидетели эти спрошены не были, показания их не были приняты; судебная же палата, вместо того чтоб усмотреть виновность писаря или же предать обоих братьев суду за ложный донос, утвердила обвинительный акт, коим предаются суду их свидетели за лжесвидетельство, а сами они за подговор ко лжесвидетельству.
Но если было лжесвидетельство, то значит был ложный донос. Почему же палата не предала обоих братьев суду за ложный донос? Быть может они доказали бы на суде, что донос их не был ложный и что они действительно имели основание назвать писаря “социалистом”, именно в том преступном смысле, в каком они это слово разумели. С другой стороны, есть хоть тень справедливости, сообразно ли с значением суда признать людей виновными в преступном деянии без судебного рассмотрения и не выслушав их защиты? Не тем ли гордятся нынешние судебные учреждения, что они доставляют всякому обвиняемому право защиты и без суда [не] обвиняют? Свидетели подверглись бы ответственности, когда прежде была бы доказана ложность самого факта. А если то, что показывают оба крестьянина, оказалось бы в сущности правдой, то где же преступное лжесвидетельство?
Обращаемся к здравому смыслу всякого беспристрастного человека: есть ли вероятие, что толковые крестьяне, безо всякого основания и повода обругали бы в сердцах кого-нибудь “социалистом”? Почему “социалист”? Но, скажут, они могли по личной злобе оклеветать человека ложным доносом. Нет, они бросили в него это слово не пред властями и не на суде, а в личной размолвке. Это не было доносом; это могло быть только оскорблением. Но какой смысл браниться безо всякого повода “социалист”? Стало оно доносом только будучи подтверждено ими на суде, к которому они были привлечены своим противником. Не очевидно ли, что прежде чем их свидетелей обвинять во лжесвидетельстве, нужно было рассмотреть на суде дело о ложном доносе?
Что же делает обвинительная камера? Прежде чем установлен главный факт обвинения, она обезоруживает подсудимых, отнимая у них свидетелей, которых сажает вместе с ними на скамью подсудимых. Если бы оказалось верным, что эти крестьяне убеждали свидетелей не кривить душой и показывать правду на суде, то разве это было бы преступным деянием?
Дело это вскоре должно рассматриваться в одном из окружных судов. Вот суду случай показать, что он умеет быть справедливым. Суд может, и должен, дать защите обвиняемых полный простор. Они не могут иначе оправдывать себя, как обвиняя своего противника. Не они привлекли его к суду; он преследует их. Пусть же суд даст им возможность изобличить его, если они обладают для этого уважительными доказательствами. Но есть ли раскрытие правды главное назначение и истинная задача суда?
Бог знает, впрочем, какое последует решение. Быть может этих людей, столько лет и с таким самопожертвованием, без всяких видов на какие-либо поощрения и награды, как это бывает в сферах повыше, – людей боровшихся в своей маленькой местности со злом, от которого страдала вся Россия, может быть их сошлют “в места не столь отдаленные”. Смеем думать, что судьба этих маленьких людей не безразлична для правительства. В их лице оно, именно оно, потерпит поражение и очень чувствительное».
Воскресенье 22 сентября
Сегодня заходит ко мне [А. Н.] Майков, бледный и расстроенный.
– Слыхали, говорит, что-нибудь?
– Ничего не слыхал.
– В «Nord Deutche Zeitung»[238] напечатано, что в Копенгагене стреляли в Государя, в саду, и попали в часы.
Я сделал все, что мог, чтобы успокоить и разуверить старика-поэта.
«Такие известия приносят счастье, – подумал я, – Тому, про Которого их сочиняют!» Но была еще тревога. В «Нов[ом] времени» появилась сегодня телеграмма из Асхабада, извещающая о взятии Герата англичанами и о какой-то 12 тысячной армии англо-индийской, появившейся под нашим носом! О первом известии ничего ни от кого не слыхал в течение целого дня; от второго известия, очевидно ложного, заболтали по всему Петербургу много.
Но разумеется вечером поздно пришла депеша из Лондона, назвавшая это известие «Нов[ого] вр[емени]» из Асхабада нелепостью.
Но вот что, увы, не нелепость – это общий говор, похожий на стон и вопль – по поводу страшного обмеления Волги, начинающего уже становиться угрозою всей торговле по Волге. И говор этот потому так громок, что доселе не принимается М[инистерств]ом путей сообщений никаких серьезных и радикальных мер против этого страшного, всей России грозящего бедствия. Этот вопрос, по отзывам людей, сведущих о нем, должен стать во главе всех насущных русских экономических вопросов для Министерства путей сообщений, и каждый пропускаемый им день только усиливает и увеличивает затруднения и расходы для будущего.
Понедельник 23 сентября
Дремота, царящая в Петербурге, не изменяется. Немного более толков о политике по поводу газетных статей, и больше ничего.
Нет и намека на серьезное мнение, нет и помину на то, что принято называть общественным настроением.
Скорее из Москвы веет серьезным. Там «Моск[овские] вед[омости]» довольно определительно высказались по болгарскому вопросу[239]: князь Болгарский должен быть генерал-губернат[ором] Румелии, а Македония должна стать к Турции в те же отношения, как была Румелия после Берлинского трактата.
По-видимому это определенно; но что помешает Сербии поднять знамя войны, с тайною поддержкою Австрии для приобретения Македонии? Достаточно этого, чтобы вспыхнул опять-таки пожар на всю ширь Балканского полуострова.
Все это так, но смею думать, что прежде всего хорошо было бы нам иметь на Черном море эскадру и транспорты на всякий случай. Мне кажется, что это важнее всего, ибо при нынешнем положении умов и фактов на Балканском полуострове верить в прочность какого-либо дипломатического разрешения вопроса – и в особенности в продолжительность statu quo какого бы то ни было – невозможно.
Час смерти Турции слишком явно приходит, чтобы можно было не тревожиться за участь Босфора и Дарданелл[240].
А без флота в Черном море – если вспыхнет славянский пожар, мы проигрываем партию бесповоротно.
Кроме посылки туда судов, какое громадное экономическое значение для всего юга имело бы немедленное усиление судостроительства во всех портах Черного моря, где сие только возможно. Сколько тысяч рук получили бы заработок… И пришлось ли бы столько морских офицеров увольнять по цензу? Они понадобились бы…
Вторник 24 сентября
Интересный факт узнал от [П. А.] Грессера сегодня; интересный и отрадный; с тех пор, как студенты 1 курса надели мундир[241], ни одного студента не было за эти 11/2 месяца замешанного в какой-либо истории.
Курьезен и следующий факт: студенты старших курсов говорят: давно бы следовало завести мундиры!
А между тем боялись ввести форму! Чуть ли не революции опасались. Ввели, и не только никто не сопротивлялся, но огромное большинство отнеслось с сочувствием. О, если бы эту простую истину применяли ко всему – как было бы хорошо. Судебные уставы надо переделать; боятся чего? Чуть ли не революции, если переделают. Несомненно, что если приступят к переделке уставов и к отмене суда присяжных просто и смело, и революции не будет, и все благословят правительство.
Нужно земство переделать. Боятся чуть ли не революции. А пусть решатся переделать, не только революции не будет, но все будут радоваться и приветствовать правительственную энергию.
И так во всем.
Грустные известия слышу о деятельности [Е. Е.] Картавцева. Он просто-напросто задался задачею всеми силами вредить дворянству, где только может. И как гадко и зло он это делает. Он узнает про имущественное положение, например, известного помещика, продающего землю крестьянам через посредство Крестьянского банка, и если помещик стеснен и беден, он бесцеремонно ломает договор помещика с крестьянами и предлагает помещику или 20 % меньше, или ничего!
[4 ноября]
Осмеливаюсь прислать несколько набросков из Дневника за последние две недели.
В нем помещены и мысли, и слухи, и толки, и сплетни. Писал или, вернее, записывал как умел, не сочиняя, а просто; если глупо, простите; если что стоит Вашего внимания, тем лучше.
4 ноября 1885 года
Понед[ельник] 21 октября Толки по поводу преемства гр. [Д. А.] Толстого.
Вторн[ик] 22 октября О взятках в судебн[ом] ведом[стве].
Среда 23 октября О питейном доходе.
Четв[ерг] 24 окт[ября] О Болгарии. Весть из Орианды.
Пятн[ица] 25 октяб[ря] Толки по пов[оду] приказа о князе Болгарском.
Суббота 26 окт[ября] Из рассказов вернувшегося из Болгарии русского офицера.
Воскрес[енье] 27 окт[ября] Слухи и толки.
Понед[ельник] 28 окт[ября] О Самодержавии.
Среда 30 окт[ября] Взгляд Т. И. Филиппова на вопрос болгаро-сербский.
Пятница 1 ноября Толки, сплетни и слухи.
Суббота 2 ноября По поводу палестинского вопроса. Б. П. Мансуров и беседа с ним.
Воскрес[енье] 3 ноября По пов[оду] войны сербоболг[арской]. Моя idée fixe.
Понедельн[ик] 4 ноября Мысли о Балк[анском] вопросе
Понедельник 21 октября
Был сегодня у знаменитого говоруна и оратора генерала [Е. В.] Богдановича. Среди многоречивых разговоров обо всем, он коснулся вопроса высших интриг.
– Какие интриги, – спросил я.
– Как? Вы не знаете? Ну полно.
– И первого слова не знаю.
И начался рассказ об интригах в высших сферах. Все сводится к вопросу о наследстве гр. [Д. А.] Толстого. Кому быть его преемником? Я на это говорю, что слава Богу, Толстой поправился.
– Катков это отрицает, – пренаивно отвечает мне собеседник, – он его считает умирающим! Ну так слушайте. Все сводилось к [М. Н.] Островскому: Победоносцев на него указывал. Ну-с, а потом Победоносцев перешел на сторону гр. Толстого и, разглядевши ближе, стал скептичнее относиться к достоинствам Островского. Тогда Катков сюда приехал, был у Островского и вынес впечатление, что Островский ничего себе, как кандидат на премьерство!
– Ну а Толстой кого же желает себе в преемники? – спрашиваю я.
– Как кого? Толстой желал бы statu quo с Ив[аном] Ник[олаевичем] Дурново.
– Как бы гораздо скорее не пришлось искать преемника Ивану Ник[олаевичу] Дурново, так как он положительно человек приговоренный к смерти, – говорю я.
– Да, ну уж не знаю.
И действительно, я не видел Дурново 2 недели и ужаснулся его опухшего и изнуренного лица. Доктор его [Ф. А.] Рощинин нашел опасное жировое наслоение в сердце, и не ему, а другим сказал, что если так будут продолжаться его занятия 18 часов подряд, то он не долго протянет, и может разом пропасть.
А граф Толстой, поправившись, рассчитывает на Ив[ана] Николаевича Дурново, чтобы ему заниматься меньше, а тому больше!
Все это неутешительно!
Видел [П. А.] Грессера сегодня, только что оправившегося от мучительного воспаления надкостной плевы в полости рта. Вот в его области есть утешительное. За 2 года Грессер выгнал из Петербурга до 18 тысяч бродяг и пролетариев, и в нынешнюю осень уже сказался результат его меры. Небывалое событие в Петербурге: теперь в самую скверную осень 500 незанятых кроватей в больницах, тогда как прежде в эту пору не хватало никогда кроватей! Из 300 тысяч рублей, отпускавшихся в его распоряжение на усиление больничных мест, он теперь не берет ни рубля!
Вчера он одержал блестящую победу над хлебными продавцами в розницу. Он уговорил их сбавить полкопейки с фунта хлеба и продавать по 2 коп., а не по 2½. После долгих прений и отнекиваний лавочники согласились.
Вторник 22 октября
Обвинение кронштадского Головачева[242] в либеральном лагере приветствуется, как триумф судебного правосудия. 14 дней потешались над правительственным чиновником, осудили и довольны.
Но никто не задается вопросом, в сущности, довольно интересным: неужели в этом судебном ведомстве все честные аристиды[243], и неужели за все время существования новых судов не было ни одного случая взяточничества, а если было, то как объяснить, что ни один чиновник судебного ведомства под суд за взятки не попал?
Это действительно курьезный вопрос. Но объясняется очень просто, хотя и неутешительно. Я лично знаю, например, четыре случая самого наглого взяточничества в суд[ебном] ведомстве, и если я знаю четыре, то вероятно каждый знает про один или два случая. А под суд никто не идет! А не идет потому, что Министерство юстиции приняло за правило уличенных во взяточничестве не только не отдавать под суд, но даже не увольнять от должности, а только перемещать из губернии в губернию. Взятки эти молодцы судебного ведомства берут крупные, но не иначе как в виде ссуд под векселя или расписки, никогда не уплачиваемые. В Пермской губ. не далее, как в прошлом году губернатор [А. К.] Анастасьев должен был донести министру юстиции, что прокурор в Екатеринбурге[244] дошел до апогеи взяточничества и обобрал весь город взятыми взаймы деньгами. Его перевели товарищем прокурора в Московский округ. На Волыни несколько лет назад губернский прокурор задолжал несколько десятков тысяч. Все завопили, и стоны ограбленных дошли до М[инистерст]ва юстиции. Его переводят в другую губернию. В Москве был один судебный следователь; он брал с живого и с мертвого; это было несколько лет назад, когда прокурором был нынешний попечитель Московского учебного округа гр. [П. А.] Капнист. Молва в то время громко говорила, что судебный следователь брал и для себя и для своего принципала Капниста. Во всяком случае, что Капнист прикрывал своею властью безответственность судебного следователя, это все знали в Москве. Наконец дело доходит до скандала; следователь попадается; начинается следствие… Что же делает Министерство юстиции? Нечто невероятное; оно переводит или, вернее, переносит следствие в другой округ, чтобы там дать ему без огласки замереть… Почему? – спрашивали любопытные. А потому, отвечала молва, что при следствии обнаружилась прикосновенность Капниста, а Капнисту дают без шуму улизнуть из судебного ведомства и устраивают ему местечко попечителя учебного округа. А что это вероятно, тому подтверждением может служить эпизод того же Капниста с знаменитым [Ю. С.] Нечаевым-Мальцовым уже теперь. Нечаев подал Капнисту прошение, в котором для своего ремесленного училища просит исходатайствовать права такие-то. Капнист с сочувствием отзывается на просьбу Нечаева, но не далее как на другой день просит у него взаймы 25 тысяч рублей, которые разумеется Нечаев ему не дает.
Среда 23 октября
Увы, не весело на душе, когда дотрагиваешься до какого-либо мира или вопроса, где запахнет веянием того времени, где все жило во имя измены Самодержавию. О, как велика еще и живуча эта вредная и губительная сила. Нет ведомства, где бы она не имела свое гнездо и своих фанатиков. Каются ли в заблуждениях прошлого эти люди теперь? О нет! Они упорно, последовательно, умно и настойчиво ведут свое дело, и добиваются самого ужасного: заставляют к себе привыкать, заставляют себя признавать нужными… Бунге без [Е. Е.] Картавцева, [Ю. Г.] Жуковского и Кии теперь жить не может. [И. А.] Шестаков без [Н. М.] Чихачева немыслим, Чихачев немыслим без [В. А.] Обручева, а Обручев кто такое? Страшно вспомнить. Писал я сегодня статью о новых питейных правилах, имеющих быть примененными 1 января[245]. И для этого внимательно познакомился с этими правилами. Боже мой, в каком нехорошем духовном мире писались эти правила, сколько в них ловко маскированного злого умысла. Сколько обмана допустил Бунге ввести в эти правила. Обман сразу бросается в глаза. Говорят, что эти правила изданы с целью ослабить пьянство! Нет, увы, наоборот, в этих правилах умно, очень умно и искусно концентрировано все, что только может усилить пьянство, а с другой стороны все то, что может помешать чьим-либо усилиям противодействовать усилению пьянства!
Грустно, невыразимо грустно! Но что же делать, говорят мне, надо извлекать доход, надо помнить, что питейный акциз это один из главных доходов государства!
Нет, никогда с этим не соглашусь. Благодати Божией не может быть над государством, коего главный источник дохода – кабачная водка!
Тут и задумываться по-моему нельзя. Тут надо прямо и бесстрашно решиться с Божиею помощью противодействовать пьянству, хотя бы с уменьшением и значительным уменьшением акцизного дохода. Откуда же денег взять? Господи Боже мой, в том-то и горе, что есть откуда доходы брать, но там не берут. Мысль об уничтожении подушной подати[246], представлявшей 50 миллионов, была, например, мысль из того лагеря. Кого ни спросишь из живущих в провинции, все говорят и говорили, что подушная подать никого не тяготила… Ее отменили, и тот лагерь, кто эту мысль изобрел, поневоле пришел к сознанию, что взамен подушной подати надо всеми мерами позаботиться об увеличении или по крайней мере о неуменьшении питейного дохода. А питейный доход разоряет народ духовно и материально!
Как же быть? Откуда взять другие доходы?
А увеличение тарифного налога, а увеличение табачного дохода[247], а увеличение налога на все вина, а энергическое введение подоходного налога? Разве все это вместе не десятки миллионов?
Но в том то и беда, что с подоходным налогом медлят, потому что он требует усиленной и добросовестной работы! А ее не любят наши либералы. Да и то сказать, подоходный налог всем в карман заглядывает, он не мил богачам.
А по мне Бог благословил бы тот день, когда во главе правил о питейной продаже стояли такие статьи: 1) Правительство желает всеми мерами достигнуть ослабления и уменьшения пьянства в народе и всех гибельных его последствий для благосостояния государства и народа, и 2) правительство призывает всех и каждого по мере сил содействовать ему в достижении этой цели.
А рядом с этим, для возмещения имеющего произойти от уменьшения пьянства уменьшения питейного дохода, что могло бы помешать правительству, вопрос об увеличении доходов, или прямо вопрос о подоходном налоге, предоставить на предварительное обсуждение особо созываемых губернских комитетов, наподобие крестьянских комитетов, работавших до 1861 года, в состав которых вошли бы местные помещики, заводчики, купцы и правительственные должностные лица. Затем из этих местных работ могла бы образоваться работа для особого финансового комитета в Петербурге, с членами от правительства и от губерний. Независимо от вероятия, что вышла бы работа дельная, как такое общее дело оживило бы и пробудило Россию от апатии!
Были у меня сегодня гости. Старик генерал [И. М.] Гедеонов привез из клуба известие или слух о назначении [П. В.] Оржевского харьковск[им] генер[ал]-губернатором[248], а [Н. А.] Безака на место Оржевского!
Другой гость рассказывал об отчаяньи [М. И.] Кази в понедельник, когда ему сказали, что Императрица не будет[249], и он букет, Ей предназначенный, поднес Вел. Кн. Марии Павловне. Императрица приезжает, а букет то один![250]
Я получать начал письма из провинции по поводу новых питейных правил. О них говорят с недоверием, с тревогою и с опасением за усиление пьянства. Новые эти правила, изданные 14 мая 1885 года и имеющие быть примененными с 1 января будущего года, действительно заслуживают особенного внимания. Благодаря летнему затишью, они проскочили в жизнь как-то незамеченно и тихо, и рассматривались-то они вероятно в Государственном совете во вторую половину его сессии, когда все спешат поскорее кончить множество оставшихся еще нерешенными дел, и, следовательно, вероятно не удостоены были в Государственном совете полной доли внимания. А есть о чем поговорить по поводу этих правил. Начать с того, что они разосланы были местам и лицам в провинции при особом циркуляре министра финансов. Какая цель была этого циркуляра? Цель его была разъяснить смысл и назначение этих «новых правил». Из разъяснения видно, что главная цель «новых правил» – будто бы уменьшить злоупотребления и гибельные последствия для народа от пьянства…
Но интерес очевидно не в циркуляре, а в том, согласуется ли содержание «новых правил» с толкованием их в циркуляре, или, другими словами, правда ли то, что в циркуляре написано.
К сожалению, в «новых правилах» читатель не только не находит доказательства желания Министерства финансов уменьшить пьянство, но, напротив, он с сожалением убеждается, что если с какою-нибудь целью эти правила изданы, и будут введены в действие, то только лишь с тем, чтобы дать широкую возможность пьянству усилиться.
Да и то сказать, к чему тут объяснительный циркуляр? Если в «новых правилах» мысль правительства об уменьшении пьянства была ясна и точна, то разве понадобился ли циркуляр?
Очевидно нет! Да к тому же циркуляр, говорящий о каких-то идеальных и благолюбивых стремлениях, – прочтется немногими, а «новые правила» прочтутся всеми в России; циркуляр прячется под сукно, а «новые правила» начнут с января будущего года применять. Следовательно понятно, что вся суть дела не в циркуляре, а в самом тексте «правил».
Это ехидство в полном разладе между пояснительным циркуляром и текстом «новых правил» явление характерное, весьма напоминающее, например – различие между тем как правительство взглянуло на вопрос о Дворянском земельном банке, и между развитием правительственной мысли деловым порядком опять-таки в Министерстве финансов! Сквозит чей-то замысел перечить намерениям и желаниям правительства.
И, вправду, если бы циркуляр Министерства финансов о «новых питейных правилах» согласовался с последними, то не в праве ли были бы все в начале этих правил найти статьи в роде следующих, например:
1) Правила имеют целью способствовать всеми мерами к уменьшению пьянства в народе, и всех гибельных его последствий.
2) Всякое сельское общество имеет право на сельском сходе большинством голосов воспрещать открытие на своей земле каких бы то ни было питейных заведений.
3) Независимо от этих правил правительство ожидает от общества полного содействия к достижению главной цели: уменьшения пьянства и борьбы со всеми его видами…
Ничего похожего на такие постановления в Правилах 14 мая 1885 года не находится.
Совсем напротив. Подробное рассмотрение «новых правил» выясняет введение новых начал в питейное дело на Руси.
Первое новое начало: стеснение до крайних пределов права крестьянских обществ и земельных владельцев не дозволять открытия питейной продажи на своей земле. Даже более того: «новые правила» в принципе уничтожают существовавшее доселе право сельского общества давать или не давать согласие на открытие в границах его оседлости питейного заведения и освящают новые права каждого владельца усадьбы открывать заведения без согласия общества. (Ст. 27 пункт г.)
Второе новое начало: установление такого процесса продажи и пития крепких напитков в деревнях, при котором оно обставлено большими удобствами, большим комфортом, чем прежде. Знаменитый питейный дом или кабак заменяется, на основании «новых правил», трактирным заведением с правом раздробительной продажи крепких напитков. Всякий, знающий мало-мальски деревенскую жизнь, понимает, что так как в большей части селений в России трактиров в смысле городском не имеется и долго еще иметься не будет, то, на самом деле, это новое начало, введенное «новыми правилами», будет на практике означать, что новое питейное заведение преобразуется в трактир только для того, чтобы избавиться от тех ограничений, стеснений и неудобств, которыми прежним питейным уставом были обставлены кабаки или питейные заведения (одна комната, один выход, отсутствие мебели и т. д.). По смыслу «новых правил», главное место в деревне для получения водки будет с будущего года так обставлено, что крестьянину не только будет приятно пить, но не пьющий получит возможность незаметно и исподволь приучиться пить.
Третье новое начало – ограничение возможности противодействовать пьянству.
В этом отношении «новые правила» и некоторые его статьи заслуживают особенно внимания… Я уже говорил о том, что «новые правила» отняли у крестьянского общества право давать свое согласие или несогласие на открытие в селе питейного заведения. Но затем идут дальнейшие, в связи с этим пунктом, главнейшие постановления.
Тут поистине интересно ехидство составителей или редакторов «новых правил».
«Пункт 16. Заведения для раздробительной продажи крепких напитков вообще могут быть открываемы только в местах населенных».
Наивно и просто! Значит, в ненаселенных местах нельзя открывать, подумает читатель, и скажет спасибо хоть за это стеснение… Ничуть не бывало. Далее, в той же статье, сказано:
«Постоялые же дворы или корчмы могут быть открываемы и в ненаселенных местах, но не иначе однако, как на переправах, пристанях и проезжих дорогах (уст[ав] пут[ей] сообщ[ения], ст. 10), причем на проселочных и полевых дорогах раздробительная питейная продажа может быть допускаема лишь по уважению особых местных условий, с утверждения губернского присутствия».
«Особые местные условия»! Поди-ка, разбирай, что значит особое местное условие!
«Пункт 29. Заведения для раздробительной продажи напитков могут быть содержимы как отдельными лицами, так и сельскими обществами»!
Ясно теперь, почему у сельского общества отнято право налагать свое «veto» на открытие заведений… Оно само приглашено в кабатчики!.. Значит, там, где сельское общество держит трактир, кабак, там его интерес – усиление пьянства, и там всякая попытка противодействовать усилению пьянства – немыслима!
«Пункт 54. Питейная продажа в трактирных заведениях, а также в постоялых дворах или корчмах не может быть воспрещаема в селениях, имеющих не менее 5000 наличных душ обоего пола, а из селений с меньшим населением – во всех базарных, торговых, промышленных и фабричных селах, а также при станциях железных дорог, у пристаней и перевозов больших рек, на проезжих трактах и вообще в местах значительного скопления или проезда посторонних людей».
«Пункт 55. Устройство временных выставок может быть разрешаемо только на ярмарках и в местах значительного временного стечения народа».
Спрашивается: где же может быть воспрещаема питейная продажа, так как трудно себе представить селение, где бы не было базарного дня?
Но затем далее.
«Новые правила», после такого категорического определения, допускают, однако, право ходатайства сельских обществ о закрытии нового образца питейных заведений.
Но как? Здесь опять интересно ехидство редакторов текста «Новых правил».
«Пункт 58. Сельским обществам селений, не подходящих под условия, указанные в ст. 54, предоставляется ходатайствовать о неразрешении в черте усадебной оседлости их селений как раздробительной питейной продажи вообще, так и одной только распивочной продажи».
Что же оказывается?
Оказывается, что только те общества имеют право ходатайствовать о неразрешении открывать питейные заведения, которые не подходят под условия статьи 54. А под статью 54, как видно, подходят, может быть, 90 процентов всех селений в России…
Но и тут, заметьте, в пункте 58 не сказано, что сельское общество может не разрешать питейного заведения, а сказано, что оно может только ходатайствовать о неразрешении…
А что в этом огромная практическая разница, то сие доказывает несомненно пункт 61.
«61. Присутствие может отказывать в удовлетворении означенных в статье 58 ходатайств, если заявившие их селения имеют более 500 наличных душ обоего пола, или представленные ими ходатайства, по имеющимся сведениям, не вызываются стремлением противодействовать развитию пьянства».
Значит что же выходит? – Опять-таки ничего! Кто не знает, что селение с 500 душ не может не иметь базарной площади, следовательно не может не подходить под пункт 54.
А главное: как уследить, как доказать, что ходатайство сельского общества вызывается стремлением противодействовать развитию пьянства, если присутствию вздумается доказывать, что ходатайство не вызывается этим стремлением?
Затем далее. «Новые правила» установляют две инстанции питейных присутствий, уездное и губернское. С какой целью? – Очевидно, с целью ограничить свободу действий уездного присутствия, состоящего из людей, знакомых с местным бытом и нуждами своего уезда, таким учреждением, которое с тем и другим вовсе не знакомо, и будет смотреть только на вопрос с точки зрения фискального интереса.
О том, что эта догадка верна, можно с вероятием судить, например, по пункту 47.
«47. Уездным присутствиям предоставляется, по надлежащем исследовании, представлять губернскому присутствию о закрытии заведений для раздробительной питейной торговли, содержатели коих своими злоупотреблениями, хотя бы на суде и недоказанными, вызовут общее неудовольствие местных жителей. Такие заведения закрываются по распоряжению губернского присутствия».
Ясно, что «новые правила» не доверяют уездному присутствию власти закрывать заведения, не взирая на то, что последние гораздо компетентнее и заинтересованнее в этом вопросе губернских присутствий. Следовательно, опять-таки незаметное противодействие возможности бороться с пьянством…
Еще яснее это видно в тексте пункта 45.
«45. Общества трезвости, приходские попечительства и братства, церковные советы, а также частные лица, которые пожелают содействовать обнаружению допускаемых виноторговцами нарушений, могут заявлять о таких нарушениях учреждениям и лицам, на коих возложен надзор за производством питейной торговли».
Кто знает деревенскую жизнь, тот поймет, какая насмешка заключается в пункте закона, дающем обществу трезвости право заявлять о нарушениях питейных правил акцизному ведомству (не нарочно ли оно не названо в правилах и заменено просто: «Лиц, на коих возложен надзор за производством питейной торговли»!!!). Воображаю священника, выступающего против кабатчика своего села с доносом к акцизному чиновнику, и то, что из этого доноса выйдет…
На этом останавливаюсь пока… Довольно и сказанного, чтобы навести на вопрос: не тяжкий ли грех лукавства приняли на свою душу относительно бедной России составители «новых правил о питейной торговле»?
Четверг 24 октября
Сегодня главное событие дня это приказ об исключении князя Болгарского из списков русской службы[251]. Везде слышал отзывы сочувствия этой мере. Сегодня в «Нов[ом] времени» появилась интересная беседа корреспондента с митрополитом, бывшим членом депутации, ездившей к Государю в Данию[252]. Интерес этой беседы заключается в том, что причину скверного духа в болгарской интеллигенции, духа безбожия и нигилизма, охватившего все слои и все возрасты болгарской интеллигенции, он, митрополит, между прочим относит и к русским. Это весьма грустная, но истинная правда. Болгария, по его словам, в эти годы видела близко таких русских, которые приезжали к ним как будто хвастаться и кичиться своим безбожием и нигилизмом и проповедовать ненависть к русскому государству, как к Православной Самодержавной Империи. Эти русские были первыми апостолами нигилизма в Болгарии, а вторыми апостолами явились болгары, воспитанные в России. Все они, без исключений, являлись в Болгарию без религии и грубыми материалистами. Науки они приобрели мало, а безверия и беспринципности много. Во главе таких питомцев русской школы был [П.] Каравелов!
Что будет с этою Болгариею? Безысходно мрачно ее будущее. Единственным противовесом растлению в Болгарии могли бы быть русские офицеры, но пока князь Александр там, не будет русских офицеров; вот почему так нужно казалось бы, именно чтобы вновь послать в Болгарию русских военных, изгнание князя Болгарского.
Положение наше трудное. [Н. К.] Гирс умное и меткое сказал на днях слово: «Le sangfroid de l’Empereur sauve la position…»[253] Но боишься все минуты, и усложнений, когда хладнокровия не хватит в виду гадостей одних и безумия других.
Был у меня сегодня молодой князь [Э. Э.] Ухтомский, вернувшийся из Крыма. Он сын недавно умершего бывшего адъютанта В[еликого] К[нязя] Конст[антина] Николаев[ича][254]. В Крыму В[еликий] К[нязь] пожелал его видеть. Он ездил к нему в Орианду, в его жилище о 3 комнаты. В кабинете, где его принимал В[еликий] К[нязь], Ухтомского поразила масса пакетов, писем, тетрадей и записок, разбросанных по столу. С первого же взгляда бросается в глаза огромная корреспонденция и масса материала для чтения. Характерно, что [А. В.] Головнин выписывает «Гражданин» в 2 экземплярах. Мне говорили, что один он отсылает В[еликому] К[нязю]. Я способен этому верить, так как В[еликий] К[нязь] говорит Ухтомскому: «А ты не только литературою, но и публицистикою занимаешься!» Между тем Ухтомский пишет в одном только «Гражданине». Значит, он попался на глаза В[еликому] Князю!
Пятница 25 октября
Толки по поводу приказа о князе Болгарском все продолжаются. Слышал суждения и против этой меры, которые не могу разделять. Суждения против исходят из мысли, что этим могут вызвать реакцию в пользу князя Болгарского со стороны всех тех держав, которые за него стоят прямо или косвенно. Эти державы могут теперь сказать России: вы уже его наказали сами, зачем же требовать его свержения. Я, признаюсь, этого мнения не разделяю. Князь Болгарский исключен из русской службы за преступления против Русского Государя, а свергнут он должен быть как нарушитель обязательств против Берлинского трактата!
Русские офицеры, вернувшиеся из Болгарии, появились сегодня на Невском проспекте. Многих озабочивает вопрос: подумали ли о русских нижних чинах в Болгарии; участь их там не завидна. Как бы на них не выместили болгарские мерзавцы своих чувств мщения относительно России. Очень жаль, что ничего об этом не печатается официального. Несомненно, что подумали об обеспечении судьбы всех русских в Болгарии, а между тем отсутствие сведений об этом дает всяким кривотолкам пищу.
Еще мысль в ответ критикующим меру исключения князя Болгарского из службы. Это весьма умный шаг, чтобы volens nolens[255] заставить все державы согласиться на требование России относительно удаления князя Болгарского. Если теперь найдутся державы, настаивающие на неприкосновенности князя Болгарского, невзирая на кару, ему нанесенную Русским Государем, то ясно будет, что такая с их стороны настойчивость уже получит характер прямо против Русского Государя направленной демонстрации.
Суббота 26 октября
Виделся сегодня с одним из вернувшихся из Болгарии офицеров, бывшим преображенцем Молоствовым. Он там командовал ротою. Подробности у меня записаны в Дневнике «Гражданина»[256]. Здесь записываю только в печать не подлежащее. Из его слов несомненно будто, что и в Болгарии, увы, плохо послужили интересам нашего правительства его дипломатические агенты; узнай они вовремя, предупреди они правительство вовремя, а узнать вовремя было не трудно 1) через умных лазутчиков, а 2) через болгар партии русской, – никакого переворота не могло бы быть по той простой причине, что русское правительство успело как раз вовремя принять меры к разрушению всей каравеловской интриги.
Но вот что еще важнее. Если, например, изумительно, что при князе Черногорском[257] по странной случайности русским агентом является грек, тогда как там именно так был бы полезен честный, теплый, умный и настоящий русский, то как оказывается, болгарский военный министр наш генерал [М. А.] Кантакузен явил себя настоящим греком относительно русского Государя. Они, русские офицеры, убеждены, что хотя Кантакузен божится и клянется, что он ничего про переворот не знал, он на самом деле все знал и играл все время двойную игру… Уже тот факт, что за несколько время до переворота от него поступило в полки секретное распоряжение не давать отпуска офицерам, является почти несомненным и уличающим доказательством. А главное, что внушает русским офицерам убеждение в двуличности Кантакузена, это его дружба с [П.] Каравеловым. Уже это одно – факт сам по себе весьма некрасивый, хотя, к сожалению, он в наших интеллигентных нравах: кому, как не бывшему начальнику штаба жандармских войск дружиться с предводителем нигилистов в Болгарии и врагов русского правительства?
Воскресенье 27 октября
От нечего делать Петербург сочиняет всевозможные слухи.
Прежде всего назначают [П. А.] Грессера, одни в Харьков на несуществующий генерал-губернат[орский] пост; другие – в Киев на место [А. Р.] Дрентельна, а последнего производят в попечители Цесаревича.
Это в одной области. В другой возвещают об уходе [Д. Н.] Набокова. В преемники прочат странные имена морского генер[ального] прокурора [К. Я.] Яневича, барона [А. П.] Николаи, а другие – [Н. А.] Манасеина и [Э. В.] Фриша.
Если в этих слухах факт ухода Набокова верен, то самым трудным вопросом является вопрос о его преемнике. Надо прежде всего найти человека, преданного идее Самодержавия. И в то же время не политикана, то есть человека без политической тенденции и политических страстишек.
Из называемых молвою двух приходится опасаться, это барона Николаи и Манасеина. Последний человек умный, но безмерно страстный и весьма демократического образа мыслей. С его назначением явилась бы ненависть к дворянству неизбежно в судебной области. О бароне Николаи и говорить нечего. Это человек умный, но головнинской партии. Есть прекрасный человек в судебном ведомстве, которого Бог весть почему менее ценят, чем других, далеко не стоящих его по честности и по опыту; к тому же это человек старых преданий, строгий и честный. Человек этот сенатор [М. Ф.] Гольтгоер. Это был бы надежный и хороший министр юстиции.
А не его, так я все-таки стоял бы на своем: уговорить К. П. Победон[осцева] принять Минист[ерство] юстиции, не оставляя Синода. Взял бы он себе для работы хорошего товарища по Минист[ерству] юстиции. А сам давал бы только тон и направление судебному ведомству, не оставляя благотворной деятельности своей по Синоду.
Еще ходит слух: будто [М. Х.] Рейтерн уходит, и на его место прочат графа [Д. А.] Толстого…
И еще слух, всех нелепее, тоже из Англ[ийского] клуба, что Делянова заступает на кресле министра нар[одного] просв[ещения] Катков.
Понедельник 28 октября
Иной раз и умные люди делают промахи непростительные. Делянов и осторожный и преданный человек; а какую он неосторожность и необдуманность себе позволил. Узнаю от А. Майкова, глубоко тем смущенного, что Делянов дал проникнуть в молву и в публику так сказать одно слово, начертанное Государем на докладе, где излагалась инструкция для университетских экзамен[ов] по новому уставу, для юридических факультетов. Против слов: «Самодержавие есть источник всякой власти в России» и т. д. будто Государь отметил слово: «есть» и сбоку написал: «было» и несколько восклицательных знаков.
– Это – ужасно, ужасно, – воскликнул дрожащим голосом старик Майков, – что Государь это мог написать, потому что если Он это написал, значит Он это подумал, значит это крик его души, значит Он не верит в Свою силу, значит Он додумался, дошел, дострадался до этой роковой мысли, это ужасно, ужасно; но еще ужаснее то, что Делянов этому «было» дал огласку: если он порядочный человек и преданный человек, он должен был дождаться возвращения Государя из Дании и просить Его позволения эту бумагу с этим словом никому на свете не показывать или просить Государя стереть это слово! И что же? Если я узнал, так значит и другие узнали… Ведь это сорвавшееся с карандаша слово, если не дай Бог пройдет в сферы, где твердо верят в Самодержавие, или в сферы врагов его, может первых довести до уныния, до отчаяния, а вторым придать бодрость и силу.
Слова старика звучали в душе моей как чистая и живая правда. Мы друг друга поняли, сказавши, что от нас обоих никто не узнает про это слово. Но какая вина ложится на Делянова, что дал этому слову разойтись по губам. Ясно, что у Государя оно сорвалось, как срывается слово в разговоре глаз на глаз, но разве все, что Государь говорит с глаза на глаз, может быть достоянием третьего лица?
Но Боже, неужели в самом деле Государь пришел к сомнению, что Самодержавие есть источник всех властей в России?
Ведь сомневаться в этом, значит сомневаться в России, значит мыслить о возможности погибели России. Россия только потому и для того и Россия, что она есть осуществление идеи Самодержавия. Царь несамодержавный в России не есть Русский Царь; его народ перестает быть русским народом. Его слуги – уже не преданные Ему, а враги Его поступают к Нему на службу, и Он должен вести Россию по их воле, а воля их – разложение и раздробление России, то есть ее смерть.
Напротив, никогда как теперь не возродилась к силе и к жизни идея о Самодержавии как о спасении России, и только захоти Государь – последние усилия к борьбе с Самодержавием в лагере либералов исчезнут, как дым.
Россию томит одна жажда – жажда по твердом проявлении Самодержавия.
Россию томит один страх: ослабления идеи Самодержавия сверху, равносильное вести о близкой ее кончине.
Среда 30 октября
Собралось у меня сегодня человек 15 гостей на мою средную чашку чая. Немало говорили о политике. Т. И. Филиппов очень ясно и выразительно изложил перед нами безысходную сущность балканского вопроса, поставив вопрос на его историческую основу. Со дня, когда Православная церковь перестала быть объединяющим для славянских народов полуострова духом, и русская дипломатия отделила от вопроса церкви вопрос политический, а Русская Церковь в свою очередь признала себя равнодушною к таким вопросам, как отдельные самозванные Румынская, Сербская и наконец Болгарская церковь[258], с того дня балканские народы были потеряны для нас навсегда. Историческая правда говорит, что церковный и политический вопросы на Балканск[ом] полуостр[ове] – одно и то же; дипломаты их разделили, и что же случилось? Случилось то, что теперь уже мы видим слишком явно: разделившись на отдельные церкви, славянские народы в то же время возненавидели друг друга и отвернулись от России. Сербия отдалась Австрии, Босния и Герцеговина проглочены Австриею, а Болгария собирается отдаться Англии. Увы, всего этого не было бы, если [бы] Россия, внимая своему призванию, в союзе с Греческою Церковью предупредила бы разделение церквей и оберегла бы церковное объединение на Балканском полуострове!
Пятница 1 ноября
Курьезное время. Нет дня, чтобы кто-нибудь не пускал по городу рассказ о том, что побили того-то. За эту неделю пущено целых три рассказа; один о том, как ночью у ресторана Понсе несколько пьяных военных побили Грессера[259]; рассказ о какой-то офицерской драке в Кавалергардском полку и наконец рассказ о том, как побили командира Конно-Гвард[ейского] полка[260].
Эти измышления – нехорошие признаки времени; они доказывают пустоту жизни с одной стороны, и огрубение инстинктов с другой стороны.
В то же время, как будто вследствие этого вымысла, того же Грессера назначают на три генерал-губернат[орских] поста разом. А это происходит несомненно от скрытого желания иных людей сжить и сбыть Грессера из Петербурга, благо он замечательно хороший градоначальник и очень нужное именно здесь, на своем месте, правительственное лицо.
Грешно заподозривать, но если бы мне сказали, что всех более желает сбыть Грессера отсюда [П. В.] Оржевский, я бы поверил.
Слышал сегодня много толков об уходе Набокова. Одни говорят, что Государь его в среду не принял, а принял только его бумаги, другие говорят, что его приняли на минуту только, и все толкуют о преемниках Набокова.
Назвали сегодня нового, князя [А. К.] Имеретинского, и признаюсь, это назначение молвы нравится многим, и в самом деле, очень симпатично, хотя бы уже тем, что Имеретинский военный человек и является совсем новым элементом в ведомстве юстиции. Про себя говорю: дай Бог, чтобы сие было!
Суббота 2 ноября
Долго беседовал сегодня с Б. П. Мансуровым о Иерусалимском вопросе[261]. На него напали с одной стороны Катков, с другой стороны Палестинское общество[262] и К. П. Победон[осцев]. Мансуров говорил с жаром и с энтузиазмом, и хорошо говорил. Предмет нападков на него – его стояние за Патриарха Никодима, тогда как оппоненты его считают Никодима скрытым врагом русских интересов в Палестине и виновником жалкого состояния православной паствы в Иерусалиме.
Я, признаюсь, скорее склоняюсь на сторону Мансурова. Греческое плохо, это правда; но оно есть что-то твердое, прочное и с прошедшим многих веков; а то, что предлагают взамен греческого, то на самом деле только фикция: арабский православный элемент слишком первобытен и неспособен из себя создать духовенство, хотя бы сколько-нибудь годное для сожития с католическим и протестантскими паствами; а русского элемента взамен греческого совсем неоткуда взять; для наших нужд в России неоткуда достать 10 архимандритов выдающихся, а где же взять для Палестины несколько сот духовных подвижников.
Я и в том согласен с Мансуровым, что напрасно и не политично поступило Палестинское молодое общество, сразу поставив себя в недружелюбные отношения к Никодиму. Напротив, ему следовало бы с избытком смиренномудрия снискать себе расположение Патриарха, и затем уже через это благорасположение идти к целям своим и искать влияния на него. А то теперь все между собою рассорились, и страдают прежде всего живые интересы нашей церкви в Палестине.
Пока мы беседовали, явился к Манс[урову] граф Толстой. Вид его мне очень не понравился. У него нездоровое лицо, хотя он говорит, что чувствует себя бодрым.
Воскресенье 3 ноября
Война объявлена[263], это всеобщая тема разговоров. Характерно: оба полководца-владыки призывают в одно и то же время на помощь Бога и султана!
Есть такой толк: что будто эта война как будто по инициативе Австрии допущена державами как стимул для конференции: пускай дескать подерутся маленько, а затем Сербии дадут частицу Болгарии, а Болгарии частицу Румелии, и все успокоится. А Грецию как успокоить!
Все это так.
Но у меня лично одна idée fixe[264], которая меня мучит и днем и ночью: как бы Англия не сделала переворота в Константинополе и не купила у султана проливов, чтобы нас запереть в Черном море. Бунге назвал бы сию мысль сумасшедшею, но будь я распорядитель судеб России, я бы на 8 или 9 миллионов прекратил крестьянам ссуды для покупки земель, и эти 9 миллионов немедленно употребил бы, пока Англия еще не упредила нас, на покупку тайно у султана проливов. Я убежден, что султана и его министров можно, ловко поведя дело, на эту штуку подкупить.
Понедельник 4 ноября
Газеты мало приносят новых и умных мыслей на счет балканских событий. Начинает звучать как будто позыв к воинственности в петербургской сплетне: «Новое время». Слышится как будто первое слово о том, что и нам вмешаться надо.
Но так ли? Чего желать?
Спрошенный по совести и взирая на общее состояние уныния и застоя в России, я бы сказал: от деятельного вмешательства в славянскую распрю России, ей хуже не будет; напротив, может быть лучше от внезапного пробуждения жизни и подъема духа. Тогда программа действий рисуется сама собой. Неуспех конференции; Россия не встречает в своем желании восстановить statu quo ante[265] сочувствия и содействия всех держав, вследствие этого ее собственные интересы ее вынуждают действовать самосостоятельно и ввиду усложнений возобновить оккупацию Болгарии и в то же время послать ультиматум Сербии немедленно вызвать войска из Болгарии и прекратить безумный бой. В случае неисполнения Сербиею требования России, принудить ее к тому силою.
Но все это решительно, быстро и смело – имея в виду и войну с Австриею, хотя есть основание предвидеть, что если Россия немедленно пошлет строжайший ультиматум Сербии, с угрозою, Австрия не решится из-за этого на войну с Россиею, и Сербия должна будет уступить.
Но есть и другая программа. Она мудрее. Совсем бросить славянские народности на произвол их междоусобия и на съедение Австриею. Австрия пусть заменит Турцию. Рано или поздно и Австрия подавится славянами, и славяне прибегнут к нам… Но это не иначе, как завладев проливами. Проливы турецкие должны быть наши. Без этого мы пропали. Отчего не попробовать их приобресть деньгами и тайком. Есть умный человек, египетский [М. А.] Хитрово; отчего бы не вызвать его и не поручить ему устроить это дело в Константинополе, прежде чем Англия это сделает. Заключить секретный договор и тайком послать в форты проливов русских офицеров и унтер-офицеров, а рядовые могли бы остаться пока и турецкие… Это кажется сумасшедшею мыслию, но в политике нередко сумасшедшие мысли по своей смелости – оказываются самыми пригодными…
Из газет видно, что Болгарию считают пешкою Англии, а Сербию пешкою Австрии. Мне сдается, что обеим очень хотелось бы втравить Россию; но потому-то и является вопрос: не будут ли они обмануты, особливо Англия, рассчитывающая, вероятно, нас отвлечь от Афганистана, – если мы не двинем пальцем, а все устремим на вопрос о проливах.
А затем я повторю в сотый раз: чье все это дело?..
Чье?.. Готов поклясться, что главный инженер и минер всего этого дела – Бисмарк…
Вот почему на план Бисмарка два ответа: или быстрая смелость, которую он от России не ждет, или полное безучастие, с мыслию о проливах и о быстрой постройке Черноморской эскадры.
Сейчас слышу о новом кандидате на преемство Набокову – [В. К.] Плеве! Так и вырвался при этом крик из души: не дай того Бог! Про Плеве одно все скажут: никто не знает: кто он? Это сфинкс, а это свойство всего опаснее. Эта таинственная личность была мила – [М. Т.] Лорису-Меликову, была мила [Н. П.] Игнатьеву и теперь мила [Д. А.] Толстому… Cela ne dit que trop![266]
Да и зачем брать таинственных, когда такие личности, как [А. К.] Имеретинский и [М. Ф.] Гольтгоер ясны и надежны…
[9 ноября[267] ]
От всей души, как лучом солнца согретой, обрадованной и освещенной, благодарю Ваше Величество за милостивые строки!
Мне передано было приказание Ваше сообщить имя автора статей о цензе.
Почтительнейше прошу дозволения сообщить имя сие непосредственно Вашему Величеству. Писал эти статьи лейтенант Максимов[268], в Кронштадте.
Но при этом дозвольте, Государь, воззвать к Вашему милосердию и умолять это имя не сообщать И. А. Шестакову и Вел. Князю Алексею Александровичу. Наверное, ни тот ни другой не захотят карать виновного, если Вы, Государь, милосердно простите, но под ними есть маленькие лица, которые незаметно и à la longue[269] могут, если как-нибудь узнают, страшно наказать виновного и раздавить офицера.
Все это ряд несчастных сплетений. Мой помощник [Ф. Н.] Берг принял эти статьи и он же просил Максимова написать их, как бы для него, с тем, что он уже будет отвечать за них. Тот написал, совсем упустив из виду свою двойную ответственность. А Берг дал ему честное слово никому его имени не называть. Я же к несчастию ничего не знал про все это и просто принял статьи, не справившись: от кого. Говорю: к несчастию, ибо прямо скажу, что знай я, что статьи от служащего, я бы их не напечатал, держась сего принципа всегда. Теперь вышло ужасное положение. Виновный автор сознает свою вину и страшно поражен, он проходит через внутреннюю казнь, которая, ручаюсь, его на всю жизнь впечатлит. Берг, связанный честным словом не говорить никому имя автора, не мог на мое требование не нарушить этого слова, а я, на предъявленное мне официально требование, не зная, как Вы, Государь, посмотрите на это все, из страха огласить имя виновного, решаюсь непосредственно все открыть чистосердечно Вам одним, о чем сообщил конфиденциально гр. [Д. А.] Толстому.
За сим остается мне только умолять Ваше Величество во имя праздника 14 ноября простить милосердно виновным, в уверенности, что это милосердие падет на благодарную почву и принесет плоды!..
Затем еще моление. Удостойте, Государь, прочесть в прилагаемом Дневнике «Гражданина» о памятной книжке Моск[овской] военно-фельдшерской школы![270] Уверен, что она Вам понравится. А если понравится, то умоляю, не признаете ли нужным, [послать] по экземпляру выписки (нарочно прилагаю два экз.) один военному мин[истру][271], а другой Делянову, с тем, чтобы оба завели такие памятные книжки в учебных заведениях, с приспособлением сообразно заведению. Я твердо убежден, что такая памятная книжка может прекрасное иметь действие на молодежь!
К. В. М.
P. S. А если неудобно посылать самые листы № «Гражданина», то может быть возможно было бы просто обратить внимание обоих на Памятную Книжку Моск[овской] военно-фельдшерской школы.
Вторник 5 ноября
На Невском проспекте встречаю нашего начальника [Е. М.] Феоктистова; он отводит меня в сторону и сообщает мне весть о предстоящей «Гражданину» каре и о гневе Государя, коему [И. А.] Шестаков принес жалобу по поводу статей о морском цензе[272]. При этом он указал мне на конец второй статьи, где помещены особенно резкие выходки. Сегодня же вечером получаю записочку от К. П. Поб[едоносцева] с известием об уходе Набокова и о предстоящем «Гражданину» предостережении! Испытал сильную досаду. Конец статьи, увы, мною прочитан только сегодня; он действительно резок и неприличен: я понадеялся на [Ф. Н.] Берга, сам в мигрени не прочитал его, и вот. После этого говорят о возможности уезжать куда-нибудь для отдыха, когда и десятка строк я не могу поверить другому! Больнее всего гнев Государя за чужую вину!
Когда я узнал подробности, на сердце легла заноза против Шестакова. Что он прав в своем негодовании и в праве требовать кары для меня, это несомненно, но хорошо ли он поступил, принесши свою жалобу Государю, а не министру внутренних дел. Государь слишком высок для такого будничного вопроса печати; в принципе слишком много чести журналисту, как мне кажется, и как бы недостаточно уважен престиж Царского деловедения. Только тогда восходили до Престола жалобы или претензии на печать, когда редактор являлся явным возбудителем к ненависти к Власти и к порядку. Да отчасти и недоверие морского министра к министру внутренних дел тут сквозит: ведь от него исходит инициатива преследования.
Совершилось! Набоков стал преданием! [Н. А.] Манасеин на его место! В Министерстве юстиции переполох, картина человечества: все бросили в миг любимцев Набокова и бросились к любимцам Манасеина, то есть к тем, которые ездили с ним на ревизию в Остзейский край[273].
Среда 6 ноября
Сегодня были гости у меня на моем вечернем собрании. Главные предметы толков были: новый министр юстиции. Главным героем был К. П. Победоносцев, так как все полагают, что Манасеин будет так сказать руководим первым, и тем, кто его рекомендовал Государю и принял так сказать за него нравственную ответственность.
Курьезные явления, сближение великого с смешным. Чайковский, брат музыканта, говорил мне, что первою, сообщившею ему слух об уходе Набокова, была его кухарка, а та услыхала об этом в зеленой лавке, где при ней предусмотрительный лавочник отказал отпустить повару Набокова в кредит, по той причине, «что барин его ноне не министр».
– А ведь как просто, взяли и сменили… сменили и назначили другого, и ничего не шелохнулось, – говорили сегодня у меня.
И действительно. Все почувствовали акт Царевой воли и Власти, и приняли его с удовольствием.
Да, с удовольствием, говорили у меня, именно с удовольствием. Ничто так не радует душевно, так сказать, теперь, как проявления Царского хотения… Они нужнее всего, нужны как воздух, как вода, словом, как стихии… Нынешняя апатия есть именно отражение жажды по Власти…
Тот же Конст[антин] Петров[ич Победоносцев], давно ли он сам, как бы дыша этим воздухом петербургской слякоти, говорил: «Да, сменить легко, а кого назначать, как бы хуже не было…» А ведь только пришел час Царского решения, взяли да сменили, да мало того, явились сейчас не один, а несколько хороших кандидатов на заместительство.
Как нарочно видел сегодня утром почти сумасшедшего от горя от морского ценза, капит[ана] второго ранга Воронова, командовавшего «Вел[икий] Кн[язь] Алексей» в охране[274]. Его исключили по цензу. Он рыдал, как ребенок. Ведь это севастополец, и раненый, ведь он служил в охране; отчего бы не поступить с ним помилостивее, хотя бы предупредив…
Притом, говорят моряки, охранная служба требует, чтобы как можно менее сменяли с ней и как можно менее назначали новых! Что бедный Воронов сопьется с горя, это несомненно.
Четверг 7 ноября
Первое впечатление дня. Выхожу из спальни и в приемной гостиной застаю чиновника с листом бумаги.
– С неприятною бумагою, – говорит он мне, подавая копию с предостережения.
Я на особом листике должен был расписаться: «Первое предостережение получил такой-то».
– Много правды в этих статьях, – сказал мне чиновник, седой старичок, – одно жаль, что резко.
– Да, – ответил я, – и я жалею.
В утешение зато вечером приехал приятель [В. А.] Вилламов, обедавший у Бобрикова[275] и рассказывавший, как приехал туда [М. Г.] Лерхе, с № «Гражданина», и говорит: «Молодец “Гражданин”, джентлемен, сейчас видно; как он бранил [Д. Н.] Набокова; Набоков пал, посмотрите, как он про него написал, прелесть…»[276]
Действительно, утешился этим известием. Так редко в жизни приходится слышать слова ободрения, точно их нет на сердце у людей.
Этот эпизод у Бобрикова невольно припоминает мне другой, печальный, и глубоко печальный. Нынешним летом на пароходе в Арханг[ельской] губ. передавали мне, что в разговоре при Вел. Кн. Влад[имире] Ал[ександровиче] и с ним о газетах, когда кто-то упомянул о «Гражданине», Вел. Кн. сказал, что он не уважает эту газету.
Редко в жизни я испытал такое болезненно грустное впечатление! За что он меня оскорбил, что я ему сделал, не видев его в лицо более 10 лет, и зачем так оскорбительно отзываться о журнале, которому даже злейшие враги не могут отказать в уважении. Я не проходимец, я имя свое не загрязнил, я служу правде, как могу, как умею, за что же про единственный орган в Петербурге, который беззаветно предан интересам правды, порядка и Власти и неподкупен, из всех слов выбрать для отзыва об нем в устах Государева брата: «Я его не уважаю…» Ведь неуважать можно только бесчестное. Глубоко впечатленный, я написал теплое, сердечное письмо Вел. Князю, письмо упрека. Но, разумеется, он даже не прочел его вероятно.
Тайна чувств ко мне Влад[имира] Алекс[андровича] непостижима. Еще теперь звучат в ушах слова его, 20 лет [назад] сказанные, сказанные мне в лицо по поводу вечеров для нынешнего Государя: «Вы сбираете к себе людей, чтобы возбуждать Брата против Государя!..»
То же почти теперь!
Пятница 8 ноября
Сегодня луч света озарил мой невеселый уголок. Получил ответные добрые строки от Государя. Спасибо Ему от всего сердца. Радуюсь, что Дневник мой интересует Государя, но, увы, вижу, что мысли мои мало имеют кредита в глазах Государя, не взирая на то, что решаюсь их высказывать только после тщательной проверки. Сегодня слышал у Дубасовых, что [И. А.] Шестаков, говоря обо мне по поводу статей о цензе, прибавил, что Государь даже сказал, что я будто и Его подвожу своими бестактностями. Разумеется, укол был прямо в сердце, а не около и не возле. Видит Бог, как я недоверчиво отношусь к самому себе, именно из опасения моих увлечений, и работаю над собою, но неужели значит ко мне применяется пословица: горбатого только могила исправит… Или, быть может, слова Государя относились к прошедшему… Теперь спрашиваю себя, чем могу подводить Государя, моего обожаемого благодетеля, из глубины своего уединения? Если статьями, то неужели, думаю я в унынии, в журнале моем хорошего не больше, чем промахов. И затем, разве уж я до такой степени грешу моими статьями, что приношу вред интересам Государя… Нет, думается мне… Может быть, Шестаков подчеркнул или оттенил слова Государя… Дай то Бог. А то неспокойно на душе. Мне все кажется, и более чем когда-либо, что нехорошо делают те, которые Государю прямо и прежде всего приносят жалобы на газетные промахи и ставят Его судьею их… А судить нельзя без впечатлений. Печать слишком низка, как уровень, как сфера, чтобы ее проступки могли Государя иметь личным судьею.
Суббота 9 ноября
Писал сегодня Государю, чтобы 1) благодарить за радость, 2) назвать виновного автора статей о цензе и 3) просить милостивого внимания к прекрасной памятной книжке, изданной для воспитанников Моск[овской] военно-фельдшерской школы начальником этой школы, полковником Абдуловым.
Увы, боюсь и тут, что потерплю неудачу в моей мысли. А между тем, именно начала, проводимые в этой книжке, таковы, что им бы следовало быть везде руководительными педагогическими основами. За примерами, как педагогическая нравственность понимается в военных училищах различно, идти недалеко. В Николаевском кавалер[ийском] училище командует эскадроном полковник [В. И.] Карташевский: он лихой кавалерист, но как педагог он проводит самые жалкие и гнусные нравственные начала. Ни для кого не секрет, например, что у него шпионы во всей прислуге и даже иногда между юнкерами, по голосу молвы между самими воспитанниками. Он сам говорит юнкерам: у меня все дядьки подкуплены, вы заплатите ему рубль, а я – два, и все узнаю… И действительно, он все узнает, и на конференции[277] поведение воспитанника обсуждается и участь его карьеры решается по доносам дядек-солдат. А в книге Абдулова именно проводится, например, презрение к доносу в деле воспитания.
И почему так было бы желательно, чтобы Государь обратил внимание на эту книжку?
1) Потому что все учебные заведения получили убеждение, что Государь близко следит за ними.
2) Увидя доказательство, что Государь сочувствует идеям, изложенным полк[овником] Абдуловым, все начальники заведений немедленно принялись бы стараться, чтобы те же нравственные начала проникли в воспитание и их заведений.
Понедельник 10 ноября
Сегодня вместе с А. С. Васильковским посетили [В. Д.] Мартынова и под его руководительством осматривали все конюшенное ведомство. Просто прелесть! Вот возглас после двух часов прогулки по этому волшебно преобразованному миру. После осмотра беседовали у Мартынова. Вынес самые симпатичные впечатления. Вот человек мастер своего дела, потому что он у своего дела и на своем месте. Всегда от добрых петербургских языков слышал брань на Мартынова. Теперь понял, что его бранят по той же причине, по которой бранят [П. А.] Грессера, например, и сочиняют на него дискредитующие сказки, потому что он мозолит глаза своею полезною деятельностью. У нас не любят полезную деятельность. Это грустная аксиома.
Встретил на Невском К. П. Поб[едоносцева].
– Представьте, говорит он мне, этот чудак Набоков убежден, что его сковырнула интрига, заговор какой-то меня, [М. Н.] Островского и Каткова… И он дуется на меня. Что с ним поделаешь.
Бедный Набоков!
Видел сегодня И. А. Сабурова, члена Взаимного поземельн[ого] кредита. Он рассказывал мне про курьезное явление последних дней у них в обществе. Приезжают из разных губерний помещики, относительно богатые и никогда не закладывавшие свои имения, закладывать – только для того, чтобы прожить будущую зиму, так как цены на хлеб упали до того, что немыслимо его продавать. Нынешние цены на хлеб – на 50 коп. с четверти дешевле, чем обходится эта четверть в производстве… А надо еще рабочим платить в счет будущего года.
Курьезное совпадение: на местах производства хлеб по убыточно низкой цене, а в портах вывоз большой за границу. Из Одессы вывозят хлеб в небывалых давно размерах.
Еще курьезное явление. Все банки в Петербурге и Москве переполнены деньгами, так что не знают, как получить дисконт[278]. А внутри России – чтобы разменять сторублевую бумажку надо платить 1 рубль за промен, и то не найдешь. Совсем денег кредитных нет. А Бунге продолжает уверять, что нельзя делать кредитные билеты.
Вторник 12 ноября
Был сегодня у графа [Д. А.] Толстого. Застал его сравнительно в цветущем состоянии, веселым и бодрым. Получил и от него нагоняй за статьи о цензе. Его всецело занимает теперь вопрос Пазухинский, и он с ним нянчится, как с любимым детищем. Признаюсь откровенно, я его розовых в этом отношении иллюзий не вполне разделяю. Граф взял да навалил на одного [А. Д.] Пазухина работу разобраться в Кахановской комиссии и затем составить из всего дельного проект переустройства провинциального управления. Сказка легко сказывается, но потруднее делается. Шутка сказать, где, когда и как составить одному одинешеньку проект такого переустройства, будь Пазухин даже гений. Пазухин умный человек, его знаменитая записка[279] очень умна и остроумна, но и она грешит общими недугами нашего проэктерства, она не практична, потому что рассчитана на какое-то местное содействие и сочувствие кого-то чему-то. Вот этого «кого-то», к сожалению, в провинции не находится. В ней, то есть в провинции, есть масса или среда сбитых с толку, смущенных и просящих власть у Власти для подчинения себя ей, людей, но нет уже того, что было в 1860 году, например, контингента людей, могущих идти в какие угодно должности самостоятельные или с широкими полномочиями. Есть много пассивных людей, но недостаток активных. Что же из этого следует?
Из этого следует, что гр. Толстой с своим Пазухиным, как вообще все петербургские проэктеры, забывают главное: не в реформах, не в букве, не в новых учреждениях дело, а прежде всего в установлении повсеместно принципа власти. Сперва надо власть сделать всесильною в провинции, а потом переделывать учреждения.
По этому поводу надо отметить курьезное явление. За последние годы, сколько мне известно, губернатору, помимо его законных прав и полномочий, в силу и охраны, и особенных ему предоставленных полномочий[280], дана власть в экстерных случаях действовать диктаторски, то есть требовать войска, высылать из губернии всякого, требовать к себе всякого, даже лицо судебн[ого] ведомства, и т. д. Но, увы, все это на бумаге, а на деле губернаторы ничего не смеют по-прежнему. Почему? Потому что министр внутр[енних] дел главного не делает: как только крестьяне скопом рубят чужой лес, например, и губернатор немедленно не прекратил энергичною военною силою или личною властью – порубку и скоп, такого губернатора в 24 часа сменить, и напечатать об этом: увольняется за слабоволие; и наоборот, если губернатор действовал энергично, публично мотивируя, наградить его заслугу. Тогда через год прежде всяких и без всяких реформ вернется главное условие порядка в России – признание всеми и уважение всеми сильной власти у правительства.
А без этого сочиняй сколько угодно реформ, ничего не выйдет, порядок не заменит беспорядка.
Среда 13 ноября
Говорили сегодня гости у меня о Дворянском банке[281]. Увы, сведения не утешительные! Сабуров И. А., брат бывшего посла и бывшего министра[282], рассказывал такой разговор свой с одним из дельцов этого банка.
– Ну, что у вас делается, – спрашивает Сабуров.
– Да вот, инструкцию составили для банка.
– А нельзя ли ее прочитать, – спрашивает Сабуров.
– Кому? Вам-то?
– Да, мне.
– Нельзя-с.
– Почему?
– Потому что вы смеяться будете.
И делец царства [Е. Е.] Картавцева мефистофельски хихикнул. Но самое печальное то, что доселе по тому, что в Дворянском этом банке выработано, выходит так, что сумма условий займа в будущем Двор[янском] поземельном банке будет тяжелее, чем в Взаимном поземельном, например.
1. Общая цифра платежа процента за выданную ссуду в Дворянск[ом] банке приблизительно составит 9 % годовых, а в Взаимном поземельном – 8 %.
2. Когда вы закладываете имение в частном земельном банке, вам выдают ссуду по нормальной оценке, то есть по цене существующей в каждой местности за десятину земли, без обращения внимания на то, сколько вы с земли имеете доходу. Дворянский же банк намеревается выдавать ссуду не по существующей в данной местности цене, а по средней цифре доходности вашей земли, так что именно теперь, когда деньги потому страшно нужны, что доходность земли ничтожна, Дворянский банк будет выдавать втрое меньше, чем частный земельный банк, денег в заем под землю.
3. В частном земельном банке вы заняли деньги и остаетесь при этом полным хозяином заложенного имения и можете какие угодно арендные договоры заключать, лес рубить и т. д.; в условиях же будущего Двор[янского] банка кто занял деньги в нем, ограничивается в правах собственности, не может леса рубить, не может арендного договора заключать долее 3 лет и т. д. В итоге выходит, что в Дворянском земельном банке будет невыгодно и тяжело закладывать имения.
А этого-то и хотят Картавцев и Кия.
«Невыгодно закладывать, – будут говорить они, – так не угодно ли продать ваше имение крестьянам… В ссуду Дворянский банк вам выдаст 50 рублей за десятину, а продайте крестьянам, выдадут вам 100 рублей, да деньгами, а не билетами, да сейчас же», и соблазненный бедный помещик продаст…
Расчет коварен, но верен…
Четверг 14 ноября
О человечество!
В редакции у меня ежедневно со дня «предостережения» та же сцена.
Звонок.
– Что нужно?
– Номер 85 и 87, – отвечают голоса, по большей части моряков.
– Не продаются отдельно…
– Как?
– Так! У нас нет розничной продажи…
– Я рубль дам за номер, продайте.
– Не продаются.
Уходит, ругаясь…
И это каждый день. Когда статья серьезная и хорошая за порядок, то никто № не спросит, когда же за статью дали предостережение, требуют № во что бы то ни стало! До 3 рублей предлагают за оба № с статьями о морском цензе – моему лакею…
– Ну, уж не практические вы люди, – воскликнул один пожилой господин сегодня, – я бы на вашем месте напечатал бы пятьсот экземпляров этих 2 номеров и продавал бы по рублю.
Это смешно, но и грустно в то же время, ибо доказывает дурное настроение и глухое раздражение в морском ведомстве.
Видел сегодня Грессера.
Разговорились о гр. [Д. А.] Толстом, которого он сегодня видел, по поводу его здоровья.
– Он молодцом, – говорит Грессер, – как бы только его не принялись опять развинчивать.
– А что?
– Да вот, докладами устрашительного свойства.
– Неужели он не обстрелялся?
– Вообразите, что нет: и [П. В.] Оржевский наш приятель это понимает, и того и гляди опять поднимет ему заговор о покушении на его жизнь.
Пятница 15 ноября
Был сегодня вечером у Озеровых в Китайской деревне на начале празднования 50-летнего юбилея почтенного Александра Петровича! Застал семью читающею письмо к Алек[сандру] Петр[овичу] Велик[ой] Княгини Марии Александровны. Что за прелестное по чувству, сердечности и простоте письмо! Старик юбиляр был тронут до слез.
Приехал [И. Л.] Янышев служить молебен. Помолились в многочисленной семье съехавшихся.
Во время молебна, глядя на этого столь еще бодрого старика, невольно предавался размышлениям: как жаль, что этого человека не применили к делу, для которого он создан и коего был бы мастер, это воспитательная и благотворительная часть в ведомстве Учреждений Марии[283].
С Янышевым мы горячо поцеловались, не виделись с ним вечность, чуть ли не с того рокового времени, когда у меня отняли мое детище, Ремесленное училище, тогда в зародыше. Вспоминали про прошлое.
В Петербурге виделся сегодня с приехавшим из деревни и из трех губерний, Пензенской, Саратовской и Тульской, поэта гр. [А. А. Голенищева-]Кутузова.
Le gros de ses impressions[284] он выразил так: денег нет и власти мало. Не мудрствуя лукаво давайте денег под зерно, и дайте хоть исправникам право пользоваться кулаками своими – и то будет куда лучше.
Суббота 16 ноября[285]
Видел сегодня помещика, приехавшего из Рязанской губернии… Боже мой, как грустен его рассказ о творящемся в деревнях под боком у него… Крестьяне буквально без хлеба. При нем они продавали лошадь за 10 рублей, корову за 6 и 8 рублей; продают и полкрыши, продают и четверть избы на снос, продают и сараи… Стоны и плач… Продают, чтобы платить сборы и недоимки… А в будущем году что?.. В будущем ⅔ изб заколотится, и пойдут партиями нищих…
– Грабить еще есть кого, – ответил ему молодой парень…
Вот она, настоящая бескормица. Тяжел ответ перед Богом нынешнего министра финансов… Кривдой отзывается его царская служба России. Впрочем, его не за что винить. Он добр, чистодушен и честен; винить разве за то, что он не имеет патриотического мужества сказать Государю: я не способен, Государь, справиться, меня обманывают. А винить надо его скверных вдохновителей… Они посоветовали уничтожить подушную подать; это был верный доход казне в 50 млн. и народу вовсе не тягостный… Подушные не берут, а другие сборы тянут с крестьян все, кто только может… Пощады нет… и нет главного: заботы на месте о том, чтобы крестьяне не могли продавать лошадей и коров, а бесхлебица пришла, пускай на месте же исследуют и не взыскивают платежей и помогают… Мин[истерс]тво финансов изобрело этот проклятый Крестьянский банк. Кому он нужен? Врагам России… Не земли покупать нужно крестьянам, не на это нужно миллионы казенных денег тратить, а вот что нужно: где жутко крестьянам, там слагать платежи или ссужать им деньги, хлеб, и именно от правительства, но ссужать заботливо, на месте, через губернаторов и предводителей… Эти два, три миллиона в год употребленные, да два, три миллиона недополученные по сборам Россию не разорят, но могут в иных местах действительно поддержать экономиче[с]кий быт крестьян и спасти от разорения…
Вот что говорил мне помещик. Есть, увы, много правды!
Воскресенье 17 ноября
Чудный приказ Государя[286], вдохновенный храбростью болгарских дружин и столь не по вкусу пришедшийся австрийцам и нашим дипломатам, сам собою наводит в разговорах на мысль, или вернее на вопрос: а что же с болгарским князем?
Мое мнение многие разделяют. Русский Государь должен быть Григорием VII, кн. Болгарский – Генрихом IV, а Петербург – Каноссою[287]. Князю Александру следует приехать сюда покаяться и просить милостивого прощения у русского Государя. Лучшего ему нечего желать.
Но в таком случае следовало бы восстановить во всей силе опеку над князем Болг[арским] и полную зависимость Болгарии от России. Вообще мне кажется, что даже просто сговориться с Австриею, ей отдать Сербию, а нам взять Болгарию, было бы самым лучшим исходом и предотвратило бы все неудобства долгого периода переговоров, которые того и гляди, окончатся все-таки войною. Разделом же Балканского полуострова с Австриею была бы предупреждена война, и мне кажется, предупреждена надолго. Пока же этого раздела не будет, Болгария будет всегда в руках английской интриги, всегда Каравеловы будут угрожать переворотами, и всегда война будет на носу. Да и в самом деле, серьезно рассуждая, кому и для чьих интересов нужен король Милан, нужен князь Александр. Не проще ли из Болгарии сделать русский народ и русский край?
Понедельник [18 ноября]
Вот два случая, доказывающие, увы, как не уважают закон о цензе морском те, которые так усердно отстаивают его необходимость.
Первый случай: на днях было производство в командиры суден двух капитанов 2 ранга, – фамилии, к сожалению, не упомнил, – с нарушением той статьи о цензе, на основании которой не может быть командиром тот, кто 6 лет не проплавал на судне старшим офицером. Оба не удовлетворяли этому пункту.
Второй случай: адмирал [Н. И.] Казнаков получает такую бумагу из Петербурга: не признаете ли возможным принять в должность флаг-офицера, или флаг-капитана[288], такого-то (чуть ли не Палтова) и т. д. Казнаков в смущении, а еще более в смущении его флаг-офицер (племянник А. С. Васильковского), которому приходится в угоду петербургскому распоряжению быть смененным ни с того ни с сего и лишаться возможности дослуживать свой ценз.
Такие факты не доказывают ли, увы, что все-таки главную роль играет не закон о цензе, а протекция и собственные соображения Морского Гл[авного] штаба.
Вот тут-то и является грустная сторона вопроса. Против кого ценз оказывается неумолимым? Против старого севастопольца, служившего в Царской охране, против возившего на яхте «Александрия» адмирала Эйлера…
Почему так? Моряки говорят: потому, что в Гл[авном] Морск[ом] штабе орудует всем заведомо враг существующего в России порядка: бывший подсудимый за госуд[арственные] преступления – [В. А.] Обручев. «У нас охранным дороги нет», – было сказано одному офицеру в Морск[ом] штабе. А рядом с этим отступления от строгости ценза делаются тем, за кого есть рука. И в конце концов выходит постепенное только увеличение числа недовольных и раздраженных в морском ведомстве, совершенно даром.
О, если бы только убрали Обручева без следа из морского ведомства!
Вторник 19 ноября
Был сегодня в компании друзей в Александринском театре на новой драме [И. В.] Шпажинского: «Простая история»[289]. Чепуха, признаться, порядочная, история сложная, но видится с интересом, и играна отлично!
После театра мы рассуждали о русском театре вообще. Мы были все одного мненья: не дается русский театр [И. А.] Всеволожскому. Он ведет дело не мастером, и дело потому самому его не боится. В чем же порок дела? По-моему, в нем два порока: один административный, другой – бытовой.
Административный порок заключается в установившихся денежных отношениях между Дирекциею и кассою Министерства двора. У Александр[инского] театра нет бюджета. Все им добываемое идет в кассу Минист[ерства] двора; все, что ему нужно расходывать, идет из кассы Минист[ерства] двора. Отсюда сама собою вытекает следующая практическая сноровка: чем больше доходов дает Александр[инский] театр, чем меньше расходов, тем лучше…
Но если эта сноровка лучше для кассы, то, увы, она хуже для интересов русского театра.
Алекс[андринский] театр не есть театр антрепризы. Это Императорский русский театр, призванный служить для всей России 1) примером, 2) школою и 3) воспитателем общества.
Отсюда само собою вытекает, что прежде всего Александр[инский] театр не должен гнаться за большою наживою, а за хорошими представлениями. Теперь наоборот: главная забота – сбор; что дает сбор, то давать, что дает меньше сбора, то не давать. Оказывается, что классические вещи, что пьесы [А. Н.] Островского не дают полного сбора, – их не ставят. Пустяк, как «Баловень»[290], дает полный сбор, – надо часто ставить.
Но и этого мало.
Il faut aiguiser l’appétit[291], и вот весь сезон еженедельно даются новые пьесы, одна посредственнее другой. Для чего? Для полного сбора! Пьеса проваливается. На нее затратили. Опять кассовое соображение: надо ее давать в воскресенье, когда всякая дрянь дает сбор, и вот для народа по воскресеньям вместо того, чтобы давать хорошие пьесы, дают ту дрянь, которую публика провалила на неделе, благо все равно сбор будет.
Понятно, что это воззрение чисто антрепренерское, но подобает ли ему быть в Императ[орском] русском театре, не думаю. Он него страдают актеры, которые à force de jouer[292] глупые пьесы, à la longue[293] портятся, и страдает публика, а главное, портится в ней вкус, притупляется чувство изящного, грубеют нравы… А надо, чтобы Русский Императ[орский] театр производил совершенно противоположное действие. Надо, чтобы он в начале не гнался за полными сборами, а гнался за отличною постановкою хороших пьес, с тем, чтобы постепенно приучать публику к хорошему репертуару; ну год, два будет менее дохода и больше расхода, но зато через два, три года, можно создать из Русского Алекс[андринского] театра образцовый театр, достойный имени Императорского, и публика начнет валить в театр.
Второй порок – бытовой, заключается в полном разобщении Русского Имп[ераторского] театра от общества и от директора. По-моему, директор Имп[ераторского] Русск[ого] т[еатра] должен хоть полдня жить в общении с артистами, то есть бывать с ними, присутствовать на чтениях, принимать их у себя, устраивать у себя чтения, спектакли и т. д. Только тогда русские артисты утратят свое неумение играть порядочных людей.
Мне сдается, что эти мысли верны. В часы досуга, которых, впрочем, у меня не бывает, я мечтаю, что меня следовало бы специально для Русского театра назначить помощником к Всеволожскому с одним только кругом обязанностей: возиться с актерами и актрисами и улучшать репертуар. Я бы с этим делом справился бы под начальством такого милого человека, как Всеволожский… Но увы… Я пишу пьесы… ergo[294] не гожусь. Ну, да и то сказать, с суконным рылом в калачный ряд не суйся.
Среда 20 ноября
Слышал сегодня о вчерашней схватке между [А. А.] Абазою и Бунге в Комитете министров, если не ошибаюсь, по вопросу о ссуде землевладельцам под зерно денег. Еще одно странное исполнение Высочайшей воли представил, говорят, этот проект Бунге. Абаза, говорят, ему прямо сказал, что в представлении проекта ссуды под зерно на правительственное утверждение он усматривает исполнение Высочайшей воли, но в сущности и в подробностях самого проекта оказывается совсем противоположное, так как условия займа, проектируемого Мин[истерством] финансов, до того тягостны, что или землевладелец не в состоянии будет занять денег при этих условиях или, если займется, то разорится от тягостных процентов. По расчету, говорят, выходит, что Бунге представил такие условия займа под зерно, что занявший деньги должен будет платить 24 %!
Итак, опять таинственные дельцы Бунге заставили его представить в Комитет министров – проект мнимого исполнения Государевой воли, а на самом деле – проект противодействия Государевой воле.
Опять повторение истории Дворянского банка и новых питейных правил.
Много гостей было у меня сегодня, и оживленная беседа. Толковали на тему: быть или не быть войне?
– Об одном, сказал [И. А.] Вышнеградский, – надо Бога молить; если будет война, чтобы не было внешнего займа!
Говорили о войне с Австриею.
– Австрию поколотят, прекрасно и бесспорно, но тогда Германия за нее вступится.
– Никогда не вступится, и знаете почему? Потому что берлинские евреи банкиры не позволят. Для них война с Россиею – смерть. А ну как Россия возьмет, да объявит, что не хочет мол платить своих долговых процентов!
А ведь пожалуй что и так.
Четверг 21 ноября
Долго беседовал с [К. Д.] Ниловым, лейтен[антом] Гвард[ейского] экипажа, о несчастной дуэли, Пенхержевского с Позеном![295] Нилов остался под глубоким впечатлением серьезности и торжественности этой дуэли. Кого винить в этой драме? Пенхержевского? Нет, не хватает духу, разве за то, что у него характер такой, что он любит приставать и приставал к бедному Позену? Несчастного Позена за то, что он вышел из себя из-за истории, куриного яйца не стоившей? Еще менее. Кого же? Увы, есть кого винить! Полк! Тут серьезное обвинение. Оказывается, что Позен помирился с Пенхержевским в лагере, и ссора или раздражение с обоих сторон улеглись. Но тогда два, три услужливые товарища начали дразнить Позена, зная его раздражительный и сумасбродный характер, говоря: однако, с тобою как с мальчишкой обошлись, выругали, а потом простили… Вот эти-то подлые слова решили участь бедного Позена. Он вышел из себя, почти потерял здравое сознание и треснул Пенхержевского.
Бедный Позен. По отзыву его товарищей, он был добр, как святой, когда бывал в нормальном состоянии, когда вспыхивал, он обращался в сумасшедшего зверя.
Дуэль была во всех отношениях безупречна. Но судьба метит в людей. Пенхержевский стрелял без прицела, спустивши свой монокль, без которого он ничего не видит, и пуля попала как раз в артерию посреди груди, так что Позен успел только сказать: «Попала пуля», и упал мертвый на руки старшего брата, секунданта.
Вот судьбы. Один из братьев убит на дуэли, второй – самоубийца, третий тоже теперь убит на дуэли.
Да, на полке кровь бедного юноши!
Пятница 22 ноября
Вчерашний герой Славянского общества П. П. Дурново[296] – сегодня герой всех гостиных. Характерный эпизод. Давно ли я помню этого Дурново ругавшим напропалую все славянофильские и славянские симпатии и тенденции. И вдруг Петербург из этого славянофоба делает ярого славянофила.
Очень метко кто-то сегодня сказал: будь этот же Дурново генерал-губернатором, а не председателем Славянского общества, он бы прогнал из залы того оратора-генерала, который сказал бы то, что он вчера наболтал.
Потребность чем-нибудь быть, заставить о себе заговорить, сыграть роль хотя бы мимолетного героя – побудило Дурново говорить так, чтобы его покрыли рукоплесканиями! Вот и все. Зато и рассказов сколько. Одни говорят, что уже сегодня его уволили со службы, другие говорят, что австрийский посол ездил сегодня к Гирсу протестовать и жаловаться…
Интересный эпизод, рассказанный мне гр. [А. А. Голенищевым-]Кутузовым как характеристика злополучного Крестьянского банка и его практической деморализирующей роли[297].
Один помещик из его друзей, у которого крестьяне арендовали землю за 12 руб. десятина, предлагал им продать все имение по 200 р. десятину.
– Помилуйте, – говорят крестьяне, – десятина та стоит 100 рублей.
– Ничего не значит. Вы только скажите: да или нет? Если: да, то мое уже дело вам устроить. Вы ничего не заплатите. За вас казна мне заплатит, то есть Крестьянский банк. Первый год – вы по правилам банка ничего не платите; значит, вы в чистой прибыли 12 рублей за десятину, которые вы бы мне платили, если бы я не продал вам имение, а второй и третий год вы можете тоже не платить, пускай казна с вас тянет, пожалуй и не возьмет, а самое худшее, что может случиться, что это имение продадут; тогда я его снова куплю за 75 рублей десятину и вам его опять в аренду начну отдавать по десятинам.
Крестьяне поразились соблазнительною покупкою и давай покупать имение.
Суббота 23 ноября
Я беседовал сегодня с двумя кадетами Морского училища; один – гардемаринской роты[298], другой ниже его годом; оба очень хороших семейств. Невольно разговор коснулся ценза. Я был впечатлен тем, что дух, в котором по-видимому приготовляются к морской службе и воспитываются, есть дух протеста против этого ценза, и вследствие этого какое-то жизненное разочарование сквозит в мыслях и воззрениях на будущее. Слышится уже разговор о выходе в отставку, под предлогом, что не стоит служить, все равно выгонят! Если это духовная черта всеобщая, то нельзя не признать ее весьма грустною. Достойно внимания вот что: самое Морское училище, по мнению их, кадет, находится как бы в противоречии с законом о цензе.
– Почему? – спрашиваю я.
– А потому, – говорит мне кадет, – что у нас так говорят; [И. А.] Шестаков сказал, будто, [Д. С.] Арсеньеву: выгоняйте побольше, а то нам девать некуда вашу массу выпускников, а Арсеньев не выгоняет никого; напротив, он всем дал переэкзаменовки. Ну мы и говорим себе: Арсеньева уберут, а назначат нам такого, который начнет выгонять, и выгонит половину.
Все это явления анормальные и печальные, – но, скажут мне, преходящие и временные… Перемелется, мука будет.
Оно так то так… Но пока Обручевы есть в Морском штабе, я вот чего боюсь. Прежний генерал-адмирал[299] под влиянием духа времени коснулся и Морского училища и, как говорят моряки, впустил в него поповичей, словом, уничтожил традицию Морского училища, воспитывавшего молодых дворян…
Я говорил с дворянскими детьми. Они не озлоблены, а разочарованы… Не знаю, что лучше или что хуже. Разочарование их отвязало от морского дела. Послужат и бросят… А у недворян, говорят, озлобление… Озленные они вступят на службу, и не бросят ее, ибо она их хлеб. Вот тут-то я и боюсь: как бы во флоте при цензе не очутилось много недворян и мало дворян, то есть моряков с традициями…
Воскресенье 24 ноября
Характерный эпизод в Никол[аевском] кавалер[ийском] училище. Там отпускают на ночлег в праздники домой тех из юнкеров, у которых есть родители или родственники в восходящей линии. Так, к старшему брату не пускают, не верят, но к бабушке или к дядюшке отпускают, хотя бы они были мифические. Нашелся один юнкер, который ходил к дедушке; этого дедушку никто не видел, и не мудрено, потому что оказалось, что юнкер ходил к какому-то опереточному актеру, а не к дедушке. Недавно ночью на каком-то балу этот юнкер после сильной выпивки чувствует обморок и валится. Бросились за водою, и именно за сельтерскою. Ее нашли у швейцара. Берут бутылку и вливают юнкеру в рот насильно. Оказывается нашатырный спирт. Ему прожгли весь рот и горло. Несчастного привозят через день в училище полумертвым… Починили… Но затем начинается педагогика [В. И.] Карташевского. Юнкер уличен в наглом обмане. Казалось бы, взять и исключить. Нет, его не исключают, а всех юнкеров, ходивших на ночлег к родственникам – лишают этого права. Сохраняют его только за теми, которые ходят к родителям.
Спрашивается: где логика и где справедливость?
К. П. Поб[едоносцев] пишет мне вчера про письмо, напечатан[ное] в «Моск[овских] вед[омостях]» из деревни, под заглавием: из частного письма. Я прочитал его и увидел подпись: Н.М… Уверен, что это письмо моего брата[300]. Это мысли его и чувства его, и стиль его, и в особенности слышатся его поэтические струны.
Письмо дышит жизненною правдой. Но увы, он пишет про зрелые и старые поколения народа. Молодое, увы, не то, и почти везде не то. Ослабела в нем вера, а с нею ослабели и монархические идеалы… Виновата поганая школа, так называемое народное или земское училище, виновато время былое с его безвластием и безначалием… Отнимите у мужика кабак, уничтожьте все дурацкие народные училища и замените всюду церковными, поставьте над мужиком видимую и осязательную власть, и еще не поздно молодое поколение вернуть на путь отцов и дедов.
Воскресенье 1 декабря[301]
Пуганая ворона и куста боится, говорит пословица, простите, но совсем смущенный, не имею другой защиты кроме Вас, Государь!
Сегодня меня призывает И. Н. Дурново и по поручению графа [Д. А.] Толстого делает мне внушение на основании письма [Н. К.] Гирса к гр. Толстому. А Гирс в свою очередь пишет гр. Толстому на основании жалобы кн. Бисмарка, обиженного будто шуткою, которую я себе позволил в одном из № «Гражданина» на его счет. Шутка заключалась в следующих строках[302]:
В ответ слышу раздается чей-то грубый звонкий хохот… Он долетел из Берлина, прямо с Вильгельм-Штрассе… то хохочет сам князь Бисмарк…
– В моем семейно-государственном архиве, – говорит, после хохота, маститый канцлер, – есть у меня старая пара панталон…
В этой старой паре панталон есть карман, а в этом кармане спрятано на память то, что вы ищите… мои друзья… справедливость… Панталоны эти я надел новыми как раз в день объявления войны Дании…[303] С тех пор, чтобы справедливость не могла беспокоить свет, я снял те панталоны и повесил их в архив… Там, в стареньком кармане, справедливости уютнее… чем на шумной арене света…
Гирс в письме к гр. Толстому мотивирует свою претензию ко мне тем, что теперь кн. Бисмарк очень нам нужен и не следует его раздражать.
Я ответил И. Н. Дурново: 1) что нам редакторам никогда не было возбранено касаться государственных людей в Европе, 2) что моя шутка не есть ни ругательство, ни грубость, а просто политическая шутка, которая вряд ли может быть рассматриваема иначе, 3) Берлинская печать переполнена шутками несравненно более оскорбительными, чем моя, не только на счет нашего Гирса, но даже над Царскими лицами, терпимыми, по-видимому, кн. Бисмарком, и 4) требование министра воздерживаться от оскорбительных шуток над кн. Бисмарком я буду исполнять.
Вероятно, Гирс этим не удовольствуется, но пожалуется и Вам, Государь! Что делать? Не могу себе уяснить вопроса. Неужели правительственная политика может быть хотя малейшим образом в зависимости от журнальной шутки или газетных статей. Я бы понял неуместность брани на сего злого гения России или какой-нибудь сильно возбуждающей против него страстной статьи, un appel à la haine[304], но шутки или хладнокровные или иронические статьи против Бисмарка или [Г.] Кальноки, неужели они нам возбраняются, нам одним, когда, например, «Köllnische Zeitung» по поводу Балтийского края и [Н. А.] Манасеина (такой же министр, как и Бисмарк по положению своему к своему Государю) позволяет себе самые резкие против русского правительства выходки…
Принудить нас молчать на счет Бисмарка не трудно; достаточно мне сказать, и я беспрекословно подчинюсь; но как-то обидно, не за себя, разумеется, а за самую сущность вопроса… В душе что-то противится этому, и не дурное чувство, а как будто хорошее… Загораются мысли: неужто, думаешь, Гирс прав, допуская, что могут быть такие минуты для судеб и интересов России, когда мы обязаны чтить Бисмарка как чтим Бога, Церковь, нашего Монарха, Его правительство, и не позволять себе ничего, что бы могло этого рокового для России человека обижать или быть неприятным? Мне кажется во всяком случае, что если таким обязательством связать частные газеты, то именно от этого могут легче пострадать интересы правительственной политики, так как установится нечто вроде солидарности с газетами правительства, как опекуна, чем тогда, когда правительство никоим образом не признает себя ответственным за мнения, убеждения или шутки газет, не выходящие из пределов приличия.
И еще беда. Мы к сожалению ничего не знаем про тайны политики нашего кабинета и во тьме бродим; казалось бы, если у Гирса был агент для печати, то есть для руководительства до известной степени хоть раз в неделю, можно было бы собственным умом доходить до сознания: что можно и чего в интересах данной минуты следовало бы избегать.
Я лично, например, желал бы никогда не быть в противоречии с Вашими взглядами, но я ничего не знаю о них иначе, как догадками и предчувствиями, и понятно, могу ошибаться и уходить в кривь или в фальшь.
Вот, например, мое так сказать исповедыванье веры в главных чертах – изложенное в прилагаемых строках в сегодняшнем №ре «Гражданина»[305]. Я так себе представляю вопрос. Но верно ли в главном это воззрение – я не знаю. Мне чуется, что верно… но и чутье иногда обманывает. А хотелось бы говорить и писать так, чтобы главные мысли были согласны с Вашим взглядом.
Если бы это только было возможно, я умолял бы Вас, Государь, прочитать то, что я смею думать в данную минуту, и черкнуть два, три слова через К. П. Поб[едоносцева]… верно ли в главном… Честью даю слово, никто про эти слова на земле не узнает, но хотелось бы, чтобы у себя в мыслях было ясное и твердое указание главного тона и воззрения.
Например: я так себе представляю Ваш образ мыслей.
Политику ведете Вы, Вы одни.
Дружбою с Германиею и с Австриею Вы дорожите, как условиями для мира.
Но как только затрагивается интерес чести или достоинства России, Вы не боитесь никакой войны и ни с кем.
Страх ответа перед Богом за войну неправедную Русский Царь питает в Своей благочестивой душе, но страха войны потому только, что ее пришлось бы вести с Германиею, хотя бы праведно, – Русский Государь не знает… Он никогда ее не вызовет, но Он никогда не убоится ее, никогда не отвернется от нее, если вызов будет от противной стороны…
Дорожить дружбою соседей Россия должна, но зависеть от нее и от них не может!
Желание мира есть чувство России, но страха войны она не знает… Вот мысли, которые я представляю себе Вашими…
Велик такт Ваш, но страха Вы не знаете. В этом, чуется многим, различие между Вами, Государь, и нашею дипломатиею подчас, у которой страх, увы, иногда выше всего…
Суб[бота] 16 ноября[306] Из Рязанской губ.
5 декабря Правоведский праздник
6 декабря О духе правоведов.
7 декабря Беседа с [Н. К.] Гирсом
10 декабря О Минист[ерст]ве финансов
11 декабря О [И. А.] Вышнеградском
12 декабря Беседа с [В. А.] Цеэ
15 декабря Толки и слухи
18 декабря Об отпускных нижних чинах
19 декабря О конногренад[ерском] полку
21 декабря О «Руси»
22 декабря О безденежье, судя по подписчикам
24 декабря Беседа с [И. Д.] Деляновым.
25 декабря О елке.
26 декабря О хождении в правительство.
28 декабря Вести из провинции.
29 декабря О проекте [Н. П.] Смирнова
5 декабря. Четверг
Сегодня пережили мы один из лучших дней нашей жизни, мы, то есть многие правоведы[307]. С 10 часов утра до полуночи мы не выходили из правоведской семьи. Хорошие были, очень хорошие впечатления, и в известном смысле неожиданные. Многие не верили, что Государь приедет в наше училище. Но когда в церкви нашей появились [И. И.] Воронцов[-Дашков], [И. А.] Шестаков и другие, тогда все убедились в том, что отрадный факт совершится. Приезд Государя в стены училища и милости, им оказанные всем бывшим правоведам, это важное, на мой взгляд, политическое событие. Мудрее ничего нельзя было сделать. Я убедился в этом сегодня за большим нашим обедом в Дворянском собрании, где после обеда пошла речь нараспашку, и у пьяного правоведа на языке сказалось то, что у трезвого было на уме: восторг всеобщий и запавший глубоко в душу к Государю неминуемо перейдет в судебный мир; правоведы съехались со всех концов России и завтра или после завтра вернутся в места своей службы и там заживут и начнут снова свою судебную службу в другом совсем настроении. Каждого из них Государь очаровал и как будто лично обласкал и вызвал к энтузиазму. В связи с новым министром юстиции[308] это весьма важное событие!
У принца Александра Петровича Ольденбургского явились сегодня минуты ораторства! Он отлично сказал сегодня четыре краткие речи; две за актом, одну за своим обедом, а другую за нашим обедом. За своим обедом для правоведов воспитанников, приготовляясь к тосту за Государя, он даже прибег к ораторской неожиданности: он озадачил всех: «То, что я сказал сегодня на акте, повторю здесь; помните, что эти слова говорю не я, ваш бестолковый попечитель (эти слова всех озадачили), – но говорит их во мне мой покойный отец, и т. д.».
Этот прием – поразить неожиданностью, а ла Филарет, и потом вывернуться кстати и умно – чисто ораторский прием.
Но одна есть ложка дегтя на весь этот мед: это жалкая личность нынешнего директора училища [И. С.] Алопеуса. При мне он был знаменит своею глупостью в училище как инспектор воспитанников, а теперь уже к этой глупости природной прибавилась и старческая; давно ему на покой пора! За обедом у принца сегодня сказалась его глупость весьма рельефно; он дал принцу выпить за его здоровье, прежде чем предложить тост за здоровье принца, и только тогда поднял бокал за желанное здоровье, когда воспитанники, налетевши на него, потребовали так сказать этого тоста.
Давно пора училищу иметь хорошего директора!
Пятница 6 декабря
Проводил день с товарищами моего выпуска, правоведами. Выношу отрадные впечатления. Они происходят от убеждения, что правоведы вовсе не так красны, как это представляется издали, а как они сами говорят, многие безобразия суда имеет на своей совести Министерство юстиции Набоковского времени, дававшее главную и скверную ноту, ноту именно глухого обособления от самодержавного правительства.
Есть правоведы глубоко монархического направления, и их не мало, как я имел случай вчера за обедом убедиться, особливо из старых выпусков, но их смущало всегда пошло либеральное направление, исходившее из Петербурга.
Вчера за обедом я познакомился с интересною группою правоведов молодых. Их человек 10; после 1 марта[309] тихо, без выходок, они дали себе слово служить борьбе с идеями разрушения и анархии, и все поступили на службу в Департамент государственной полиции, где составляют тесный и нравственный кружок весьма полезных деятелей. Это отрадное явление, тем более, что молодые люди эти – весьма порядочные и милые малые. [Н. А.] Манасеин – товарищ мой двумя годами старше. Он держал себя настоящим товарищем мило и просто. Но, увы, вид его неутешительный: давно не видел его; помню его еще почти красавцем-богатырем, а теперь встретил старика, да еще больного. На счет убеждений его не знаю, переменились ли они, как его физика; товарищи его говорят, что за последнее время он стал бледнее, как красный, и что называется, уходился!
Дай то Бог!
Суббота 7 декабря
Имел сегодня аудиенцию более 1/2 часа длившуюся у [Н. К.] Гирса. Эту аудиенцию я у него просил после эпизода с панталонами Бисмарка[310] с целью попытаться установить непосредственные отношения с главным исполнителем по иностранной политике и знать à quoi s’en tenir[311]. Другая цель была просто попытаться из дурных отношений к себе и к журналу сделать хорошие. По-видимому обе цели удались вполне. Гирс нашел совершенно основательным мое желание получать у источника указание главных мотивов, которых следует держаться органам печати, преданным интересам правительства – в вопросах внешней политики, и затем беседовал со мною очень дружески и просто. По-видимому, весь вопрос балканский, легший двухвековым бременем на плечи нашего Государя, получает правильное разрешение, благодаря твердости Государя в следовании одной и первой своей мысли: полного и строгого невмешательства. Насчет эпизода со штанами князя Бисмарка Гирс объяснил мне, что я задел самую больную струну в канцлере, это Данию, и что теперь, когда он состарился, эта больная струна у кошки, знающей, чье мясо съела, гораздо чувствительнее, чем прежде.
Может быть, имеет интерес реляция моей беседы с Гирсом, напечатанная[312].
Имел сегодня случай беседовать с русским дипломатом значительного веса.
– Вы думаете, – говорил он мне, – что нас удивляют или обижают нападки на нас в печати! Нисколько! Не удивляют они нас потому, что каждый из нас отлично помнит, как в молодые годы он сам горячо увлекался самыми высокими по идеализму и бескорыстию идеями о задачах России на Востоке, и, увы, только постепенное прохождение жизненной и служебной карьеры, с одной стороны – вносит в человека разочарование, а с другой стороны – неизбежно приучает к осторожности и предусмотрительности… И не обижаемся мы потому, что мы слишком хорошо знаем, что эти нападки исходят из нетерпеливых увлечений идеальными стремлениями, а не из личных к нам чувств неприязни, причем увлекающиеся забывают, что у нас есть то, чего у них нет: ответственность. Мы же и сознаем ответственность, и несем ее, и связаны ею.
Я помню, – продолжал дипломат, – мое былое время, когда мне приходилось служить на Балканском полуострове. Господи, как теперь помню, сколько грез шевелилось и горело во мне, когда я, не прикасаясь к действительности, думал о призвании России. Но я должен с грустью сознаться, что практика там, то есть сношение с людьми, которых идеально я хотел любить самыми высокими чувствами, знаете к какому меня привела убеждению? А вот к какому: Боже сохрани терять исторические идеалы, берегите их, но не делайте из несвоевременных увлечений ими себе повязки на глаза и цепи на руки и на ноги. Активная политика бескорыстного освобождения для наших интересов всегда невыгоднее политики покровительства. Освобождать, как мы освобождали наших братушек, значило на практике разводить себе под ногами злых шавок, которые и кусать нас готовы, и ходить нам мешают, и везде и всегда находятся поперек наших ног. Политика покровительства мне всегда казалась умнее и желательнее, по той простой причине, что когда в нас нуждаются – нас и слушают, и чем мы нужнее – тем сильнее может быть наше влияние. И думаю, что наши братушки лучше это знают, чем мы: они не хотят нашего влияния, они не хотят зависеть от нас; они хотят, чтобы мы за них делали черную и трудную работу освобождения их, а потом нас прочь… Не думаю, чтобы это было в интересах и в выгодах России. Ведь надо помнить, что у нас на Востоке есть интересы и цели свои собственные, к достижению которых мы не должны затруднять и загромождать себе дорогу экскурсиями в области филантропии! Не правда ли?
Я совершенно согласился с мыслями моего почтенного собеседника, прибавив, что, по странной случайности, «Гражданин» всегда, как известно, немилый нашей дипломатии, именно эти самые мысли признает своими политическими убеждениями.
– Да, мы это заметили. Но вот еще что я хотел вам сказать. Многие упускают из виду, а иные и не знают, что иностранная политика в России всегда велась гораздо менее дипломатами, чем непосредственно Главою правительства; теперь это еще более существует, особенно в последнем конфликте Болгаро-Румелийском. С первой минуты до настоящей – все ведется непосредственно Главою правительства… И в этом отношении могу вас смело уверить, что если ничто без его непосредственной инициативы не совершается, ни один малейший интерес России не упускается из виду… Но только всем надо помнить пословицу: «Tout vient à point, qui sait attendre» («Все приходит в пору тому, кто умеет выжидать»). Три начала руководят нашею политикою, если можно так выразиться: хладнокровие, терпеливость и сознание ответственности перед Богом и народом. Ни одно из этих начал не может ни ослеплять, ни маскировать интересы России, ни мешать их пониманию; вот что важно, тогда как политика увлечений, порывов – вы слишком это хорошо знаете – она прежде всего может связывать нас, и прежде всего может ослепить нас… Делать подвиги в политике посредством войн и жертв народа не трудно; но надо помнить, что теперь ни один из таких подвигов не покупается иначе, как обязательством перед другим государством; а эти обязательства благодарности после войны могут быть невыгоднее лавр и успехов войны… Мудрее, мне кажется, быть всем, – что касается достоинства и интересов своего государства, – обязанным собственному благоразумию и собственной предусмотрительности… России не год жить… Берегите свои идеалы, берегите свои цели, прийдут минуты и для них, но не увлекайтесь…
Правда, эта политика менее благодарная и менее блестящая… но, знаете, я довольно стар, чтобы иметь право на некоторое доверие к моей опытности, довольно близок к вершинам управления, чтобы иметь право сказать: эта политика, в данное время, исходит из самого глубокого патриотизма…
Никогда еще эпоха в Европе не была так тревожна, как теперь, и так постоянно тревожна, следовательно никогда еще не была так сильна, как теперь, нужда в хладнокровии при ведении иностранной политики. Оно-то, и только оно, верьте мне, ни малейшего интереса России не продаст и не продает.
Вторник 10 декабря
Со всех сторон слышу толки об уходе министра финансов и о его заместительстве.
Вопрос этот чуть ли не важнейший из всех государственных вопросов для Государя и для России.
Что такое финансы России?
С одной стороны, это экономические и денежные средства России, – с другой стороны это главный ключ к политическому состоянию России. Финансовое управление в одних руках может повести к упрочению в России порядка, власти и самодержавия; в других руках те же финансы могут повести к разрушению политического строя России. К великому, но, увы, несомненно действительному горю России, теперь финансы ее в руках опасных людей, и опасных именно для Государя и государства людей. Бунге сам вне всякого упрека. Это почтенный и честный человек!
Но горе в том, что он окружен не только либералами, но прямо врагами нынешнего монархического строя в России. В Министерстве финансов свили себе гнездо все ультрарадикалы, и люди как те, которые орудуют в Министерстве финансов, прикрытые разными спинами, положительно опасные люди.
Это вопрос в высшей степени важный в настоящую минуту. Недавно совершился страшный факт. В председатели казен[ной] палаты[313] в Петербурге попал [П. А.] Корсаков из Весьегонского уезда в Тверской губ., где он au su et au vu[314] всей губернии был прямо главным коноводом и центром всей анархистской партии.
За последние годы вся Россия наводнена чиновниками по финансовому управлению, которые взяты и берутся доселе из самой неблагонадежной среды. Это может подтвердить всякий губернатор. А затем действия Министерства финансов, его финансовая политика, разве они не поразительны по своему разладу, и постоянному разладу, с намерениями самого Государя? Это долгая и глухая оппозиция в разработке проекта Дворянского земельного банка так, чтобы этот банк не был тем, чем хотел, чтоб он был, Государь? Это злоумышленное учреждение Крестьянского банка, по которому уже теперь приходят зловещие слухи из всех концов России о нежелании крестьян платить свои земельные долги? Это слитие Крестьянского банка с Дворянским в одном лице [Е. Е.] Картавцева, который в свою очередь находится в руках ярого социалиста, некоего кн. Урусова? Наконец, эти новые питейные правила, которые как будто должны уменьшить пьянство, а на самом деле кем-то составлены с ужасным умыслом окончательно споить и погубить русский народ?
Все это вместе, если соединить со страшною подпольною силою берлинских и петербургских евреев в Министерстве финансов, не только далекое, но близкое будущее рисует в ужасных красках. Тут кроме экономического разорения России, угроза постоянная, что революционная и анархистская партия разрушения будет иметь в финансовом мире почву, и благодарную почву, для своих действий на народ и для разрушительных своих замыслов. Вот почему так важен, и торжественно важен, вопрос: кто будет во главе финансового ведомства? Бунге, я бы ему это сказал в лицо, слишком добродушно честен для такой министерской миссии; он слишком простой человек. На этом месте нужен лукаво и змеиномудрый человек.
Да, все это, увы, не фантазия, не химера и, увы, даже не преувеличение. Роковые исторические доказательства у меня до моей смерти останутся свежими в памяти. В начале шестидесятых и в конце пятидесятых годов, когда бедный покойный Государь так честно и чисто желал для блага России всего, что под именем народного блага Ему предлагали люди прогресса – одновременно с освобождением крестьян, из недр и тайников Министерства финансов рождалась злая и проклятая мысль дать крестьянской реформе совпасть с питейною, и вместе с свободою ввести на Руси дешевку. Министр финансов[315] был честный и добродушный человек. Но при нем были такие люди, как [К. К.] Грот, а под Гротом такие люди, как его вице-директор [И. П.] Огрицко, присужденный к повешению [М. Н.] Муравьевым за участие и в мятеже 1863 года и за участие в заговорах социалистов. Этого Огрицко я хорошо знал. Он мне прямо говорил, что он один из главных авторов питейного устава и что его цель – этим уставом споить Россию. Он же мне говорил: «Мои помощники – Министерство финансов и евреи…»
С тех пор мы пережили много. Огрицко помиловали. Но они, эти Огрицко, Россию не милуют. Опыт споить Россию не удался. Народ не спился совсем. Разум его и душа уцелели.
Уцелел и дух Огрицкин в Министерстве финансов. И что же, сколько лет спустя, при честнейшем из людей, как Бунге, опять многоглавая гидра показывает свои головы: опять новый вид крестьянского дела является из недр и тайников Министерства финансов, Крестьянский банк, и рядом и одновременно, так как дешевка не споила народ, лукавый вид новых питейных правил, которые угрожают распространить употребление водки в тысяче новых, с виду незаметных формах, начиная с трактиров и кончая временными выставками. Итак, год, когда крестьяне будут призваны делать первые взносы, а другие вторые по купленным ими через Крестьянский банк землям, этот именно год избирается для введения новых питейных правил! Точь-в-точь, увы, как в 1861 году…
Из этого не следует ли, что если враги порядка и строя в России так лукаво и хитро проводят свои замыслы посредством честных и добродушных министров финансов, то прежде всего во главе Министерства финансов желать должно видеть человека, который бы лукавость мог побеждать лукавостью, хитрость хитростью, ум – умом…
Среда 11 декабря
Как бы в продолжение моих вчерашних размышлений о министре финансов на сегодняшней моей литературной вечеринке была живая речь о том человеке, которого в Дневнике «Гражданина» я осмелился назвать весьма компетентным судьею в финансовых вопросах, И. А. Вышнеградского[316]. Имя это производит в разных слоях Петербурга разное действие. В изящных салонах говорят то, что говорили про [Н. А.] Манасеина: qu’est-ce que c’est[317] Вышнеградский? Граф Дм[итрий] Андр[еевич] Толстой в разговоре с И. Н. Дурново в ужас пришел от мысли о возможности Вышнеградскому быть министром финансов и чуть ли не обвинял меня в том, что я взял деньги от Вышнеградского, чтобы писать ему как финансисту рекламу. Зак и Кия вздрагивает нервною судорогою, когда произносят это имя. А Иван Давыдович Делянов, который 2 года назад на мою речь о Вышнеградском пришел в ужас и говорил, что это un homme taré[318], теперь без него не может жить и эксплуатирует его ум и знания самым беспредельным образом, посадив его в члены министерского Совета.
В чем же дело?
Дело, в сущности, в недоразумении. Если в министры финансов искать мужа, украшенного добродетелями, то Вышнеградский под это условие не подходит, но и финансы государства вряд ли нуждаются в муже, украшенном добродетелями.
Вышнеградский в своем прошлом имеет простую историю: из ничего трудом, уменьем, ловкостью и талантом он нажил себе большое состояние, но не воровством, не гадкими или темными делами, не плутнями, а прямо и открыто предприятиями, в которых он бывал главным воротилой.
Ригоризм гр. Толстого – немного, а пожалуй даже и очень много пристрастен, личен и несправедлив. Ставить в вину человеку, что он полюбил деньги, бывши беден, и нажил их трудом и умом, – более чем странно, особливо со стороны гр. Дм[итрия] Андр[еевича] Т[олстого], который при всех своих достоинствах и заслугах – уй, уй, уй, как любит деньги и все блага, которые деньги дают на сей грешной земле.
На дело, кажется мне, надо смотреть серьезнее. Финансы наши требуют теперь особенно могучего ума для приведения их к желанному порядку. Этот-то особенный ум, вне всякого сомнения, представляет собою Вышнеградский… Везде в Европе такой ум давно бы призвали к финансовой государственной деятельности, именно потому, что он необыкновенен…
Это ум обширный, ясный, острый, рассудительный и полный творчества и сообразительности… Он схватывает с изумительною быстротою, и затем бездна знания и способность трудиться поразительная… Словом, без преувеличения, говоря словами, сегодня сказанными у меня Т. И. Филипповым, этому человеку не только все можно простить, чтобы иметь его в своем распоряжении, но ему можно вперед дать разрешение грешить, чтобы только умом его, не имеющим себе подходящего – воспользоваться!
Последние годы его деятельности по управлению Юго-Западными жел[езными] дорогами представляют поразительные данные. Он принял дороги с 400 тысяч дефицита, а теперь оставляет на 1 января жел[езные] дороги, давши им 13 миллионов чистого дохода… И что же? Этот человек сидит в Совете Министерст[ва] нар[одного] просвещения!
А между тем любопытно взглянуть на нравственную сторону вопроса совсем близко.
Что ставят против Вышнеградского обвинением?
Что он разбогател?
Да, но забывают в то же время, что именно потому-то, что этот человек себе все добыл в избытке, он, с его самолюбием, раз будет призван к правительственной службе, сделает из немецко-аккуратной честности свой гонор, свой point d’honneur[319], свою амбицию. Ему одно надо будет: доказать свою способность и несправедливость обвинений против него его врагов…
Это раз.
А затем надо принять в соображение, что трудно отыскать более преданного интересам правительства консерватора, чем Вышнеградского. Громадным своим умом и светлым чутьем он укрепил в себе то, что постиг: беспредельную веру в необходимость Самодержавия во всей его полноте…
Этим брезгать в наш шаткий и бродячий век нельзя…
А рядом с этим хитрость, ловкость и лукавость – при знании торговли и промышленности России вдоль и поперек… В итоге это человек, который умом может творить чудеса в финансовом мире, и в то же время будет честнее честных и преданнее преданиям старины всех дворян.
Уж у него ни Огрицки, ни Картавцевы орудовать не будут, в день, когда ему поручат вести финансовые дела…
Мне все в голову приходила мысль, которую сегодня один из гостей высказал громко: «Будь я на месте Государя, я бы призвал Вышнеградского и велел ему изложить свои мысли перед собою – чтобы составить себе о нем понятие… Ведь не в том, так в другом виде, этот человек мог бы очень быть Царю полезным».
А главное, он был бы Ему вернее собаки предан.
Четверг 12 декабря
Глубоко тронуло меня сегодня настроение души, с которым мы беседовали с сенатором [В. А.] Цеэ, забежавшим ко мне. Он не особого ума человек, но в нем есть то, что теперь археологическая редкость: горячее сердце, молодость и рыцарство в увлечениях. С восторженною любовью говоря о Государе, он очень метко заметил, что положение Его тем особливо трудно, что в сущности в числе министров мало твердых консерваторов, и вследствие этого Государю приходится постоянно faire de la politique avec certains de ses ministres[320], а чрез это страдает общее дело, отсутствием единомыслия. Когда мой собеседник ушел, я был и наэлектризован, чувствуя себя по настроению так близко к Государю, и опять-таки защемила меня тоска по Нем. Трудно выразить это чувство. Хочется броситься к Его ногам и умолять Его верить, что Его мысли, Его взгляды, Его намерения вернее, гораздо вернее мыслей Его министров! Цеэ верно говорит: «Il a le coup d’oeil de Son Grand-père»[321]. Что такое Самодержавие как залог счастья народа? Только одно: твердая вера Царя в себя!
Воскресенье 15 дек[абря]
Сейчас с обеда у болтуна [Е. В.] Богдановича. Опять окунулся в целый мир сплетней. Говорил он мне про то, что будто намедни [А. А.] Абаза ездил в Гатчино и говорил Государю о сильной непопулярности Бунге и о том, что единственный человек, который мог бы его заменить, это [П. Н.] Николаев.
Говорил он о том, что Николаев ему в свою очередь говорил, что он скорее умрет, но никогда не приймет министерский портфель, потому что не имеет никакой возможности бороться с такими сильными людьми, как Абаза. А Абаза, если правда, что он рекомендует Николаева, очевидно рассчитывает в нем найти покорного себе слугу.
Говорил он о том, что Абаза с Бунге было разошелся, а теперь опять сошелся и провел через него свое дело о займе под сахар очень для себя выгодно[322].
Говорил он о том, что будто К. П. Поб[едоносцев] рекомендует в министры финансов [М. Н.] Островского.
Говорил он о сплетнях на счет Мальцовского дела о 350 тысяч[323], будто Мальцов уличен [П. А.] Черевиным в том, что эти 350 тыс. взял себе и своим и оклеветал Николаева и других чиновников Министерства финансов, будто взявших с него, Мальцова, комиссионные деньги.
Говорил он тоже о шансах Вышнеградского попасть в ряды кандидатов на Министерство финансов… Мало шансов выходит, по мнению Богдановича, 1) потому что главным его оппонентом будет Абаза, а 2) потому что у Вышнеградского мало очень друзей между правительственными лицами. Он слишком черненький.
Среда 18 декабря
На моем вечернем собрании была сегодня речь об одной правительственной мере, уже теперь дающей плачевные результаты. В деревню возвращаются солдаты. Возвращаются они для деревенского житья-бытья весьма непригодные, в особенности в начале; возвращаются в то же время они весьма развитые сравнительно с крестьянским деревенским людом. И затем, пользуясь своим положением, в особенности в начале, буянят, бушуют и нередко делаются коноводами дурных партий в селе. Против них была острастка: розги в руках волостного старшины и волостного суда. Но, увы, нашли это недостаточно либеральным, и вышло распоряжение, на основании которого все нижние чины, не из разряда штрафованных, изъяты от телесного наказания по приговору крестьянских властей во все время нахождения их в деревне и могут быть только подвергаемы аресту.
А что такое арест в деревне? Летом – это шутка, – засадют в холодную, то есть в чулан, и ладно…
А зимою – это смерть или, хуже шутки, награда. Если сажают в чулан, то там без топки арестованный буквально может замерзнуть; если же сажают в сторожку, то есть к сторожу волостного правления в жилище, то там он благоденствует и пьет, и ест, и шумит себе на славу.
Такая гуманная мера может со временем из отпущенных в деревню запасных нижних чинов создать целые сотни тысяч беспокойного и ничего не боящегося люда.
Четверг 19 декабря
Обедал сегодня у Батюшковых с симпатичною [И. А.] Тевяшевою. Глаза ее по прежнему огненные. Много говорили разумеется об истории Конно-Гренадерского полка. Она говорит, что теперь стало спокойнее, но все-таки не легко и не весело жить в своем полку как в осадном положении. По ее словам, офицеры более недовольны будто бы ею, чем мужем ее, считая ее какою-то фуриею и злючкою.
– Оно может быть и правда, – с прелестною наивностью говорила Тевяшова, – мой муж идеал хладнокровия и выдержки, а я не могу и не умею притворяться, но к счастью в данном случае вышло так, что я была за границею, когда разыгралась история, и когда я вернулась, я уже застала в полку вулкан…
Она говорит, что хотя отношения ее мужа к части офицеров только официальные и служебные, но все-таки чувствуется теперь большая разница в атмосфере. Они поняли, что командира полка поддерживают и будут поддерживать сверху, и это-то помогает постепенному успокоению умов; хотя одна гадость продолжается: Пр[инц] А[лександр] П[етрович] О[льденбургский][324] продолжает получать анонимные письма на счет [Н. Н.] Тевяшова, и похоже на то, что письма эти пишутся в полку.
А. С. Васильковский, с которым сегодня играл в винт у себя, подтверждает слова Тевяшевой. Он говорит, что, по его мнению, причина всей этой истории есть та, что в начале не поддержали полк[ового] командира, а предоставили его на произвол судьбы. Офицеры это увидели и сейчас же из этого заключили о возможности быть нахальными.
Суббота 21 декабря
У [И. С.] Аксакова в «Руси» вылилась едко соленая передовая статья[325] против петербургского правительства на его любимую тему: собор лучше министров… Таков смысл его статьи. В аргументации он ехиден с Катковым. Он все время пускает вперед «Московские ведомости» и говорит: «Ведь вот же, “Московские ведомости” считаются самым надежным оплотом власти, а посмотрите, как они нападают на правительство».
Эта аргументация на тему неспособности наших петербургских государственных людей ведет Аксакова к другой любимой его мысли: к мысли о созывании русских людей от русской земли для управления, под властью Самодержавного Государя. Да, думаешь, читая эти строки, все это так, все это идеально и в теории прекрасно, но в теперешнюю пору если что-нибудь предвидеть от созыва выборных людей для собора и для управления, то только, увы, крыловскую басню: музыкантов[326]. Теперь не время сбирать людей потому, что люди ни на чем не утверждены, ни во что прочно не веруют, и иного руководительства, кроме правительственного, быть теперь не может сверху донизу.
У правительства есть возможность вести дело по своей программе. А завтра соберутся выборные люди, начнется сумятица и заварится каша беспорядка потому, что прийдется начинать с начала: с выработки программы, и тут сколько будет людей, столько будет партий.
Программа правительства не трудна: 1) учредить министерство торговли и промышленности, застой в России начнет исчезать, [2)] устроить полновластных мировых посредников в уездах первоначального образца, 3) уничтожить постепенно коллегиальное устройство земских управ и 4) устроить в Петербурге совет из правительственных лиц, по одному от каждого ведомства, и из губернаторов и предводителей дворянства поочередно, для текущих внутренних вопросов, и, право, уже это одно много улучшит неурядицы и нескладный строй нынешней государственной жизни. Пройдут недомоганье и застой.
Воскресенье 22 декабря
Невеселое время для редакций газет и журналов! По-видимому настало время, про которое говорили не раз, время денежного кризиса в России, судя по тому, что пишется из провинции. Везде в редакциях жалобы на дурную подписку. И я это вижу по своим цифрам. Они неузнаваемы против прошлого года. Получил я уже более 200 писем, в которых мне пишут: денег ни у кого нет, высылайте «Гражданин» в кредит, надеемся в январе или в феврале прислать. В особенности плачевны письма, получаемые от священников. Последние в провинции прямо отражают своими финансами общее экономическое состояние, что весьма понятно: у «Гражд[анина]» много подписчиков из сельских священников; их письма – это стоны. У «Нов[ого] врем[ени]» наполовину меньше доселе против прошлого года. У «С.-Петерб[ургских] вед[омостей]» на 2/3 меньше. У «Нови» из 24 тыс. подписки осталось менее 10 тысяч. В письмах из провинции частенько видишь слово: «кризис».
Понедельник 24 дек[абря]
Был сегодня в пятом часу у Делянова.
– Я не знаю, как вы, – говорит мне Ив[ан] Дав[ыдович], – но мне что-то кажется, что «те» как будто поднимают голову: такой запах в воздухе. Под «теми» И. Д. разумеет либералов. На эту мысль его приводят действия Петерб[ургской] гор[одской] думы и чьи-то хлопоты о читальнях по инициативе города. В Думе с вступлением [В. И.] Лихачева[327] действительно заметно сильное оживление, и уж разумеется не в консервативном направлении. Делянов указал на факт с запахом и значением. В Обуховской больнице был начальником почтенный человек, главный врач. Теперь пришло время Думе вступить в заведыванье больницею, и что же? Первым делом разумеется – устройство выбора для избрания главного врача, и выбирается по рекомендации главного воротилы Медицинского комитета в Думе, [С. П.] Боткина, доктор Нечаев[328], сомнительного образа мыслей.
Другой факт: это усиленные хлопоты окончательно воссоздать и воскресить Женские Высшие курсы и устроить их в виде самостоятельного учреждения в ведении Думы при Городских лазаретных бараках[329].
– Да неужели же это будет, – говорю я, – разве трудно это дело прихлопнуть с самого начала.
– Надо, да вот неизвестно, как взглянет на дело гр. Дмитрий Андреевич![330] – отвечает Делянов.
Вторник 25 декабря
Днем от двух до четырех была елка для беднейших из бедных 50 детей у меня. Были и калеки, и почти слепые дети. Были прелестные дети. Вот крошечный эпизод, от которого навертываются слезы. Дети получают обед прежде елки и чай. Я вхожу во время трапезы. Одна крошка при мне берет свой кусок кулебяки, но не ест. Потом слышу, как детским голоском она обращается к приведшей ее женщине и просит ее взять этот кусок пирога, спрятать и отнести «маме». Вот чудная душа в зародыше. Приехала и Ел[изавета] Алекс[еевна] Нарышкина, как раз когда дети хороводом плясали кругом елки.
Благодаря Государю явилась возможность сделать хорошую елку. Дети получили: пальто теплое, сапоги, чай, сахар, пряники, орехи, игрушку или 40 коп. деньгами и Евангелие.
Вечером заезжал к Победоносцеву.
Говорили о Палестинском обществе[331]. Он меня рассмешил. Поднимая руки, он говорил, что тут не разберешься, кто прав, кто виноват; это гоголевский уездный город; тут личности и сплетни; надо отстраняться… Намедни В. К. Сергей А[лександрович] ездил к [Н. К.] Гирсу объясняться. Ну и что же? У Вел. Кн. была чуть не истерика, и у Гирса тоже! Вот и все! Нет, мой совет вам, лучше ничего не писать…
К. П. [Победоносцев] очень грустит об уходе И. Н. Дурново. «Было с кем говорить, – говорит, – живой человек был, а теперь уж не знаю, что будет; с гр. [Д. А.] Толстым не разговоришься, [В. К.] Плеве, Бог его знает, кто он». Вообще застал К. П. в минорном настроении.
Четверг 26 декабря
Был сегодня на вечернем собрании у милого всем нам графа [А. А. Голенищева-]Кутузова, поэта. Там видел [А. Н.] Майкова, поэта и председателя Иностранной цензуры[332]. Он рассказывал прелюбопытную вещь. За границей появилась новая программа русских анархистов, под названием: хождение в правительство[333]. Мысль такая: все опыты хождения в народ для революционной пропаганды, по убеждению анархистов, не приводят ни к каким результатам; гораздо лучше и вернее пытаться под личиною преданности и добродушного раскаяния входить и пробираться в правительственные сферы и занимать не видные, но влиятельные должности в министерствах, чтобы незаметно достигать двух целей: 1) разделывать то, что сверху предпринимается к укреплению власти и 2) наталкивать и направлять в направление вредное для интересов власти и порядка.
Это не особенно ново и довольно наивно, как политическая программа заговорщиков, но Боже мой, какое поразительное совпадение этого известия с тем, что я так недавно еще писал в этом же Дневнике о невидных, но влиятельных деятелях в Министерстве финансов, задавшихся как будто программою мешать всем благим намерениям Высшего правительства осуществляться. И если припомнить при этом тот разговор, который однажды был в редакции «Голоса» на вечере у [А. А.] Краевского, и мне передан был слышавшим его, – о том, что самый лучший путь заставить правительство дать конституцию, это вести финансы к разорению России, то поневоле становится ясно, что вопрос, поднятый швейцарскими заговорщиками в печати – совсем не так невинен, как кажется.
Суббота 28 декабря
Невеселые вести привозят из провинции приезжие. Видел пензенского [И. А.] Арапова; он плачет над полною невозможностью продать что бы то ни было в деревне хоть на 1 рубль. Денег нет, и цен нет. Видел екатеринославского [Г. П.] Алексеева; он плачет над отпускными нижними чинами, от которых житья нет в деревнях, и над которыми нет острас[т]ки; плачет он тоже над наемною стражею при тюремных замках, вследствие чего побеги арестантов удаются постоянно.
Один практический человек пишет мне из провинции: «Не понимаю, с чего это у нас ухаживают за всякими арестантами сто раз больше, чем за честными солдатами. Солдата заставляют работать, а арестантов не трогай, не смей беспокоить работою; корми, пои его, заботься о нем, чтобы житье ему было сладко… а тронешь пальцем, тебя под суд. Такое воззрение на арестанта и глупо, и безнравственно, и весьма для государства невыгодно.
Не лучше ли подумать вот о чем: Россия страдает дурными дорогами… Отчего всех арестантов Российской империи не употреблять на стройку и поправку дорог и вообще на все публичные работы, на том же основании, на каком в губернских городах работают любимые в нем рабочие, арестанты арестантских рот? А зимою заводить везде плотничные и подобные им работы».
По-моему, это мысль верная. У нас теперь арестант больше в почете, чем солдат, и солдат ему завидует.
Недавно за границею схвачен был и привезен сюда молодец, укравший по фальшивой доверенности деньги из Госуд[арственного] банка. Везли его, как он рассказывал сам, в вагоне через Швейцарию. Он закурил. Конвойный ему запрещает курить; он не слушается; тогда конвойный бац, и ему подзатыльник. На одной из станций арестант приносит жалобу на конвойного. Его тащут к мировому судье. Судья выслушивает жалобу арестанта.
– Правда, что вы ему дали подзатыльник? – спрашивает у конвойного судья.
– Правда, и вот за что. – Жандарм объяснил.
– Ну, в таком случае жалею, что вы этого молодца три раза не ударили, – решил судья, обратившись к конвойному, и признал его правым.
– В России только, – сказал арестованный мошенник, – я вздохнул, со мною обращаются любезно, и не только не запрещают курить, но предлагают при допросе садиться и покурить…
И это верно.
[М. Н.] Галкин[-Враской] разводит флору в тюремных садах.
Воскресенье 29 декабря
Опять толки о назначениях самые курьезные, и в каких веских салонах: В. К. Мих[аила] Николаевича будто бы не назначают на 1886 год председателем Госуд[арственного] совета, а будет назначен гр. Дмитр[ий] Андр[еевич] Толстой с сохранением какого-то верховного управления Минист[ерством] внутр[енних] дел; [А. А.] Абазу назначают министром финансов… Дурново Ивана Николаевича на место, которое занимал [К. К.] Грот.
Про последний слух все говорят с сочувствием. И самом деле, вот человек, созданный для этого места, и точно идеал для него: человек прекрасной и любящей души, человек честнейший и в самых лучших так сказать отношениях ко всем и со всеми. Cela lui irait comme un gant[334], как говорят французы, и как от такого душевного человека выиграет и оживится дело учреждений Императрицы Марии.
По рукам гуляет записка или брошюра [Н. П.] Смирнова о наших финансах[335].
В нынешнем №-ре «Гражданина» помещена заслуживающая, сколько мне кажется, внимания критика этого проекта[336].
Финансовая беседаЛежит передо мною брошюра г. Н. Смирнова о «Современном состоянии наших финансов», и посоветую всем лицам, интересующимся экономическим положением России, ее добыть и прочитать со вниманием. Если в некоторых своих частях она может быть оспорена, и вообще начертанная в ней программа слишком обширна, чтобы можно было ее выполнить одному человеку, то, несомненно, в ней много правды и истины, в особенности в критической ее части. Там же, где г. Смирнов предлагает средства к улучшению нашего положения, дело уже представляется не столь ясным и во многом грешит; это отчасти зависит от того, что в деле финансовой политики такого государства, как Россия, почти невозможно установить плана и точных рецептов для врачевания недугов нашего финансового положения; следует, задавшись некоторыми основными началами, стараться применяться к данным обстоятельствам, а, главное, не упорствовать в том или другом направлении, если станет ясно, что дело не идет на лад. Отсутствием такой способности и отличается теперь наше финансовое ведомство; напр[имер]: хотя бы в вопросе о сожжении кредитных билетов я упрекаю финансовое ведомство не за то, что оно эту меру предприняло, а за то, что, видя ее полную безуспешность, все же продолжает ее приводить в исполнение. Ошибки присущи человечеству, но искусство опытного дельца или администратора именно в том состоит, чтобы во время замечать свои ошибки, по возможности их исправлять, а главное – вновь не повторять.
Обстоятельства, при которых живет страна, изменяются часто вследствие разных случайностей, войн, политических замешательств и проч.; следует понять, что то, что сегодня прекрасно, может быть завтра никуда не годно. Если бы сожжение кредитных билетов не совпало с всемирным торговым и промышленным кризисом, то, быть может, эта мера могла бы еще принести долю пользы (хотя я лично отрицаю пользу этой меры для государства крупного, мирового, как Россия, при каких бы то ни было обстоятельствах), но сожжение это совпало именно с всеобщим кризисом, и конечно, могло только его усугубить. При настоящем угнетенном положении первою неотложною заботою должно было быть не сокращение денежных знаков, а установление наивозможно дешевого учета, дабы легкостью в добывании капиталов восполнить упадок цены всех продуктов и недвижимостей, тем самым удешевить производство и дать ему возможность, не сокращаясь, оплачивать по-прежнему и в тех же размерах труды рабочего люда. На бумаге учредили соло-векселя, ссуды под хлеб, пожалуй даже на днях понизили учетный процент; но какая в том польза, если соло-векселей не учитывают, ссуд под хлеб не выдают и векселя учитывают только тех лиц, которые в деньгах вовсе не нуждаются и сами несут свои капиталы в банк на хранение? Есть принцип Великой Екатерины, который наше финансовое ведомство, к сожалению, не позаимствовало у судебного, что лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного: лучше потерять миллион, чем отказать в десятках миллионов людям истинно нуждающимся в них для дела, – эти десять миллионов принесут столько пользы народной промышленности, что потеря будет сторицею возмещена; страх потерять казенный рубль доводит нас иногда до абсурда.
Возвращаюсь к труду г. Смирнова. После краткого, но ясного изложения текста брошюры, пополнив его выдержками из истории русских финансов, г. Смирнов установляет программу из пяти пунктов, по которой должны и могут быть улучшены финансы России; последуем за ним по пунктам.
I. Установление равновесия в бюджете. Автор советует те 50 миллионов, которые предназначаются ежегодно на сожжение билетов, а равно и сумму в 150 000 000, составляющую остаток от несожженных еще билетов, обратить на погашение части нашего долга; для пополнения же дефицита в бюджете предлагает: во 1-х, увеличить налог на процент[н]ые бумаги с 5 % на 10 %. Меру эту надо признать безусловно вредною и, по мнению моему, никогда не следовало даже к ней приступать в отношении к государственным бумагам, – on n’est vierge qu’une fois[337], – и, что бы теперь ни делало финансовое ведомство для поддержания кредита нашего за границею, он навсегда подорван – всякий рассуждает так: если сегодня государство отказалось править 5 % с суммы своих обязательств, то почему же завтра, в случае нужды, и не 25 % – (лучшим доказательством служит проект г. Смирнова, на первый раз желающий остановиться на 10 %) мне на это возразят – бумаги от налога не упали, Россия занимает сегодня на выгоднейших условиях, чем вчера: – это совершенно верно.
Но надо подумать и о черном дне, когда экстренно России понадобятся большие суммы на ведение разорительной войны, тогда-то капиталисты и вспомнят о несдержанном слове и дорого учтут эту оплошность нашего министерства. Франция давно поняла эту истину и никогда не решалась обложить государственные свои бумаги налогом.
2) Г-н Смирнов предлагает выдавать ссуды из Дворянского банка кредитными деньгами, а не процентными бумагами; тут я восстану в обратном смысле моего первого положения о несожжении кредитных билетов. Кредитные билеты не следует жечь, но еще менее их расположать без нужды; всякий новый выпуск будет ронять и цену, и государство не имеет права этого делать без особенной, совершенно экстренной надобности, так сказать, здорово живешь, в мирное время. Слишком было бы заманчиво все долги государства процентные заменить беспроцентными билетами; но тогда эти билеты приобретут стоимость папиросной бумаги. Что же касается до мер, предложенных тут же для увеличения наличности банка, они также меры вредные и несостоятельные: а) «сначала уменьшить, а затем вовсе прекратить ссуды, выдаваемые для поддержки биржевой игры»; полагаю, что автор под этим подразумевает прекращение Государственным банком ссуд под бумаги, но это равносильно тому, чтобы банк отказался, во-первых, от самой верной и прибыльной своей операции, – и, во-вторых, заявил во всеуслышание: мои векселя (т. е. государственные бумаги) ничего не стоят, ибо я под них ничего не могу ссудить; конечно, от этого государственные бумаги упадут, а с тем вместе и государственный кредит, чего надо избегать пуще всего. б) Сравнять проценты по текущим счетам с частными банками. Мера эта родная сестра сожжения кредитных билетов, ибо Государственный банк, имеющий право выпускать для своих операций беспроцентные билеты, стал бы платить высокий процент для привлечения к себе тех же билетов, что совершенно неосновательно. Если наш Государственный банк теперь чем и грешит, так это именно тем, что он платит какие бы то ни было проценты по текущим счетам; иное дело вклады срочные, которые представляют из себя нечто вроде процентного краткосрочного займа и к текущим счетам приравнены не могут быть; в) «Отказаться от принятия на хранение бумаг частных лиц, предоставив эту операцию частным банкам», при чем результатом будет, что «многие лица предпочтут продать хранившиеся в банке билеты и часть свободных денег внесут вкладом в Государственный банк». Это оригинально, но не верно; конечно, большинство купит несгораемые шкафы или зароет свои билеты в землю, предпочитая их хранить дома, чем нести на хранение гг. Юханцовым и К°; но это нисколько не заставит их менять один вид государственных бумаг на другой. В глазах публики банковый билет, восточный заем, серия и пр. суть не что иное как обязательства государства, и публике решительно все равно: банком ли или Государственным казначейством они выпущены; что же касается до желания отвратить капиталы от биржевой игры, – это равносильно желанью, чтобы не совершалось никаких сделок с фондами и бумагами, что совершенно немыслимо, биржевая игра есть зло, но зло неизбежное в современном государстве. А затем и вся таблица сравнения между результатом предложенной меры и настоящим положением вещей становится неверною, ввиду невозможности осуществить предложенные меры для облегчения бюджета. Еще раз повторяю одну простую истину: оставьте кредитные билеты в покое, забудьте о их существовании, до тех пор, пока у вас будут избытки доходов, и когда этим избыткам вы не найдете лучшего употребления, чем сожжение билетов. Затем следуют советы насчет пересмотра пенсионного устава и внутреннего управления страною; но кто же не знает, что в этом отношении у нас предстоит еще много и много работы. Бесспорно, что чем будет у нас более порядка, тем самым облегчатся условия экономической жизни народа; но такие реформы надо вводить осторожно, не спеша; лучше держаться старого плохого порядка, но к которому все приноровились, чем заменять его на скорую руку еще худшими законами, а потому основывать благоустроение наших финансов на этих реформах совершенно невозможно; все пожелания, которые в брошюре г-на Смирнова занимают две, три странички, для введения их в действие потребуют многолетней и весьма сложной работы. Затем все, что сказано относительно взятия железных дорог в казну, безусловно, верно, но опять-таки это потребует немало времени и большую долю энергии и решимости.
II. Улучшение податной системы и пр. Сначала автор перечисляет, что сделано было Министерством финансов для облегчения податного класса, – отмена соляного налога, уменьшение выкупных платежей и отмена подушной подати. Совершенно соглашаюсь с г-м Смирновым в том, что эти налоги были отменены преждевременно, слишком поспешно, несообразно с настоящею потребностью, и что можно было гораздо лучше и иным способом достигнуть облегчения народной массы; я не могу однако согласиться с мнением его о передаче раскладки налогов в ведение земств – я лично шесть лет председательствовал в губернском земском собрании и могу смело сказать, что оно к такой работе не подготовлено, и обложение выйдет еще тягостнее, несправедливее, чем всякое обложение, выработанное и исполненное Министерством финансов. В земствах наших имеются доктринеры, говоруны, но дельцов нет; честные и способные люди составляют, к сожалению, исключение, и до тех пор, пока земство не покажет себя в ином свете, лучше не обращаться государству к его помощи. Сведущие люди были сливками наших земств; глубоко жалею только о том, что они были назначены от правительства, а не выбраны земством; опыт был бы еще убедительнее, и выборные земцы были бы наверно еще много хуже назначенных. Затем автор рекомендует монополию вина, и так как я давно проповедую то же, то конечно рад был встретить в труде г-на Смирнова верный взгляд на это дело. Совершенно верно еще замечает автор, что дело краткосрочного кредита поставлено у нас дурно и не удовлетворяет народным нуждам; что эта отрасль финансового хозяйства потребует разумного расширения и правильного применения, – в том, думаю, никто не сомневается; все же меры, предпринятые до сих пор министерством, не достигают цели (ссудо-сберегательные кассы, соло-векселя, ссуды под хлеб и пр.) вследствие крайне непрактичной постановки дела.
Еще совершенно согласен с автором, что введение у нас подоходного налога будет еще труднее и несправедливее, чем на Западе, и до последней крайности следует избегать подобного налога, облагать следует всегда по возможности величины известные, подвергающиеся какому-либо учету, как-то: землю, процентные бумаги, доход акционерных компаний и пр., и по возможности избегать обложения величин неопределенных, как-то: барыши промышленности, доходы и пр. – тут всегда явятся вопиющие несправедливости, и, что всего хуже, вторжение правительства в частную жизнь человека без особой надобности.
III. Покровительство всем отраслям отечественной промышленности, нуждающимся в защите. Автор советует пересмотр нашего тарифа, пересмотр устава Государственного банка и наших бирж. Все это совершенно верно и прекрасно, все эти уставы действительно устарели и тормозят дело внутреннего развития России; но еще раз повторю: все это следует сделать осторожно, не торопясь, дабы не вышло еще хуже. «Timeo Danaos et dona ferentes»[338] – следует безусловно применять к работам чиновников нашего Министерства финансов; каждое улучшение ложится новым бременем и пользы никакой не приносит вследствие безжизненности, которую чиновники имеют дар внедрять в созидаемые ими уставы и циркуляры (для примера: учреждение податных инспекторов). Затем автор советует издать постановления, точно определяющие отношения хозяев к рабочим; в этом смысле ныне представлен Государственному совету Мин[истерством] внутренних дел проект; вскоре мы вероятно увидим на практике, чего от него ожидать, а до поры до времени судить о нем нельзя.
Далее следует пересмотр паспортного устава, торгового, вексельного, о торговой несостоятельности. Со всеми прежде перечисленными мною законодательными пожеланьями автора это почти равносильно пересмотру всего Свода Законов, – работа нелегкая и затруднившая настолько автора, что он ее обрисовал в нескольких строчках, за что приношу ему искреннюю благодарность, иначе труд его мог бы обнять целые фолианты, недоступные к прочтению. Далее не забыто и морское ведомство: советуют нам развить морскую торговлю и отечественное судостроение, до сих пор однако выработавшее только всем известные поповки[339]; тут же рекомендуется открытие рынков для сбыта отечественных произведений. Еще раз – все это прекрасно и надо надеяться, что через сотню, другую лет осуществится; но много надо над этим подумать и еще более поработать. Далее прописывают нам давно известную панацею нашим недугам, учреждение министерства торговли, конечно с министром во главе, начальниками департаментов, многомиллионным бюджетом; но горько ошибаются те, которые полагают, что все пойдет от этого как по маслу: сперва найдите человека, а потом покупайте имение; верное положение это можно применить и к министерству торговли, и если найдется хороший министр торговли, то пожалуй учреждайте и министерство, а учреждать министерство, чтобы искать с фонарями министра, – право, не стоит, ведь и при существующем порядке никто не мешает министрам финансов и государственных имуществ дать надлежащий толчок промышленности и торговле России, – на это имеются и соответственные делу департаменты; но что-то есть однако, что тормозит дело, и с переходом в новое здание не думаю, чтобы прежние чиновники переменили что-либо – разве пуговицы на виц-мундирах, а миллионы наверное будут истрачены.
IV. Развитие кредита прочного и равно «доступного для всех сословий». Все сказанное здесь автором совершенно верно, в особенности относительно ревизии Государственного банка; ревизию учреждений каких бы то ни было никогда не следует поручать чинам того же ведомства: они конечно или скроют часть злоупотреблений, или не успокоят общественного мнения своею ревизиею, ибо известно, что рука руку моет. Считаю долгом тут извиниться перед читателем, что я не привожу даже вкратце всего сказанного в брошюре: статья моя, и так длинная, слишком от этого удлинилась бы, и я попрошу читателя достать брошюру г-на Смирнова и иметь ее перед глазами, что облегчит ему уразумение моей беседы.
V. Улучшение и упрочение денежной системы. Здесь опять все верно; к сожалению, введено несколько слов, которые читатель может и не заметить, но которые содержат в себе коренную реформу всего нашего быта, а именно: «Независимо от этого, на отлив от нас золота имеет влияние и то обстоятельство, что доступ его на денежный рынок наш закрыт существующим воспрещением совершать сделки на звонкую монету». На этих словах я особенно остановлю внимание читателя, потому что этою мерою нам сулит и настоящее Министерство финансов; слишком много времени и места взяло бы доказать то положение, которое из этого произойдет, но неминуемо будет следующее: золота все-таки не будет, сделки будут писать на золотую валюту, а уплачивать кредитными билетами с лажем, – следовательно металла в стране не прибавится ни одной золотушки, а зато доверие к кредитному рублю будет скоро поколеблено внутри страны, и настолько, что государству останется одно: приступить к девольвации, т. е. объявить себя банкротом. (До сих пор рубль внутри государства нисколько не потерял своей ценности, корова стоит то же, а иногда и дешевле, чем при императоре Николае Павловиче и так далее.) А если стремиться к банкротству как к спасению от наших финансовых недугов, то лучше это сделать откровенно: выпустить еще миллиард билетов и, тогда объявив, что кредитный рубль стоит 25 коп., изъять их из обращения. Когда решаешься на бесчестный поступок, то надо стараться его сделать сразу в наивозможно крупных размерах; всем известно, что украсть миллион называется аферою, а три рубля – преступлением. Затем, вместе с автором, глубоко сожалею, что Министерство финансов следует у нас финансовой политике шестидесятых годов (о, эти шестидесятые года! чего они стоят России, да и не в одних финансах), а не следует примеру графа Канкринá; но, Бог даст, переменятся люди, переменятся и взгляды на дело; на что в январе снег бывает крепок на земле – и тот весною тает.
Охотников
1886
[25 февраля[340] ]
Так как почти несомненно мне пришлось бы быть последним, на котором Ваша мысль могла бы остановиться завтра, то простите, что я дерзаю накануне мысленно прийти к Вам и принести Вам те поздравления, которые 25 лет глубокой и сильной привязанности застраховывают от малейшего подозрения в неискренности, заискивании или формальности! Мои ненужные и ничего не стоящие в Ваших глазах поздравления – все же одна лишняя молитва за Вас, все же одно лишнее горячее пожелание Вам того добра, которое с радостью про себя считаю от Бога и перед Богом Вашею чистою и непреклонною душою заслуженное! Да, Государь, простите мне эти потому дерзновенные строки, что они совсем задушевны, и только задушевны. Думая о Вас, молясь за Вас, переживая в общении с Вами по привычке души 25 лет, я не поддаюсь унынию, не клоню головы долу от бессилия при виде, как время трудно и как испытания велики, напротив, с какою-то всеобъемлющею благодарностью к Богу я нахожу ободрение и благодатную силу верить и надеяться в том видимом благословении Божием, которое осеняет Ваш трудный путь и ведет Вас прямо, твердо и светло через тьму и между множеством пропастей. И Ваш свет рассеет общую нашу тьму и приведет нас от дней печали к дням отрады, вера в сие несокрушима, и Боже, как я счастлив, что старик, все крепче сживаюсь с этою верою.
Сегодня дерзаю говорить это Вам при мысли о завтрашнем дне, а завтра, вернувшись в свою глушь, буду праздновать Ваш день тихою радостью, тайком, про себя, что престол Ваш и душа Ваша слиты в одно, и оба так чисты, так полны верою и так близки к правде! Да будет так всегда, вот мое поздравление, мое пожелание и моя грешная молитва! Может быть, ее искренность даст ей не быть отринутою!
А затем желаю Вам, да будет дорогая Семья Ваша все тем же источником для Вас тихой услады и успокоительной и живительной отрады – посреди трудов, забот и тревог!
Будьте, будьте счастливы, Всемилостивейший Государь, будьте благословляемы Богом для России, и Россиею перед Богом! И затем простите, что дал волю сердцу заговорить! Простите, что не могу принудить себя – зная, как недалек мой путь впереди – считать себя отброшенным Вами, чужим для Вас, и отдаюсь этим излияниям сердца, для Вас вероятно смешным, но для меня столь же дорогим, как дорог луч солнца в позднюю осень. Простите, простите старому слуге это дерзновение сердца, ибо верьте, что в нем его последние и единственные наслаждения. Не будьте строги к мне и, если можете, не отталкивайте меня, просящему себе так мало от Вас и так много для себя, для своего счастья!
Да хранит Вас Бог и молитвы всех верующих в Него и любящих Вас!
Ваш верноподданный.
P. S. К возвращению Вашему в Гатчино[341] приготовил не лишенный живого интереса Дневник, думая, что здесь Вам досуга меньше.
25 февраля
10 марта[342]
Спасибо Вам, спасибо от глубины души за подаренные Вами мне минуты в субботу. Вы не поверите, как бодро, светло и отраднее я с ними теперь живу и смотрю на томящие мне душу вопросы. Что-то страшно тяжелое отлегло от нее. Не видя Вас, я думал и представлял себе, что Вы сомневаетесь и колеблетесь во многом, во что я верую твердо и убежденно и о чем не раз писал Вам…
Из каждого слова Вашего я уразумел, что правда на счет финансовых гнетущих вопросов не отчасти и не на половину, а вполне и в целости Вам ясна! Да подвинет же Вас Господь к совершению того, что Вы признаете во благо сделать, и опять же, как прежде говорил, да будет непоколеблена в Вас вера, что Вы, одни лишь Вы, Государь, потому можете смело действовать, что Вы одни взираете на вопросы ясно и верно.
Чтобы вернуться к вопросу о Министерстве ф[инанс]ов и к [И. А.] Вышнеградскому, например, как я Вам говорил, я был поражен необыкновенною меткостью мысли прежде всего этого самого Вышнеградского назначить в Д[епартамен]т госуд[арственной] экономии членом Госуд[арственного] совета. Никто об этой мысли не думал. Одни нетерпеливо говорили: надо скорее Бунге долой и ему в преемники Вышнеградского; другие говорили: Вышнеградский аферист, не нужно его! Одни Вы возымели мысль назначить его членом Государств[енного] Сов[ета] по Д[епартамен]ту экономии! И в самом деле – как метка эта мысль. Будь назначен прямо человек многим не по вкусу в преемники Бунге, сколько было бы разом препятствий этому преемнику, будь он даже гений, начинать новое дело: пошли бы интриги, подкопы, подземная борьба, посреди которой преемник Бунге должен был бы одновременно учиться, узнавать, возиться с врагами, разбивать интриги и управлять; задача оказалась бы не под силу. Ум и силы ушли бы на борьбу с интригой. Все это устраняет Ваша меткая мысль. Вышнеградский поступает в государственную школу; он начинает знакомиться с людьми, с почвою, с вопросами; ему дается возможность умом пользоваться, чтобы вчерашних неприятелей постепенно сперва к себе приучать, а потом обращать в союзники, затем он знакомится с целым миром финансовых отправлений и вопросов, рядом с целым миром всех министерств в совокупности, и в то же время получает возможность проявить свои личные взгляды и свои способности, участвуя в суждении о финансовых вопросах.
Затем, когда он пройдет эту школу и проявит перед Вами свои способности и свои взгляды, открывается полная и спокойная возможность вверить ему ответственное управление Минист[ерст]вом финансов.
Но одно лишь теперь важно: в нынешнюю весеннюю сессию еще немало предстоит работы в Д[епартамен]те экономии. Дорого время, тем более что теперь не совсем там ладно при этом пристрастном и никому не понятном союзе на жизнь и на смерть, заключенном [А. А.] Абазою с Бунге. Теперь, именно теперь, огромное политическое значение имело бы появление в этом департаменте свежего и ясно видящего человека. Да и события финансового мира в России теперь так обострили нужды экономического кризиса везде в государстве, что теперь важна каждая минута потому, что она может дать новую здравую мысль, навести на практическую меру и в особенности парализовать, увы, несомненные попытки вести политику финансов к такому острому положению, чтобы, указывая на оное, можно было бы сказать: да, одно спасение в конституции!
Вот почему смею быть уверенным, что собственною Вашею инициативою назначение нового свежего лица в члены Госуд[арственного] Сов[ета] в Вышнеградском теперь же, перед отъездом Вашим, имело бы громадное нравственное и в то же время политическое значение. От него именно повеяло бы мудростью практическою и политическою.
Никого не оскорбляя, ничего не предрешая, ничего не ломая, Вы только даете нового рабочего финансовой работе, а себе возможность проверить собственным судом: действительно ли этот человек может Вам пригодиться, как преемник Бунге, в том случае, если Вы признаете последнего неудобным.
Да и то сказать: если есть человек в этой области финансов – и откладывать призыв его на работу страшно потому, что в подпольных сферах М[инистерст]ва финансов, увы, завладевших доверием доброго и простодушного Бунге, который в свою очередь поступил под особую протекцию Абазы – могут в эти два, три месяца перед летом в отсутствии Вашем много наделать маленьких гадостей и шикан[343].
Затем еще раз и еще и еще благодарю за данную сердцу отраду говорить с Вами, по старому, по душе, помня все, что к славе Вашей, к славе внутренней ведет одна лишь согретая любовью к Вам и к России правда! Да будет путь Ваш благословен!
P. S.
За Дневник принимаюсь.
10 апреля
Только что вернулся из церкви, где сподобился причаститься и где, чувствуя себя менее недостойным, чем в обыкновенное время, молился от всей души за Вас, молился горячо, молился с верою, молился в искреннем и полном общении с Вами! В такие минуты как сегодня, не взирая на то, что события далеко отбросили мою ничтожную ладью от Вашего величественного и торжественного шествия по Царскому пути, вряд ли есть человек, который душою был бы ближе к Вашей душе, чем я, благодаря тем годам, которые мы прожили и пережили вместе в полном так сказать общении друг с другом – когда Вы были молоды и готовились к душевному и умственному совершеннолетию. Вот почему как вероятно мне дается угадывать мысли и впечатления Вашей души вернее другого, так невозможно мне жить без общения с Вами, и привычка ничего не скрывать от Вас стала моею второю натурою.
Отчасти мои молитвы были вдохновляемы впечатлениями последних дней. Невыразимо тяжело жилось, читая и слыша известия с болгарского театра! Куда не пойдешь, везде слышишь или горький возглас сердца, или ироническую усмешку ума на ту же мысль: мы не двинемся, мы не займем Болгарии, кончено, мы ее потеряли навсегда и т. д. Не поверите, как тяжело живется окруженному здесь всеми этими толками о нашем бессилии. И вот, как ни желал я себя настроить к молитве чисто отвлеченной, тоска и суеверный страх брали верх, и я молился с какою-то фанатичною горячностью и верою о том, чтобы Господь избрал Вас быть избавителем бедного и несчастного болгарского народа от князя Болгарского и от его мерзких клеврет, освободителем во славу Божьего имени, следовательно, бесстрашного к вопросу: что скажут в Европе. Я говорю о своем суеверном страхе, да; я страшусь своего убеждения непреложного и твердого, что если мы теперь не пошлем людей восстановить Церковь, порядок и русское имя, мы себе готовим страшные беды…
Да, и убеждение это так сильно, что я на коленях умоляю Вас, решитесь, Государь, и благословение Божие Вас не оставит: и Вы предотвратите ужасную войну, которая висит в воздухе и разразится непременно, если Россия теперь не решится именем Божиим восстановить порядок! Ведь все, что пишут о какой-то силе кн[язя] Болг[арского] и [П.] Каравелова, все это ложь: правда та, что завтра появись в Болгарии посланный Русского Государя с двумя стами офицерами и с одною дивизиею, от нынешнего порядка вещей ничего не останется… и затем военное управление! Правда, – скажут дипломаты, – но как согласить эту меру с конференциею и с общими переговорами, по инициативе России веденными. Но тогда прежде чем предпринять решительную меру, отчего не послать какого-нибудь важного государственного человека, генерал-адъютанта, со свитою, исследовать положение дел и порядок вещей в Болгарии и в Румелии, с согласия султана, но без всяких сношений с князем Болгарским. И затем если по исследованию окажется то, что есть, то есть хаос анархии, прикрытый каравеловскою диктатурою, то мотивированно и ссылаясь на полномочия, полученные от Берлинского трактата Россиею, торжественно приняться восстановить порядок, оповестив о сем Болгарию и Россию манифестом, и циркуляром на имя держав дав знать о своем решении, с заверением твердого желания сохранить мир в Европе, и только для восстановления порядка – временного занятия Болгарии!
Только этим прямым, решительным и твердым путем можно избегнуть войны. И какое чудное призвание Ваше, именем Бога действовать… А затем неужели может быть малейшее основание опасаться из-за этого Европы? Боже сохрани! Только этим путем можно привести Европу к признанию за Россиею права и принципа fait accompli[344]!
Простите этим мыслям – неудержимо вылившимся сегодня потому, что слишком близко знаю Вашу душу, чтобы не быть уверенным в том, что Вы именно это самое чувствуете и думаете, то есть так же страдаете, как мы страдаем… Но при Вас, Государь, представитель старой школы дипломатии, который менее всего думает об ответственности Вашей перед Богом, а более всего об Европе и о мнимых ее угрозах… Вы признаете себя обязанным [Н. К.] Гирсу верить и своим чувствам даете умолкать перед его мыслями, но, простите мне, Государь, помня, что я сегодня предстал перед Богом и причастился Христовых тайн, я безбоязненно дерзну сказать, что в Вашей душе правда, и только в Вашей, послушайтесь ее голоса, Бог заговорит в нем, ведь Вы одни Его Помазанник, и во смирении Вы можете, Вы должны дерзать Себе верить и Себя послушать больше, чем других…
Прилагаю несколько листов дневника. С мыслию о празднике 13 апреля, дозвольте воскликнуть: Христос воскресе, и мысленно три раза Вас облобызать…
А затем, еще дерзновенная просьба: может быть минуточка выдастся, и Вы мне ради праздника Христова воскресенья удостоите прислать два три словечка письмеца, через К. П. [Победоносцева]. О, как был бы счастлив и благодарен.
8 марта
Трудно передать, как я сегодня счастлив. Свидание и беседа с Государем твердо убедили меня в том, что Он по прежнему ценит задушевные речи и говорит об управлении не как о личном своем деле, а как о святом и трудном Царском деле, к коему словами и мыслями правды Он приобщает того, кто предан Ему и отечеству честно.
Несказанно обрадовался и тому, что Государь подтвердил дошедший до меня слух о вероятии назначения [И. А.] Вышнеградского членом Госуд[арственного] совета по Департаменту экономии. Это громадного значения отрадный факт. Опять-таки Государь один избрал верный путь. Иные нетерпеливые могли бы советовать Вышнеградск[ого] назначить прямо во главу финансов. Было ли это желательно? Понятно, да; но не сто ли раз осторожнее и политичнее было бы то, что Государь решил: прежде всего его назначить в Госуд[арственный] совет, чтобы дать ему познакомиться с делом, познакомиться с политическою средою, с людьми и самого себя ближе и яснее проявить. И уже после школы – мог бы явиться вопрос о занятии им ответственного и трудного места министра финансов.
Невыразимо легко на душе было, когда вышел из комнаты, где говорил с Государем от души, не боясь Его, не льстя Ему, и где слушал Его с отрадою и с благодарностью за впечатления.
Но, Боже мой, как трудно, как невообразимо трудно Его Царское дело. Трудно потому, что мало так надежных людей, надежных в смысле твердых и полных охранителей порядка, принципов и интересов Власти. Встреча моя с [П. С.] Ванновским как нарочно в приемной Царя была в этом отношении очень характерна.
– А я опять на вас жаловался, – говорит он мне.
– По какому поводу?
– За статьи о военных судах![345]
– Чем же они преступны?
– Подрывают уважение к военному суду; неужто вы находите, что суды Министерства юстиции лучше?
– Боже меня сохрани.
– Так чего же вы хотите?
– Во-первых, я ничего не хочу хотеть, а статьи по этому вопросу пишут любящие военное дело и весьма дельные строевые офицеры. Они находят, что военный суд, когда на нем происходит болтовня обвинителя и защитника в лице двух офицеров, говорящих при обвиняемом солдате диаметрально противоположное – подрывает и весьма сильно даже подрывает основы строевой дисциплины.
– Очень верю, но что прикажете делать, из всех начальников округов один только был против судоговорения, а остальные: за!
На этом мы расстались.
Я подумал про себя: удивительная вещь. Ванновский в этом вопросе несомненно, как практически умный и боевой человек, думает так же на счет военных судов, как каждый строевой офицер, и наверное всю эту милютинскую либеральщину презирает… Он же пользуется твердым доверием Государя. Ну что бы ему стоило просить у Государя дозволения отменить эту уродливую болтовню на военном суде! Нет, он пишет жалобу министру внутр[енних] дел на тот журнал, который заявляет мысль о военном суде в защиту военной дисциплины, такую мысль, которой он сам, внутри себя, как умный боевой военный наверное сочувствует.
При свидании с Императрицею я заговорил о слухе назначения Ив[ана] Ник[олаевича] Дурново на место начальн[ика] учрежд[ений] Импер[атрицы] Марии. Императрица сказала, что это действительно ее желание. Еще новое отрадное впечатление вошло в душу. Лучшего выбора нельзя было сделать. Дай Бог этой мысли осуществиться[346]. А то бывшему IV отделению[347] не везет. Был [К. К.] Грот сухой, а теперь тоже сухой [Н. Н.] Герард.
10 марта
Давно бы мне хотелось написать несколько мыслей о Русском нашем театре с точки зрения интересов и искусства, и императорской сцены.
Видевши близко теперь эту сцену, я получил о ней довольно живое и ясное понятие. Понятие это не совсем удовлетворительное. Сцена Русского Императорского театра теперь несомненно переживает кризис, и как она из него выйдет, не знаю. В данную минуту я застал там нечто в роде хаоса. Старое сломано, живые элементы бродят в беспорядке, а строй нового еще не определен. Мало того, я застаю теперь очень сильное раздражение между хорошими артистами против того, что принято называть Дирекциею или начальством, и должен сказать, что это раздражение не совсем неосновательное.
Исходит оно из ощущения и из очевидности, что начальство театра изменило свой взгляд на императорского актера Русского театра, и изменило в ущерб интересам актера и в особенности в ущерб престижа и значения Императорского театра!
Откуда, как и почему?
Сколько я понял, главная причина нынешнего кризиса кроется в том, что контроль Министерства двора, то есть финансовые хозяева министерства, вместе с так называемою Конторою императ[орских] театров – не гармонируют в своих взглядах с начальством того же театра, именуемым Дирекциею, то есть с представителями художественной части театра.
Первые, то есть финансисты театрального дела с [Н. С.] Петрова начиная, рассуждают так: как можно более доходов, как можно менее расходов.
Представители искусства в театре говорят, и не могут не говорить, иначе. Для них главное поставить Русский театр на такую высоту, под эгидою Императорского Имени, чтобы искусство процветало и развивалось, чтобы таланты слетались на зов Дирекции отовсюду, и чтобы хорошая сцена в Императ[орском] театре не могла быть случайностью, а была бы последствием известного раз заведенного порядка, известных преданий, дисциплины и в особенности прочно образованной школы.
Вот этого-то теперь, к сожалению, Дирекция достичь не может, потому что другая голова двуглавого орла, то есть финансовое ведомство, на это все глядит как на второстепенное и требует от Дирекции не служения искусству, а побольше доходов или поменьше расходов.
Отсюда что выходит? Ряд маленьких, но чувствительных стеснений, которые все вместе наносят вред театру в смысле искусства и придают труппе актеров Русского театра характер случайно набранных и контрактом привязанных поденщиков в руках антрепренера, тогда как желательно было бы, чтобы старое осталось как предание, то есть чтобы актеры составляли семью артистов, и чтобы связь с начальством театра была не по контракту, а духовная и постоянная. В последнее время, например, был принят ряд мер на Русской сцене, точно нарочно подобранных для отягчения положения артиста.
Например: 1) почти вовсе отняты экипажи, когда знаешь, какую цену имеет возможность, даваемая артисту, после долгой пьесы, с раздраженным горлом возвращаться зимой домой в закрытом экипаже; а нанимать экипаж, это 3, 4 рубля ежедневно[348]. 2) Запрещение выдавать артистам даровые места в театрах, как раз вышедшее тогда, когда артисты Русского театра как нарочно начали посещать другие театры с целью учиться. 3) Уничтожение главной основы Императорской сцены как школы и семьи артистов, пенсии, и 4) наконец, новый вид контрактов, заключаемых с артистами на короткие сроки и с стеснительными всякими пунктами, напоминающих весьма контракты частных антрепренеров. Оттого теперь артисты в Русск[ом] Импер[аторском] театре, как птички залетные, в лес смотрят…
Что же надо? Надо, чтобы Петрову и театральному начальству власть имеющие сказали: не стесняйте артистов, а напротив, поощряйте и ободряйте их.
Вторник 11 марта
[А. Д.] Пазухин, правитель канцелярии гр. [Д. А.] Толстого, повез проект, им разрабатываемый о переустройстве уездного управления[349], в Москву для совместного обсуждения его с Катковым… Катков, бесспорно, умный человек, но вряд ли он что-либо смыслит практического в деле уездного управления. Пазухин тоже замечательно умный человек, но он человек, живший безвыездно в своем Алатырском уезде и, следовательно, успевший до известной степени сузить кругозор своих представлений о практической жизни в российской провинции. Вот почему нет сомнения, что проект Пазухина, при всех его положительных достоинствах, будет иметь свои слабые стороны. Уже одно то, что по настоянию гр. Толстого начальство над уездом хотят вверить уездному предводителю, а не лицу, непосредственно назначаемому губернатором, является вопросом весьма спорным, так как уездный предводитель дворянства, избираемый дворянством и, следовательно, независящий непосредственно от губернатора, может подчас быть весьма красного образа мыслей и тогда закабалить себе уезд прямо с враждебною правительственным интересам целью.
Вот почему казалось бы весьма благоразумным, так как гр. Толстой хочет с этим делом спешить и в мае уже представить Государю на утверждение главные основы реформы, эти главные основы не прежде утверждать, чем они будут разосланы ко всем губернаторам на рассмотрение. В течение лета губернаторы могли бы дать свои отзывы, а затем уже по получении отзывов губернаторов составилось бы нечто такое, что могло бы послужить главными основаниями реформы и поступить на утверждение Государя.
Это крайне желательно из предосторожности, чтобы не компрометировать Царского авторитета.
Да и не в уезде суть дела, а в губернаторах. Надо губернаторам дать ясную и сильную власть, тогда все пойдет хорошо. Для этого всего важнее такие пункты:
1) Все чины в губернии, кроме судебного и контрольного, – непосредственно подчинены должны быть губернатору.
2) В случае преступлений против собственности и поджогов, совершаемых крестьянами скопом, – губернатор имеет право требовать предания виновных военно-полевому суду.
Среда 12 марта
Видел приехавшего из Москвы Д. И. Воейкова. Он рассказывал мне – невероятное: что знаменитый жид [Л. С.] Поляков представил вкупе с своим московским однофамильцем проект продажи ему Московского Взаимного поземельного банка[350]. Этот проект курьезная и феноменальная вещь. Он доказывает, до какой наглости и бесцеремонности могут доходить Поляковы относительно Министерства финансов. Воейков видел в Москве Каткова, виделся и с Петром Самариным. Оба говорили об этом Поляковском проекте с сочувствием! Просто не верится. Что Катков имеет слабость к жидам вообще и к [С. С.] Полякову в особенности, это понять можно, так как Поляков один из главных учредителей Катковского лицея, но чтобы Катков мог сочувствовать Поляковскому проекту по Взаимно-поземельному Московскому кредиту и Петр Самарин – это совсем непонятно!
Поляковский проект представляет две характерные черты: первая – подбор больших выгод для членов закладчиков Моск[овского общества] поземельного кредита, а вторая – комбинация, посредством которой Поляков метит нажить миллионы. Комбинация эта не хитрая. Он предполагает золотые горы заемщикам Моск[овского] общества взаимного поземельного кредита, но с тем, чтобы ему в свою очередь правительство дозволило на 240 миллионов выпустить лотерейный заем. И вот этот-то глубоко безнравственный проект – Поляков имеет смелость представлять на утверждение министру финансов![351]
Надо надеяться, что министр финансов вернет проект Полякову, даже не входя в его обсуждение.
Четверг 13 марта
Неутешительно жить и констатировать каждый день все больше, насколько деньги у нас отравляют политические сферы и затуманивают жизнь и портят людей. Просто не знаешь, кому верить и кого не остерегаться. Например теперь разыгрывается история сахара[352]. Была комиссия под председательством товар[ища] мин[истра] финансов, [П. Н.] Николаева, которая разработала вопрос о сахарном кризисе. В этой комиссии были два главных лагеря: с одной стороны знаменитый [И. Г.] Харитоненко с несколькими крупными сахарозаводчиками, в том числе принцесса Евгения Максимил[иановна], кн. Щербатов и другие; с другой стороны партия [И. С.] Блиоха – [А. А.] Абаза – [А. А.] Бобринский или партия, требующая ограничения производства сахара и в то же время скрыто рассчитывающая поддержать и усилить вредную для государства спекуляцию на сахарные цены. В комиссии после добросовестных усилий и работ восторжествовало мнение Харитоненки. Блиох был побежден.
Казалось, дело было кончено. Не тут то было. Оно только теперь загорелось. Блиох объявил, что он не сдается.
Сила была на его стороне, сила денег и интриги. Деньги, то есть карманный интерес, представлял собою Абаза, а интригу повел [М. Н.] Островский. Но Абаза, как ловкий гешефтмахер[353] тщательно отстранился. Он был в стороне и со стороны повел все дело. Образовалась комиссия из Бунге, Островского и [Д. М.] Сольского, и в ней Островский составлял записку против Николаева по диктовке Абазы, то есть так, как ему говорил Абаза у себя дома, а Абаза в свою очередь получал внушение от Блиоха. И вот во вторник в Комитете министров вопрос будет рассматриваться и, разумеется, решится в пользу Блиоха и Абазы. Грустно!
Le dessous des cartes[354] такой: Островский ухаживает за Абазою в надежде, что тот ему поможет вкарабкиваться на кресло Бунге! У Николаева по этому поводу была крупная ссора с Бунге…
Пятница 14 марта
Видел сегодня одну из многих матерей, которая имеет причину сетовать на слабость учебного начальства относительно воспитательной дисциплины. Сын ее был в Технологическом институте[355] и выскочил из него вон, не желая продолжать оставаться в такой миазматической атмосфере. Его характеристика института очень не хитрая. В нем до 800 учащихся. Огромное большинство – молодые люди без семейных преданий, без нравственных принципов, без веры и самого красного в политическом смысле образа мыслей; меньшая часть смирная и хорошая, но без всякой энергии и инициативы в отстаиваньи авторитета и умственного порядка. Оттого большинство дерзко и нагло; а меньшинство робко и боязливо! Наглость большинства доходит до того, что когда директор Института [Н. П.] Ильин (тряпка!) появляется не в урочный класс в классы института, вожаки большинства ему говорят: вам делать здесь нечего, советуем убираться.
Вышел же он из института вот почему: какой-то мерзавец вскочил на стол и во все горло объявил, что служить панихиду по Императоре Александре это все равно, что изменять народным идеалам; тогда мой студент сорвал его со стола, повалил и поколотил. Масса студентов немедленно себя объявила за мерзавца студента, и мой студент должен был выйти из училища и поступить в Институт путей сообщения[356].
Недавно в Италии создан закон, на основании которого все гражданские учебные заведения преобразованы по типу кадетских корпусов, с военным строем, эволюциями[357], дисциплиною.
Вот, кабы возымели мужество и у нас тоже устроить такие полувоенные школы из наших гимназий и реальных училищ! Кабы, дабы…
Суббота 15 марта
А что если в самом деле мерзавцу князю Александру вздумается провозгласить себя королем Болгарии соединенной и окончательно порвать со всеми обязательствами к Европе?
Вопрос этот по видимому на очереди и в связи с другим вопросом: а что если Турция, чтобы купить спокойствие Болгарии в виду войны с Грециею, согласится на все требования князя Болгарского, и таким образом даст России désaveu[358] перед лицом всей Европы? А европейские государства с своей стороны не захотят поддержать Россию? Что тогда?
Грешный человек, я думаю, что политика решительная и энергичная на словах столько же полезная, сколько и на деле. А потому теперь, так как очевидно мерзавец Александр Болгарский рассчитывает на затруднительное для России положение – энергический протест России, хотя бы одной, на имя Турции был бы весьма кстати.
Этому протесту могли бы предшествовать переговоры с Австриею и с Германиею на счет вопроса об оккупации нами тремя или четырьмя дивизиями Болгарии в виду неисполнения болгарским правительством своих перед Европою обязательств – впредь до восстановления полного спокойствия и в предвиденьи военных событий между Турциею и Грециею.
Можно почти быть уверенным, что твердая и прямая решимость русского кабинета, именно теперь, в виду неуспешности переговоров с Турциею и угрозы войны Греции с Турциею, была бы встречена Австриею менее враждебно и недоверчиво, чем прежде…
Необходимость для России вмешаться в дела Болгарии назрела. Ее нельзя в виду фактов считать иллюзионорною или угрожающею каким-нибудь усложнением. Оккупация Болгарии вызвана такими же причинами, как те, которые вызвали оккупацию Боснии и Герцеговины австрийцами[359].
Воскресенье 16 марта
Виделся с стариком А. П. Озеровым. Душа заболела при виде искреннего горя и грусти его от бездействия.
– Не дают мне дела, – говорит он, – и только, точно я человек сделавший что-нибудь очень дурное и лишенный доверия.
Мы гадали вместе на тему: что может быть причиною тому, что его по Опекунскому совету[360] не призывают к службе. Бедный Озеров боится мысли, что Императрица к нему нерасположена или что есть кто-нибудь влиятельный, который вооружает Царицу против него. Я говорю Озерову, что вряд ли его подозрения основательны, и просто назначение его замедляется потому, что теперь нет пока хозяина в Учреждении Императр[ицы] Марии, и ожидается назначение кого-либо во главе учреждений, а [Н. Н.] Герард только калиф на час. Я советовал также Озерову просто написать Императрице и просить Ее ходатайства о назначении в почетные опекуны. Нельзя просить о должности с жалованьем и с политическою деятельностью; но о должности для деятельности сердца именно просят, ибо она не есть просьба от честолюбия или от властолюбия, а есть крик любящего сердца, просящего Христа ради права любить ближнего на деле.
Действительно жаль, что таких ценных по сердцу людей не приурочивают к священной области благотворительности, пока он еще в силах работать, тем более, что теперь очень мало осталось деятелей полезных и достойных между почетными опекунами.
Сдается мне, что великое благо и утешение бедному Озерову сделали бы, если к светлому празднику[361] вспомнили о нем.
Вторник 18 марта
Сегодня совсем неожиданное в Комитете министров решение знаменитого сахарного вопроса о нормировке. Бунге взял назад свое представление – встретив сильнейшую оппозицию в остальных членах; даже [М. Н.] Островский и [Д. М.] Сольский сделали налево кругом! Непостижимо! Дело отложено – до осени! Tout à fait inattendu[362], и никто ничего не понимает!
20 марта
Был у меня генерал-лейтенант [Д. К.] Ган, на вид весьма симпатичный человек. Он инспектор пограничной таможенной стражи, и приезжал ко мне заявить, что все заявленное мне генералом Тугенгольдом, в оправдание взведенных на него в печати обвинений и напечатанное мною по просьбе этого Тугенгольда – к сожалению неверно[363]. Тугенгольд должен был выйти из Министерства финансов и оставить место инспектора пограничной стражи потому, что по произведенному дознанию оказалось, что большая часть поступивших на него жалоб и нареканий была основательна.
Я расспрашивал подробно Гана о пограничной страже. Он мне сказал, что этот вопрос требует, по его мнению, серьезного изучения и внимания со стороны высшего правительства, так как действительно за последние годы при весьма слабом внимании к нему и министра финансов, и Департамента таможенного ведомства, много вкралось в это ведомство и вредных людей, и злоупотреблений.
В особенности заслуживал бы особенного внимания пограничный с Пруссиею таможенный округ. Там, говорит он, является всегда в виде угрозы вопрос: а что будет в случае войны с Германиею, и вот тут-то, по его мнению, не совсем ладно.
А насколько запущена эта часть в самом Департаменте, можно судить по тому факту, что в прошлом году тот стол в Д[епартаме]нте таможен[ных сборов], который заведует секретною политическою частью по Западному таможенному округу, был в руках одного молодца, который в прекрасный день был арестован государственною полициею у себя дома за участие в сообществе анархистов…
Я спросил Гана на счет директора Деп[артамен]та тамож[енных сборов Л. Ф.] Тухолки: какого он о нем мнения? И правда ли, что Тугенгольд потому был в фаворе у него, что скупил его векселя. На это Ган мне отвечал: так как я векселей Тухолки у Тугенгольда не видел, то я не могу об этом факте говорить; но одно могу заявить и отвечать за верность моего заявления: что Тухолка окружен евреями и поляками и что жена его заядлая полька. Ничего другого я сказать не могу; а там, куда затираются евреи на службу, там добросовестности ждать трудно.
По поводу Бунге, о котором я расспрашивал Гана, он мне сказал, что он, то есть Бунге, мягкий, кроткий, добрый и честный человек, но отсутствие самостоятельности у него доходит до таких феноменальных проявлений, что иногда он на другой день после принятой резолюции по какому-нибудь делу увидит другое лицо, то лицо ему наговорит всякого вздору, и смотришь, на другой день он дает приказание по тому же делу совсем противоположное.
Курьезную вещь сообщил мне Ган. Он говорил мне, что по всему видно, что Бунге ограничивает свой срок министерского управления летом и как будто к лету предвидит свой уход; прежде он по многим вопросам торопил, а теперь он по этим самым вопросам все откладывает до лета, приговаривая: а там, увидим, что будет!
Воскресенье 23 марта
Сегодня был у меня [И. А.] Вышнеградский, с которым много говорили о политике, то есть о Болгарии.
– Вот, – говорю я, – время на баржах из Измаила перевести преспокойно через Дунай две дивизии в Болгарию.
Да, время, и в сущности не трудно, в виде предупредительной любезности к Турции, чтобы помешать болгарам идти против Турции, на случай войны с Грециею, и заручившись согласием Австрии. Последнее труднее получить, но ведь не сегодня, так завтра прийдется вмешаться в болгарские дела активно и непосредственно; лучше, мне кажется, скромно сделать это теперь, а Австрии разве нельзя сказать: ты хоть Сербию бери… Ведь дело в том, что для России, серьезно говоря, чем глубже входит Австрия на Балканский полуостров, тем для нее, то есть для России, выгоднее, ибо рано или поздно, а именно на Балканском полуострове Австрии суждено найти свою смерть. И притом вот что: по-моему, мы ничего не выигрываем от выжидательного бездействия и от дипломатических переговоров в финансовом отношении; ни наш курс, ни внутренний рынок ни на минуту не могут улучшиться или окрепнуть; наоборот, малейшее движение воздуха, малейшая газетная утка, и тревога грозит перейти в панику. Вот почему мне кажется, что даже в экономическом отношении было бы выгоднее решительным шагом, не агрессивным, а охранительным, полицейским так сказать – прекратить это тревожное и угрожающее положение в Болгарии.
При этом мы коснулись интересного вопроса, вопроса Болгарской Церкви.
– Знаете что, – сказал мне Вышнеградский, – я только на днях прочитал и со вниманием прочитал книгу Т. И. Филиппова о болгарском церковном вопросе[364], и просто поразился тем, как сказанное им 15 лет назад теперь является осуществлением пророчества. С минуты как Болгария, или вернее, с минуты, как наш Святейший Синод дозволил Болгарии восприять церковную независимость из рук султана и порвать связи с греческою Церковью, – кончено, как бы проклятие легло на Болгарию, и все, что в ней творится для ее возрождения, все идет в ее разрушение. В Бога уже никто не верует в Болгарии. Безбожники правят неверующими. Управление обратилось в авантюру, – и самое поразительное, в 1878 году, когда после ряда неслыханных побед наши войска, освободители Болгарии подошли к Константинополю, чтобы в него войти, точно Ангел стал у ворот Византии и сказал: не войдете!
Где же исход?
Исход в уповании, что нынешний наш Государь, который глубоко верует – вникнет в эту роковую духовную тайну и собственным сердцем старшего сына Церкви православной зажжет светильник, и при свете его возбудит к жизни вопрос: о приобщении Болгарской Церкви к греческой или о соединении с нашею, с уничтожением ее независимости нынешней.
Пока мы не загладим этот великий наш грех прошлого, мы не увидим ни света, ни мира в болгарском вопросе.
25 марта. Вторник
Сегодня был у меня вчера вернувшийся из Болгарии через Константинополь и Одессу начальник отряда Красного Креста [В. М.] Юзефович. Его рассказы весьма любопытны и интересны. Юзефович правдив и беспристрастен; вот две ценные в нем черты, придающие его словам несомненную авторитетность. Прием, им оказанный с первой минуты прибытия в болгарскую землю, был искренно дружеский. В Рущуке они получили 50 саней с лошадьми и по снежному пути весело и благополучно в течение 8 дней добрались до Софии. В Рущуке они познакомились с маленьким Бисмарком в лице 25 летнего юноши, нашего чуть ли не секретаря консульства. Фамилия его[365]. Он буквально владыка Рущука; все его слушают, все преклоняются перед его авторитетом и волею, и вот благодаря этому мальчику – весь отряд в самое трудное время был принят, как в России, и совершил волшебно приятное путешествие.
Первые впечатления до Софии были такие. Они интересны тем, что в отряде были сестры милосердия, участвовавшие в войне 1877 года. По их словам, прием, теперь им оказанный, куда симпатичнее тогдашнего. Везде на стоянках, на постоялых дворах и в частных домах их встречали с нежным чувством и с распростертыми объятиями. При этом вот что замечательно: не было в эти 8 дней избы или гостиницы, где бы они не увидели на стене почетной комнаты портретов Покойного Государя и Государя и Императрицы в коронах и мантиях. Это имеет свой смысл, если принять в соображение, что в частных домах на всем пути они не видали почти нигде портрета князя Болгарского. Русские офени[366] гуляют по всей Болгарии и разносят всевозможные портреты, даже султана и императ[ора] Австрийского[367]. Рука болгарина из всей коллекции берет только те портреты, которые и русскому дороги.
Затем вот политическое впечатление. Почти до Софии они убедились что вопрос о Румелии со всеми его бурями не существует: на севере Болгарии об этом почти нигде не говорят, и в иных домах не знали ничего про уход русских офицеров[368]. Вообще там Россия.
Но затем приехали они в Софию. Тут начинается летопись грустного, важного и безобразного.
Повторяю, что Юзефович правдивый, беспристрастный и с большим тактом человек, так что все его впечатления и мысли заслуживают доверия.
Я спросил его прежде всего о главном впечатлении: о нынешней минуте и о том, где, по его мнению, выход?
Он мне на это сказал:
– Мое главное впечатление теперь есть мое непреложное убеждение, что еще год, и мы потеряем Болгарию, то есть все результаты до единого всего нами сделанного.
– Что же по-вашему надо сделать? – спросил я.
– Надо не теряя ни минуты стать твердою ногою в Болгарию.
– Что же это значит?
– По моему крайнему разумению надо начать с сознания, что мы к сожалению потеряли слишком много времени и дали событиям [попасть] в руки[369] таких недостойных деятелей, как [П.] Каравелов и его дитя – князь Болгарский.
Последствия такого промедления с нашей стороны обратились все против нас и обрисовали для всякого, кто, как я, четыре месяца глядел на Болгарию совершенно беспристрастно, значительную ошибку.
Еще есть время эту ошибку исправить. Но скоро она будет неисправима.
В чем же эта ошибка? В том, по-моему, что мы дали болгарам и вообще всем народностям на Балканском полуострове увидеть и понять, что Болгария, всем обязанная России и по мысли самих же болгар немыслимая без России, не только может без России обойтись, но даже может посредством таких ничтожных личностей, как кн. Александр и Каравелов, нарушить Берлинский трактат, приобрести целую провинцию, побеждать на поле брани, и так далее.
Это страшная и роковая ошибка.
По-моему, на другой же день после дурацкого coup d’état[370] князя Болгарского, надо было не то, что дивизию, а просто послать уполномоченного военного, с именем и значением, и повелеть ему именем Русского Государя, опираясь на русских офицеров – отменить все распоряжения кн. Болгарского, отнять власть у Каравелова, изгнать его из Болгарии и заставить князя или подчиниться или его, как ослушника Царской воли, арестовать и привезти в Россию, как русского офицера – для суда над ним.
Тогда можно было бы продолжать дело объединения обеих Болгарий, но уже не из болгарских каравеловских рук должно было оно исходить, а из рук России, сообща с европ[ейскими] державами и с Турциею, но по инициативе России. И тут же следовало бы немедленно вызвать еще столько же русских офицеров, сколько было, чтобы разом заполонить всю Болгарию, и назначить лучших из них на места, соответствующие нашим исправникам, и штаб-офицеров назначить губернаторами. Таким образом без оккупации вся Болгария de facto[371] была бы русская, и можно было бы даже кн. Болгарского оставить при таких условиях, окружив его железным русским кольцом.
К сожалению, вызов обратно русских офицеров – послужил интересам Каравеловых. Сразу он освободился от самых сильных и опасных для него противников. И тут же на беду случились победы болгарских войск над сербами[372], без русских офицеров, заставившие Каравелова сказать: «Теперь вся Европа видит, что мы можем без русских офицеров обойтись». Но этого мало.
Следовало бы одновременно с принятием энергических мер немедленно после переворота – подчинить себе и привязать духовенство. Как бы слабо оно ни было, оно все-таки в Болгарии имеет известное влияние на народ. Достигнуть этого можно было бы немедленным учреждением в Филиппополе русской духовной семинарии с русским учебным персоналом, которая сразу стала бы центром духовного влияния, русской пропаганды и первым шагом к объединению Болгарской Церкви с Русскою.
Но и этого мало. Женщина, как мать и как семья, является тоже сильною проводницею известного политического настроения в юном народе и в молодом обществе. Надо было немедленно создать в Софии или в Филиппополе женский русский институт с полным русским учебным и воспитательным персоналом.
Но, увы, вместо всего этого мы отряхли прах от ног наших относительно Болгарии и дали свободу действовать всем разрушительным стихиям.
Тут явилась двойная беда.
Одна беда заключается в том вреде, который приносит краю революционное и социалистическое, беспринципное направление всего нынешнего болгарского правительства: теперь буквально вся южная Болгария обратилась в большую школу анархизма, ведомую Каравеловыми, под фирмою и знаменем княжеского имени. Другая беда несравненно серьезнее. Она уже теперь чувствуется в Болгарии. Там чуется, что Россия как будто отступилась, чтобы дать волю и место революции свершать свое ужасное дело, и отступилась после того, что торжественно так сказать не одобрила переворота в Румелии по той причине, что он был совершен революционным путем. Этот первый шаг в связи с вызовом русских офицеров был понят в Болгарии именно в этом благоприятном для России смысле; то есть в смысле не признавания Россиею революционного принципа.
Но затем все, что происходит и произошло после этого до настоящего времени, толкуется болгарскими интеллигентами вот в каком роковом для России смысле. Это говорил Каравелов, с одной стороны, с злорадною улыбкою, и с грустью говорил митрополит Климент.
«Россия дала нам (Каравелову и анархистам) carte blanche[373] действовать без нее – как мы хотим, предполагая, что мы революциею достигнем того, что ей хочется – смещения князя Болгарского, чтобы затем иметь право вмешаться в наши дела и провозгласить военную диктатуру. Нет, она ошибается. Мы на эту удочку не поддадимся. На что нам гнать князя Болгарского. На что нам республика. Напротив, нам сто раз выгоднее иметь в своих руках князя Болгарского, делать из него, что мы хотим, и его именем князя держать в повиновении всю Болгарию, все войско, и в крайнем случае всю Европу принуждать с нами церемониться, а в то же время уничтожать все то, что нам мешает, и может нам угрожать в будущем служить опять связями с Россиею: Церковь, православие, духовенство и преданных России болгарских военных офицеров… Все это мы в течение двух, трех лет уничтожим вместе с русскими мундирами, русскою командою, русским языком в церкви… и тогда мы будет спокойнее за судьбу Болгарии. России не скоро тогда до нас добраться…»
Так рассуждает Каравелов.
А вот что говорит митрополит Климент.
«Грустно видеть, что Россия нас оставила на произвол врагов и своих, и Божиих. Ведь выходит так, что Россия, самодержавное и православное государство, как будто смотрит благоприятно на то, как враги Церкви и враги Власти разрушают молодое царство, русскою же кровью созданное, и не хочет вступиться за нас, поддержать нас. Ведь мы дети еще, мы только начинаем жизнь народно-государственную, надо нас учить, нами руководить, за нас быть умными, коли мы глупы, а то теперь и церковь, и школа, и войско отданы в руки врагов Церкви и России, и отданы как бы Россиею, в самую трудную и критическую для Болгарии минуту».
Митрополит рассказал Юзефовичу про одну из своих бесед с [А. И.] Кояндером, к которому он обратился в ту минуту, когда Каравеловы заставили князя согласиться на правительственное решение: отнять у духовенства жалованье. Митрополит обратился к Кояндеру с просьбою защитить духовенство. Кояндер ему на это ответил отказом и мотивировал его тем, что из-за этого не станет ссориться с Каравеловым!
Теперь, между тем, если что-нибудь еще уцелело русского, то это солдаты и отчасти духовенство. 2 марта при нем, Юзефовиче, правительство и город в Софии решили не праздновать. Митрополит тогда от себя велел расклеить большие объявления по городу, в которых он оповещал о торжественной литургии 2 марта, имеющей быть отслуженною в день восшествия на престол Императора Александра Всероссийского и молебствия о его здравии. Объявления были от митрополии, и из-за этого вышла целая буря на митрополита от анархистов. В Софии же по требованию князя и Каравелова молитва за Императора Всеросс[ийского] и Покровителя Болгарии произносится после князя Болгарского, тогда как во всей Болгарии она произносится прежде. Как дозволили наши агенты такую дерзость – непостижимо.
В Филиппополе, когда князь Болгарский приехал триумфатором, духовенство с местным митрополитом Гервасием во главе объявило князю, что оно явилось ему заявить о неудовольствии народа.
– По поводу чего? – спросил князь.
– По поводу того, что Ты, князь, своим поведением навлек на нас гнев Русского Государя и отвлек от нас Его родительское сердце.
– Я не могу быть в одно и то же время и русским и болгарским, – ответил князь, – и не могу быть более русским, чем болгарским.
Тогда завязалась оживленная распря между князем и митрополитом, в продолжение которой князь неоднократно вышел из пределов приличия и уважения к духовенству, напомнив ему, что оно не призвано в его глазах говорить от имени болгарского народа.
Таково угнетенное состояние духовенства в Болгарии, и последствия не медлят… Католики, протестанты и русские деятельно взялись за пропаганду, и она идет с ужасающею быстротою, затирая и искореняя православие. Протестанты уже устроили огромную школу-гимназию на средства американской какой-то компании, с целью правильною системою приготовления учителей, с планом размножения училищ в духе протестантизма. Католики везде заводят школки и иезуитов, а русские нигилисты и анархисты, увы, целою группою, пользуясь протекциею Каравелова и секретаря князя Б[олгарского] [фамилия нрзб.], поселяются в деревнях и заводят посредством наскоро устраиваемых школок целую пропаганду между молодежью безверья, грубого социализма и ненависти к России как к представительнице религиозного и политического, по их учению, деспотизма и тирании.
Осталось еще одно военное юнкерское училище в Софии. Пока оно вполне еще дышит и живет в русском духе, благодаря прекрасному начальнику, болгарскому офицеру, искренно любящему Россию[374]. Но на него уже натравлены все подлые стихии каравеловской партии, и не сегодня, так завтра его заместят.
Чтобы дать понятие о том, насколько злопамятен, гадок и вреден Каравелов, стоит только привести его слова, им сказанные [В. М.] Юзефовичу о болгарском солдате.
– Да, – сказал этот мерзавец, – он хороший человек, наш солдат, но к сожалению он имеет все недостатки русского солдата, он не имеет индивидуальности, вот главный недостаток!
Этого лишенного индивидуальности солдата в виде рядового, и в виде унтер-офицера, и в виде фельдфебеля Юзефович имел случай видеть близко, и вынес такое впечатление: что все это русские солдаты во всех отношениях, – но, увы, все это пока; не сегодня, так завтра они вернутся домой, и их места займут новобранцы в духе каравеловских военных, с индивидуальностью, безбожием и ненавистью к России, как закваска.
Офицеры болгарские ненадежны: бóльший процент – мелочь, раздраженные против всего русского издавна, то есть с тех пор, как служили под началом русских офицеров; но есть и порядочные люди между офицерами, и порядочность их всегда соединена с симпатиями к русским. Но таких мало. К тому же письма из Болгарии «Русского странника» (прохвост тоже, [Е. Л.] Кочетов), печатавшиеся в «Новом времени», совершенно напрасно раздражили офицеров болгарских, рисуя их трусами[375]. Юзефович пытался уяснить себе вопрос о связи князя Болгарского с войском. Ему показалось, что [связи] сердечной, а еще менее духовной, между войском и князем мало. Он для них что-то случайное. Ни энтузиазма, ни фанатизма его личность не возбуждает ни в ком. У солдата светится чрез какие-то призмы его простодушия героическая личность Русского Государя… А у офицеров ничего не светится, и ничего не согревает; в них все мертво!
Характерный эпизод из последнего периода Болгаро-сербской войны, рисующий князя Александра, услышанный Юзефовичем от офицеров. Когда сербы явились у Сливницы в виде триумфаторов и угрожать стали самой Софии, князь Александр сел в коляску и поскакал в Софию. Это было первое его движение… бросить войско и подумать о себе. Прискакав в Софию, князь Алекс[андр] собрал все свои пожитки, драгоценности, деньги, и все сдал на хранение английскому консулу… А пока он занимался этими пожитками, в Софию пришло известие о поражении сербов. Тогда князь Александр вернулся к своему войску. Этот эпизод всякий солдат знает, и вот ради этого-то эпизода сердце военное в Болгарии к нему не лежит. Он не трус, этот негодяй, а гешефтмахер прежде всего.
Виделся Юзефович и с князем Алекс[андром] несколько раз. Говорил и говорит он много. Главное впечатление, что он мастер своего актерского дела. И слезы кстати, и высокопарные тирады, и проявления добродушия, и все, что угодно; обаяния много, но доверия к нему мало…
О Государе он говорит всегда с особенным торжественным благо[го]вением.
Свое положение он характеризирует так: «Меня оставили, окружили меня негодяями, но что же мне делать; если, чтобы себя спасти, мне говорят: вот палка, но она лежит в навозе, возьми ее, очевидно, я возьму эту палку с навозом из навоза и буду ею защищаться…»
Что он умен, это бесспорно, но несомненно и то, что он сам на себя смотрит как на авантюриста, следовательно, непрочного, а из разговоров с Каравеловым и его людьми Юзефович вынес то убеждение, что все эти мерзавцы рассчитывают в своем успехе и в своей прочности на то, что Европа не даст России никаких полномочий и не позволит ей что бы то ни было лично предпринять против Болгарии и против князя Болгарского.
Из отзывов о Каравелове вот что характерно: он страшнейший деспот, дерзкий и грубый; власть его ослепила; он ни за что не хочет республики, по той простой причине, что тогда начнется борьба партий, а ему нужно сохранить власть и душить все остальные партии; для этого ему нужен князь Болгарский.
Затем, по мнению Юзефовича, в Болгарии никому нельзя верить из так называемых политических людей: все они прохвосты, все они мошенники, и все ненавидят Россию.
– Ну, а [Д.] Цанков? – спросил я
– Цанков такой же Каравелов, только он притворяется теперь русофилом, в надежде, что русские помогут ему свалить Каравелова и стать на его место. Ведь Цанкову принадлежат напечатанные en toutes letters[376] в газете слова: «Нам не нужно ни русского меда, ни русского жала», только тогда, когда он говорил, он рассчитывал добиться власти без русских. А теперь он телеграммы посылает будто бы преданные русскому Государю. А поговоришь с ним, так тухлятиной и фальшивостью и воняет.
В Болгарии нужен русский военный элемент, и надолго, чтобы совсем и постепенно изгладить и уничтожить всех интеллигентов, и Каравеловых, и Цанковых.
Без этого Болгария совсем и скоро отойдет от России.
Как грустное и печальное заключение ко всему этому, остается прибавить, что в прошлое Рождество Христово в Софии появился № газеты, в котором на первой странице повествуется о том, что 1885 лет назад от блудной женщины Марии в Вифлееме родился мальчик Иисус, про которого сочинили целую поэтическую легенду…
Невольно думаешь с ужасом: не отвечаем ли и мы перед Богом за такие явления в интеллигенции болгарского народа.
Пятница, 21 марта
«Порядок восстановлен»! Так гласят телеграммы, приходящие из Бельгии, с тех мест, где еще накануне король со своим парламентом, все королевские учреждения, все власти и должностные лица, и кроме того все заводы и фабрики, и все миллионное население королевства, со страхом и трепетом задавали себе вопрос: хватит ли войск, чтобы подавить мятеж рабочих, двинувшихся по всем направлениям, с места своих работ, чтобы, под предлогом неудовлетворительности своего заработка, все предать огню и разрушению, во имя великих принципов человеческого прогресса, анархии и смерти капиталисту.
Какая горькая ирония звучит в этих словах: «порядок восстановлен»! Какой порядок восстановлен? – имеет право спросить с желчною усмешкою на губах всякий здравомыслящий зритель событий: тот ли, который делает невозможным повторение такой угрозы революционным потоком и установляет нечто прочное взамен шаткого и валкого, или тот порядок, который заключается в перемирии, в передышке, купленной новою уступкою, еще одним послаблением принципов авторитета и порядка капризам и требованиям кровожадной толпы?
Да, именно вот этот-то порядок восстановлен. Как в «Прекрасной Елене» живописно восклицает Калхас: «Я вступил в сделку с уличившими меня в шулерстве»[378], так точно бельгийское правительство и само себя, и своих мирных граждан Бельгийского королевства, обманно успокаивает и успокоительно обманывает словами: «Мы капитулировали с сволочью, мы заключили спор сделкою с толпою мерзавцев и извергов, поднявшей на нас знамя смерти и разрушения»…
«Порядок восстановлен»! это означает новое торжество революции, новый шаг анархической волны, с легкой руки презренной Франции, идущей победоносно потоплять народы Европы, добродушно отдавшиеся конституционализму и наивно поверившие, что власть и порядок, поставленные в зависимость от толпы и страстей, могут быть основами прочного общественного порядка и дадут тот прогресс на деле, который звучит в словах.
Франция, с своею республикою, дошедшая, в своем падении, до уничтожения чести, нравственности и храбрости в своей гражданской жизни; Англия, с своим парламентом, добредшая до публичного обсуждения вопроса о праве монарха иметь королевские права; Бельгия, со своею конституциею, дошедшая до часа, когда еще минута, и ничего бы не осталось от строя жизни под огнем и мечом анархистов; Италия, с своею конституциею, доведенная до необходимости все учебные заведения обращать в военные корпуса, чтобы готовить хоть горсть людей мало-мальски патриотов против миллионов толпы без принципов, и возле всего этого: колосс Германской монархии. Он молод, этот колосс… Но, поглядишь ближе, поймешь сейчас же, насколько парламентаризм и выборы успели подточить его основы – этого колосса, и страх, который вдруг овладел бесстрашным Бисмарком, когда перед ним во всей своей кровавой наготе открылась картина революции в Бельгии… Недавно еще железный канцлер, уверенный в себя и в свою Германию, шутил с многоглавою гидрою-революциею, как шутит полишинель у Петрушки с московским бараном, гладя его по головке и даже ударяя его хлыстом[379]. Ненавидя Францию всеми фибрами своего существа, он все сделал, что он него зависело, чтобы принципам революции Франции не дать остыть и отжить, и, наоборот, расстраивать все инстинктивные порывы народа восстановить монархию… Ему нужна была революционная республика во Франции, как лучшее и вернейшее средство добивать ее последние силы… Но революция не дает Бисмаркам ласкать себя безнаказанно, и вот, проходит несколько лет, и Бисмарк начинает замечать, что он уже стоит сам на почве, обрыхлевшей и минированной тою самою революциею, которую он лелеял во Франции, и сегодня стоит перед поразительною картиною тысячей анархистов, идущих на королевство с тем же упоением, с каким германский солдат шел на Седан… Храбрый, чтобы победить Данию, храбрый, чтобы душить австрийцев, храбрый, чтобы поразить наполеоновских французов, Бисмарк не нашел в себе довольно храбрости, чтобы вступить в бой лицом к лицу с учреждением и детищем революции, – парламентом и выборами его, и уничтожить его, и вот теперь он доживает до минуты странной и дикой по своей сущности, – задавать себе вопрос: не спасать ли монархическую власть Германии от подступающей к ней гидры революции – походом солдат в Бельгию, на помощь ее королю против идущей на него анархии?.. Точно оставляя одну голову гидры у себя дома живою, можно ее победить, убивая другую голову той же гидры в Бельгии…
Нет… не видать свету в этой тьме! Из конца в конец мира все газеты воспроизвели знаменитую речь Бисмарка в парламенте в ответ на победоносное поражение, ему нанесенное парламентским большинством по вопросу о введении монополии…[380] Речь эта – опять-таки курьезное и знаменательное сопоставление двух противоречий. Начало ее – дерзкий вызов, брошенный в лицо анархистам-членам парламента, влекущим большинство его против правительства, а конец этой речи – есть не что иное, как, прикрытое парламентскими сладкими речами, публичное исповеданье силы и права в силу той самой анархии, которая, принимая все виды, все формы, самые даже консервативные, в конце концов создает большинство из разных партий и из разный страстей, и это большинство ведет в виде полчища на престол и на сидящего на нем… Создающий парламент и конституцию – от парламента и конституции, рано или поздно, погибает… Это печальная истина, и в день, когда Богу угодно будет закрыть глаза монарху Германии, старцу-императору юной Германии, – эту истину поймут и Бисмарк, и немцы на деле… Не до войны солдат с солдатами им будет тогда… анархия ударит в набат…
Для курьеза статья из парижской газеты «Événement».
Il y a quelques jours, des travailleurs anglais, poussés par la misère, crièrent famine si haut qu’à Westminster, dans leurs vieux costumes de cour, les chevaliers de la Rose blanche et de la Rose rouge secouèrent leur sommeil et se levèrent. Les travailleurs traversèrent la ville, les poings serrés, la colère aux dents, les pieds nus. Ils avaient emmené leurs femmes, pales et déguenillées; leurs enfants, malades et grelottants. Des dégâts furent commis. La privation rend farouche. Des policemen – chose grave – furent bousculés. Autour de leurs batons ne s’enroulait plus la loi qu’on respecte, mais quelque chose comme une lanière de knout qu’on brave. Ils s’arrêtèrent devant de riches hôtels, habités non par des aristocrates, le sang normand est épuisé, mais par de riches industriels, cassèrent les carreaux et enfoncèrent les portes; ils pillèrent des boutiques. On affirme que plusieurs murmuraient: A bas de reine! ce qui, de l’autre côté de détroit, est un acte extraordinaire. Un homme lança une pierre contre un portrait de Cromwell, qui la reçut sur la cuirasse d’acier. Un autre lut à haute voix un passage de Macauley où il est raconté que, d’auprès la chronique, ce bon peuple de Paris aurait tressé des licols à ses chevaux avec les boyaux des Armagnacs[381] égorgés. En déclamant, ils montrait du poing de maison d’un tory célèbre.
Une Irlandaise qui trainait neuf enfants énuméra les gibets par lesquels on avait essayé jadis d’étouffer la revolution de féniane[382]. Elle raconta ensuite l’histoire de son homme, pendu pour avoir voulu être libre. Un philosophe monta sur une borne et expliqua pourquoi l’Angleterre chérissait sa religion d’Etat et par quels moyens elle cherchait à éterniser un compromis impossible entre la servitude et la liberté. Un étudiant lui répondit en faisant l’apologie des «hommes de métier», une des plus épouvantables menaces pour l’Angleterre, et en affirmant que le rôle des jeunes était d’étudier les pulsations du corps social. Les travailleurs marchaient toujours, grossissant comme un fleuve après l’orage.
Cette marche ascendante voulait dire: «Angleterre, prends garde à toi! Ta féodalité tend à disparaître. Tes Eglises ont moins de privilèges. Le keltisme irlandais fusionne avec l’anglo-saxonisme. Les conservateurs, les Anglicans, les vieux torys sont des pots de terre contre lesquels se heurtent impitoyablement les whigs, les nouveaux radicaux, les antianglicans, et les ritualistes. John Stuart Mille vit dans tous les coeurs. L’ouvrier ne veut plus être un “rude”, un “ours”, un “grossier”, un “impoli”. Enfin, ta monarchie chancelle, ébranlée par des mains invisibles!»
Cependant le prince de Galles descendait à Paris. Dans quel but? Pour y contracter un emprunt de 50,000 liv. sterl. Le prince est dans la dèche, comme le roi wagnérien[383]. Il n’est pas le seul en Europe.
Il paraît que les affaires royales ne vont pas très bien. Il y a une baisse sensible sur les valeurs émises par les têtes couronnées. On a beau décupler les impôts, le résultat est le même. Les portiers de Palais sont inondés de papier timbré. Chaque fois, on saisit un sceptre ou on menace de vendre un trône sur le seuil de la porte du gouvernement. Ce serait à changer de métier, si les princes n’y mettaient pas un amour-propre exagéré et si dans les familles royales il n’y avait pas ce qu’ils nomment des traditions.
Savoir qu’on régnera un jour sur les Indes, et se voir réduit à faire des billets à un usurier, ce doit être désagréable. Subir la familiarité de Schylock[384] quand on est le premier citoyen de Londres est une épreuve difficile. Passer par les fourches caudines[385] d’un agent véreux qui fait sonner Votre future couronne afin de s’assurer si elle n’est pas fourrée et qui se renseigne dans le cas où Votre Magesté serait hypothéquée, cela provoque aisément l’humiliation et la rancune. Que voulez-vous! La vie a de ces exigences. Vous en voyez la preuve. Il ne faudrait pas croire pourtant que le prince de Galles en fût réduit à mettre au clou un morceau de la corde de John Brown. Il n’en est pas encore à l’impériale de l’omnibus. Une personne qui le voyait de près, l’autre jour, m’assure que le prince avait la gaieté d’un homme certain de dîner le lendemain. Cette personne ne se trompait pas, puisque, vingt-quatre heures après, notre prince faisait à un de ses sujets, lord Dupplin, l’honneur de risquer contre lui au baccara l’honnête somme de deux cent cinquante mille francs et l’honneur de la lui gagner. Lord Dupplin, hors d’état de payer, s’est brûlé la cervelle en rentrant chez lui.
Les rois sont moins scrupuleux quand ils font faillite.
Tant pis pour lord Dupplin! Il ne m’intéresse que médiocrement. Le prince de Galles m’importe davantage. Ce prince étalant deux cent cinquante mille francs sur un tapis vert, tandis que le peuple qui sera le sien demain hurle la faim est un potentat digne de la mériter l’attention du chroniqueur. La façon dont les échos de Londres se sont traduits à Paris est vraiment curieuse.
Le peuple dit:
– Du pain!
Le prince répond:
– Des cartes!
La foule murmure:
– Du travail!
Le prince répond:
– Coupez.
L’émeute crie:
– Hommes, femmes, enfants, vieillards, nous tremblons de froid, nos estomacs nous torturent, la maladie nous ronge!
Le prince répond:
– J’en donne.
La revolution hurle:
– Vengeance!
Le prince répond:
– J’ai neuf!
Et il abat un neuf comme une tête.
Cela est bien.
Cela est tout à fait princier.
Au bord de la Tamise, Londres gronde:
Au bord de la Seine, Mlle Réjane, dévorant le prince des yeux, lui récite un compliment de circonstance, un compliment en vers, s’il vous plaît, bien que madapolam y rime avec arquebuse. L’opposition me plaît.
Entre les vers de Victor Hugo et la poésie de M. X… il y a toute la différence qui sépare un peuple qui se révolte d’un prince qui fait la noce.
Mon intention n’est point ici d’affecter des allures de prophète ou de démolisseur de trône. On ne fait pas plus de bons gouvernements avec les hommes qui sont toujours méchants qu’on ne fait de bonne soupe avec du mauvais beurre. Mais les faits sont les faits. Or, il faut être aveugle pour ne point s’apercevoir que, tandis que les princes s’amusent, les peuples songent et que les temps sont loin où l’on gouvernait des hommes comme on mène de chèvres, avec un bâton ou avec un pipeau. Le bâton révolte et le pipeau ne s’entend pas dans le brouhaha des revendications. Le métier de prince est un métier très difficile. Il demande beaucoup de tenue, il exige beaucoup de libéralisme, il veut surtout beaucoup d’assiduité. On répudie un prince qui ne prend pas la situation au sérieux comme on renvoie un domestique qui manqué de zèle. Or vous comprenez bien que ce n’est pas en soupant avec des danseuses, en raflant deux cent cinquante mille francs à un pauvre diable et en écoutant, nonchalamment étendu dans un fauteuil, la voix de zinc de Mlle Rejane qu’on gagne le respect de ses sujets, surtout quand ces sujets ont mille raisons de mécontentement. Jadis, je le sais bien, à Londres comme à Paris, à Madrid comme à Vienne, on ne se préoccupait pas de ces petits détails. On était roi parce qu’on naissait roi. On pouvait être à son choix renégat ou coureur, idiot ou assassin, c’étaient vos petites affaires et personne n’avait le droit d’y mettre le nez. Ce droit, on le conteste encore, mais le peuple en use quand même, avec sa mauvaise habitude de ne vouloir être ni trompé ni battu.
Il a écrit en marge des pages de Machiavel, a rayé le texte et a signé le Prince du nom de Populus.
Qu’on se le dise!
Georges Duval[387]
29 марта
Был у меня сегодня обер-говорун и всеведущий генерал [Е. В.] Богданович. Мы разговорились по поводу [А. А.] Абазы. Абаза послал ко мне своего двоюродного брата[388] заявить в ответ на появившиеся у меня в «Гражданине» и в «Моск[овских] ведом[остях]» намеки на его участие в знаменитом сахарном вопросе, что он, Абаза, не только никакого участия в вопросе о нормировке сахара не принимал, но ни одного рубля премии за вывозной за границу сахар из казны не получал. Ввиду столь категорического заявления Абазы я счел своим долгом поместить это самое заявление в Дневнике «Гражданина»[389].
Вот об этом-то мы говорили с Богдановичем, и вот что он мне рассказал.
В сахарном вопросе случилось нечто совсем необычайное и непредвиденное. Статьи ли «Моск[овских] вед[омостей]» или намеки «Гражданина» подействовали ли на Абазу, неизвестно, но факт тот, что вдруг в прекрасный день Абаза, тот самый Абаза, к которому и Островский, и Бунге обратились за инструкциями для составления своего знаменитого проекта нормировки сахарного производства для Комитета министров, retire son épingle du jeu[390], делает volteface[391], и вот что происходит.
Накануне заседания Комитета министров, где должно было рассматриваться представление министра финансов о нормировке сахара, Островский в вицмундире будто бы приезжает к Абазе договариваться с ним на счет этого самого представления, имеющего быть рассмотренным завтра в Комитете министров в присутствии того же Абазы.
Каково изумление Островского, когда Абаза ему говорит: знаете что, Михаил Николаевич, я совсем не понимаю, почему это вы ко мне обращаетесь по этому вопросу; я по своему положению официальному должен держаться совсем в стороне от сахарного вопроса, в котором я, как сахарозаводчик, заинтересованная сторона, делайте как хотите и что хотите, а меня оставьте в стороне и в покое. Островский уезжает. На другой день происходит вот какой курьез. Бунге, ничего не предвидя, говорит своему товарищу: заезжайте ко мне, Павел Михайлович[392], в исходе второго часа, я уже буду дома.
– Как так? Да у вас сегодня заседание в Комитет[е] мин[истров] по сахарному делу.
– Пустяки, мы уж все решили вперед, только подписать, споров не будет…
Является Бунге в Комит[ет] министров. Абазы нет. Начинается чтение записки о нормировке. Островский вдруг заявляет, что он против нормировки. [Д. М.] Сольский тоже как будто сдается на сторону Островского… Бунге не верит ушам. Вчера еще все эти два были за нормировку. Остальные члены тоже против нормировки, и Бунге остается один против всех. Тогда начинаются согласительные разговоры, и кончается все это тем, что Бунге берет назад свое представление и обещается к осени изготовить нечто новое!
И возвращается он не в исходе второго, а в исходе четвертого домой, и застает Николаева.
Рассказывает он свое горе!
– Я это предвидел, – отвечает Николаев, – но теперь чтобы вас-то самих, Николай Христианович, поднять в глазах вашего ведомства и сахарозаводчиков, давайте поскорее сочиним циркуляр, в котором вы прямо и от себя заявите ваше несочувствие нормировке. Тогда по крайней мере вы спасете свое достоинство и свой авторитет.
И вот является в «Правит[ельственном] вестн[ике]» с быстротою молнии циркуляр министра финансов на имя биржевых комитетов, в котором он категорически объявляет свое несочувствие ходатайствам некоторых заводчиков о нормировке сахарного производства в России[393], то есть противоположное тому, о чем накануне представлял в Комитет министров.
Все это в высшей степени курьезно, если рассказ Богдановича верен.
Во всяком случае метаморфоза Абазы, и циркуляр Бунге, и взятие назад доклада о нормировке – все это факты несомненные.
30 марта
Всею душою написанную статью осмеливаюсь внести в свой Дневник[394].
Среда, 26 марта.
Телеграммы с театра странной дипломатической войны между всеми великими европейскими державами с одной стороны, и князем Баттенбергским – с другой, продолжают держать весь политический мир Европы в тревоге, под давлением упорства и нежелания князя Александра подчиниться требованиям России и Европы.
Но допустив даже, что этому упорству настанет не сегодня так завтра конец, и князь Баттенбергский признает нужным подчиниться 5-ти-летнему сроку относительно Румелии, что от этого выиграют интересы европейского мира, при тех условиях, которыми обставлена теперь Болгария, где все устранено от дела, кроме каравеловской партии радикалов и анархистов?..
Вопрос этот для России в особенности имеет важное и живое значение, ибо если только представить себе, что в эти 5 лет Болгария будет продолжать служить театром маскированных действий каравеловской партии, то какими страшными убытками от застоя и тревоги в нашем промышленном и торговом мире поплатимся мы за эти 5 лет мнимого подчинения князя Болгарского пункту 17 Берлинского трактата[395], не говоря уже о том, что в эти 5 лет мы будем, вероятно, вовсе и навсегда выкурены из Болгарии, так что и следа и даже воспоминания в ней о России и русских может не остаться.
Я слышу, как говорят о необходимости прогнать князя Болгарского; я слышу, как говорят о необходимости русской военной оккупации Болгарии и т. д. и т. д., и слышу, как в ответ на эти мысли или меры другие отвечают: «Нельзя, а Европа что скажет?..»
Да простят мне наши дипломаты, но я с ужасом за будущее моего отечества спрашиваю себя: не пришла ли минута, вместо вопроса: что скажет Европа? – спросить себя: что говорит Бог, вручивший нам не Европы ради, не славы земной ради, и не перед Европою, а Его славы ради, и с ответом перед Ним, молодое племя для насаждения в нем всех благ и строя свободной христианской жизни?
Я исповедую мое смущение. Со дня, когда в 1878 г., вместе с тысячами русских простых солдат, у врат Константинополя, я с ужасом почувствовал, что в минуту, когда мы собирались в славе и блеске войти в Царьград, ангел Божий стал у ворот, и, мечем нам заградив дорогу, вернул нас назад, – с этого дня Божий суд, мне кажется, без сравнения, страшнее суда Европы в этом роковом Балканском вопросе. И страх этот тем более силен, что он усугубляется зрелищем несомненной связи, Божьим промыслом установляемой между каждым действием нашим на Балканском полуострове и между ходом государственной жизни у нас, в России. Как забыть, насколько уверенно и успокоительно за мир и его блага ручались наши дипломаты в ту минуту, когда они избраны были Промыслом быть оракулами страха и трепета России перед Европою и перед вратами упавшей к нашим ногам Византии… А между тем, страшно припомнить, с какою утонченною ясностью и беспощадною логикою – связь нашего отступления от Царьграда с ходом наших внутренних событий разыгрываться стала день за днем, год за годом, пока, наконец, все сильней наволакивавшаяся туча не разразилась над бедною Россиею небывалою в истории мира грозою, от трепета которой мы избавиться не можем доселе.
Бедные мы!
За несколько лет до нашего балканского похода 1877 года Болгария, чтобы избавиться от слишком требовательной опеки Греческой Церкви, предпочла приять из нечистых рук турецкого султана право на самостоятельную Церковь и поставление своего иерарха. Вопрошенная о сем наша Церковь, из страха Европы, поступила, увы, как Пилат, умыла руки перед всем народом и сказала: «Неповинна я в сем грехе Болгарской Церкви – вы узрите»! И великий грех, великий соблазн в лоне нашей Церкви свершились, с безмолвного согласия России. И свершились потому, что страх Европы в нас сильнее заговорил страха Божия… Мы устыдились перед Европою быть ревностными сынами нашей Церкви. Последствия этого с нашей стороны безмолвного согласия на грех Болгарской Церкви, грех возмущения и бунта против основ церковного порядка – не замедлили сказаться страшными. С одной стороны, сама Россия была попущена Промыслом войти в эпоху страданий и судорог от революции, коей главнейший принцип она допустила сознательно для болгарского церковного вопроса, с другой стороны – все славянские народы охвачены были, как пожаром, двумя страстями, утратившими чистоту христианского стремления и принявшими вид человеческих похотей, похотью к свободе и похотью взаимной ненависти. Пришли годы восстания и войны. Славянский мир встрепенулся… Россия поднялась во имя воспоминаний, преданий и надежд…
Но что мы тогда увидели? Нечто опять такое страшное. С первого шага вступления нашего христолюбивого воинства на балканскую землю мы были встречены нашими братьями, во имя освобождения коих пришли, без намека на духовную связь, без слова о единой нашей матери Церкви, без малейшего следа духовной радости… Мы были приняты как разнощики всяких земных благ, начиная с политической свободы и кончая нашими золотыми и серебряными рублями… О, я помню это ужасное ощущение. Солдата, умиравшего в снегах Балкана за Христа, обшаривал освобождаемый братушка, с мыслью найти карбованец или монету…
Мы уподобились тогда французам, избравшим в угоду революции второго бога, le dieu des armées, бога армий, чтобы успокоить тех, которые не верили в Бога миров и земли! И, победив во имя Бога войны, мы постигли Бога вселенной, Бога нашего солдата и нашего народа – только тогда, когда Он нам явился в нашем унижении и поверг нас, победителей, к ногам того самого повелителя неверных, из рук которого с нашего безмолвного согласия, девять лет раньше, Болгария, нами освобожденная, приняла благословение на автокефальную христианскую Церковь…
Но и в унижении мы не устрашились и не познали Бога. Не успела остыть кровь наших солдат на полях Болгарии, как мы принялись работать для ее политического счастья и строить государственное здание. Казалось бы, наступила тогда минута опомниться и, сознав свой грех прошлого, начать постройку с твердой почвы, то есть с примирения Болгарской Церкви с Православною Вселенскою путем усилий, любви и власти; но нет, снова Европы ради, мы устыдились коснуться вопроса Церкви и поспешили приступить к выполнению политических задач. Тут затемнение Божьим Промыслом полного разума явилось еще страшнее, еще поразительнее. Дитяти-народу, не имевшему первых понятий о политической жизни и нуждавшемуся в самой прямой и в самой первобытной форме государственного строя и в правительстве, ближе всего подходящем к форме отца семьи и начальника рода, – этому народу мы даем князя при конституции, и не только при конституции строгой, но при конституции самой широкой, самой демократической, или, вернее, самой распущенной, с одним народным собранием, и таким поразительным образом снова, и вторично, явились деятелями во имя революции! Первый раз – был принцип революции, допущенный в область Церкви. Второй раз, как последовательное последствие первого шага, был принцип революции, вдруг, сознательно введенный как основа политической жизни болгарского народа, освобожденного самодержавною и православною Россиею.
Тогда пошла на глазах всего мира изумительная работа созидания в разрушение. Пренебрегши Церковью еще раз, как краем угла, мы видим, как выбор князя для Болгарии падает, из страха Европы, на какого-то дурно воспитанного мальчишку, мнимо протестантского исповедания, но на самом деле ни во что не верующего и со всеми отличительными чертами существа, из которого, смотря по обстоятельствам, слагается или авантюрист, или ловкий жонглер, но в обоих случаях беспринципный… Этому существу вручают судьбу целого народа, стоившего России миллионы жизней и миллиарды денег, и, для вящего усиления зрелища дел, оставленных Богом, дают ему на придачу собрание, составленное из людей, только успевших одно восприять в области культуры и цивилизации: отвергнуть Бога и христианскую нравственность… Наступает минута, когда этот беспринципный ребенок постигает, что такая конституция есть насмешка над здравым смыслом: он ее ломает детскими руками, и дребезги сломанной игрушки в руках мальчика-князя, удивленного ее непрочностью и ломкостью, – громче всяких слов свидетельствуют о нелепости и тленности ее содержания… Но что же мы видим? Мы, опять мы, опять самодержавная и православная Россия, посылаем туда каких-то генералов восстановить конституцию и снова зажигать борьбу страстей, похотей и политических партий… Третий раз мы являемся в Болгарии носителями принципа революции, и восстановляем конституцию… Таким образом, в самый короткий промежуток времени, рядом действий во имя ужасного и разрушительного принципа революции, мы насаждаем в Болгарии понятие, что революция есть лучший путь дальнейшего развития Болгарского государства; а чтобы в этом не могло быть сомнения, мы оставляем Церковь в Болгарии на произвол ее судьбы и бессилия, отдавая ее на поругание атеистам-политиканам, а сами по какому-то непостижимому случаю посылаем в Болгарию людей, для которых вопрос о православной вере, о Боге, о Церкви не только последняя вещь, но вещь даже вовсе не существующая…
И что же свершается?..
Революция, привитая нами в Болгарии необыкновенно быстро, и благодаря первобытной почве народной жизни в Болгарии, очень успешно ведет свое дело, и в один день совершается как ни в чем не бывало знаменитый переворот, вследствие которого князь Болгарский, опираясь на Каравелова и на недоразумения в войсках, становится князем соединенных им в одну ночь обеих Болгарий… Но при какой обстановке?.. Это-то зрелище и знаменательное… Северные болгары присоединяют к себе южную в ту минуту, когда князь ее, поставленный в князья в расчете на его послушание относительно России, открыто объявляет себя ослушником Русского Престола, обманом и просто мошенничеством вводит все войско и русских офицеров в заговорщики против Русского государства; Церкви велит молчать под угрозою ее вовсе уничтожить, и при полном безверии, объявленном обязательным для печати и для школы… Успех этого громкого и дерзкого подвига революции был полный…
Все расчеты человеческой выгоды оправдались до единого… Русские офицеры, последняя родня и духовная связь с болгарским народом, в лице его доброго, храброго и кроткого солдата, отзываются… Каравеловы с князем Болгарским – их заложником и рабом – остаются владыками обеих Болгарий, и грубый деспотизм сволочи без веры и без принципов водворяется в Болгарии, в виде порядка и строя, раньше чем успевает истечь десятилетие после первой битвы за свободу Болгарии…
Болгарский народ молчит… болгарский солдат безмолвствует, но шепотом, точно на крыльях ветра, носится по Болгарии ужасное предчувствие, что если последний русский ее оставил – то не для того ли, чтобы революция могла продолжать свое разрушительное дело и довершить его до конца, до падения князя и его престола в потоках крови и грязи…
Ужасное предчувствие, когда сопоставить его с представлением о значении России как самодержавного и православного государства, призванного жить в мире для Божией славы только в этом виде, а не в каком другом… Ужасное предчувствие, когда связываешь его со свежими воспоминаниями того ряда поразительных и, понятно, страшных испытаний и бедствий, которыми Бог столь чудесно и столь ужасно, в то же время, казнил нас за то, что мы отреклись от Него во всех наших действиях в Болгарии, страха ради Европы, и имели неразумие предпочесть стоять за революцию, чем стоять за Бога и Его истину…
Во всяком случае, как бы мы ни старались прикрывать себя теми или другими украшениями, – истинное зрелище жизни в Болгарии – нам обмануть себя нельзя… Настал час или увидеть и ужаснуться своего ответа перед Богом, или отвернуться, и обречь себя на гибельный и роковой путь государства без Бога… События так сложились, что средины уже нет… Мы призваны выбрать между Богом и Европою… Нигде не ждут… Болгария охвачена со всех сторон протестантами, католиками и русскими анархистами; Церковь предана доживать свои последние дни; училища и единственная духовная семинария наполнены учителями-атеистами; печать, исповедующая Бога, запрещена; последние солдаты в русском духе уходят домой не сегодня, так завтра, и сменяются солдатами каравеловской школы; военное училище, еще сегодня в руках отличного начальника, собираются отдать в руки военного нигилиста и врага России; женское училище отдано в руки анархисток, и последняя русская прогнана. Пропаганда революции идет везде как лесной пожар в летнюю засуху, и, с грязною палкою в руках, князь Болгарский, как кукла, показывается еще Каравеловыми народу, потому что они не уверены, что республика обеспечит им власть столь же прочно, как беспринципный князь… Это одна картина…
А другая – Европа, и в особенности Австрия, с улыбкой злорадного удовольствия поощряющая политику придерживаться буквы Берлинского трактата, в уверенности, что этим путем, и только этим, Россию вытеснить из Болгарии, а Европа в союзе с революциею и ее гидрою все ближе и скорее втесняется в Балканский полуостров…
Не нам, частным лицам, дерзать думать давать советы: что делать и как поступать…
Но никакая сила земная, никакое представление об Европе не могут мне помешать веровать и исповедывать, что теперь настала минута, когда Бога нужно убояться более Европы, не только для блага и спасения бедной Болгарии, но и для судьбы нашего государства…
Настала минута для России начать действовать открыто, прямо, безбоязненно и твердо во имя Церкви, Самодержавия и вековых преданий и, порвав все связи с революциею навсегда, потребовать от Европы полномочий восстановить порядок в Болгарии во славу Божию и с помощью Божиею.
А если Европа их дать не хочет, то их даст Русская Церковь, их даст русский народ – в сознании, что, спасая болгар, он себя спасает, а губя болгар – он себя губит…
3 апреля
Был у меня сегодня К. П. Победоносцев, рассказывавший мне про заседание Комитета министров третьего дня, посвященное вопросу о продолжении жел[езной] дороги до Самарканда. Заседание прошло бы без особенных эпизодов, если [бы] К. П. не пришло в голову из предосторожности заявить, что как раз в этот же день появилась статья М. Г. Черняева в «Новом времени»[396], в которой описываются всякие ужасы, ожидающие проектируемую линию от песков и других местных неудобств.
– Я бы не обращал внимания на эту статью, как вообще не обращаю внимания на газетные статьи, если бы она не была за подписью такого человека, который по своему положению генер[ал]-губернатора в том крае мог бы иметь о нем верные сведения.
На это как индейский петух расхорохорился [А. А.] Абаза и принялся ни с того ни с сего разносить печать, да кстати и меня грешного с моим «Гражданином», злопамятуя нападки его на защитников нормировки сахара. При этом К[онстантин] П[етрович] рассказывал мне, что военный министр сильно вознегодовал на Черняева за эту самую статью и представил Государю об его увольнении из Военного совета. Негодование [П. С.] Ванновского совершенно основательно, ибо Черняев проявил большую бестактность, печатая статью против своего министра, с доводами, которые он мог бы и должен был бы представить не в печати, а в Военном совете; но представлять об исключении его из Военного совета мне кажется слишком строго потому, что Черняев не со злым умыслом делает эти бестактности, а с какою-то неисправимою легкомысленностью и наивностью чисто ребяческими… Смел бы полагать, что если бы ему было передано неудовольствие Государя по этому поводу, то сие на него подействовало бы столь же сильно, и подействовало бы на его хорошие стороны и чувства. А то при нашей публике, склонной всякого наказуемого правительством прославлять, сейчас пойдут толки, и начнут возводить Черняева в какого-то мученика, гонимого будто за правду.
Победоносцев говорил мне с сочувствием о мысли Юзефовича о необходимости учредить в Болгарии русскую духовную семинарию, но, увы, где в этом хаосе об ней думать.
Сегодня получил первый № газеты [С. Ф.] Шарапова «Русское дело»[397], предпринятой в Москве в виде продолжения «Руси» под смешным предлогом, что этот Шарапов был сотрудник [И. С.] Аксакова. Первый № обличил всю дрянность этого г. Шарапова, всегда слывшего, впрочем, за прохвоста. Под предлогом воздания чести Аксакову он позволяет себе в самой гнусной статье нападать на консерваторов русской печати, и очевидно рассчитывает себе залучить симпатии той бесшабашной публики, которую некоторые наивные ценители имеют глупость называть либеральною[398]. Ничтожество его убогого и пошлого умишки обнаружилось в этом первом №ре вполне.
5 апреля
Беседовал с весьма неглупым, хотя ни на что свой ум не посвящающим, человеком, екатериносл[авским] помещиком [А. К.] Кривошеиным. Два предмета этой беседы нас живо интересовали, а именно: И. Н. Дурново, коего он приятель, и вице-губернатор Екатериносл[авской] губ. флиг[ель]-адъют[ант В. П.] Рокассовский.
По поводу Дурново узнал от Кривошеина, что ходит по Ведомству учреждений Императрицы Марии теперь такой слух: мысль поручить их И. Н. Дурново будто бы уходит на задний план, а вместо этого является комбинация, поставить во главе учреждения Вел. Кн. Сергея Александровича, а доклад по учреждениям поручить какому-нибудь ст[атс]-секретарю, который при Вел[иком] Князе будет состоять в виде помощника.
Я усумнился, признаться.
Кривошеин, по моему, весьма основательно, говорил, что будет очень жаль, если этот слух оправдается, и жаль по двум причинам.
1) Устраняется от начальствования тот кандидат, который являлся идеальным для этого места, то есть И. Н. Дурново, и который мог, и только он один, взять на себя с его тактом и с его мягкостью провести все нужные реформы в ведомстве, где доселе ни один луч солнца не может быть настолько силен, чтобы мороз и лед, заморозившие все чудное ведомство Марии Федоровны, растаяли.
2) Вряд ли можно было бы на этом месте желать Великого Князя, а молодого в особенности. За последние эти годы ведомство это переполнилось интригами, разными сквозными ветрами, приходящими из всевозможных понаделанных щелей. Несомненно, как нового и неопытного в этом деле начальника, Великого Князя могут посвящать в трудное и сложное дело люди не всегда безличные и не всегда беспристрастные, и легко может случиться, что члены Совета, то есть почетные опекуны, станут нашептывать на будущего докладчика статс-секретаря, или статс-секретарь, наоборот, станет нашептывать Вел[икому] Князю на того или другого почетного опекуна. Невероятным этого нельзя считать потому, что Палестинское общество, увы, налицо, и доказывает, как опасно молодого Великого Князя делать центром политических течений и ставить в положение выслушивать голоса интриги. Ведь не будь во главе общества Великого Князя, не было бы этой ядовитой интриги против патриарха[399] и этой скандальной драки между [Б. П.] Мансуровым и его сторонниками и их врагами, где же, у Гроба Господня и в сердце Православия. Нечто подобное может случиться в учреждениях Имп[ератрицы] Марии, если центром разных партий и течений сделают такое лицо, которое, как молодой Великий Князь, своим положением Великого Князя гораздо более влияет, чем своим трудовым и деловым начальствованием… Мне кажется, что эти рассуждения справедливы.
История бедного барона Рокассовского, та очень пикантна и для него даже драматична. Это бесспорно честный, глубоко преданный, способный и отличный человек; но у него два «но», или два недостатка, или вернее два препятствия для карьеры: одно, что он кажется мальчиком, а другое, что он кипятящегося нрава и сангвинического темперамента. Благодаря первому, [Д. А.] Толстой ему все говорит: подождите еще немного, вы слишком молоды для губернаторского места. Благодаря второму, он успел себе нажить немало врагов из людей того закала и темперамента, которые не любят горячиться за общественные интересы. Вот эти-то враги ко всему придирались, чтобы вредить бедному Рокассовскому, и даже сочинили какую-то легенду об его колоссальных долгах и банкротстве.
На самом же деле совсем другое. Бедный Рокассовский 4 раза управлял губерниею по несколько месяцев, и как порядочный человек считал себя обязанным в это время принимать настолько, насколько ему позволяли его средства. Вот тут-то он и расстроился, сделал долги, но дело в том, что он все долги теперь заплатил и имел надежду получить место Ростовского-на-Дону градоначальника, которое проектировал министр внутренних дел создать, но которое на беду Рокассовского Министерство финансов затянуло в долгий ящик. Таким образом несчастный Рокассовский после уплаты своих долгов остался при 2800 р. казенного жалованья, при неосуществившемся ростовском градоначальстве и при уверении Толстого, что он слишком молод.
Положение действительно скверное, после того, что 4 года Рокассовский показал себя в самые трудные минуты в Екатериносл[авской] губернии молодцом.
И если сравнить назначения, которые предлагает сам Толстой у себя, с Рокассовским, то первые земля, а второй – небо…
Губ[ернский] предвод[итель Г. П.] Алексеев, Кривошеин, сам И. Н. Дурново, все пристают к Толстому: представьте же Рокассовского в губернаторы, а Толстой отвечает: да, да, непременно, и вот второй год, как он все его собирается представлять в…
Больно и грустно… Так у лучших людей ослабляют энергию и тушат в них святой огонь…
Понедельник 7 апреля
Был у меня [Д. И.] Воейков, бывший при [Н. П.] Игнатьеве, когда он был министром внутр[енних] дел, правителем канцелярии. Он теперь сотрудничает в «Гражданине», по финансовым статьям, и написал, по-моему, очень искусно и дельно параллель между записками Бунге и [Н. П.] Смирнова[400].
Сегодня он мне говорит:
– А вы знаете, что [А. А.] Абаза взял премии за сахар?[401]
– Как взял? Он отрицает.
– Мало ли что? А я вам даю слово, что он за вывозной за границу сахар брал премию.
– Значит он мне солгал, – говорю я.
– Значит.
Печальное открытие. Впрочем, оно не ново, к сожалению. Кто только ноньче не врет, и кто только ноньче не ставит свои интересы выше общественных.
В ответ на намеки «Гражданина» на счет Абазы, Абаза себя узнал, узнал он себя и в статьях Воейкова, и присылает ко мне своего двоюродного брата категорически заявить, что он ни одного рубля премии за свой сахар не получал из казны. Я спросил его кузена, заверяет ли он честным словом? Тот сказал: «Да, заверяю честным словом!»
И что же? Воейков уверяет, что он в Минист[ерст]ве финансов узнал, что Абаза премии получал.
Впрочем, получал он или не получал, не все ли равно: одно несомненно, Абаза громадные ссуды и деньги получал из казны, и никогда ни рыцарем бескорыстия, ни патриотом не был. Он был всегда умным и весьма ловким человеком. И способный! Но увы, принципов и политического базиса нет.
Узнаю, как слух Англ[ийского] клуба, что вследствие непредвиденных препятствий к спуску броненосца в Николаеве – отъезд Государя из Ливадии и возвращение в Петербург замедляется недели на две или на три[402].
Вторник 8 апр[еля]
Юзефович виделся сегодня с [М. Н.] Островским, который, узнав, что он, Юзефович, едет завтра в Москву, сказал ему: «Пожалуйста, заезжайте непременно к Каткову и успокойте его уверением, что все благополучно». Оказывается, что Катков очень стал нервен, беспокоен и боязлив за судьбу предпринятой гр. [Д. А.] Толстым реформы уездного и губернского управления, и кроме того заподазривает всех в заговоре против него, Каткова. Так, в бытность гр. Толстого в Москве, [А. Д.] Пазухин, правитель канцелярии, с ним поехал, чтобы в течение нескольких дней посоветоваться с Катковым на счет плана уездной и губ[ернской] реформы. В «Гражданине» у меня в Дневнике появилась заметка, что Пазухин поехал в Москву, чтобы позаимствовать для своей работы московского ума-разума[403]. Катков вообразил себе, что московский ум-разум – это бесспорно он, и со страху, чтобы газеты не ополчились против него и против проекта реформы, упросил Пазухина поскорее выехать обратно в Петербург. Тут есть что сказать. По правде сказать, у Каткова, при всем, что он есть и что он знает, всего менее можно учиться, как устроить практично уездный порядок. Катков никогда в течение 40 лет носа своего вне Петерб[урга] и Москвы не высовывал, и именно в этом вопросе устройства провинциального порядка ровно ничего не смыслит. Насколько мне известно, главные пункты проекта реформы, разрабатываемой гр. Толстым вместе с Пазухиным, сами по себе практичны и дельны, но все-таки нуждаются в проверке людей, близко стоящих у дел в провинции. Они несравненно более должны знать и понимать в этом деле, чем Катков, а между тем, их-то, сколько кажется, и не намерены спрашивать, что весьма жаль. Сколько известно, мысль у гр. Толстого такая: главные основы проекта разработать теперь же сообща с Островским, К[онстантином] П[етрови]чем Поб[едоносцевым] и [Н. А.] Манасеиным, и затем представить Государю на утверждение непосредственно или в Совете министров, и притом немедленно после возвращения Государя с юга. Все это прекрасно, но мне кажется, что в виду важности вопроса и того, что раз утвержденные Государем основания не могут уже впоследствии быть изменяемы, было бы осторожнее прежде представления Государю на утверждение заручиться мнениями и отзывами губернаторов. Летом губернаторы могли бы дать отзывы, а раннею осенью можно было бы уже с отзывами губернаторов представить главные основы работы на утверждение Государя. С этим делом легко обращаться нельзя. Надо очень осторожно и без спешности вопрос этот проводить до своего конца.
А насколько легко, и слишком легко, относится гр. Толстой, по-моему, к проектам, им представляемым в Госуд[арственный] сов[ет], доказывает эпизод с положением о найме сельских рабочих[404]. В Министерстве внутр[енних] дел положение было разработано, и разработано не дурно; но из М[инистерст]ва внутр[енних] дел работа пошла в М[инистер]ство госуд[арственных] имуществ. Там проект положения попал в руки, вероятно, нигилистов, и в Госуд[арственный] совет проект гр. Толстого поступил совсем неузнаваем, благодаря тенденциозно-либеральным поправкам, сделанным в М[инистерст]ве госуд[арственных] имуществ, так что в сущности проект, имевший целью оградить помещика от произвола рабочих, преобразовался с легкой руки красных дельцов у Островского в проект, ограждающий рабочих от произвола помещика. Поступил этот проект в Соединен[ное] присутствие 3 департаментов Госуд[арственного] сов[ета]: граф Толстой его защищал лично, и все было согласились с ним, как вдруг Борис П. Мансуров подает особую записку, в которой разбивает в пух проект Толстого, и вынуждает людей, как Победоносцева и других, перейти на его мнение. И что же предстоит? В общем собрании Госуд[арственного] сов[ета] могут образоваться два мнения, из которых мнение против проекта гр. Толстого окажется основательнее. А возможно ли Государю поддержать мнение Мансурова? Неудобно! Значит Государь подводится только потому, что так легко относится к своему проекту мин[истр] внутр[енних] дел. Того же можно бояться относительно Пазухинского проекта. Вот почему так было бы целесообразно – если при представлении Государю главных основ на утверждение Государь прежде всего потребовал бы заключения всех губернаторов.
Среда 9 апреля
Les petites causes font souvent de grands événements, les petites gens font souvent de grandes coquineries![405]
Эти две мысли a là Козьма Пруткова[406] записываю под впечатлением разговора с [В. П.] Рокассовским на тему, почему не удается Ростову-на-Дону добиться до градоначальства. С одной стороны есть причина официальная: препятствия со стороны Министерства финансов, но с другой стороны есть petites gens, petites causes et grandes coquineries[407].
Все сие сводится к одному лицу, некоему Андрею Байкову, издавна известному по всей России своими гешефтами и предприятиями. Этот Байков крупный аферист, медный лоб, весьма темный по нравственности, после миллиона перипетий попал в Ростове-на-Дону в городские головы и сидит там поныне, приобрев в свою пользу всю сволочь города Ростова.
Посредством этой сволочи Байков всемогущ в Ростове и, как несомненно все то знают, городскую кассу и свою собственную считает за одну. Заняв столь теплое местечко в Ростове, Байков ни за что не хочет, чтобы Ростов стал градоначальством, ибо тогда его престиж головы Ростова уменьшается, и он непосредственно подчиняется градоначальнику. И вот каким образом сам Байков жалует[408] самого себя в этом вопросе. Приезжает Рокассовский в Ростов ревизовать городскую кассу. Оказывается недочет в несколько тысяч.
– Где они? – спрашивает Рокассовский.
– Они мною взяты были для поездки в Петербург и на смазку колес в Министерстве финансов.
Рокассовский донес ген[ерал]-губернатору[409], начался законный ход следствия, и вот год, как Байков даже не признает нужным отвечать на запросы.
И в частном разговоре он всякого уверяет qui veut l’entendre[410], что пока он голова в Ростове, градоначальства не будет, и будет он платить и платить из городских сумм, и под суд не попадет, и градоначальства в Ростове не будет.
Я сегодня спрашивал у [И. Н.] Дурново, правда ли, что таков Байков, он мне на это сказал: «Это плутище целое, каких на Руси мало! И вы посмотрите, градоначальство в Ростове не будет!»
Курьезные у нас воззрения. Из разговора с И. Н. Дурново я вынес убеждение, что работа проекта [А. Д.] Пазухина об устройстве уездного и губернского управления, – делается втихомолке потому, что гр. [Д. А.] Толстой не хочет ее оглашать, а не хочет он оглашать, как оказывается, из опасения, чтобы ему не помешали и не повредили…
Ну разве это не курьезно? Кого же он может бояться, имея доверие Государя и исполняя, так сказать, Его предначертания… Вот эта работа под шумок – слабость гр. Толстого. С нею я мириться никак не могу, ибо это прямое указание на свою неуверенность, на свою слабость, которое здорово живешь, он пускает в виде предположения в общество и в провинцию и в печать.
– Ага, – говорить будут, – небось скрывает от всех свою работу, боится противоречия, боится печати, боится либералов.
А между тем, какое сильное ободряющее, успокаивающее и отрезвляющее действие на умы в России мог бы произвести тот же гр. Толстой, если [бы] он в «Правит[ельственном] вестнике» ясно, отчетливо и точно напечатал всю программу предположенных им по этому вопросу работ с пояснением цели их, без страха и без туманных фраз…
17 апреля[411]
Трудно передать, как сильно было впечатление, произведенное назначением [И. А.] Вышнеградского на всех, решительно на весь Петербург.
Толки длятся доселе.
Большая часть государственного люда, разумеется, недовольна. Есть пуристы между ними, которые доводят свой пуризм до такого рассуждения: помилуйте, в Государственный совет, такое высокое по своему нравственному значению учреждение – вводить человека, про которого говорят все: это аферист! Другие со злобою говорят: отчего после этого [Н. Н.] Сущову[412] не быть членом Госуд[арственного] Сов[ета]… И все это говорят люди, в скобках будь сказано, которые бы душу свою продали, чтобы нажить себе состояние, и не Бог весть какими строгими путями!
Впрочем, вот что верно, и что несомненно: акт Царской воли и Царского назначения сам собою возымел громадную убедительную силу. Когда шли толки об этом назначении месяца три назад, противники кричали с пеною у рта. Теперь, раз факт совершился, есть раскаты глухого грома, но пены у рта ни у кого! Все преклонились, и теперь на пятый день я слышу уже толки такие, там, где в первый день были возгласы негодования: «On dit du reste que c’est un homme d’immensément d’esprit, qui sais peut être sa fera un bon financier»[413]. Так говорят в фешионабельных гостиных а ла [А. Е.] Тимашев.
Но слышны толки.
В тот же день: это смертный приговор Бунге.
Другой: это удар [А. А.] Абазе.
Третий: это интрига русской партии.
Четвертый: Победоносцев негодует.
Пятый: Победоносцев в восторге.
Шестой: [Д. А.] Толстой негодует.
Седьмой: Лучше было бы назначить прямо в министры финансов.
Восьмой: Лучше было бы назначить в товарищи мин[истра] финансов и т. д.
Еще толк интересный. Слышал, что Абаза rit jaune[414], и вот почему: он будто бы просил у Вашего Величества назначить ему рабочего в Департамент экономии, и рассчитывал подвернуть к себе не мытьем, так катаньем – [К. И.] Домонтовича (un rouge[415]) – и вдруг ему дают Вышнеградского!
Но толки толками, а вот действительность. Видел я Вышнеградского на третий день Пасхи. Он сияет, и сияет радостью доброю и честною. Это не выскочивший в люди, это свыше ожидания осчастливленный человек, который не знает: как сказать своему Государю ответ на Его доверие, и с другой стороны сразу озадачен вопросом: достоин ли он этой Царевой милости и сумеет ли ее оправдать?
Мне это очень понравилось в нем, ибо высказано было оно удивительно просто.
– Пошло было бы мне теперь, – сказал мне Вышн[еградский], – теперь, именно теперь, говорить о моем настроении к Государю: преданность и готовность всякою искрою ума ему служить – от нынешнего события не может измениться ни в количестве, ни в качестве; но я бы вот что хотел бы сказать Государю: я доселе умом своим больше критиковал, чем творил, боюсь, сумею ли оправдать доверие Государя, вот что для меня страшно! Одно только скажу: пойду твердо и прямо, а там, что Бог даст.
В субботу вечером 12 апреля Вышнеградский получил письмо от барона [А. П.] Николаи с поздравлениями и с копиею указа.
В воскресенье он был у Абазы, Абаза встретил его с улыбкою будто бы удовольствия… и поздравил, сказав: «Поздравляю Вас, себя и нас!»
Затем он ему говорит: «Ну что ж, aussitôt pris, aussitôt pendu[416], – пожалуйте к нам на заседание в среду». От Абазы Вышн[еградский] едет к бар[ону] Николаи, и от него узнает, что или Абаза хотел его подвести, или просто не подумал о том, что сказал. Бар[он] Никол[аи] говорит Вышнеградскому: «Алекс[андр] Агеев[ич], вероятно, увлекся нетерпением Вас иметь сотрудником, как мог он забыть, что новый член Госуд[арственного] сов[ета] не может вступить в департамент прежде, чем исполнит торжественный обряд его представления Государственному совету в Общем собрании».
Толстой по поводу назначения Вышнеградского изрек следующее: «Он очень может быть полезен».
[М. Н.] Островский, с которым Вышнеградский виделся, сказал ему: «Что же касается политики, то не смею Вам давать советы; но одно скажу: я держусь такого правила: всегда иметь перед глазами тех, которые в ряду правительственных лиц не с нами, и ни мало ни много с ними в компромиссы не входить».
Победоносцев, как мне сказали, не высказывается, но по общему характеру его слов и тона видно, что он скорее за, чем против.
Не скрою от Вас, что везде в сферах политических на назначение это смотрят как на подготовительную школу к должности министра финансов. [П. Н.] Николаев говорит так: «Если решено, что политика, которой держится Бунге, не годится, то лучшего назначения в министры финансов, чем Вышнеградского, желать и придумать нельзя. Вышнегр[адский] имеет два огромных преимущества перед всякими другими кандидатами: он необыкновенно умен и не принадлежит ни к какой теоретической финансовой партии».
И оно верно. Если Вашему Величеству угодно тоже смотреть на назначение, Вами сделанное, как на подготовительную к должности министра финансов ступень, то лучшего выбора трудно будет желать. Не думаю, да и никто не может думать, что если сегодня Вышнеградский сменит Бунге, то завтра или послезавтра произойдет значительное улучшение в нашем экономическом положении. Не думаю также, чтобы Вышнегр[адский] был бы в состоянии быстро проводить какие-либо финансовые реформы и дать в короткий период времени видные и блестящие результаты своего управления. Для этого пришлось бы с самого начала пуститься в политику предприятий и ломки, которая при нынешнем критическом финансовом положении могла бы еще сильнее поколебать спокойствие и обострить общее недоверие к финансовому нашему положению.
Нет, Вышнеградский с своим громадным политическим тактом и практическим умом был бы далек от такой политики авантюр и ломки. Но вот что немедленно бы произошло в случае назначения Вышнеградского: прекратился бы немедленно и повсеместно гнет безнадежности и беспомощности, охвативший все слои русской промышленности и торговли. Гнет этот есть чисто результат управления Бунге. Нет человека, нет угла в России, где бы не знали на опыте, что Бунге двух вещей или двух действий никогда не проявил: 1) он не изучил лично ни одной части промышленной и торговой жизни на практике, и 2) он никогда никого не выслушивал русским министром финансов, а только профессором политической экономии. Это-то безучастие ко всем пульсам и отраслям русской экономической жизни мало помалу привело Россию в то ужасное экономическое положение маразма, которое теперь сказывается повсеместно с одной стороны всеобщим застоем, исходящим из всеобщего недоверия к финансовому управлению, а с другой стороны сосредоточением всех денег в банки и в бумагах, дошедшее до того, что теперь все банки понизили проценты за текущие счеты до 2 %, бумаги непомерно растут в цене, а денег нельзя достать за самые громадные проценты. Отсюда происходит явление, на которое нельзя не смотреть как на опасность для России: это постепенное завоевание за последние годы разных отраслей и источников производства в России иностранными капиталами и иностранными аферистами и спекулянтами.
С назначением Вышнеградского немедленно прекратился бы маразм. Во главе финансов стал бы умный русский человек, ясно понимающий нужды России и времени и отлично знакомый со всеми врагами русских интересов в областях банков и биржи. Первым делом Вышнеградского было бы внимательное выслушиванье нужд промышленности и торговли, вторым – понимание выслушиваемого, третьим – применение знания и опыта к делу удовлетворения нужд и разрешения текущих вопросов экономической жизни. Первый, кого бы Вышнегр[адский] выслушал, вынес бы впечатление ободряющее, передал бы свое впечатление другому, и пошло бы постепенное распространение по России молвы, что новый министр финансов слушает и понимает, и как неуменье слушать и непониманье нужд в Бунге, постепенно распространившись по России, произвело застой и экономический маразм, так с назначением Вышнеградского постепенное распространение мнения, что он слушать и понимать умеет, произвело бы волшебное действие толчка к пробуждению от застоя, к исцелению от маразма. Это было бы первое сильное нравственное действие. А затем является и второе важное государственное соображение. Кроме непосредственного вреда русским экономическим интересам нынешнее финансовое управление приносит весьма чувствительный вред непосредственно интересам государственным, интересам порядка и самодержавия. Благодаря личному составу, окружившему Бунге как железным кольцом, вся финансовая политика России находится в прямом противоречии с политикою всего правительства и, разделенная между течениями конституционным и анархическим, прямо подтачивает основы самодержавия и, кроме того, становится поперек дороги всем мероприятиям других ведомств, имеющим целью усиление власти и реакцию от увлечений прошлого либерализма. С одной стороны, вся Россия успела за 3 года накрыться крепкою паутиною новых финансовых чиновников, поставленных близко к народу и независящих от губернатора, которые могут на каждом шагу мешать действию политики министра внутренних дел, а с другой стороны всякому мероприятию Министерства внутр[енних] дел, направленному к усилению власти и порядка. Министерство финансов в его нынешнем составе может на каждое требование денег ответить: non possumus[417]! Что доселе и делалось в поразительных проявлениях, если обратить внимание на то, что в эти 3 года Министерство финансов отказывало Министерству [внутренних дел] в каждом рубле, нужном ему на усиление полиции, а само издержало более 10 миллионов на личный персонал новых чиновников, безусловно не нужных для интересов правительства, каковыми, например, являются податные надзиратели…[418]
Назначение такого человека как Вышнеградского и в этом отношении имело бы громадное значение выигрыша для правительства: не одни финансы, а все в совокупности правительство получило бы в свое распоряжение громадного ума человека, который по убеждениям и чувствам глубоко предан старым заветам Самодержавия и явился бы для гр. Толстого и для всего правительства не только не помехою, но сильным подспорьем и важною помощью для восстановления развинтившегос[я] государственного механизма внутреннего управления России.
На днях появился в обращении между государственными людьми ответ [Н. П.] Смирнова на написанное против его первой записки возражение Бунге[419]. Не знаю – имеете ли Вы, Государь, эту вторую записку Смирнова, но во всяком случае она – явление замечательное и достойна была бы Вашего внимания, как по вескости и серьезности опровержений, так и по ясности изложения. Возражение Бунге против первой записки Смирнова на мой грешный взгляд было весьма несерьезно и слишком недостойно министра финансов, в особенности там, где вместо цифр и фактов приводятся голословные фразы, ничем не подкрепленные, или личные нападки на самого Смирнова. Всеми этими слабыми сторонами ответа Бунге Смирнов, надо ему отдать справедливость, [сумел] блестяще и победоносно воспользоваться, чтобы поразить своего противника его собственным оружием.
И надо сознаться, когда прочитаешь этот труд Смирнова и начинаешь задумываться, увы, подпадаешь под грустное впечатление. Оно происходит от двух причин: 1) от выясненной до очевидности печальной несостоятельности нашего финансового положения, скрытого и маскированного обманчивыми фразами, и 2) от бессилия, в котором обличено запискою Смирнова финансовое ведомство уничтожить хотя бы одно из взведенных на него обвинений данными и серьезными доводами. Но это мало: бессилие. Из записки Смирнова обнаруживается, что Бунге, или тот, кто под его именем писал опровержение первой записки Смирнова, не дали себе труда даже обдумать и разработать свое возражение, а написали наскоро, так, как пишутся газетные статьи, и проявили какое-то непонятное пренебрежение к своему долгу перед судьями оправдаться в взведенных на Министерство финансов обвинениях.
Эти-то халатность и неряшливость в обращении с столь важным вопросом, как своя собственная ответственность перед государством за ведение финансового дела, бросаясь в глаза, производят прегрустное впечатление. Но, как говорил мне Т. И. Филиппов, все сие ничто есть в сравнении с яркою и великою надеждою, озарившею весь горизонт государственного мира назначением Вышнеградского. Тут дело не в одном лице и не в одном факте; тут важность в том, что назначение это, непосредственно исходящее от Государя и Им признанное в данную минуту нужным, означает, что формализм и рутина не могут удовлетворять Главу правительства, а Им самим признается необходимым дать делу значение живого, русского дела. Назначение это означает возможность русского финансового управления в замену издавна существовавшего иноземного, космополитического и подвластного Берлинской бирже!
Увольнение от службы неугомонного [М. Г.] Черняева не произвело особенного действия, хотя, как я прежде писал, имею дерзновение думать, что в отставке этот человек, олицетворяющий собою бестактность и самодурство – опаснее, чем на служебной привязи. Я начинаю думать, что он немного рехнулся. Один из моих знакомых спрашивает его – после появления его статьи в «Нов[ом] времени»: как он мог решиться написать такую статью[420].
– Ведь у вас жена есть, дети есть, вы должны же их беречь.
– А мне что, пускай выгоняют из службы, – ответил Черняев.
Такой ответ прямо, по-моему, указывает на психическое расстройство Черняева. Но еще более это следует предположить в виду написанных им военному министру в письме слов: «впрочем, о науке не вам судить» или что-то в этом роде. Дерзость эта была ничем не мотивирована и ничем не вызвана.
Вот почему я, признаться, боюсь, чтобы он не выкинул какой-нибудь штуки.
Этим заключаю летопись последних дней.
В области жизни каждого дня отмечу только, что мы продолжаем мерзнуть и что, увы, местные старожилы пророчат нам холод еще надолго! Причина – матка Ладожского озера, то есть вся средина озера, в 30 верст окружности и в 1 сажень глубины, образовавшая одну льдину, которая направилась к Неве, и если не будет сильного ветра, будет таять и холодить нашу температуру. Утешительная перспектива! Зелени еще не видать.
А в нашем мире русского театра ужасная грусть. Лучший артист русской сцены в России в настоящее время, [В. Н.] Давыдов, уходит и уже заключил условие с [Ф. А.] Коршем на будущую зиму! Это удар нашей сцене непоправимый. Тут виновато роковое недоразумение; я исследовал подробно всю эту историю в разговорах с Давыдовым и Дирекциею. Обвиняют Давыдова, но даю Вам честное слово, Государь, что Давыдов тут не при чем, и если виноват в чем, то только в том, что поторопился заключить с Коршем условие и не дождался возвращения [И. И.] Воронцова[-Дашкова][421], который, вероятно, не одобрил бы крутую новую форму контракта, сочиненную [Н. С.] Петровым. Если бы Вашему Величеству угодно было, я с ручательством за правду каждого слова представил бы краткую меморию об этом печальном деле, где всего более виноват мало знакомый с театральным бытовым вопросом Петров и где все недоразумения исчезли бы в минуты, если Петров согласился бы взять назад новую форму контракта и если бы совсем уничтожили контракты, но не знаю, захотите ли Вы, Государь, принять к чтению подробности этого печального дела.
Да благословит Бог каждую минуту, каждый день Вашего пребывания и Вашего путешествия[422], Всемилостивейший Государь!
[После 27 апреля и до 3 мая 1886 г.[423] ]
Грустная моя Пасха, которую благодаря бронхиту просидел в течение 2 недель дома, не веселее, увы, стала теперь, когда пришлось убедиться, что даже два дорогих слова: «Христос воскресе» не пришли из уст Ваших осветить и возвеселить мое печальное уединение.
Близятся дни торжества на Черном море для юного Черноморского флота! О, да благословит Бог Ваше шествие в Севастополь и Николаев, да благословит суда, рождающиеся для Черного моря, да благословит Ваши молитвы, Ваши пожелания и Ваши чувства!
Зная, как Ваше сердце моряка возрадуется, молю Бога, чтобы и Ваше сердце Царя возрадовалось такожде, и да будет радость сия плодоносна, и да оправдается она в людях и в делах их!
У нас наступили снова теплые дни с 12 градусами[424] в тени. Доживается зимний сезон, и едущих на Елагинскую стрелку se pointer[425] и se poster[426] уже видимо невидимо.
Нева красивее чем когда-либо, но вообразите наш ужас, когда на днях из ученого реферата, представленного в городскую думу, мы узнали, что по тщательном химическом исследовании вода Ладожская, то есть Невская, оказывается [в] 5 раз вреднее для организма человека, чем вода, признаваемая вредною даже для животных, и что знаменитые фильтры, которые по выигранному городом процессу, Общество водопроводов должно устроить, не только не улучшат качество воды, но по химическим причинам еще ухудшат ее вредное действие! Что же делать, спрашивают с беспокойством. А надо во что бы то ни стало провести в Петербурге для питья ключевую воду[427].
Начав после болезни выезжать, я виделся с некоторыми лицами. Так, на днях застал К[онстантина] Петров[ича Победоносцева]. Узнал от него, что он находится в самых строго нейтральных отношениях к назначению Вышнеградского. Как всегда, поднимая руки горе, К[онстантин] Петр[ович] восклицает: помилуйте, я его всего раз пять видел, а мне все говорят, будто я за него ходатайствовал: одни одобряют, а другие шлют мне анафемы, анафемы, повторяет с пафосом К[онстантин] Петр[ович]. Я говорю: «Помилуйте, я тут ни при чем, не верят!» Я невольно засмеялся, глядя на красноречивые жесты милого К[онстантина] П[етровича]. Да оно так и есть. Назначение Вышн[еградского], о котором продолжают говорить очень много, попало между анафемами одних и сочувствием других, что прямо доказывает живое значение этого действия Царской мысли.
Впрочем, есть и такие суждения. Например Бор[ис] Павл[ович] Мансуров говорит, что это назначение тем, что оно состоялось столь внезапно и без предуведомления о нем [А. А.] Абазы – оскорбительно будто для последнего. Он и М. Н. Островский прибавляют даже, что Абаза покинет свой пост вследствие этой самой обиды. Я смею полагать, зная немного le terraine et la personne d’Абаза[428], что и Островский и Мансуров ошибаются, и Абаза вряд ли расстанется под столь легким предлогом с одним из важнейших государственных постов, а если бы он ушел, то вряд ли этим затруднит положение, так как на его место не трудно найти заместителей, хотя бы, например, тот же Б. П. Мансуров… Впрочем, я склонен думать, что все это сплетни, ибо от двоюродного брата Абазы слышал толк о назначении Вышнеградского еще недели 4 до назначения. Не знаю, писал ли я о другом весьма характерном толке, будто Абаза потому особенно был впечатлен назначением Вышнеградского, что оно расстроило его план кампании, заключавшийся в представлении на ту же должность своего кандидата, весьма красного [К. И.] Домонтовича.
Кстати о Вышнеградском. После периода сплетен настал период более серьезных толков, вызванных его первыми шагами на новом поприще. Тут отрадно отметить уже две маленькие победы, и обе одержанные над министром финансов в Департаменте экономии. Первая победа может быть даже названа не маленькою, если принять в соображение, что речь Вышнеградского всех привела в оппозицию против Бунге, и долгое упорство Бунге, спорившего до изнеможения, и наконец сдавшегося и сложившего оружие. Дело шло о проекте обложения жел[езных] дорог новыми сборами. Против этого проекта, представленного министром финансов, высказал особое мнение [Д. М.] Сольский, с точки зрения государственных интересов. Остальные члены были индифферентны и готовились согласиться с мнением министра финансов. Но затем Абаза пригласил Вышнегр[адского] высказать свое мнение, и тогда Вышнеградский произнес блестящую, говорят, речь в защиту мнения Сольского, в которой с цифрами и данными в руках доказал, что если предлагаемые министром финансов сборы будут приняты, и ими будут обложены жел[езные] дороги, то практическим результатом будет, что этот сбор в 25 % будут платить железные дороги (не гарантированные). А в 75 %, то есть в 2/3 ожидаемой от сбора суммы будет плательщиком казна. После речи Вышнеградского все перешли на его сторону. Бунге, оставшись один, боролся насколько мог, и затем согласился с большинством. Второй exploit[429] нового члена Госуд[арственного] совета был по вопросу о фосфорите, вывозимом из Юга России за границу, в виде камня, из которого добывается состав, под именем superphosphat[430], служащий лучшим удобрением полей. По настоянию Вышнеградского и после его речи решено было единогласно, если я не ошибаюсь, обложить фосфорит 10 коп. с пуда пошлины для затруднения его вывоза за границу в слишком большом количестве.
Еще о Вышнеградском, достоверные эпизоды, характеризующие человечество! Год назад М. Н. Островский говорит одному своему приятелю: «Что это вы так стоите за Вышнеградского, он посредственность!» После назначения Вышнеградского он же говорит Сольскому и К[онстантину] Петр[овичу], что для него назначение Вышнегр[адского] было сюрпризом, о котором он ничего не подозревал, а самому Вышнеградскому он сказал: «Я очень много, очень много про вас говорил Государю!» Вот и разбирайся. Другая черта. В день Пасхи с визитом к Вышнеградскому явились все евреи-банкиры Петербурга, поздравлять с Воскресением Христовым, тогда как прежде большинство и карточек своих не посылало.
О человечество!
Я писал, сколько помнится, об опасениях на счет представленного гр. [Д. А.] Толстым проекта положения для сельских рабочих[431]. На сих днях по-видимому проект этот потерпел сильное поражение. Судьба этого проекта очень назидательна и интересна. Издавна гр. Толстой и как помещик, и как министр сознавал необходимость такого положения для сельских рабочих, которое могло бы хоть сколько-нибудь обеспечить интересы землевладельца от произвола рабочих и обеспечить ему право взыскивать с рабочих убытки за нарушенье обязательств по найму. И вот составился проект положения о личном найме сельских рабочих. Тем временем гр. Толстой заболел; проект кое-как разрабатывался в Земском отделе Мин[истерства] вн[утренних] дел, subissant l’influence de certains rouges de cet[432] отдел, между чиновниками, и в прекрасный день оказался готовым. Гр. Толстой, поправившись, по-видимому не рассмотрел весь проект в его подробностях, и переслал его к Островскому. Кто у Островского занялся этим роковым проектом, не знаю, но знаю только, что когда он от Островского вернулся к Толстому для совместного представления в Государственный совет, это уже не был проект положения для обеспечения порядка в отношениях рабочих к нанимателю, а самый либеральный проект ограждения рабочего крестьянского населения от ига и произвола каких-то хозяев-плантаторов. Б. П. Мансуров, как я писал, дал себе труд заняться этим проектом самым добросовестным образом и затем не убоялся выйти один против записки за подписью гр. Толстого и Островского. Труд Мансурова действительно замечателен; из него ясно видно, что граф Толстой в своих благих намерениях оградить помещика от произвола рабочих был беспощадно обманут своими подчиненными и Островским, своим союзником, и Мансурову пришлось доказывать, что проект гр. Толстого и Островского есть скорее опыт окончательно закабалить помещика и сельского хозяина в руки крестьян, чем проект установления порядка, основанного на взаимном уважении к законным обязанностям и правам. Как я писал, до мнения Мансурова все собирались без особенных прений согласиться с министрами авторами проекта; после мнения Мансурова вдруг многие спохватились и стали переходить на сторону Мансурова, и в том числе К. П. Победон[осцев]. И вот на днях было в Соединенном присутствии департ[амен]тов Гос[ударственного] Сов[ета] заседание, весьма интересное и оживленное, в присутствии гр. Толстого, где Островский прочитал очень резкую и не совсем парламентарную записку в ответ Мансурову на его мнение. Записка Островского имела дурное действие по-видимому на большинство членов, тем более, что в ней не столько опровергались серьезные и фактические основания блестящего труда Мансурова, сколько высказывались жолчные против него суждения. Самая записка его названа была Островским обвинительным актом, Бог весть почему, а в заключение сказано было, что Мансуров будто бы желает продолжения беспорядков в рабочем сельском быту и хочет установить эксплуатацию рабочего люда в пользу земледельца-нанимателя. После 11/2 часов чтения записки Островского, Мансуров ответил ему коротко, ясно и достойно, сославшись на всех своих товарищей по заседанию в свидетельство того, что взведенные на него Островским в своем заключении обвинения несправедливы. Затем говорил К. П. Поб[едоносцев] и со свойственною ему прямотою сказал, что прежде он наскоро согласился было с мнением двух министров, а теперь, вникнувши в дело внимательнее, он пришел к убеждению, что записка или проект гр. Толстого и Островского требует переделки и что многие из оснований мнения Б. Мансурова не могут не быть признаны вескими, вследствие чего он полагал бы отложить рассмотрение проекта до осени. Островский было разгорячился и ответил храбро, что он не боится разногласий Общего собрания и не видит нужды откладывать; гр. Толстой спокойно ответил, что он ничего не имеет против предложения Победон[осцева], но он не понимает, для чего откладывать, если он не соглашается взять назад свой проект, а согласиться с мнением Б. П. Мансурова не может. Затем Островский переменил тон и, ставши смиреннее, согласился отложить до осени, и вот в заключение решено в следующем заседании обсудить вопрос, как поступить с проектом: пустить в Общее собрание или отложить до осени. Но как говорил мне Ив[ан] Ник[олаевич] Дурново, его впечатление и многих такое, что проект провалился и что гр. Толстой не прочь будет его изменить. Какое счастье, что Мансуров вовремя имел храбрость выступить один!
Вот пока все новости. Да хранит Вас Бог!
5 мая[433]
Вероятно, это письмо застанет уже Вас на возвратном пути в наш Север. Вчера после прочтения телеграммы в «Правит[ельственном] вестн[ике]» о прибытии Вашем в Севастополь, как старая баба я заплакал, а затем от сердца, рвавшегося к Вам неудержимо, направил к Вам телеграмму. Простите мне, Государь добрый и милостивый, этот порыв и это излияние. Что они были неуместны, а может быть показались и глупы, это доказало мне, что ответа не последовало на них, оттого прошу извинить меня, и если чем утешаю себя, то только тем, что дурного в моем действии ничего не было.
Итак, завтра первый великий день для Черноморского флота, а следовательно, для России. Да благословит Бог и его, и второй день в Николаеве.
Читая распределение Ваших действий по маршруту, чуешь, что они начертаны Вашею рукою и продиктованы Вашим прекрасным сердцем моряка и душою глубоко русского Государя: не видишь ни одного обряда, ни одной формальности, а видишь все действия, достойные Вас и Севастополя. И, видя сие, испытываешь на душе что-то легкое и отрадное. Да и многие это испытывают в нынешние дни. Направо и налево вырываются слова, из которых заключаешь о прекрасном впечатлении, производимом на людей с сердцем Вашею поездкою в Севастополь.
Погребенный Севастополь имел свою печальную и длинную историю. Когда он пал, то его кровавые и дымящиеся развалины немедленно по заключении ужасного мира стали как бы местом погребения старой России, России Николаевской, со всеми ее преданиями и заветами. В Севастополе не одни кости зарыты того времени, но и дух того времени… Легкомысленно мы указали на наши военные невзгоды, обрушившиеся на нас на святой земле Севастополя, как на последствия будто Николаевщины, и со дня падения Южной Стороны начинается для России та эра перерождения или прогресса, которая с дурным обошлась так же неумолимо, как с хорошим в прошедшем, и под именем нового духа подвинуло престол русского Государя преемника Николая I в атмосферу, увы, более европейскую, более либеральную, то зато менее русскую, менее правдивую и гораздо менее Самодержавную.
Вот почему от глубины всей души, нелицемерно любящей Вас, как Государя, как Государя Сына Вашего бедного, многовозлюбленного Отца, бедного тем, что Он так был больно и жестоко обманут людьми, которым Он доверился, я с благоговейным трепетом смотрю на Севастополь, воскрешаемый Вами, ибо мне кажется, что вместе с воскрешаемым Севастополем должна для Вас, а следовательно для нас воскреснуть та живая и могучая быль, та святая духовная старина, которые мы легкомысленно и малодушно зарыли под Севастопольские развалины. Быль эта, старина эта – твердое Самодержавие, видимо для всех и осязательно для всех основанное на живом исповедании Царем русских идеалов, русских нужд и русских чувств, непоколебимой и бесстрашной веры в Бога и в призвание России, от Бога приемлемое! Погребши Севастополь, мы отреклись от нашего Божьего прошедшего! Воскрешая Севастополь, мы должны снова дать жизнь всему, чего Севастополь был эмблемою и твердынею.
И вот пока еще я представляю себе Вас, Государь, там на Севастопольской земле, бесстрашно и как бы в присутствии самого Бога, преклоняю колени перед Вами и, принося клятву в том, что говорю правду, умоляю, заклинаю Вас веровать непоколебимо, что Вас не оставляет Бог, что Вас Он просвещает и вдохновляет, и что Вы одни видите ясно и чувствуете верно, и следовательно, для блага и славы России призваны в Себя, в Свой разум, в Свое сердце верить больше, гораздо больше, чем в людские. Вы одни себя никогда не обманете; люди же, как только Вы им доверитесь более, чем Себе, обманут Вас, одни невольно, другие вольно!
Завтра и светлый день для Вас как главы семьи! От всего сердца приношу Вашему Величеству поздравление с днем рождения Вашего Первенца. Да охраняют Его жизнь молитвы Ваши и молитвы всей России, и да будет Он Вашею радостью, Вашим утешением, Вашею яркою надеждою!
Да хранит Вас Бог!
Увы, ни звука от Вас! Ваш от всей души верный слуга В. М.
«Из Дневника» кое-что интересное вышлю в Москву.
Вторник 6 мая
Сегодня обедал у Делянова, dîner gala[434] в честь Вышнеградского с старухою [А. Д.] Баратынскою и с персоналом Министерства народного просвещения и Т. И. Филипповым. Кстати тут сказать, что Вышнеградский показал себя с удивительным тактом со дня своего назначения. Слышал, например, от разных представителей общественного мнения этого ареопага, от старого генер[ал]-адъют[анта А. И.] Веригина и от юного Н. П. Мансурова, что он явился в Госуд[арственный] совет окруженный, так сказать, нерасположением, и просто в неприятельский лагерь. А между тем после первого же заседания, после первых же шагов его на этом скользком пути Вышнегр[адский] сумел скромностью, почтительностью к старикам сочленам, уменьем слушать, уважением к мнению другого и в особенности ясностью речи превратить немалое число противников в благожелателей, и во всяком случае во многих преложил гнев на милость! Даже из лагеря абазистов слышал отзывы благосклонные. Во всяком случае, это очень утешительно.
Сегодня за обедом мы узнали из уст Вышнеградского о судьбе знаменитого проекта о сельских рабочих, по которому в Соединен[ном] присутствии д[епартамент]ов Госуд[арственного] совета состоялось было разногласие вследствие особого мнения [Б. П.] Мансурова. Как я прежде говорил, члены разошлись с мыслию, кто отложить дело до осени, кто до следующего заседания, и вот следующее заседание состоялось, и, о чудо, [М. Н.] Островского отпор, данный Мансурову, решил участь вопроса, и был тем жезлом волшебника, который всех перевел снова на сторону [Д. А.] Толстого, даже тех, которые, как Победоносцев, прямо заявили себя за Мансурова, и Б. П. Мансуров остался один при своем мнении, с которым и переходит и в Общее собрание.
На вопрос Делянова на счет достоинства Мансуровского особого мнения, Вышнеградский вот что сказал. «По-моему, – начал он, – Б. П. Мансурова очень дельное мнение, но оно имеет два существенные недостатка, чисто практические: оно на 48 больших печатных страницах, а этого наши члены Госуд[арственного] сов[ета] не очень любят, и второе, слишком много в нем пунктов, и важное смешано с неважным! Сократи Б. П. Манс[уров] свою записку до размера 3 страниц, и наляги он на один главнейший пункт, на затруднительность практического применения проекта Положения о сельских рабочих вследствие негодности мировых судов, нет сомнения, он бы нанес проекту гр. Толстого и Островского решительное поражение. А Островский, со своей стороны, он налег на все пункты Мансуровского мнения в своем возражении, все опроверг, все разбил, но очень ловко обошел молчанием один только пункт, именно о мировых судах, сказав, что это дело не его, а министра юстиции[435]. А министр юстиции, со своей стороны, обратил вопрос в шутку, сказавши, что по-видимому мировые судьи не так уж плохи, если иные члены Государств[енного] совета просили его, министра юстиции, о награждении того или другого мирового судьи своего околотка в деревне под предлогом, что они отличны!»
Я с своей стороны позволил себе заметить, и все со мною согласились, что гр. Толстой делает большую ошибку, торопя теперь применение этого Положения о сельских рабочих прежде реформы власти и порядка в уезде. Надо прежде устроить власть и порядок, а потом вводить Положение о сельских рабочих, применение коего только может быть действительно под условием порядка и власти в уезде.
Вот это-то и беда. К. П. Побед[оносцев] как-то на днях говорит мне: помилуйте, что печать, когда между нашими государственными людьми вы не найдете двух убежденных твердо в том, что белое – бело, и черное – черно! Да, думаю я себе, но сам-то он, почему он так не тверд и так отрицателен во всем, что касается до зареза нужных задач, предстоящих гр. Толстому. Гр. Толстой без того слаб и нерешителен, без того боится поганого шума нашей либеральной печати, а он, Побед[оносцев], вместо того, чтобы поддерживать его, сам принимается плакать и размахивать сомнительно руками там, где надо в интересах Власти и порядка быть железным и непреклонным в проведении известных начал.
И выходит ни то, ни се, полутвердое состояние, которое в свою очередь родит только полумеры.
И в самом деле, что за шаткость и косность. С одной стороны Островский, Победоносцев, [Н. А.] Манасеин не сходятся с гр. Толстым в главных основах реформы в провинции, а с другой стороны тот же гр. Толстой не прочь, как говорит [Д. И.] Воейков, вероятно, со слов [А. Д.] Пазухина, поднести Государю программу той самой реформы, по которой он, гр. Толстой, не сходится со своими сотрудниками. Где же тут последовательность и порядок, где же тут исход?
Казалось бы, что забегать вперед к Государю по столь важному вопросу не следовало бы ни в каком случае, ибо это значило бы связывать Государя с невыясненным и невыработанным еще делом, а в то же время хорошо было бы словесно побудить и поощрить гр. Толстого энергичнее повести дело, а Победоносц[ева] и Островского и Манас[еина] тоже побудить словесно, при разговоре, поддерживать гр. Толстого и скорее повести дело и не делать разногласий. Достаточно было бы двух, трех слов Государя каждому из этих лиц, чтобы побудить их к соглашению в основах, а затем, когда соглашение в главных основах последует, то выработанное хорошо было бы немедленно послать к губернаторам на заключение, дабы к концу лета все отзывы губернаторов были получены. Тогда работа станет на практической почве само собою. Но для этого прежде всего следует желать, чтобы свыше, то есть от Государя, последовало внушение поскорее, то есть до лета, подготовить проект и побудить товарищей гр. Толстого к соглашению словами, непосредственно к ним обращенными. Тогда Государь ничем себя не свяжет с работою, но сама работа будет сделана, и из всей этой работы может выйти толк.
Четверг 8 мая
Сегодня чудный день. «Правит[ельственный] вестник» принес все известия о Севастопольском торжестве.
Что за чудный Приказ Черноморскому флоту![436] Куда не пойдешь, все восторженно им восхищаются. И есть с чего! Это Севастопольский железный стиль, это язык [П. С.] Нахимова.
Одно немножко нам испортило наше праздничное настроение, это то, что первое известие о спуске «Чесмы» дано было Петербургу германским посольством еще вчера, а «Правительственный вестник» не потрудился с 6го по 8ое ни строчки не напечатать, хотя бы только два слова о благополучном исходе спуска.
Глубоко тронули всех награды, данные Царем семье Лазаревых[437].
Вообще всякое слово вести, приходящее с Черн[ого] моря о деяниях Государя, прошибает броню петербургской апатии и заставляет сердце биться радостью и гордостью!
Пятница 9 мая
Сегодня видел двух людей совсем различного круга, сказавших мне буквально одно и то же; на Невском встретил маленького [Н. П.] Мансурова, члена Госуд[арственного] сов[ета], который говорит мне:
– Eh bien, qu’en pensez-vous, nommera-t-on ou ne nommera-t-on pas [И. А.] Вышнегр[адского] aux finances. J’ai été hier dans le monde du Ministère des finances, et j’ai pu constater une grande panique: on s’attend au congé de Bounge du jour au lendemain.
– Et vous, – отвечаю я, – qu’en pensez-vous.
– Mais moi, je pense que si Вышнегр[адский] a été nommé membre du Conseil, cela n’est pas pour discuter avec [А. А.] Абаза, mais pour être ministre des finances[438].
Час спустя входит ко мне [Д. И.] Воейков, друг [А. Д.] Пазухина, бывший правит[ель] канцелярии при [Н. П.] Игнатьеве, когда он был мин[истром] внутр[енних] дел, и спрашивает меня:
– Ну что слышно про Бунге и про Вышнеградского?
– Да ничего, а вы что слышали.
– А я слышал, что в М[инистерст]ве финансов на уход одного и вступление другого смотрят как на совершившееся событие, fait accompli[439].
– Дай то Бог, – ответил я.
Разговоры такие доказывают, что факт назначения Вышнеградского продолжает волновать и занимать умы. Но не следует скрывать, что в то же время языки, говорящие против Вышнеградского и изрекающие на него хулу, становятся бойчее и ядовитее. К. П. Побед[оносцев] очень ехидно ничего не говорит против непосредственно, но направо и налево говорит о том, что он получает ругательные письма с анафемою ему будто бы за его интриги и влияние в деле назначения Вышнегр[адского], и, поднимая руки к небу, восклицает: «Помилуйте, я его раз пять видел в своей жизни!» Это коварный маневр, так как он отлично знает, как велики способности Вышнеградского как финансиста, и что второго ему подходящего хоть по брюхо, не то что выше, нет в рядах госуд[арственных] людей.
Но все-таки, будь я на месте Государя, я бы до осени не смещал Бунге, дабы дать его преемнику, будь он Вышнеградский, ознакомиться с государственною сферою, и на все лето попросил бы его конфиденциально и не гласно поездить по России, чтобы ознакомиться с общим настроением и главными толками о финансовых нуждах.
Узнал от Воейкова характерную вещь. Знаменитое совещание[440] у [Д. А.] Толстого, его, Победон[осцева], [М. Н.] Островского и Манасеина имело несколько заседаний и пока обозначилось только разногласием. Начал его Манасеин, как и следовало ожидать. Манасеин далеко не консерватор, и еще менее партизан[441] дворянского элемента, и горячо стоит за неприкосновенность судебных учреждений и между прочим за мировых судей и избирательное начало. А так как проект Пазухина основан между прочим на мысли отменить выбираемых мировых судей и заменить их правительством назначаемыми мировыми посредниками, то понятно, что Манасеин первый должен был явиться оппонентом замысла гр. Толстого. Тогда Пазухин начал ухаживать за Манасеиным и à force de parler et de pourparlers[442] слегка приручил и поколебал в свою пользу страстного Манасеина. Но едва это удалось, как в следующем совещании начал обрисовываться в оппозиции Островский, а в третьем заседании стал, поднимая длани к Господу Вседержителю, вопиять против Толстого и Пазухина и сам Победоносцев.
Что из этого выйдет, – сказал мне Воейков в заключение, – не знаю: разве гр. Толстой решится в Москве на главные пункты реформы испросить Высочайшее повеление.
Ну вряд ли, – ответил я, – тем более, что, к сожалению, граф Толстой совсем не энергичен в этом вопросе, и сам говорит направо и налево, что он не будет настойчив на счет всех пунктов реформы, и как будто готов попятиться назад.
Суббота 10 мая
Господи, с каким радостным чувством кончаем мы нынешний день под влиянием известия о благополучном спуске «Екатерины II»[443]. Какие страхи навели на нас здесь разными рассказами об угрожающих этому спуску бедах, о выписке из Англии какого-то чудодея, который должен был спасти броненосца от неминуемой гибели при спуске и т. д. Слава же еще раз Государю, слава Черноморскому флоту, слава строителям, слава паче всего Богу!
Если правда, что были технические затруднения, и оные преодолены, то это доказывает, что удаль Черноморского флота все та же, и событие это получит всемирную огласку и значение!
Да, есть чему радоваться, есть от чего поблагодарить Бога, есть от чего Государю вернуться на Север с светлою и обрадованною душою. Теперь голос России в Восточном вопросе получает другую силу, и это-то возбуждает такую открытую злобу в английских газетах и такую затаенную злобу в австрийской и отчасти в германской печати.
Был у меня сегодня интересный военный человек: военный инженер полковник [А. Ф.] Плюцинский, пользующийся уже репутациею одного из умнейших наших военных ученых-практиков. Его визит был вдвойне мне отраден: во-первых, он приехал мне лично заявить свое сочувствие к «Гражданину», как относительно его общего направления, так относительно его военного отдела, ведомого, по его мнению, интересно и оживленно, и во-вторых, предложить мне свое сотрудничество по военному отделу и для начала принес мне статью. Пишет он в «Воен[ном] сборнике»[444], но для того, чтобы говорить развязнее о некоторых животрепещущих военных вопросах, он желает писать в журнале менее стесненном рамками официального изложения. В разговоре Плюцинский коснулся характерного явления: это появившийся на днях в «Русск[ом] инвалиде» сенсационной статьи, очевидно [М. И.] Драгомирова, о кавалерии, в которой со свойственной ему бойкостью и бесшабашностью он доказывает, что культура ума и образования есть последняя вещь, которую можно требовать от кавалерии[445]. Плюцинский резко порицает такой, очевидно, с мыслию понравиться инспектору кавалерии[446], написанный памфлет против образования кавалериста, так как, говорит он, и по-видимому основательно, если что-либо практикою войны за последнее время добыто и доказано, то это именно необходимость для кавалериста как солдата, так и офицера, известного бóльшего развития глаза, высматривания, соображения, выведыванья, разглядыванья, догадливости и вообще того, что называется на простом языке сметкою и нюхом! Он сослался на последнюю нашу кампанию, и говорит, что по совсем непонятному плану – кавалерия в первый период кампании, под влиянием драгомировского или струковского взгляда[447], получила совсем превратное назначение, и стоило оно нам ужасных потерь людьми, временем и деньгами. Кавалерии дали завоевательную задачу (поход [И. В.] Гурки до Ени-Загры[448]), а про разведочное назначение кавалерии забыли и пустили армии зря под Плевну. Кажется мне, это очень меткое замечание.
Во всяком случае для «Гражданина» и его военного круга читателей (многие полки) сотрудничество Плюцинского – ценная находка!
Воскресенье 11 мая
Сегодня завтракал у И. Н. Дурново, слышал и от него подтверждение того странного и упорного слуха, пущенного кем-то в Петербурге о том, что гр. [Д. А.] Толстого заменит Манасеин, а Манасеина заменит [В. К.] Плеве! Дурново слышал об этом слухе в Английском клубе накануне от разных лиц, а я слышал это тоже от разных лиц и убедился, что он исходит из мутного польского источника, так как Плеве очень популярен со времени своего пребывания в Варшаве между польскими аристократическими кружками.
Ой, ой, ой, как защетинились английские газеты по поводу Черноморских событий. «Times» чуть ли не войною грозит России. А курс вследствие этого упал на Берлинской бирже.
Ах, этот берлинский курс, когда даст нам Бог освободиться от его гнета и от его опеки! «Как это сделать?» – спрашивал я однажды у одного банкира. Он отвечал коротко и ясно: «А вот как: прекратите займы внешние и приймитесь за самое усиленное покровительство вашей внутренней промышленности; тогда Берлинская биржа почувствует свою зависимость от вашей производительной силы и будет заботиться том, чтобы ухаживать за вами!»
В Москве выходит вместо «Руси» после смерти [И. С.] Аксакова «Русское дело» некоего г. [С. Ф.] Шарапова. Сегодня читал его статью по поводу замыслов гр. Толстого усилить власть в провинции и водворить порядок! Господи Боже мой, как умные люди, когда они теоретики, могут говорить глупости, в особенности когда они авантюристы в деле принципов, как этот бывший главный сотрудник «Руси», Шарапов. Аксаков покойный, когда касался таких вопросов, всегда был в области увлечений и утопий, но зато добросовестных, а уж когда г. Шарапов пишет об этом, то выходит черт знает что, и если я пишу об этом, то только потому, что это «черт знает что» ходячее мнение многих и не прочь сбить с толку и самого графа Толстого. Шарапов пишет: переустройство власти в провинции это пустяки, все равно, как будут и кто будет управлять, а главное переустройство экономической жизни и улучшение хозяйственного быта, например – освобождение народа от кулаков, улучшение в его сельском хозяйстве, помощь разрушающейся общине и т. п.
Не нелепость ли это? Понятно, что экономическая жизнь в деревне главное, ибо нынешнее состояние народного хозяйства таково, что не сегодня, так завтра могут совсем прекратиться всякие платежи! Но дело в том: откуда оно произошло, это расстройство экономическое? Откуда? От пьянства, от кулачества, от общего расшатания нравов, от семейных разделов и от отягощения народа земскими сборами, отдельно от правительственных, и паче всего от ужасного безначалия в уезде, где земство может облагать сборами сколько ему угодно. Спрашивается: если это так, то каким образом улучшение экономическое крестьянской жизни может начаться без предварительного введения порядка и урядицы в устройство в уезде той власти, которая должна иметь силу против пьянства, против кулаков и оградить народ от права земства его облагать произвольными сборами.
Ясно, что прежде всего нужно усиление власти.
Понедельник 12 мая
Слухи и толки в клубах и в гостиных показывают, что общество будто бы не удовлетворено известиями о спуске «Екатерины II» в Николаеве и находит оные слишком и неопределенными, и краткими, а так как до этого пущены были самые угрожающие вести об опасностях, с которыми сопряжен этот спуск, то теперь толки уверяют, что будто бы какие-то неудачи скрываются под этими краткими и неопределенными известиями.
Сегодня в «Новом времени» прочитал выписки из статьи «Киевлянина»[449], пущенной выстрелом в Вышнеградского и преисполненной самых ядовитых инсинуаций на счет его железнодорожных связей с [И. С.] Блиохом и Киею. Выстрел этот очень характерное явление! «Киевлянин» есть орган бунгинистов, и сам издатель его[450] есть давнишний клеврет Бунге, и если «Киевлянин» счел нужным позволить себе то, что не позволила себе ни одна даже столичная газета, прямое нападение с оскорблениями на члена Государственного совета немедленно по его назначении Государем, и с сознанием, что это назначение непосредственно от Него исходит, то нетрудно прийти к догадке, что тут играет роль предположение, что Вышнеградский есть кандидат на замещение должности того Бунге, которого так усердно «Киевлянин» берет под свою защиту. И невольно делаешь сближение между некрасивыми инсинуациями и личностями, которые позволил себе Бунге в своем ответе [Н. П.] Смирнову против него, и такою статьею провинциальной газеты, как «Киевлянин», которая бросила в сторону все соображения о приличии и дозволенном, чтобы забросать[451] тенью человека и члена Госуд[арственного] совета, не имеющего с этою газетою, в сущности, ничего общего, как с киевскою газетою.
Отношения Вышнеградского, как бывшего председателя Правления Юго-Западных дорог к Блиоху, как председателю самого общества Юго-Западных жел[езных] дорог, могли ли не существовать? Но только вражда и зависть к Вышнеградскому извращает и грязнит эти отношении, тогда как на деле они были совершенно обратные: обязанный был Блиох, а не Вышнеградский. Последний из Юго-Западных жел[езных] дорог (с дефицитом) сделал дороги с громадным доходом, и в прошлом году, когда Вышнеградский ушел из Правления жел[езных] дорог совсем, Блиох его умолял остаться, но он все-таки ушел. Во всяком случае, любопытно сопоставление того, чем оскорбляют Вышнеградского и что возводят против него как обвинения, так бесцеремонно и будто из-за интересов и достоинства правительства, с тем, о чем те же языки и газеты тщательно умалчивают по поводу того, что в интересах того же правительства следовало бы выкрикивать на площадях относительно Бунге. Злые языки далее голословных речей о Вышнеградск[ом]: он нажился, он дела делал с [Н. Н.] Сущевым, он аферист, – не идут. Но все это не подтверждается фактами, а все кричат! А у Бунге – гнезда, свившиеся в его министерстве, под охраною его добродушия и незнания людей, не только либералов, но прямо врагов правительства в лице [А. А.] Рихтера, [В. И.] Ковалевского, [Н. П.] Забугина, [П. А.] Корсакова и т. п., разве это не сто тысяч раз важнее как угроза интересам правительства, как вред государственный и как постоянно усиливающаяся опасность в будущем.
Вчера от Делян[ова], а сегодня от Юзефов[ича] как отголосок Клуба (Англ[ийского]) слышал толки, от времени до времени вызываемые опасениями, как бы не расходились балтийские немцы от сопутствия Вел[икому] Князю Влад[имиру] Алекс[андровичу] Его Супруги[452]. Как бы не сделало это сопутствие хлопот правительству, ведь немцы, говорит Делянов, бедовый народ, подхватят одно неосторожное слово и начнут его эксплуатировать. Мне кажется, что эти опасения имеют свою долю основательности.
14 мая[453]
Отрадно было бы душе, если этим строкам суждено было быть прочтенными завтра 15 мая. Во всяком случае пишу их с благоговейною памятью Того дня, когда на коленях, перед лицом всей России Вы просили у Бога благословить Вас на трудный подвиг царствования и когда перед лицом всей России на Вас нисходила благодать Божьего разума и Божьей любви к своему народу! Три года прошло с тех пор; не дерзая вопрошать Вашу душу, смею лишь от себя сказать, что в эти три года еще сильнее и еще тверже, чем прежде, я уверовал, насколько велико благо Самодержавия в России, насколько оно нужно и насколько сила его могуча, жива и действительна, если верит в нее Самодержец и приемлет эту веру от ее источника, от Бога! И дай Вам Бог не усумниться в сем никогда, и дай Вам Бог все сильнее и яснее чувствовать зависимость судьбы Вашего народа от Вас, и всегда от Вас, и только от Вас! Дай Вам Бог не испытывать уныние от мысли, что не всегда Ваши намерения благие исполняются людьми; с каждым днем, когда Вы все сильнее будете в Себя верить, все слабее будет противодействие Вашим благим намерениям и помыслам со стороны людей. Верьте этому, Государь, как в святую истину. Каждое явление Вашей несокрушимой воли увеличивает в сто, в тысячу раз Вашу силу и в жизни государства, как лучи солнца, расходится по всем отраслям ее и дает уверенность, ободрение, и очищает путь к улучшениям; и, увы, наоборот: каждая минута сомнения, неуверенности в Себе усторяет эту неуверенность в явлениях жизни и всюду разносит уныние! Это тайна России и ее народной жизни, никакому исследователю или наблюдателю со стороны недоступная. Оттого Самодержавие в России такое живое в своей стихийное сущности и чувствительное начало. Революция погубить России не может, как не могут прославить ее счастливые авантюристы. Одно Самодержавие – решитель судеб России. Оно погубит Россию, когда перестанет в себя веровать; оно возвеличит Россию, когда уверует в себя непоколебимо. Самодержавие – это дух России. Слаб дух, Россия слабеет, бодр и тверд дух, Россия крепнет!
За сим простите мне, что все это время даю душе волю говорить с Вами. Для меня лично слишком памятен чудный май 1883 года, ибо письмом из Петровского[454] в день въезда Вы были настолько милостивы, что прекратили 10-летний период изгнания моего с Ваших глаз! И вот с тех пор я живу с мыслию, что Вы вернули мне главное и самое дорогое из утраченных мною благ: право говорить от души с Вами, как говорили мы в те светлые дни нашей молодости! В этом нахожу смысл и пригодность моего бытия, и пока жив, ничего другого не прошу ни у Бога, ни у Вас! «Сохрани мне доверие Государя», – вот слова моей ежедневной молитвы к Богу, и ничто сам по себе и перед другими, перед Вами и перед Богом чувствую и сознаю себя чем-то пригодным только поколику я с Вами говорю во имя правды и преданности Вам, как цель, как причина, как содержание жизни! В этом мое оправдание. Увлекусь мыслию – но не солгу Вам, Государь, ни грубо, ни тонко. И потом все эти дни были так чудно хороши для души, благодаря Вам, что против воли душа ликует, душа говорит, душа дерзает.
К. В. М.
[14 июля]
Осмеливаюсь напомнить о своем существовании присылкою нескольких отрывков из Дневника. Может быть, что-нибудь из оного признаете интересным.
Как я однажды в Петергофе на музыке, пользуясь тем, что стоял в толпе, глядел на Вас долго, думая, что беседую с Вами! С марта впервые увидел Вас! Во вторник день моего Ангела! О, как бы смел просить Вас о дорогом подарке – о двух, трех строках. Думается, что если этого счастья Вы не признаете меня недостойным, то через А. С. Васильковского это был бы путь надежный и безопасный относительно огласки. Да хранит Вас Бог!
14 июля 1886 г.
31 мая Беседа с [М. Н.] Островским
10 июня О Мураневиче (с запискою)
20 июня О педагогах
25 июня Назначения и толки
28 июня Пруссаки и граница
Пруссаки и железо
30 июня Интриги в Мин[истерстве] внутр[енних] дел
2 июля Податной инспектор
3 июля Беседа с гаврским консулом
4 июля Тоже о немцах и французах
5 июля Комико-драматический эпизод
31 мая
«О люди, люди, как мало в вас правды», – воскликнул я сегодня, садясь на возницу, привезшую меня к палаццо Островского, где просидел с ним около получаса. Привело меня к нему дело бедного князя Голицына, Семеновского полка, которому буквально грозит смерть от голода, при жене и при малолетних детях, несмотря на то, что ему оказана в сущности большая царская милость. Покойным Государем его матери проданы были на особенных условиях земли в Архангельской губ. После ее смерти эти земли перешли к сыну, но сын не успел и не сумел за это дело взяться, и в конце концов, вместо этих земель, уже при Островском, ему выдана была единовременно сумма денег, et qu’il n’en sait plus question![456] Но увы, Голицын эти деньги честно употребил на платеж долгов матери и своих и затем остался без денег, без земли и при новых долгах, происшедших от его попыток раньше устроить компанию для эксплуатации этих знаменитых земель. Теперь он в петле. Если его объявят несостоятельным, то ему угрожает отставка и нищета; а вся цель его сводится к мысли и заботе дать детям воспитание. Просил он раза два об этом предмете, но безуспешно, и вот я поехал умолять Островского сжалиться над Голицыным, так как О. Б. Рихтер мне сказал, что он связан в этом деле предварительным отказом Островского и ничего просить не может. К счастью, Островский отнесся милосердно к судьбе бедного Голицына и, согласившись с тем, что быть может выданная Голицыну сумма не совсем соответствовала тому, что он мог надеяться получить, разрешил мне передать Голицыну, что осенью он может войти к нему с ходатайством, а он с своей стороны постарается найти средства из сумм арендных, чтобы исходатайствовать отпуск известной суммы в год в течение определенного срока на воспитание детей!
Боже, как заплакал от радости этот когда-то бонвиван, толстый Голицын, теперь нуждою преобразованный в печального и жалкого страдальца[457].
Но вот после этого человеколюбивого разговора Островский превратился в политического человека.
– Мы с вами, – начал он, – к моему удовольствию, сошлись на одной мысли.
– На одной? – отвечаю я, – я смею думать, что мы сходимся во многих взглядах, так как служим одному делу.
– Да, это несомненно, но в данном случае я имею в виду оценку одной личности, именно Вышнеградского. Вы его хвалили в «Гражданине», а я об нем много говорил с Государем… Это действительно даровитая личность и умница.
Я, грешный человек, поднял глаза и хотел прочитать что-либо в глазах Островского, припоминая, как не очень давно, год разве назад, тот же Островский называл того же Вышнеградского жалкою посредственностью!
Но лицо его не дрогнуло: все тот же щурящийся взгляд, в котором ничего не прочтешь.
– Вы в этом убедились, – сказал я.
– Да, несомненно, это голова.
– Но, – говорю я, – если вы в этом убедились, то на вас, Михаил Николаевич, лежит другая важная обязанность.
– Какая?
– Ручаться за Вышнеградского перед Государем за то, что он будет способный министр финансов. Вы заговорили со мною об этом первый, так позвольте с вами говорить откровенно. Если я позволил себе хвалить Вышнеградского, то это вовсе не из-за его beaux yeux[458] или потому, как уверяет граф [Д. А.] Толстой, что Вышнеградский дал мне взятку, а заговорил я о Вышнеградском потому, что его назначение есть единственное верное средство спасти нашего Государя от того проклятого политического заговора, который деятельно осуществляется под прикрытием добродушного Бунге в Министерстве финансов, где несколько человек хотят привести Государя посредством банкрота и бунтов к тому, чтобы Его вынудить отречься от самодержавия. А так как вы принадлежите к ближайшим советникам Государя и имеете Его доверие, и вы по-видимому убежденно стоите за принцип самодержавия, то на вас лежит долг поддерживать Вышнеградского в этом смысле.
Мой собеседник посмотрел на меня пытливо.
– Да разве в самом деле, – говорит он затем, – вы верите в существование заговора? Мне все кажется, что Катков и вы в этом отношении немного пессимисты.
– Про Каткова я не знаю, но за себя одно могу сказать: перед всем народом и перед Богом готов поклясться Его именем, что заговор есть и что он осуществляется! Да, впрочем, поговорите с любым из деятелей М[инистерст]ва финансов хоть сколько-нибудь дружески, не думаю, чтобы эти господа [А. А.] Рихтеры, [В. И.] Ковалевские, [Е. Е.] Картавцевы, [П. А.] Корсаковы, [П. Х.] Шванебахи скрывали свои мысли; ведь их заговор не политический, он под суд не ведет; нельзя их привлекать к ответственности за то, что они желают конституции и вдохновляют Бунге в таком духе, который им нужен… Бумаги и дела следов заговора не носят, но результаты зато выражают их замысел; вы видите, застой полнейший, недоверие к времени полное, безработица везде, и дефицит растет не по дням, а по часам. Против этого одно спасение, изгнать поскорее всех этих людей из Министерства финансов, а для этого нужно назначить нового министра финансов. И мне кажется, извините меня, что ваш долг говорить об этом с Государем.
– Может быть, – ответил собеседник, – но откровенно говоря, трудно на это решиться: как-то неловко подкапываться под своего коллегу министра!
На этих словах замерла моя речь.
3 июня
Сегодня в Зоологическом саду[459] подошел ко мне Пазухин, и мы провели интересных для меня полчаса беседы. В эти полчаса я успел ожить и ободриться, и в то же время еще раз убедился в том, насколько я прав, веруя, что только от Государя одного ждать того, что нужно теперь для спасения России. Разговор начался с того, что я сказал Пазухину: ваш граф [Д. А.] Толстой не довольно тверд и храбр в своих замыслах на счет провинциальной реформы. Его кажется уже сбили с прямого пути Победоносцев и Манасеин.
– Отчасти да, – ответил Пазухин, – но к счастью Государь спас положение. Во время пребывания в Москве граф Толстой жаловался Государю на встречаемые им препятствия. На это Государь ему сказал: «Препятствия неизбежны, но надо идти напролом».
Как лучем залили мне душу эти слова.
– Эти слова, – продолжал Пазухин, – дали гр. Толстому смелость и бодрость, и дело идет.
– Эх, – сказал я, – в том-то и беда, что все нужно вмешивать Государя, когда положение гр. Толстого само по себе доверием к нему Государя так сильно, что он может вести дело сам и не вводить Государя dans la lutte des ministres[460]. Гр. Толстой слишком уступчив и слишком много придает цены своим противникам. Ну что такое протест Победоносцева в этом вопросе? Ничего ровно: повторение слов Манасеина, а Манасеина протест и того менее; ни тот ни другой этого вопроса практически не знают. Все их воззрения – теория и фраза! Гр. Толстому следовало бы их раскатать и не сдаваться ни на какие компромиссы, и Победоносцев сдастся немедленно. А вместо этого гр. Толстой дает себя закидывать словами и играет в деликатность. Никто больше меня не ценит и не любит Побед[оносце]ва, но в этих вопросах он только дух и слово отрицания, с которым и считаться нечего.
– Как вы правы, – ответил мне Пазухин, – я буквально то же самое говорил гр. Толстому. Он слишком мягок и слишком церемонится с ними. Но Бог даст, мы его подвинтим, и дело к осени оформится до известной степени.
10 июня
Сегодня провел у меня целое утро один из тех несчастных фанатиков своей мысли и своего дела, который бьется, бьется как рыба об лед, и на каждом шагу встречает непреодолимые препятствия. Вот годы, как он хочет осуществить правильные и постоянные торговые отношения России к Балканскому полуострову. Для этой цели он должен учредить общество, но учредить общество он не может без получения от правительства, то есть от Министерства финансов, известных на определенный срок льгот (по тарифу и по железн[ым] дорогам) и известной субсидии. М[инистерст]во финансов ему ответило, что Россия довольно переплатила за славянские земли, а московские купцы-фабриканты говорят, что в дело, не покровительствуемое правительством, соваться с капиталами или с товарами опасно.
Человек этот некто Мураневич. Он безусловно умен и замечательно настойчив. Репутации он хорошей. Ищет он не только выгоды от дела, но торжества своей мысли. Его мысль – завладеть для русской промышленности всеми рынками на Балканском полуострове, не боясь конкуренции с Европою, в уверенности, что рано или поздно, русские товары, как лучшего качества, вытеснят австрийские и немецкие.
Я его спросил: чего же он теперь добивается.
Он мне ответил, что теперь все его надежды и желания сводятся к одному, чтобы Министерство финансов внимательнее отнеслось к его мыслям и к его проекту, а для этого он мечтает о возможности и о счастье через [О. Б.] Рихтера представить свои соображения на Высочайшее благоусмотрение.
Под впечатлением такого глубоко фанатического преследования идеи, которое у нас русских так редко, я ему советовал написать историческую записку об этом деле, и так как он Рихтера не знал, то дать мне эту записку, а я ему ее передам.
Затем про себя я подумал, что если записка интересна, и того стоит, то быть может другой экземпляр, уже у меня переписанный, приложу к моему Дневнику. Может быть, когда Рихтер будет говорить с Государем об этом поистинно почтенном и несчастном страдальце, Государю будет удобнее, прежде чем высказаться, иметь историческое понятие об этом вопросе.
Но разумеется ни Рихтеру, ни Мураневичу ни звука не скажу о моей мысли[461].
Русско-Балканский торговый вопросБудучи русским человеком по происхождению, воспитанию и чувствам и следя за перипетиями так называемого восточного вопроса, то или другое разрешение которого должно иметь решающее значение на судьбу славянства и России, в сфере их взаимных отношений, я пришел к заключению, что сотни тысяч человеческих жизней и миллиарды рублей, затраченные на дело освобождения славян, пройдут бесследно, если результаты военных действий не будут закреплены мирными и культурными завоеваниями. С прискорбием и чувством горестного недоумения пришлось мне констатировать тот факт, что в этом отношении почти ничего не сделано. То, что называется культурным завоеванием, всецело зиждется на торговле и экономическом верховенстве, составляющем жизненный нерв международных отношений, тот прочный и непоколебимый базис, который, сообщая одним фактическую власть, заставляет других следовать по заранее намеченному пути политического слияния и единения и проникаться общностью жизни и единством воззрений. Но именно этого, т. е. торгового и экономического влияния России, в славянских странах совсем не заметно. Свобода, купленная ценою русской крови, дала славянам возможность и необходимость обзавестись собственным полным хозяйством, но южные славяне нуждались и долго будут еще нуждаться в посторонних помощниках и руководителях, так как в распоряжении вчерашних рабов и бесправных подданных неверных нет ни свободных капиталов, ни технических знаний, нет опыта, традиций. Эту задачу должны были взять на себя русские люди, родственные славянам по духу, крови, вере и преданиям отцов. Не немцы, не всесветные торгаши-англичане, чуждые славянам, их историческому прошлому и их культурным целям, должны стать насадителями культуры и торговли в славянских землях, не меркантильные и антиславянские тенденции должны одухотворять этот кропотливый и медленный, но верный труд, нет, – учителями славян в сердце экономического оборота должен быть русский народ, готовый принять на свое славное лоно своих младших братьев. А между тем шваб хозяйничает на пашне, в изобилии упитанной русской кровью, русским потом, и русские люди служат безмолвными свидетелями успехов авантюриста, поглощающего чужую жатву… Бороться с таким ненормальным положением вещей стало задачей моей жизни. Чтобы пополнить теоретические знания практическими сведениями, я решился в 1879 году ознакомиться непосредственно с румынским, болгарским, а также с другими рынками. Пожив в Румынии и убедившись на опыте, какой прекрасный сбыт могут там иметь русские товары, я отправился в 1880 году в Сербию, где у меня окончательно созрел проект об устройстве правильных торговых сношений между Россией и придунайскими княжествами. Сербский министр-президент Ристич, министр народного просвещения Алимпий Василич, митрополит Михаил и др. с готовностью откликнулись на мой призыв. Среди белградского населения возникла деятельная агитация в пользу этого общерусского, общеславянского дела. В самое короткое время составился значительный круг лиц, категорически решившийся отныне, отказавшись от всего немецкого, пользоваться всеми необходимыми для жизни продуктами только отечественного или русского производства.
Заручившись такими симпатиями и общесословным так сказать содействием, я обратился тогда с циркулярным письмом ко всем истинно-русским людям, в котором просил их оказать содействие возникающему русско-сербскому торговому делу и принять в нем прямое или косвенное участие. Вслед за этим письмом, не вызвавшим особенно осязательных результатов, я решился отправиться лично в Москву, как центр нашей торговли и промышленности. Там, думал я, в этой первопрестольной столице, где так много истинно-патриотических и русских сердец, умеющих чутко отзываться на все, что может повести ко благу России и к торжеству русских надежд и упований, – в Москве оценят по справедливости мой проект и быстро облекут его в реальную форму. Мои предположения были тем более вероятнее еще, что я, строго говоря, не требовал от соотечественников никаких жертв. Понимание своих собственных торговых выгод и немножко патриотизма для преодоления нерешимости, свойственной торговому сословию – вот все, что нужно мне было от тех людей, от которых, в юношеском увлечении, я ждал осуществления своей долго лелеемой мечты.
Действительность нисколько не оправдала моих ожиданий. При содействии покойного И. С. Аксакова и чрез его посредство я вошел в сношения с представителями именитого московского купечества. Долго мои старания не приводили ни к каким результатам. Рознь, существующая между представителями крупных фирм, косность, характеризующая вообще наше торговое сословие, наконец, отсутствие понимания высокого политического значения русско-балканской торговли – все это вместе взятое не могло не тормозить моих начинаний. Кое-как, опираясь на содействие таких авторитетных и всеми уважаемых деятелей, как покойные М. Д. Скобелев и И. С. Аксаков, мне удалось добиться в 1882 году от московского купечества согласия на отправление экспедиции в Болгарию и Румынию, с целью подробного обследования как условий местного производства и сбыта, так и ввоза товаров чужеземных. По инициативе М. Д. Скобелева была собрана потребная сумма денег, и экспедиция отправилась в путь. Несмотря на множество неблагоприятных обстоятельств, отчасти лежавших во внутренней организации экспедиции, отчасти от нее независящих, экспедиция возвратилась с весьма ценным и обстоятельным материалом. Подробные сведения были собраны относительно характера местного рынка, иноземных, преимущественно австрийских и английских, фабрикантов, которыми наводняются балканские государства, изучены были во всех мелочах особенности некоторых торговых пунктов: Галаца, Браилова, Бухареста, Тульчи, Варны, Рущука, Силистрии, Систова и др., наконец, в переговарах с тогдашним болгарским военным министром г. [А. В.] Каульбарсом, было выяснено, на что может рассчитывать русский торговый люд от заказов военного министерства. Но весь этот, стоивший стольких усилий, материал не принес ни малейшей, можно сказать, пользы и остался втуне. Московское купечество по-прежнему только «тянуло» и проявляло крайний индифферентизм в таком деле, где больше всего и прежде всего требовалась быстрота и решимость.
Между тем мои соображения были верны и безошибочны, мои мотивы вытекали из сознания русских интересов, мой проект был целесообразен и легко осуществим.
Шансы успеха ввозной торговли вообще, а русской в частности, чрезвычайно велики, как в Румынии, Болгарии и Сербии, так и других балканских государствах.
1. Славянские государства не имеют ни добывающей, ни обрабатывающей фабричной и заводской промышленности. За исключением сельскохозяйственных продуктов, все остальное, составляющее как ежедневный обиход всякого мало-мальски состоятельного человека, так и предметы роскоши, – получается из-за границы. Таким образом, поле для ввоза расчищено на многие годы.
2. Покупные средства славян довольно солидны. Придунайские страны, богато одаренные природой, доставляют своему не особенно густому населению вполне достаточные средства к жизни. Преимущественные занятия сербов – земледелие, скотоводство, виноделие и садоводство, болгар – земледелие, огородничество, садоводство, шелководство и в небольших размерах скотоводство, а румын – почти исключительно земледелие. В общем население живет в полном достатке. К тому же, национальные свойства придунайских народов: расчетливость, осторожность и сдержанность являются немаловажным моментом при оценке их кредитоспособности.
3. Успех русской торговли на Балканском полуострове, а также [в] Румынии обеспечивается прежде всего тем обстоятельством, что Австро-Венгрия, главная до сих пор поставщица фабрикатов, злоупотребляет отсутствием конкуренции и делает из балканских рынков что-то в роде свалочного места для всех отбросов и никуда не годных продуктов. Не лучшими товарами снабжает славянских потребителей и Англия. При том товары подвергаются часто фальсификации и уж во всяком случае продаются очень и очень не дешево.
4. Родственные нам по духу, по крови и по религии славяне и румыны имеют много общих с нами вкусов и потребностей. Таким образом, нашей производительности не приходится применяться к рынку, а нашим капиталам перемещаться, что всегда вызывает некоторое замешательство, хотя бы и временное.
5. Наконец, могущественным фактором экономического сближения России с придунайскими княжествами и залогом прочного успеха наших торговых операций является симпатия славян к России, та симпатия, которая органически срослась с нравственным миросозерцанием славянина, симпатия, пережившая немало испытаний, прошедшая чрез горнило веков, подчас заглушаемая, но всегда искренняя и бескорыстная. До чего местное население расположено ко всему русскому видно хотя бы из следующего факта. Австрийские фабриканты, зная симпатии придунайских народов, прибегают к разным ухищрениям, напр[имер] снабжают свои негодные товары русскими ярлычками и этикетками или портретами прославившихся в славянском мире людей, как покойные М. Д. Скобелев и И. С. Аксаков, и продают за чисто русские.
6. Открытие новых рынков для сбыта отечественных продуктов послужило бы точно так же к устранению или, по крайней мере, к значительному оживлению всеобщего застоя в нашей промышленности. Товар, с которым фабриканты не знают, что делать, вследствие отсутствия спроса внутри России, и который продается иногда себе в убыток, как это случилось в 1884 году на Нижегородской ярмарке, где за рубль брали 75 коп., мог бы с выгодой сбываться на балканские рынки. Нужно ли говорить о том, сколько оставшихся теперь не у дел людей нашли бы подходящие для себя занятия, если бы русско-балканская торговля была поставлена на прочное основание?
7. Взамен русских товаров балканские государства могут доставлять нам необходимые для нашего производства предметы, именно: шелк, тончайшее сукно, ковры, виноградное вино, фрукты, розовое масло, ореховое дерево и проч. Наш рынок получал бы все это из первых рук и не должен был [бы] платить обычного теперь крупного куртажа[462]. С другой стороны, балканский рынок в деле техники мог бы сыграть воспитательную роль, и я глубоко убежден, что при благоприятных условиях для нашей торговли славянские рынки сослужили бы службу опорного пункта, благодаря которому нам удалось бы раз навсегда твердо стать на ноги и освободиться от унизительной для нашего национального самолюбия зависимости от немцев. И пока мы дремлем и упускаем из виду свои неотложнейшие и насущнейшие интересы, он, этот вездесущий и универсальный немец, действует и зорко следит за балканским полуостровом. Нет такого славянского угла, где бы немецкая интрига не старалась всевозможными способами вооружить славян против России. Стремление иностранцев захватить в свои руки балканский рынок основывается не на одних мелких личных интересах торгующих лиц, но последние являются также энергическими борцами за политические интересы своего отечества.
Торговля сближает, как свидетельствует древняя и новая история, совершенно чуждые между собою народы, тем более благотворных результатов можно ждать от русско-балканской торговли. Конечно благоприятный момент, сейчас же после восточной войны, нами упущен, но и теперь все-таки можно рассчитывать на успех. Симпатии массы населения всегда были на нашей стороне. Нужно только не давать им погаснуть, лишив их реальной почвы.
Россия всегда стояла на страже славянских интересов. Она всегда была для единоверных сербов, болгар и румын избавителькой [так!]. Неужели же в такой важной и основной, можно сказать, сфере, как торговля, Россия откажется от своего традиционного и по праву приобретенного титула «избавителька»?
Приведенные выше соображения и еще много других, которых не привожу и которые в подробности развиты в моем сочинении «Русско-балканский торговый вопрос»[463], предрешают в некотором смысле мой проект.
Придавая этому вопросу громадное политическое и государственно-экономическое значение, я не могу высказаться за такого рода постановку русско-балканского торгового вопроса, где все предоставлялось бы инициативе отдельных лиц и свободной игре индивидуальных предпринимательских сил. Дело это требует значительных затрат, а главное способности терпеливо выжидать и настойчиво действовать в одном и том же направлении, жертвуя эфемерными выгодами настоящего ради капитальных, хотя и отдаленных, выгод будущего. Такая программа действия под силу только прочно организованному торговому обществу, опирающемуся на правительственное содействие. В каких формах должно оно выразиться и сколько времени длиться, это вопрос не принципиальный, а скорее технический. Важно только то, что государственно-экономическое значение русско-балканского торгового вопроса настоятельно говорит за неотложность энергической деятельности в выше начертанном направлении, в виду чего является необходимость прибегнуть к правительственному почину.
Для полного успеха русско-балканской торговли неободимо:
1. Учреждение на Дунае в Рени порто-франко.
2. Уменьшение железнодорожного тарифа на товары, отправляемые в придунайские государства.
3. Возврат акциза и пошлин, взятых за материалы, привезенные из-за границы для производства этих товаров.
4. Установление вывозной премии на некоторые товары для большего успеха в конкуренции с однородными иностранными.
Кроме этого необходимо, чтобы торговля производилась всевозможными товарами. Разнообразие товаров гарантирует предприятие от застоя и, как видно из опыта Франции, дает блестящие результаты. К тому же публика привыкла бы за всем обращаться к одной и той же фирме, что дало бы возможность урегулировать цены одних русских товаров с другими, и затем дело само пойдет нормальным порядком.
В связи с торговлей в тесном смысле весьма важно также заведение в балканских землях русскими людьми различных промышленных предприятий, а также сосредоточение в русских руках постройки железнодорожной сети и шоссейных дорог и т. д. В то же время, в видах облегчения русско-торгового дела, необходимо основание значительного пароходного предприятия по Дунаю. Как зародыш такового можно рассматривать ныне существующее, при помощи правительственной субсидии, Высочайше утвержденное Черноморско-Дунайское пароходство, но существование этого пароходства обусловлено существованием наших торгово-промышленных сношений с прибрежными землями.
Я в своих неусыпных стараниях на пользу русско-балканского дела, стараниях, в большинстве случаев оставшихся бесплодными, но тем не менее не отнявших у меня энергии и веры в осуществимость своего проекта, между прочим, принимался также и подготовлять почву для устройства общеславянского пароходства по Дунаю. Агитация в пользу этого дела открылась одновременно несколькими лицами в Сербии, Болгарии и Румынии, а я занялся тем же в России. В то же время я обратился с ходатайством о содействии к Императорскому посланнику в Румынии, князю [Л. П.] Урусову, но не был почтен ответом. Впрочем, это не единственный случай, когда я обращался к русским дипломатическим и консульским агентам на балканском полуострове с просьбами о поддержке моего дела, но таковой, к величайшему прискорбию, не находил.
В апреле 1883 года я ходатайствовал о правительственном содействии и воспособлении делу русского участия в постройке болгарских железных дорог (соискателем на мое предложение вызвался московский железнодорожный строитель П. И. Губонин) и образованию под руководством России капиталистическими силами придунайских жителей значительного пароходного предприятия на Дунае. Я представлял мои ходатайства гг. министрам: финансов, путей сообщения, иностранных дел, г. обер-прокурору Святейшего Синода и другим высокопоставленным лицам и всюду был почтен выражением сочувствия.
Не буду затруднять перечислением всего того, что я сделал для осуществления своей мысли и что, к глубокому моему и всех благомыслящих истинно русских людей прискорбию, не дало никаких практических результатов; не стану точно так же излагать эпизод из этой печальной истории, эпизод, касающийся участия русских коммерсантов в подряде по поставке в 1884 году обмундировочных материалов для болгарской армии (на 400 т. рублей при таких несомненных выгодах, как например 40 000 руб. прибыли на 150 т. руб. одного только сукна); этот эпизод кончился так же печально, как и все, мною внушенное и как бы нехотя осуществлявшееся русским торговым людом. Из всех этих эпизодов, мытарств, безурядиц, из всей этой цепи неудач, из всего этого ряда лет тяжелых испытаний, выпавших мне на долю, как инициатору этого никем не понятого дела, я вышел хотя и с непоколебимой верой в лучшее будущее для своего дела, но и с твердым убеждением в негодности избранного мною пути: обращения к отдельным лицам. Единственно верный путь – это путь правительственного вмешательства. Высокий авторитет, которым окружена правительственная власть, в состоянии примирить пред лицом этого общерусского дела людей разных состояний, разных воззрений, и я уверен, что по почину правительства немедленно образовалось бы на прочных основаниях солидное торговое предприятие, которому можно обещать прекрасное будущее, так как наши русские товары по качеству гораздо выше иностранных, что доказала Московская Всероссийская выставка[464]. Позволяю себе при том заметить еще раз, что приобретенный таким образом новый рынок имеет для нас несравненно большее значение, нежели среднеазиатские рынки, хотя бы по одному тому, что при равных условиях торговать с балканскими государствами для нас гораздо сподручнее, так как там лежат наши действительные интересы и во всяком случае единоверные нам румыны и сербы ближе к нам, нежели туркмены и персы.
В заключение считаю не лишним привести некоторые данные из статистики придунайских государств.
Болгария. При полном почти отсутствии обрабатывающей промышленности все продукты фабричного и заводского производства доставляются в княжество из-за границы. Кроме того, из других стран ввозится немало предметов и добывающей промышленности, так что в общем сумма ввоза в Болгарию довольно высока. В 1879 году, например, она составляла около 32 137,800 фран. По отсутствию статистических сведений, нет возможности в точности определить, как велико участие России в вышеупомянутом ввозе в Болгарию. Можно однако констатировать постепенное возрастание суммы ввоза из России. Так, через Варну было ввезено товаров из России: в 1880 году на 252 т. фран., а в 1881 году на 524 т., т. е. больше чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Что касается Восточной Румелии, то она по своему хлебородию и вообще растительности, может быть смело названа богатейшею страною на славянском юге. В Румелии производится также много рогатого скота и овец, и обрабатывающаяся [так!] промышленность сосредотачивается на производстве вина, розового масла и сукон. Все русские товары, выдерживающие иностранную конкуренцию, как то: спирт, выделанные кожи, льняные и конопляные изделия, железные изделия, мука и керосин, находят сбыт в Восточной Румелии, но к сожалению, в весьма слабой степени. Так, по сведениям за 1883 год, наш ввоз в Румелию через Бургас достиг лишь 1 290 721 пиастра (72 000 руб. золотом). Вывоз же в Россию самый ничтожный, так что его можно считать почти совершенно отсутствующим.
Румыния. Из всех придунайских стран Румыния в настоящее время представляет более всего шансов на хорошие и благотворные результаты нашей торговли. Румыны буквально напрашиваются на оживленные промышленные сношения с нами. Тарифная война, которую ведет Румыния с Австриею и по сей день, есть только результат стремлений румын избавить себя во что бы то ни стало от австрийского влияния и самой беззастенчивой эксплуатации, с которой благодетельный шваб хозяйничает в этой православной стране. Теперь представляется очень удобный момент вовлечь Румынию в сферу русских торговых интересов (и тем восстановить и обновить пошатнувшееся у нас было обаяние в придунайских странах). Вот цифры, иллюстрирующие экономическое положение Румынии (роль, которую играют различные государства в деле удовлетворения потребности этой страны в ввозных товарах). Беру данные за 1880 год. Общая ценность всех товаров, ввезенных в Румынию, составляла сумму в 300 м. франк., причем на Австрию проходилось 50 %, Англию 22 %, Германию 9 %, Францию 7 % и Россию 2 %. По моему глубокому убеждению, поставив дело на основания, проектируемые мною, легко можно в самое короткое время удесятерить цифру ввоза из России.
Сербия. Торговля с Сербией представляет также немаловажный интерес, так как она все товары безусловно получает из-за границы, и притом на сумму весьма солидную. Ввоз иностранных изделий определяется в 200 м. франк[ов] в год.
Александр Мураневич
Июня 14 дня 1886 года
г. С.-Петербург.
20 июня
Как у нас в военно-учебном мире и в гражданском учебном мире мало педагогов хороших, в смысле людей с сердцем и умом, настолько друг с другом гармонично связанными, чтобы уметь наказывать молодежь!
Уметь наказывать! В этом если не все, то во всяком случае важная часть всего дела воспитания. У хорошего педагога наказание может спасти юношу, у дурного педагога – напротив, погубить мальчика! Как сопоставление двух типов педагога привожу два примера. Один из недавней практики Николаевского кавалерийского училища; другой в виде статьи, написанной в «Гражданине» о директоре Холмской учительской семинарии в Люблинской губернии[465].
Я уже писал в Дневнике о дурном влиянии на молодежь такого педагога, каким доселе пребывает командир эскадрона в Никол[аевском] Кавалерийском училище, о [В. И.] Карташевском. Последний случай с сыном В. А. Козлова поистинно ужасен, и, по-моему, доказывает, как мало у этого человека сердца и как он губительно ложно смотрит на молодежь и ее проступки. Козлов напился пьян во время похода из Петерб[урга] в Красное. За это он отчисляется от училища и переводится в 3 разряд из первого, накануне выпуска. Про этого Козлова все говорят, что он был страшный шалун, но честный и способный мальчик. Теперь же несомненно вследствие этого наказания мальчик погиб, вся его жизнь разбита, и разумеется армейская обстановка под влиянием испытанного им сотрясения – добьет его бутылкою и пьяницами!
Спрашивается: каким более строгим наказанием наказали бы юнкера за гадость, за бесчестный поступок?
Ответ: строже наказания, чем то, которое было применено над бедным Козловым, не существует![466]
Редкий педагогКаждый из нас провел известное время своей жизни в каком-либо из учебных заведений под руководством большего или меньшего, но всегда довольно значительного числа лиц, посвятивших себя делу воспитания юношества. Но, оглянувшись назад, припомнив это время нашей жизни, о многих ли из наших руководителей вспомним мы с действительно теплым чувством, с благодарностью за их к нам отношение и за ту пользу, которую они нам, то есть нашей душе, принесли?
Наверное, об очень и очень немногих. И то эти довольно редкие личности по большей части встречаются в закрытых учебных заведениях: в корпусах, в Училище правоведения, в Лицее; в открытых же учебных заведениях они встречаются по закону: «нет правил без исключения». Оттого воспитанники этих последних заведений, вместо любви и привязанности к заведению, где они росли и воспитывались, которое выпустило их в жизнь, чувств столь понятных и свойственных воспитанникам закрытых заведений, выносят если не злобу и ненависть, то во всяком случае воспоминание равнодушное; помнят они только плохие или хорошие отметки, наказания и награды, страх экзаменов и т. п. Происходит же все это оттого, что громадное большинство наших педагогов относится к делу воспитания юношества чисто с формальной, казенной стороны, не только не отдаваясь, не посвящая себя делу, но скучая им, стараясь по возможности даже избегнуть его. Спросил уроки, поставил ту или другую отметку, задал дальше – и конец для учителя, он считает, что дело сделано и больше от него требовать нечего, а затем как развивается воспитанник, как и на основании чего складывается его мировоззрение, – это уж не его дело, на то есть книги; а выбрать их и объяснить и усвоить себе их содержание может и сам ученик. Также и начальник заведения: наложил взыскание, если совершен проступок, редко вникая в его сущность, а механически карая то или другое отступление от правила, аттестовал ученика, судя о нем по тому, были ли им совершены проступки, но никогда не давая себе труда узнать характер ученика и вывести его поведение из его характера, – и этим тоже все кончено, по наружности все в порядке и все обстоит благополучно. А до внутренней, духовной жизни ученика никому нет дела, живи, развивайся и воспитывайся как сам знаешь. И выходит ученик, зная алгебру, латинских и греческих классиков, но без убеждений, без взглядов на жизнь и на предстоящие ему обязанности, без направления, без религии.
А между тем жить ему придется не алгеброй, а характером, а характер развивается не учением, а воспитанием, а его-то и нет. И можно ли винить ученика, если он никуда не годится в жизни, когда во время его развития, сформирования, ничего не сделано для образования из него действительно человека, честного подданного своего государства, ничего не положено в основу его будущего характера, не создана в нем почва для его будущей деятельности. А как все это отражается на обществе, на жизни государства; ведь в этом, с пренебрежением воспитываемом, юношестве – вся будущность России.
Вот, в виду всего этого, я счел небезынтересным сказать несколько слов о таком «редком педагоге», для которого его деятельность, как начальника учебного заведения, заключается не в преследовании формальной стороны, а прежде всего в нравственном влиянии на своих учеников, в их воспитании и приготовлении к той деятельности, на поприще которой им придется подвизаться, для которого занимаемая им должность не служба, а любимое занятие, которому он посвятил свою жизнь. Это инспектор – руководитель учительской семинарии в Х… на окраине России. В семинарию по уставу могут быть принимаемы только дети крестьян, хотя по снисходительности допускаются и другие; из нее выходят сельские учителя. Основной взгляд описываемого педагога такой: чтобы сельский учитель мог действительно приносить пользу крестьянам и влиять на них, он должен не отделяться от их среды, остаться таким же крестьянином, как был; семинария должна его развить, дать ему знания, необходимые для массы народа, и уменье передать свои знания другим, но отнюдь не превращать его в барина, в интеллигента, иначе он будет тяготиться своим положением, смотреть с презрением на крестьян и, в силу всего этого, не будет иметь для них никакого значения. От своих он отойдет, народным учителем не будет, и ни образование, получаемое в семинарии, ни содержание по должности не дадут ему возможности войти в тот круг, в который он будет стремиться, – и выйдет никуда не годный человек. Поэтому он ввел в семинарию ежедневные обязательные работы, как то: рубка дров, земляные работы и т. п. При общежитии учеников было большое пустопорожнее место, совершенно заброшенное и никакой пользы не приносящее; теперь оно обращается, трудами учеников, в сад. Ученики должны копать ямы, таскать землю, сажать деревья и т. д., одним словом – делать все как обыкновенные рабочие. Их прежние сюртуки заменили теперь рубашки, зимой – суконные, летом – парусинные; говорит он всем «ты». Так как многие из учеников должны будут отбывать воинскую повинность и иметь дело с крестьянами, в громадном большинстве поступающими в войска, – он ввел в семинарии гимнастику, принятую в войсках, строй, маршировку, элементарные перестроения. Все эти нововведения на первых порах породили неудовольствия среди учеников, которым казалось обидным работать, ходить в строю, маршировать; тогда инспектор действовал личным примером, брал лопату и шел вместе с ними, говоря, что если им обидно, то он, статский советник, старик, наденет мундир и ордена и с тачкой, вместе с ними, пройдет через весь город, так как работой только приобретается уважение. На исключение ученика он смотрит очень строго, говоря, что родители вверяют своих детей людям, специально предназначенным для воспитания, а поэтому последние должны сделать все возможное, раньше чем отказаться от принятой обязанности, а исключение есть тот же отказ. Но неповиновение ученика учителю есть, по его мнению, проступок, влекущий за собой исключение, и он сам объясняет это ученикам так: раз ученик не повинуется учителю, – он нарушает отношения, и следовательно не может оставаться в заведении, так как он сам, сделавшись учителем, не потерпит неповиновения от учеников. Доносы, фискальство им строго преследуются; ученик, пришедший с каким-нибудь тайным сообщением, приводится в класс, и ему предлагается при всех рассказать то, что он хотел сказать наедине, при чем объясняется ему, что донос есть подлость. Если ему случится побранить ученика, и потом окажется, что ученик не виноват, – он открыто объясняет, что ошибся, прибавляя, что это все-таки послужит ему в пользу, так как в жизни встречается много несправедливостей и их нужно уметь переносить. Однажды один из лучших учеников, бывший все время на отличном счету, выпускной, сделал такую вещь: написал прошение от имени крестьян своей деревни к начальнику дирекции о смене бывшей у них учительницы и назначении его на ее место, и послал это прошение знакомому причетнику, чтобы тот дал подписать. Прошение попалось священнику, и препровождено им инспектору. Инспектор прочел это прошение всем ученикам и объяснил всю мерзость подобного поступка; но положительно отклонил предложение учителей наказать его, говоря, что наказанием нельзя исправить нравственную испорченность выпускного ученика и вложить в него понятие о честном и нечестном, и что вина лежит на лицах, управляющих семинарией, столько времени считавших ученика отличным и не знавших его, не развивших в нем понятий нравственности.
Общежитие у него поставлено отлично; кормят так, как редко в учебных заведениях, причем всем заведуют сами ученики, под присмотром и руководством заведующего общежитием учителя; вся кухня в руках артельщика, все расчеты с поставщиками общежития делаются в присутствии учеников, для того, чтобы они знали, как расходуются их деньги, и привыкли сами их расходовать. И такая система хозяйства привела к блестящим результатам: на те же деньги в общежитии вдвое больше учеников. Этот инспектор заведывал раньше другой семинарией в течение 17 лет, и в настоящее время получает сотни писем ежегодно от своих бывших учеников, из которых многие по прежнему ищут у него совета, помощи и утешения. А что помогает ему достигать таких блестящих результатов в таком трудном деле? – Его любовь к делу, ставшему для него его жизнью, его любовь к ученикам, ставшим для него его детьми; он говорит, что раньше, чем разрешить какой-нибудь вопрос, касающийся ученика, он ставит себе вопрос: как бы он поступил, если бы это был его сын? И поступает так, как поступил бы в последнем случае. Дай Бог, чтоб побольше было таких «редких лиц»: тогда далеко бы двинулось дело образования и воспитания народа и общества, и Россия перестала бы страдать от массы людей без принципов, без характера и направления, не удовлетворяющихся никакой деятельностью и в то же время ни для чего не годных.
25 июня
Был у меня сегодня Т. И. Филиппов с мрачными рассказами о целом заговоре комбинаций и интриг, вызванных будто бы [М. Н.] Островским, по поводу годового отпуска бар. [А. П.] Николаи.
– Как, вы ничего не знаете, – говорит он мне, – это ужасно; и если я говорю: ужасно, то говорю это столько же за себя, сколько встревоженный тем легкомыслием, с которым у нас начинают сановники обращаться с государственными постами. Дело было так. Бар. Николаи просится на год отдохнуть. Прекрасно, говорят ему, уезжайте, а мы на ваше место назначим другого.
– Кто это мы? – спрашиваю я.
– В том то и дело, что это «мы» это Иван Иванович или Петр Петрович. Островский видится с [Н. С.] Петровым, Островский видится с [Д. М.] Сольским, и проектируют они так: Сольский на место бар. Николаи; а на место Сольского Петров, ну а там, меня, грешного разумеется вон!
– За что же вас вон?
– А за то вон, что я и им не по вкусу, и К[онстантину] П[етров]ичу П[обедоносце]ву не по вкусу, да и наконец сам же я уйду: как бы я мало себя не ценил, какая бы горькая доля меня не ожидала с моим уходом, но я все-таки думаю, что 20 с чем-то лет службы к Контроле что-нибудь да значат, и обидно было по фантазии Островского быть выбрасываемым за борт; лучше самому уходить.
– Ну и что же дальше?
– Да к счастью дальше весь этот мыльный пузырь лопнул. Сольский говорит мне: странный человек этот Островский, что ему нужно от меня; я ничего не прошу, ничего не желаю, кроме одного: чтобы меня оставили на моем месте. К чему ему нужна эта перетасовка. Он и говорит Островскому: «Скажите, Мих[аил] Ник[олаевич], с чего это вы затеваете такие перемещения. Петров нужен М[инистерст]ву двора, барон Николаи нужен Госуд[арственному] совету и просит не отставки, а отпуска на год, а я считаю себя несколько полезным Контролю. Мне ваш проект очень неприятен; барону Николаи ваш проект очень неприятен, неужто только потому, что он приятен Петрову и приятен вам, нужно без выгоды для дела затеевать такие перетасовки?» Почти то же самое сказал Островскому барон Николаи, и дело этим закончилось.
– Но, – говорю я Филиппову, – разве этот проект существовал в сферах выше Островского, и он был уполномочен эти разговоры вести?
– Не думаю; а не думаю потому, что Сольский на мой вопрос: «Да кто же этого желает, это разве Высочайшая воля?» – ответил мне: «Не полагаю. Вы знаете Островского, он задумает что-нибудь и потом говорит: надо, надо Государю об этом сказать».
Во всяком случае, сцена эта характерная, как картинка из жизни.
От себя прибавлю, что как бы ни были против Филиппова вооружены Победон[осцев] или Островский, Контролю лишиться его значило бы понести незаменимую потерю; да и вообще при всех его недостатках и странностях, Филиппов для государственной службы крайне нужный человек; у него ум из необыкновенных по даровитости, способность работать поразительная и сила логики неотразимая.
28 июня
Курьезные совпадения.
Вчера видел [В. К.] Плеве.
– Вот у нас важное дело впереди, говорит он мне, не столько по содержанию своему, потому что в сущности все дело куриного яйца не стоит, а важное в смысле щекотливости; это вопрос о прусских подданных, расселившихся на наших границах. Комиссия под моим председательством[467] разработала этот вопрос и в историческом, и в законодательном отношении, теперь дело готово и будет ждать графа [Д. А.] Толстого. Как он возьмется за дело, решится ли энергически приняться за изгнание пруссаков, не встретит ли препятствия со стороны Министерства иностранных дел, все это очень интересно будет знать.
– А вы, – спросил я, – как думаете?
– Я, признаться, думаю, что препятствия со стороны Министерства иностранных дел, вызванные опасением возбудить умы в Берлине – будут.
Сегодня же как нарочно в pendant[468] к этому вопросу узнаю от одного офицера Главного Штаба про следующий эпизод. Получается в Военно-ученом комитете письмо на польском языке, за подписью аноним, в котором сообщается к сведению Военного министерства, что в Варшаве в настоящее время снуют во всех направлениях пруссаки под прикрытием агентов какого-то канализационного общества, и эти агенты, принадлежа к составу прусского ландвера[469], занимаются очень деятельно изучением Варшавы во всех ее подробностях.
Затем вечером сегодня же, как нарочно, получаю с почты письмо из Варшавы почти такого же содержания, как то, что сообщал мне офицер Главного Штаба, но только на русском, хотя и ломаном языке, вероятно, из того же источника.
Все это подтверждает только, что наши друзья немцы не дремлют и не брезгают никакими средствами, чтобы облегчать себе для будущего задачу воинственных замыслов против России en connaissance de cause[470].
Разговор сегодня вечером с П. П. Толстым, одним из опекунов Демидовых[471], пробудил во мне все уснувшие на время сетования на Министерство финансов по вопросу о тарифах на чугун и железо. Толстой говорит то же, что пишут в «Московск[их] вед[омостях]», то же, что мне пишут с Урала, то же, что говорят все горнозаводчики, что кризис для всех наших уральских заводчиков приближается быстрыми шагами, и если в нынешнем году не будут возвышены пошлины на иностранное железо, в будущем году надо ожидать закрытия железн[ого] производства почти на всех заводах, и десятки тысяч рабочих пойдут по миру. Есть что-то роковое в этом вопросе. Весною кажется Министерство финансов было готово поднять тариф на железо, но – будто бы конфиденциальное сообщение [Г.] Швейница об угрозе Пруссии еще поднять пошлину на зерно, в случае, если мы возвысим пошлину на железо – остановило все добрые намерения министра финансов, и теперь в Ростове уже появилось вестфальское железо дешевле нашего. Непостижимо, как могла такая угроза Пруссии подействовать на Бунге столь устрашающе; допустим, что Пруссия возвысит пошлину на хлеб, но ведь это коснется только наших пограничных производителей, а главный сбыт хлеба у нас на юге и в Петербурге, – мимо Пруссии – прямо в Англию; это было бы убыток в 1 миллион рублей, тогда как конкуренция английского и германского железа у нас, это убытки на миллионы и разорение целого края; кроме того, завтра возвыси Министерство финансов пошлину на железо, послезавтра мы наносим Пруссии громадные убытки, большие во всяком случае, чем те, которые она нам может нанести пошлиною на зерно!
Понед[ельник] 30 июня
Был сегодня у Плеве на даче. Узнал от него, что гр. [Д. А.] Толстой здоровьем своим доволен и вызывает к себе своего [А. Д.] Пазухина для конференции по вопросу об усилении провинциальной власти. Тут же узнал нечто любопытное, характерное и интересное. Оказывается, что вопрос о здоровье гр. Толстого был уместен, ибо отсюда он уехал немного расстроенный, и в Москве [Г. А.] Захарьин нашел ухудшение в сердце и повторил графу пациенту: «Хотите жить, избегайте волнений!» Но вот что курьезно: вопреки диктону[472]: où est-on mieux qu’au sein de sa famille[473], оказывается, что ухудшение в состоянии сердца у гр. Толстого произошло от служебных неприятностей, а последние произошли от неугомонного [П. В.] Оржевского, о чем уже раньше слышал от дир[ектора] Деп[артамента] общих дел [В. Д.] Заики. Оржевский, более чем когда-либо пожираемый самолюбием и честолюбием, завел целую подземную мину, с тем, чтобы к отъезду гр. Толстого забрать себе в лапы Департамент личного состава, то есть общих дел, и затем в силу этого стать на ходули первого из товарищей министра, иметь доклад у Государя и затем окончательно забрать в свои руки и графа Толстого, и министерство его. Проект интриги смелый и неглупый. Имея полицию в руках, Оржевский наполовину владел своим министром, ибо всегда имел возможность впечатлять на графа Т[олстого] страхом пугающих фантомов. Приобретая в свое главное владение Департамент общих дел, Оржевский получал возможность заведовать всеми вопросами назначений по Министерству внутр[енних] дел и становился бы уже при гр. Толстом бессменным дядькой, без конкурентов, так как по Департаменту общих дел доклад у министра производится ежедневно. Суть всей этой комбинации очевидно заключалась в замысле парализовать влияние на гр. Толстого сильного конкурента для Оржевского, директора Д[епартамен]та общ[их] дел, Заики. Но Заика не даром малоросс: его не легко провести, и вот последнее время пребывания гр. Толстого в Петербурге ознаменовалось глухою борьбою двух партий: с одной стороны Оржевский solo, с другой стороны гр. Толстой, опирающийся на Заику; а так как для Толстого хуже всех пыток есть необходимость иметь личные объяснения, то результатом всей этой подземной войны было падение деятельности сердца у гр. Толстого, цена нанесенного Оржевскому поражения, при чем, во избежание дальнейших интриг, гр. Толстой признал нужным просить у Государя никого не назначать управляющим министерством, а сохранить управление Министерством внутр[енних] дел за собою.
Не понимаю эту слабость гр. Толстого. Если ему несомненно отравляет жизнь Оржевский своими интригами, то чего он его держит, точно нельзя найти заместителя Оржевскому. А что Оржевский напоминает Бориса Годунова при Иоанне IV – это несомненно.
2 июля
Видел сегодня бывшего у меня одного из солдат новой финансовой рати, именуемой податными инспекторами. Во время разговора я спросил его: «Скажите мне по совести, положа руку на сердце, ваше мнение о вашем учреждении».
– По совести я вам вот что скажу: учреждение это доселе до того неопределенно, что об нем ничего нельзя сказать.
– Оно нужно?
– Нужно то нужно, но за недостатком инструкций и руководства, с одной стороны, и за невозможностью найти время для добросовестного исполнения всех обязанностей, должность эта в сущности является не нужною потому, что податной инспектор, по крайней мере у нас (Люблинская губ.), в состоянии исполнить только часть своих обязанностей, и я думаю, что ежели бы его вовсе не было, дела шли ни хуже, ни лучше.
Податной инспектор, чтобы исполнять свои обязанности добросовестно, должен иметь двойные сутки: одни сутки для разъездов по округу, другие для сидения в городе и наблюдения за торговлею.
Податной инспектор опасное учреждение. Есть две опасности. Когда он нечестен, податной инспектор может брать взятки как никто, и в два, три года составить себе состояние, и большое. Если он мало-мальски красный по убеждениям, то он может в полгода провести целую программу самого анархического духа в народ; и в обоих случаях совершенно безответственно и для правительства незаметно.
Я спросил его об его начальстве в департаменте, то есть о [А. А.] Рихтере и о [В. И.] Ковалевском. Про Рихтера он сказал только, что он держит себя недоступно, и больше ничего. Про Ковалевского он рассказал мне следующий характерный эпизод свидания, смутивший моего податного инспектора. Ему по закону следовало получить, как поступившему на службу в Привисл[енский] край из внутренних губерний, 600 р. подъемных. Ему их не дали. Он приходит к Ковалевскому и спрашивает его: может ли он просить о выдаче ему этих 600 рублей.
– Просить вы можете, но вам откажут.
– Но мне по закону следует.
– Знаю, но вам все-таки откажут.
– Отчего же?
– Оттого, что денег нет.
– Но может быть будут.
– И не надейтесь. У казны денег нет. Положение сквернейшее. В прошлом году был большой дефицит, а в нынешнем году будет дефицит еще бóльший. Так и знайте.
– Какое же лицо, – спросил я у податного инспектора, – [было] у вашего вице-директора, когда он это говорил.
– Какое? Полуулыбающееся, вообразите. Ну, подумал я, если он всем своим подчиненным так безнадежно представляет состояние наших финансов, то ведь эдаким путем можно создать панику по всей России.
И полуулыбка на устах такого молодца имела свой характер.
Четверг 3 июля
Был у меня сегодня совсем неожиданный и совсем необыкновенный гость, это наш консул в Гавре, некто г. [Г. Х.] Фасмер. Его вступление было очень оригинально. Среднего роста, седой горбатый человечек лет 60 входит и говорит: «Во-первых, привет уважаемому мною редактору “Гражданина”, а во-вторых просьба не принимать меня за сумасшедшего!»
Я засмеялся.
– Вы смеетесь, – говорит он мне, – а мне плакать хочется, право. Я здесь 4 дня и бегу отсюда. Здесь положительно человека, хлопочущего об интересах России, принимают как сумасшедшего и разговаривают с ним, как с сумасшедшим, успокаивая его, и поддакивая его, из опасения, чтобы этот сумасшедший не сделался злым. Вот моя история. Я давно занимаюсь консульскими делами. Я не совсем глуп и очень люблю мое отечество и моего Государя. Но вообразите мое несчастие: когда впервые под старость лет я захотел эту преданность мою интересам России, моего государства, доказать на деле, мне говорят в Петербурге: да вы с ума сошли. А дело очень просто. Годы, проведенные на консульской службе, привели меня к убеждению, что русская казна очень много теряет доходов от нашей таможенной системы и от неприменения у нас американской системы оплачивания сбором фактуры. Таможенные наши пошлины, как сто раз говорили мне коммерсанты, более чем на 30 % уходят в карман таможенных чиновников; избегнуть кражи и взяточничества на таможнях нет физической возможности. Я привожу в Россию разный товар роскоши и затем ко дню, когда должен состояться осмотр моего товара, я плачу трем должностным лицам взятку, и мой товар переводят в такие разряды тарифа, по которым я плачу вместо 10 рублей рубль, и для того, чтобы это было вернее, я храню свой товар в пакгаузе до дня, когда я знаю, что дежурными при осмотре будут взяточники. Этим процессом пользуются все коммерсанты.
Я составил записку и представил князю [Н. А.] Орлову в Париже, в которой я предлагаю вот что: так как у нас, наподобие Америки, главные предметы вывозной торговли сырые произведения, а ввозной торговли масса разных штучных товаров, то установить как в Америке сбор с каждой накладной по 3 рубля, например, как при ввозе в Россию товара, так и при вывозе. При вывозе – сбор будет небольшой, так как под одну накладную отправляют целое судно с хлебом или сырьем; а зато при ввозе каждый предмет должен иметь накладную. Я отправляю из Парижа 10 родов товару; нужны 10 накладных. Эти 10 накладных отправляются отдельно от товара к месту назначения, но уже от наших консулов, уплативши сбор 3 рублей, из того или другого французского порта. Положим, из Парижа в Гавр. Там наш консул, получивши накладные на товар, отправленный в Петербург, берет с каждой накладной 3 рубля, штемпелюет их и отправляет в Петербург. В каждой накладной означен род и вид товара; таким образом, когда на Петерб[ургскую] таможню приходит товар из-за границы, приходит и накладная, и уже получатель не может заключать сделки с тем, чтобы товар переводился из одного разряда в другой, потому что в накладной каждый товар назван своим именем.
Кн. Орлов нашел эту записку дельною и послал к министру финансов с просьбою дать ей ход. Но вот сколько лет прошло, и записка, как я узнал сегодня, положена под сукно.
– Я, – продолжал консул, – сегодня говорил об этой мысли в М[инистерст]ве иностранных дел. Там мне вот что сказали:
– Ваша идея очень практична, но…
– Но что? – спросил я.
– Но 1) она очень не понравится Германии, откуда, как вы знаете, много товаров идет в Россию; немцы не захотят платить сбор с накладных; 2) вы страшно много работы дадите консулам, а вы знаете, что у нас нет средств увеличивать канцелярские штаты наших консулов, и 3) Министерство финансов у нас не любит нововведений, когда их предлагают не ихние чиновники!
При этом Фасмер обратил внимание своего начальства на следующие аномалии в консульском быту. Одна из этих аномалий заключается в наших вице-консулах, почти везде назначаемых из торговых людей иностранцев, то есть из туземного купечества в той местности, где он назначается нашим вице-консулом. Тут множество неудобств; главнейшее из них заключается в том, что эти вице-консулы только работают для своих торговых интересов и почти всегда держат сторону против русских. Мало того; есть консулы даже наши, например, в Лионе, из французов: некто [Ю.] Марикс, фабрикант шелков[ых] изделий, у которого магазин в Москве. Вследствие этого этот Марикс, как соперник всех московских купцов и фабрикантов шелков[ого] товара, – делает всевозможные гадости русским купцам, когда они имеют торговые дела в Лионе. Насколько место русского вице-консула выгодно для такой эксплуатации иностранцами, доказывает тот факт, что ему, Фасмеру, один франц[узский] коммерсант предлагал 6000 франков за назначение его в Руане вице-консулом. Ввиду этого Фасмер очень основательно просит права назначать у себя вице-консулов из военных людей, если уже не хотят назначать русских. Есть еще соображение, заставляющее желать, чтобы вице-консулы наши и консулы не были туземцами-иностранцами: это соображение деликатное, pour pouvoir laver son linge sale en famille[474]. Оказывается нередко, что когда наше военное судно приходит в порт, то вице-консулу поручается свидетельствование счетов на заказы нашего судна; при чем нередко на этого вице-консула налагается обязанность свидетельствовать неверные счеты, то есть счеты с увеличенными ценами против тех, за которые были сделаны поставки. За это или вице-консул получает взятку с поставщика или же кричит на весь околоток про эти хозяйственные проделки русских моряков и ставит консула нашего в невозможное положение.
В виду всего этого Фасмер находит, что самое лучшее было бы назначать на места вице-консулов, как делает это Германия, когда не подвернется немецкий купец, – офицера или моряка из запасных, но германских подданных! Если немцы назначают своих моряков и своих военных там, где нет немецких коммерсантов, то отчего бы и у нас не назначать в консула и в вице-консула в разные заграничные порты наших офицеров и моряков из запаса.
Другая аномалия нашего консульского быта то, что у нашего консула, например в Гавре, нет ни канцеляриста, ни секретаря, ни писца даже. Оттого или наш консул должен всегда быть здоровым и никогда не брать отпуска, или же в случае отсутствия передавать консульство на произвол судьбы, или, что то же, сдавать какому-нибудь туземцу вице-консулу, который может, не будучи ответствен, Бог весть что натворить! Какова разница между нашим консулом в обстановке в Гавре и другими, видно из следующего: у английского консула 7 человек англичан, у германского – 5 немцев, даже у испанского 4; а у нашего консула – никого; он один!
4 июля
В беседе с нашим консулом в Гавре, Фасмером, узнал интересные вещи про французов и про немцев.
Просто невероятно. Фасмер говорит, что за последние годы, в сущности, Франции совсем нет, а есть земля с французами, где часть их занимается политикою и газетами, а масса живет своими домашними и семейными интересами; а затем Германия мало-помалу завоевывает Францию в торговом и промышленном отношении. В Гавре, например, теперь уже нет французских торговых домов, все германские с офранцуженными именами и с отделениями в Гамбурге, в Берлине и т. д. Рабочий француз теперь требует 7 франков в день, рабочий германец 21/2 франка. Та же вещь, которая во Франции стоит 7, 8 франков, привозится из Германии и продается за французскую за 3 франка.
– Чем же это кончится? – спросил я.
– Чем? Кончится оно вот чем: в прекрасный день скажут французам: у вас уже не [Ж.] Греви, а немец президент; tiens, us aiment, ответит француз, je m’en doutais pas[475], и конец. Сделается это или просто со временем, или после какого-нибудь переворота в роде диктатуры; диктатор а ла [Ж.] Буланже захочет повести французов на revanche[476], война, их побьют, а затем Франция может просто поступить в руки германского правительства.
Француз потерял здравый смысл и патриотизм; без этих двух элементов он живет чисто искусственною жизнью. Армия совсем утратила дисциплину, и если еще уцелели кое-какие остатки старой Франции, то это во флоте. Но именно этот флот как бельмо на глазу у нынешних Буланжэ и Греви, заправляющих Франциею. Они его ненавидят за его предания и за его людей а ла [А.] Курбэ и втихомолку преследуют и прижимают порядочных людей во флоте, насколько могут; ну и за то флот же ненавидит свое правительство des gredins[477], как франц[узские] моряки его называют. И еще подробность. Наводняя всю Францию своими товарами, Германия в каждом городе Франции имеет своих агентов и следит шаг за шагом, день за днем за каждым движением во Франции. Эти агенты выбираются из более способных офицеров ландвера и получают второстепенные и невидные места секретарей консульства. Эти люди суть в одно время и агенты торговли и промышленности Германии во Франции, и агенты правительственных интересов политики.
Я заговорил об изгнании принцев[478].
– Это их последняя глупость, – сказал мне Фасмер, – ils n’en reviendront plus![479]
– Чья глупость?
– Принцев, parbleu[480], и графа Парижского в особенности; они были хозяевами положения: будь у них один или два умных человека в их партии, они теперь были бы у власти. У них козыри были в игре. За них были жиды, то есть Ротшильды, значит деньги, значит вся та сволочь, которая продается и кричит. За них было духовенство, что в провинции много значит. За них много генералов, 3/4 флота и наконец их деньги; с этим вместе не суметь приобрести в два, три года на свою сторону армию, армию нищих, голодных, да надо быть идиотом, и они то себя идиотами и показали. А теперь кончено, партия проиграна навсегда; изгнанники не возвращаются.
5 июля
У графини [С. П.] Гендриковой сидят после обеда гости и болтают. В числе гостей был один молодой человек, член окружного суда в Петербурге. Тут же сидела компаньонка графини, молодая девушка, обратившая на себя внимание своею скромностью и видом наивной невинности.
Когда разговор зашел об Аркадии, Ливадии[481] и других увеселительных местах, эта Маргарита начала наивно расспрашивать про то, что там делается.
Ей ответили.
– Я даже в Зоологическом саду никогда не была, – сказала эта Гретхен[482].
– Как? – воскликнула с изумлением хозяйка, – это ни на что не похоже; вам нужно показать Зоологический.
И чтобы не откладывать в долгий ящик, сказано – сделано. Графиня велит закладывать свою коляску и просит члена окружного суда, своего гостя, быть кавалером и рыцарем этой невинной и наивной барышни, показать ей Зоологический и затем вернуться чай пить.
Едут молодые и подъезжают к Зоологическому саду, берут билеты, подходят к воротам – и что же? Кавалера пускают, а Маргариту нет.
Что сей сон значит.
Полицейский офицер объявляет, что сию барышню не пропустит, не велено пускать!
Тогда кавалер вламывается в амбицию, и начинается крупный разговор между им и полицейским.
Тем не менее несмотря на все аргументы, несмотря на все дерзости, наговоренные рыцарем обиженной дамы полицейскому – ее, беднягу, не пустили. На другой день рыцарь получает приглашение прибыть к градоначальнику[483].
Является.
Градоначальник ему объявляет, что он, как член суда, должен был более других помнить обязанность уважения к полиции, а между тем позволил себе наносить ей оскорбления, и притом совершенно неосновательно и незаслуженно. Полицейский офицер поступил совершенно правильно, на точном основании преподанной ему инструкции. В Зоологический сад запрещено пускать женщин легкого поведения.
– Вы были вчера с девкою, и эту девку полицейский не пропустил. А за ваши дерзости против полицейского офицера, – заключил [П. А.] Грессер, – я пожаловался вашему начальству.
Картина.
Маргарита, компаньонка сиятельной графини, оказалась кокоткою под маскою невинной и стыдливой барышни!
[22 августа[484] ]
Если бы Вы могли видеть и слышать, что вчера и сегодня наполняло и переполняло все сердца и все речи в Петербурге, даже в Петербурге, то Вы бы испытали отрадное впечатление! Как французы говорят, Vous avez dit le secret de tout le monde, de la Russie entière[485] и каждого русского отдельно, заговорив языком Екатерины и Николая! Вы подняли дух и всех объединили. И опять-таки, простите мне откровенность моей речи, чуялось, что Вы одни, вне всякого человеческого влияния, и только Вы, вдохновенные правдою, подумали, решили и сделали! По этому поводу я слышу даже легенды: о том, например, как Вы собственноручно изменили проект ответа, и даже о том, как Вы будто сами свезли депешу на телеграф[486].
Да, нелегко бремя и время этих дней для Вас. Но не зная, как Вы смотрите на вопрос, смею все-таки по всему, что слышу разумного, думать, что все-таки исход далеко не безнадежен. О Вашем образе мыслей слышал только слухи, слышал, будто Вы сказали: «Ни капли крови, ни рубля для болгар!» Если Вы это сказали, то в этом сказалась глубокая мысль, на которую всякий честный русский должен призывать благословение Божие для ее осуществления. Да не будет пролита ни единая капля крови! Относительно же денег смею думать, что в интересах именно экономических теперь следовало бы не отступить перед расходом известных сумм, чтобы спасти в будущем Россию от страшных убытков от застоя промышленности и торговли и еще более от страшных потерь в случае войны.
Я не увлекаюсь вопросом болгарским, о, далеко нет; я не проповедую оккупации; но я смею находить, что мнение тех серьезных людей, которые говорят, что для прекращения невыносимого для России состояния застоя и недоверия к времени надо как можно скорее покончить с болгарским вопросом совсем, чтобы его не было и чтобы он не томил ни Вас, ни Россию. Другого средства для этого нет, как постепенное, без шума обращение Болгарии в русское владение, в русскую губернию. Для этого нужно просто послать комиссара в виде генерал-губернатора и придать ему во-первых помощника по гражданской части и затем человек 100 офицеров и чиновников и сотен пять казаков, и затем управлять без конституции[487]. Через два, три года с отличным материалом солдата болгарского и народа Болгария переродится в русскую губернию. Никто в Европе не будет против, кроме Англии; но пусть Англия мешает, пусть даже двигает флот к Дарданеллам. Вам будет стоить только намекнуть на маленькое движение войск за Мервом[488], и английская прыть угаснет моментально. Но главное, кажется мне, не терять времени, ибо более удобной минуты для начала введения русского управления в Болгарии вряд ли можно предвидеть. К тому же общественное мнение указывает на идеального человека для поста комиссара, это [А. Д.] Столыпин, он оставил в Румелии благоговейную о себе память и известен как умный, строгий, энергичный и высоко честный человек. Это клад для такого назначения. Затем есть безусловно подходящая личность для назначения в помощники по гражданской части, это знаменитый сенатор [С. С.] Жихарев, сломавший себе шею и возненавиденный всеми и пожалованный в пьяницы за то, что из преданности к Престолу и долгу в один год изловил тех 193 анархиста, которых потом перелавливали по одиночке в течение 10 лет[489]. Это замечательно умный и энергичный человек. С такими двумя личностями Вы бы могли спокойно взирать на будущее Болгарии и быть уверенным, что порученное им дело пойдет отлично.
Но затем, если попытки вернуть порядок в Болгарию ограничатся лишь как прежде, полувмешательством, и сохранят за Болгариею ее независимость и ее гибельно-шутовскую конституцию, тогда мы убережем несколько миллионов, это правда, но зато сотни миллионов убытку понесет Россия от гибельного застоя и колебания курса, так как болгарский вопрос будет периодически возвращаться и, как теперь, держать всю Россию в волнении и заслонять собою все русские вопросы, для нас сто раз более важные.
Готов всем, что чту свято на земле, поклясться, что не лгут те люди, которые так думают, и дай Бог этим мыслям удостоиться Вашего сочувствия, ибо главная их цель – освободить Вас наконец от этого ядра, привязанного к России и мешающего ей жить, под именем освобожденной Болгарии, и предотвратить вечную опасность войны. Пока Болгария не поступит под русское управление, подобно Боснии и Герцеговине под австр[ийским] генерал-губернатором[490], дотоле Россия будет изнуряться от периодически повторяющихся болгарских горячек, и всегда будет висеть над нею Дамокловым мечом – опасность войны из-за Болгарии! Россия сплелась нервами с Болгариею, – нельзя вследствие этого трогать Болгарии, не трогая Россию, и единственный выход – это соединение и слитие Болгарии с Россиею.
[29 августа[491] ]
Завтра день Вашего Ангела. Дозвольте при мысли о нем сказать Вам, как от всей души к поздравлениям по случаю праздника присоединяю, обратившись к Богу, горячие молитвы за Вас как Монарха, за Вас как Супруга, за Вас как Отца! Да рассеют тучи вокруг Вас как Царя Ваша правда, Ваше смирение и особливо Ваша вера в Бога, да будут как всегда, благодаря этой вере, мысль Ваша и слово Ваше одно, и в этом единении да будет наша сила, торжество правды над ложью и прямоты над интригою.
Трудно представить себе и теперь тяжелее минуты, поставленной Богом в зависимость от Вашего решения. Но я не нахожу в себе ни уныния, ни сомнений. Я твердо убежден, что пока Вы твердо веруете в вдохновляющего Вас Бога, Вы не дадите себя сбить с правого пути ни одной интриге, ни одному замыслу: замолкнут голоса людские совета и указаний, и Вы начнете прислушиваться к голосу Божьего вдохновения, Вы услышите и голос исторического разума России, и затем решите!
Мы же грешные, мы можем только говорить о том, что нам кажется, глядя на события. Я лично, например, теперь более чем когда-либо убежден, что для получения благословения Божия на исход для России томящего ее болгарского вопроса, источника ее смут и разорения, надо в духе единения с нашею Церковью покончить прежде всего со всеми элементами в Болгарии безверия, безнародности и беспринципности, с ее интеллигенциею, и для этого путь один: тихо, без шума, мало-помалу органически присоединять Болгарию к России, под официальным прикрытием временного управления ею через комиссара, офицеров и гражданских чиновников русских, и с отменою, будто бы временно, всякого намека на конституцию. Пока этого не будет, анархия как детище конституции в детском народе будет продолжать растлевать здоровый болгарский народ, усиливать смуту, угрожать вечно войной, а главное – отражаться на России застоем и разорением.
Таково мое убеждение; но оно не столько убеждение, сколько предчувствие с одной стороны, и религиозное верование с другой. Меня пугают не судороги и не бессмыслицы происходящего в Болгарии, а усиливающееся недомогание в России, как последствие этого ужасного состояния вещей и умов в Болгарии, где не виден и не слышен Бог, где Его разум заглушен безумием младенцев, где Его имя осквернено и поругано, где святотатственные руки людей осмеливаются отстранять перст Божий и где все людское есть ложь!
Оттого, веруя в свои мысли и в свои убеждения, не смеешь дальше идти и называть их правдою и переносишься мыслями к Вам и говоришь себе: отнятое у людей, разум, Бог откроет и даст Вам одним, ибо Вы одни веруете в Него всею душою Вашею, и одни, во смирении и в терпении отдаетесь Ему с сыновнею любовью, и тогда спокойствие возвращается в душу.
Засим от всей души благодарю Вас за исполнение моего моления о лечебнице и за щедрое даяние! Вы изволили приложить к нему упрек; увы, он заслуженный, но есть обстоятельство, уменьшающее вину этого учреждения. Общество попечения о бедн[ых] и больных детях[492] есть доселе единственное благотворительное учреждение, которое не имеет и не дает никаких прав и наград благотворителям, а ведет свое дело только даяниями и делами любви и милосердия. Оттого, существуя только три года[493], оно не может рассчитывать на приобретение крупных капиталов и, сколько мне кажется, этим устранением от себя всей суеты людской оно может смелее и достойнее взывать к столь священной и благотворной помощи, как Ваша. А что гр. [С. С.] Игн[атьева] скупа, то, увы, весьма верно! Спасибо от имени 23 детей, приветствующих дражайшего и возлюбленнейшего Отца и Государя молитвою и радостями.
[12 октября[494] ]
Сегодня сердце особенно сильно рвалось к Вам; Вы поймете почему: с одной стороны дорогое и торжественное для каждого русского открытие памятника славы, с другой стороны вокруг него толпа, между которою разными нетерпеливыми зрителями и судьями нынешних политических событий пущен был слух, что Вы объявите при открытии памятника мобилизацию и оккупацию Болгарии! Я твердо верил, что этого не будет, но все-таки повсюду распространяемые об оккупации слухи доказывают, как все умы близки к этому событию и как подчас и на Вас они должны так сказать напирать. Но научаемые Богом Вы держитесь твердо на избранном Вами трудном и неблагодарном, но верном пути, и дай Бог Вам скоро увидеть, как этот именно путь был и есть верный путь.
Да, Государь, мне дал Бог утешение не только Вам наедине, но всенародно так сказать исповедывать свое заблуждение[495] тогда, когда как все, я легкомысленно и нетерпеливо проповедывал об оккупации; я говорю: утешение, ибо Вы не поверите, как отрадно душе чувствовать свой разум возвращенным к ясному и непреложному пониманию правды, а с другой стороны мне дано было узреть, что не бесплодно было это исповедыванье своих заблуждений, ибо оно дало очень наглядно некоторым другим органам печати ободрение стать прямо и решительно на сторону подчиняющихся Вашему воззрению и сразу ограничило и ослабило действие разгорячавших статей «Московских ведомостей». Да и они значительно округлили и понизили свой тон[496]. А получаемые мною письма и сведения из провинции несомненно удостоверяют, что в разных углах России думают так, как Вы думаете. Как бы грустно и трудно не было время, я всему этому радуюсь, ибо никогда еще так сильно не высказывалась правота мысли тех, которые свято и твердо веруют, что правда в внутренней и во внешней политике России тогда является, когда Вы внимаете только Себе! Тогда людское неразумие молчит и бессильно, и Божий разум Вас осеняет!
И пусть все свершается в Болгарии, все, решительно все, резня, война, разорение, да не двинет Россия ни одним волосом, доколе, испытав все и увидев все, Болгария дойдет до всенародного сознания: что значит быть покинутою русским Государем! Пусть годы пройдут: день уразумения прийдет!
А нам теперь слишком много работы внутренней и слишком нужно быть совсем свободным в своих движениях, чтобы думать о разорении себя из-за Болгарии… Европейский мир висит на волоске от вседневной угрозы его нарушения… Не дай Бог пускаться теперь в самую даже мирную и всею Европою санкционированную оккупацию, которая с первого дня для нас станет авантурою и отвернет все силы и все мысли России от работы у себя к Сизифовой работе в Болгарии…
Не зная, удостаиваете ли Вы проглядывать статьи и мысли «Гражданина» по болгарскому вопросу, я осмеливаюсь представить их за последние две недели в выписках[497], прося прощения, что надоедаю Вам.
Засим, имея много, много что Вам сказать достойного Вашего внимания и не вкладывающегося в рамки письменного изложения, я умоляю Вас, Всемилостивейший Государь, о великой милости, удостойте осчастливить меня и, если сие возможно, принять меня в Вашем Гатчинском уединении в один из дней, когда нет официальных приемов. Не откажите, умоляю Вас, Вашему старому верноподданному слуге
12 октября
4 ноября 1886
Сегодня в 12 часов дня был позван к графу [Д. А.] Толстому, и мне прочитаны были им Ваши замечания на мою статью[498].
Выслушал их с болью на душе, и теперь в ночном уединении, принося пред Вами сознание своей виновности, присоединяю к нему и мольбу о прощении и помиловании. Мало того, что я стал жертвою заблуждения, я скажу, что стал жертвою невероятной мистификации. По вопросу о кн. [Н. Д.] Мингрельском[499] я молчал до дня, когда от одного компетентного лица узнал, что дело улажено и окончено между кабинетами Европы и что печатать об этом теперь не предосудительно; я поверил этим словам тогда, когда увидел во всех газетах толки об этом кандидате. Об офицерах и войсках, будто бы отправляемых в Болгарию, сказ еще невероятнее: я узнал об этом в областях Главного штаба и с подробностями такими, которые не позволяли сомневаться в главном. И если бы я назвал этих лиц, то несомненно, Государь, Вы бы удивились вранью, доходящему теперь в Петербурге до исполинских размеров; врут самые по-видимому достоверные люди, смешивая слухи и толки газет, гостиных, клубов со сведениями официальными в один винегрет. А главное, негде узнать правду: нигде нет руководительного для печати камертона. А до какой степени можно не знать фактов верно, доказывают мои грехи; например, о конституции Болгарской; даю честное слово, что я впервые узнаю, что дело это навязано было нам Европою, так как все мои сведения я получил от [А. М.] Дондукова[-Корсакова], [П. А.] Грессера и тому подобных лиц, и еще на днях К. П. П[обедоносцев] со слов Дондукова все это мне повторял, называя авторами конституции кн. [С. Н.] Урусова и [Д. А.] Милютина сверху и [А. Д.] Градовского снизу, при чем рассказывал, что в то время одни уговаривали покойного Государя не вводить конституцию, а другие, с Милютиным во главе, стояли даже за это слово!
Вот чистосердечный сказ об обстоятельствах, слегка ослабляющих мою виновность!
Но виновный остается все-таки виновным, и я умоляю простить меня и верить мне, что наученный столь горьким уроком, я надеюсь не давать Вам причины впредь быть мною недовольным. Такие уроки не забываются людьми любящими Вас не на словах, а всею душою. А в умысле вредить политике моего правительства или заведомо лгать вряд ли кто меня заподозрит.
Итак, еще раз умоляю простить меня, Государь, простить Вашего старого верного слугу, глубоко скорбящего о доставленном Вам неудовольствии.
Вашего величества верноподданный.
4 ноября 1886
[Приписано на том же листе: ] 5 ноября. Отправил письмо к [А. С.] В[асильковско]му, и час спустя получаю от него радостную весть о назначенном мне в понедельник Вами часе. О, Государь, благодарю Вас за радость и счастье!
Вскрыл сие письмо, чтобы сие досказать!
Доскажу и другое: Вы и приблизительно не можете составить себе представление о грандиозно-благотворном действии на умы и души Вашего решения по сахарному вопросу[500]. Вы создали эпоху этим решением, все ожили, вздохнули бодро и радостно. Благословен да будет этот день.
Подробности, если позволите, до Дневника.
Вот два года, как я все подготовляюсь к осуществлению вкупе с несколькими лицами, с этим делом знакомыми, крайне нужный теперь опыт издавать для простонародного чтения такой журнал, который доставлял бы ему занимательное чтение, и где бы незаметно так сказать проводились те начала религии, Самодержавия, подчинения Власти, уважения к главе семьи, собственности и т. д., которые служат основами быта и которые, к сожалению, успели пошатнуться и в простонародье.
Для этой цели Бог помог устроить дело в виде еженедельного издания: «Воскресенье». Цена его назначена по дешевизне наименьшая в России – 3 р. в год с пересылкою. Все лучшее из писанного в эти 50 лет будет служить материалом для составления этого издания. Лучшие проповеди, лучшие стихи, лучшие рассказы из русской истории, боевые рассказы, поэтические рассказы, народные патриотические сцены и затем сельскохозяйственные полезные сведения, вот программа издания.
Граф [Д. А.] Толстой, [П. С.] Ванновский и [И. Д.] Делянов поддержали меня своими рекомендательными циркулярами. Так как дело не афера – то я смело мог просить об их поддержке.
Но затем без Вашего так сказать благословения не хотелось бы начать сие дело! Всею душою верю, что если Ваш камень будет положен в основу дела, оно получит успех в смысле благословения Божия, и вот мне пришла такая мысль: умоляю, если Вы взглянете на дело благожелательно, дайте приказание подписаться на известное количество экземпляров (смел бы примерно сказать 1000) для рассылки беднейшим церковно-приходским училищам в России. Так как в смете издания не предвидится барыша, а все сводится к уравновешиванию расхода с приходом, то является смелость Вас умолять об этой милости как о знаке ободрения и одобрения с благою целью предпринимаемого дела. А так как я сам плохой хозяин, то вся хозяйственная часть, в виду того, чтобы не компрометировать дело, будет в руках опытных и сведущих лиц; я же буду только ответствовать за хорошее направление каждой статьи издания. Сотрудников имеется до 20 из лиц самого твердого закала, и большинство – военные.
Да будет сие моление Вами принято, всемилостивейший Государь, от Вашего верноподданного!
Понедельник 20 октября
Возобновляю свой дневник. Увы, не под отрадными впечатлениями приступаю я к записыванию впечатлений.
Зимний сезон вполне начался. Государственный совет в полном сборе, все министры при своих портфелях, а между тем, увы, наше финансовое положение все так же угрожающе, как было. Не живется покойно ни единой минуты, и тоска бессилия гнетет невыносимо больно. Да, именно тоска, и именно тоска бессилия. За эти месяцы пришлось почти убедиться, что мои слова мало имеют цены в глазах Того, для Которого я чувствую и сознаю себе живущим. Везде слышишь живую речь об угрожающих нам и постоянно усиливающихся опасностях нашего финансового кризиса, чувствуешь и понимаешь, каким гнетом и какою бедою этот кризис ложится на действия и весь духовный мир Царя, видишь ясно, что при всем том положение хотя страшно трудное, но не безнадежное, что есть еще возможность спасти положение, – а между тем ничего не можешь, ничего. Чувствуешь, что слова бессильны, что нет доверия к тому, что говоришь, в Том, Кому говоришь. Тяжкое предчувствие вещает, что в эти несколько месяцев сторонние веяния успели бросить тень на вопрос о назначении Вышнеградского, и вероятно это назначение не состоится. А ведь страшно подумать, что может случиться, если вправду назначение единственного к делу нынешней безысходной минуты в министры финансов пригодного человека не состоится… Не следует умалять или суживать размеры нынешнего безвыходно мрачного положения. Все от А до Z в настоящее время зависит только от вопроса: будет ли новый министр финансов или не будет? При нынешних условиях – и говоря уже о том, что государственное хозяйство идет страшно быстро по скату в пропасть, и идет по плану и заговору врагов государства, страшно становится от мысли, что мы сделаем, если непредвиденный поворот событий в Европе, – сделает неизбежною для России минуты вооружения или войны. При нынешних условиях М[инистерст]во финансов не в состоянии дать рубля на новые военные расходы. Мало того, оно вынудит Россию отрекаться от всякой политики действия, оно может скомпрометировать достоинство Русского Государя, Его слово, Его политику и связать Его в ту минуту, когда вся Россия будет от Него ожидать действий полной свободы. Тогда начнется опять глухое раздражение в стране, пойдут толки подпольного мира, охладится духовное объединение Царя с народом, и прежде всего разумеется поднимут головы и приймутся за свои адские замыслы крамольники… Все это неизбежно будет, говорят со всех сторон одинокие кружки преданных Государю людей, а между тем что сделать и как сделать, чтобы их предостерегающие голоса не только дошли до престола, но заслужили доверия и уготовили вовремя путь и исход спасения.
Безотрадность и гнет нынешнего положения тем ужасны, что почва, на которой стоишь, шатка и зыбка. Едва ободрился надеждою, что заслужил доверие, что верят в тебя, как вдруг признаки дальнейшего доказывают, что ты ошибся, что нет к тебе доверия.
И нет слов, чтобы выразить, как тяжел кошмар жизни теперь. Думаешь и думаешь только об одном, думаешь, молясь, думаешь, работая, думаешь, разговаривая с людьми, – как бы Государю легче было Его страшно трудное дело, а люди между тем кругом наносят этим усилиям одиноких слуг удар за ударом. Ведь в Минист[ерст]ве финансов так говорят: что, взяли, холопы царские и доносчики, и зловеще и злорадно смеются над нами. А в другом углу так говорят: а все-таки дефицит будет в нынешнем году удвоен, а в будущем утроен, и все-таки заставим прийти к конституции… Это одна сторона разговоров. А другая сторона еще кошмаричнее. Вышнеградский дал денег взаймы, и вот за него распинаются Мещерский, Иванов, Сидоров. Вот почва, на которой стоишь, и бывают минуты, когда доходишь до такого отчаяния, что восклицаешь: «Господи, да неужели проклятие лежит на нас, неужели голосу правды и любви не быть услышанным, неужели не будет дана людям преданным Царю честно отрада Ему быть полезным…»
А рядом индифференты и пугливые люди говорят:
– Вышнеградский человек неизвестный, он умный, это правда, но опасно его назначать министром финансов.
– Да помилуйте, – кричишь им сквозь слезы в ответ, – что вы говорите, Вышнеградский гениальный человек и сверх того осторожный, обдуманный и знающий человек, кроме того он с самолюбием человек, он не возьмется за дело, идя на риск, он возьмется за него с уверенностью. Опасность не в нем и не в его назначении, опасность в нынешнем положении и в нынешних лицах. Одни не ведают, что творят, а другие ведут заговор против Государя, и ведут успешно, они с минуты на минуту, в критический момент, могут посоветовать такую меру, которая разом перекувернет Россию в пропасть. У них кажущаяся осторожность; они держат Россию над пропастью; вся их финансовая система заключается в держании России над пропастью, и малейший, чуть заметный шаг может свалить все в пропасть. Вышнеградский же прежде всего отодвинет Россию от пропасти разом и решительно, и затем, зная, в чем дело, будет знать: что делать?
– Нет, все-таки страшно. Что там еще будет, новый человек и т.д…
А между тем эти же малодушные люди мирятся с нынешним положением только потому, что опасность нынешнего положения тихо подкрадывается и не производит шума.
Этим-то опасность и ужасна, что она без шума подкрадывается и с минуты на минуту может в один печальный день поставить Государя в безвыходное положение.
Симптомы прескверны. Шума действительно нет, но зато есть другое. Каждый день, говоря то с одним, то с другим, приходишь к убеждению, что в финансовом мире, не исключая и Департамента экономии – на все махнули рукою. Лозунг теперь такой: Государя не беспокоить и как-нибудь вести дело, пока оно идет, а там, что дальше будет, après nous le déluge![502] И вот всякие представления теперь о новых расходах просматриваются в Деп[артамен]те экономии с изумительною легкостью. Когда кто протестует, отвечают ему так: не все ли равно, прогорать так прогорать, и строгость в оценке каждого предмета расхода по государственной смете как будто признана ненужною. А рядом с этим еще худшее явление; частные интересы карманов начинают все шире входить в сферу интересов и вопросов государственных. Сахарный вопрос явился скандальным тому доказательством. Что это за вопрос о нормировке сахарного производства, как не вопрос кармана гг. [А. А.] Абаза, [И. С.] Блиох, Бобринских[503] и Кии? К чему он явился? Зачем он попал в Комитет министров? Зачем эта торопливость? И в конце концов, разве не странно и не предосудительно, что в ту самую пору, когда столь важные отрасли промышленности в России, как железная, хлебная и другие, страдают полным застоем и совершенно лишены всякого покровительства Министерства финансов, вдруг то же Министерство финансов с какою-то лихорадочною торопливостью вносит проект будто бы улучшения такой отрасли промышленности, которая менее других нуждается в правительственном покровительстве, так как все сахарозаводчики, из-за интересов которых хлопочет Минист[ерст]во финансов, суть миллионеры, и терпят не убытки, а только уменьшение барышей, когда-то громадных, а теперь умеренных? И высшее правительство поставляется в необходимость рассматривать и обсуждать под предлогом вопроса о нормировке сахарного производства спор из-за карманных барышей между Иваном Ивановичем и [Иваном] Никифоровичем!
Этот эпизод с сахарным вопросом не шутка; это серьезный признак того, до какого падения дошел нравственный уровень в Министерстве финансов, которому нипочем обманывать Государя и общественную совесть и под предлогом государств[енного] вопроса о нормировке проводить и доводить до Комитета министров дело, изобретенное в виде аферы г[оспо]дами Абазою, Блиохом и Книею, и обращать правительство в какого-то маклера для куртажных гешефтов… На этом пути готовится опасность еще грознее для правительства; это уже не взятка, не кража, а прямо продажа государственных интересов или, вернее, продажа ярлыка с надписью: государственный вопрос для жидовских и полужидовских предприятий.
Видит Бог, все это страшно, и опасности от приближающихся туч в нашем экономическом мире растут не по дням, а по часам. Страшно, ужасно страшно, только изменник и враг Государя может в такие минуты молчать.
Пошли Господь решимость Царю!
На вопрос, что делать, я бы прежде всего смел посоветовать Государю – призвать Вышнеградского, и попросил бы его изложить перед Государем его взгляды и мысли. Вышнеградский так ясно и дельно говорит, что слушать его доставило бы Государю наслаждение.
Затем Государь составил бы себе свое личное мнение. Это главное, так как Его личное мнение всегда оказывается безусловно верным…
Вторник 21 октября
Гулял сегодня по некоторым кабинетам государственных людей и вынес грустное впечатление или вернее убеждение, что я, увы, прав был в своих вчерашних мыслях в Дневнике. Утром был у [В. К.] Плеве. От него узнал, что вчера в Госуд[арственном] совете вся антикатковская клика напала на графа [Д. А.] Толстого по поводу статей Каткова о сахарной нормировке[504] и об [А. А.] Абазе. В этих замечательно умных статьях Каткова его враги ухитрились найти подкапывание чуть ли не под основы государственного порядка, чуть ли не революционерные действия, и даже воспользовались случаем, чтобы уколоть Толстого за рескрипт на имя Каткова от 30 августа[505], точно он был при чем-нибудь в этом рескрипте.
Итак, вот до чего мы дошли. Члены Государств[енного] совета притворяются, что не понимают, что весь вопрос о нормировке сах[арного] произв[одства] есть карманный вопрос гг. Абаза и Кии, и soi-disant[506] защищая какой-то принцип неприкосновенности члена Госуд[аpственного] совета в лице Абазы в печати, готовы называть изменником и преступником Каткова за то, что он осмелился прилично и безусловно тактично возводить обвинения на Абазу.
Хороша логика у этих господ, хорош их консерватизм. Каткова за нападение на Абазу по сахарному вопросу надо предать чуть ли не смертной казни, а тех, которые, как Абаза и его сподвижники, созидают дутый государственный сахарный вопрос из непроверенных цифр, из ложных выводов, из бесцеремонной замены частных карманных интересов мнимо государственными, и в конце концов обманывают самого Государя, – это неприкосновенные в своем сане и безответственные гог магоги[507], нападение на которых равносильно нападкам на основы государственного строя.
Плеве совершенно разделяет мое мнение насчет того, что никакому сахарному вопросу не подобает быть в сфере государственного обсуждения, так как есть вопросы промышленности несравненно важнее сахарного, которые тем же Министерством финансов оставляются вовсе без внимания.
Был у Делянова, который с свойственным ему нюхом предвидел, что вчера в Госуд[арственном] совете ему предстанет участь быть sur la sellette[508] из-за Каткова, [и] послал вместо себя [М. С.] Волконского! Застал у Делянова Волконского. Он между прочим показывал мне интересные цифровые данные по учебной части, собранные по Одесскому учебному округу. Из этих цифр оказывается, 1) что уже теперь в реальных училищах и гимназиях процент мещан и купцов превышает процент дворянской молодежи, и 2) что в этом проценте купцов и мещан евреев на все количество учащихся – в реальных училищах 35 %, а в гимназиях свыше 50 %! Красноречивые данные!
Узнал тоже, что [Н. К.] Гирс надеется в болгарском вопросе по соглашению с Австриею и Германиею найти исход посредством избрания в князья Болгарские – принца Вольдемара Датского! Мы говорили на эту тему. Выход ли это из трудного положения? Трудно сказать: да! Уже одно это, какое критическое положение. Положим, Собрание изберет принца Вольдемара. Но ведь само Собрание признано недействительным и незаконным; значит, и выбор князя Россия должна признать незаконным! А если кандидат России есть в то же время избранный Собранием тот же принц Вольдемар? Как тут быть?[509]
Если бы я смел иметь голос в вопросе, я бы дерзнул советовать не проводить и не сажать на место князя Болгарского принца Вольдемара. Во-первых, это значило бы его, бедного, обречь на тяжелую и мучительную судьбину, а 2) это явится в будущем источником и причиною бесконечного ряда для русского правительства усложнений, затруднений, интриг и фальшивых положений, и свяжет нас невольно с местными болгарскими смутами! Мне кажется, что раз мы не берем себе Болгарию, чем дальше от нее, тем лучше, пусть управляется и живет, как хочет, и чем хуже в Болгарии, тем лучше. Пусть в Сербию обращается, и то нам лучше, чем нам орудовать в Болгарии посредством близкого к родству с русским Домом принца. Его прогнать могут, могут против него сочинить революцию, и тогда что же, опять падение курса, опять тревога и застой, опять вопрос об оккупации, опять веяния войны! Не дай того Бог!
Среда 22 октября
Сегодня вечером был у меня полковник [А. Ф.] Плюцинский. Он, надеюсь, примет на себя быть редактором военного отдела в «Гражданине». Я решился ему сделать это предложение, потому что не желаю даже нехотя давать своему журналу, довольно распространенному между военными, характер или оппозиционного против Военного министерства журнала, или несерьезного и легкомысленного, что легко может случиться, так как по вопросам военным я не сведущ. Ввиду этого я отправился к [П. С.] Ванновскому и сообщил ему о моем решении и о сделанном мною выборе. Ванновский одобрил то и другое, и про Плюцинского сказал, что это один из способнейших офицеров инженеров, которому в вину можно поставить одно только – иногда он бывает слишком односторонен.
На мою мысль об издании для народа и солдат еженедельного издания «Воскресенье» Ванновский отозвался с большим сочувствием, и от слова перешел к делу, приказав напечатать такой циркуляр в приказах по военному ведомству, который может, с Божьею помощью, обещать успех изданию в войсках[510]. Остается только надеяться, что Бог поможет сделать издание достойным такой авторитетной рекомендации.
Плюцинский, коснувшись болгарского вопроса, разделяет мое мнение насчет того, как было бы хлопотно для нашего правительства назначение теперь в Болгарию столь близкого Царственному дому лица в болгарские князья принца Вольдемара, именно потому, что оно связало бы нас с Болгариею в такую минуту, когда по характеру событий, готовящихся и предвидимых в Европе, нам следовало бы желать быть прежде всего свободными от всяких связей где бы то ни было. По его мнению, теперь, пока у нас нет достаточного Черноморского флота, чем дальше от Болгарии, тем лучше. Тут же он высказал довольно меткую и верную мысль. Он сказал так: извольте видеть, насколько мне известно из того, что я в разных сферах мог пронюхать, кандидатура принца Вольдемара считается приятною Гирсу, а Гирсу она приятна, по уверению разных толков, потому де, что она может быть приятна и во всяком случае не неприятна высшим сферам. Отсюда что может выйти? Может выйти, что Германия и Австрия поспешат дать свою санкцию на это назначение, но с тем, чтобы это их согласие занесено было в книгу услуг, России оказанных, quitte plus tard à reclamer le prix de cette complaisance[511] в виде какой-нибудь гадости против нас.
Суббота 25 октября
Был у меня сегодня Б. П. Мансуров. Говорили о нормировке сахара.
– Вы за кого? – спросил я.
– Понятно против нормировки, – отвечал без запинки Мансуров, – ведь это чистейший обман; обман во всем. Никакого излишка сахара в России нет. Цены в записке [А. А.] Абазы, обозначающие цифры расходов по производству, показаны зря и никем не проверены. Угроза, что дескать закроются заводы, если не будет введена нормировка, ничем не подтверждаются. Non, – прибавил горячо Мансуров, – cher prince, c’est triste à dire, mais malheureusement c’est vrai, on trompe l’Empereur, c’est une affaire véreuse, qu’on veut faire passer par le Comité des ministres, pour éviter le Conseil de l’Empire, et le Département économique, où ce même Abasa est président; et je regrette de ne pas pouvoir être dans le cas de dire à Sa Majesté: Sire, on Vous trompe… Ce n’est pas une question d’état qu’on Vous soumet, c’est une spéculation de bourse et d’agiotage![512]
В разговоре Мансуров интересные вещи сообщил.
– Отчего, – говорил он мне, – Абаза не хочет, чтобы этот вопрос, как чисто экономический вопрос, был бы рассматриваем в Департаменте экономии, а не в Комитете министров? Очень просто почему: потому что он боится меня и всякого, кто захочет прежде всего проверить их цифры. В Комитете министров нет проверки. А в Департаменте экономии проверка обязательна. Например, я лично вот что скажу: я в точности не могу припомнить, когда и где, но я помню, что я где-то читал за эти 15 лет, что я заседаю в Д[епартаме]нте экономии, записку по сахарному вопросу, где эти самые заводчики, которые требуют ограничения сахарного производства, писали правительству: дайте нам такие то и такие то льготы, и мы будем в состоянии довести производство сахара до таких размеров, что переполним сахаром все рынки и удешевим его до конкуренции с Европою. Льготы они получили, но затем что же? Как только сахару стали делать столько, что пришлось сбавлять баснословно дорогие цены, так сейчас же они же обращаются к тому же правительству с просьбою: нельзя ли ограничить производство или, другими словами, нельзя ли помешать удешевлению сахара: мы конкурировать с Европою не хотим, слишком много труда, мы даже не хотим хлопотать вывозить сахар в Малую Азию, в Египет, в Грецию, хлопотно слишком, зачем; мы даже не хотим бороться в Сибири с немецким сахаром или в Азии с английским; лучше пусть будет нормировка, тогда мы будем по прежнему сбывать свой сахар в своем кружке своих торговцев и будем себе без хлопот получать свой барыш, меньший против прежнего, но зато верный! Вот вам вся суть нормировки.
Я сахарное дело, – продолжал Мансуров, – давно знаю до Д[епартаме]нту экономии. Оно всегда состояло из обманов. Правительство всегда было надуваемо сахарозаводчиками. Три раза при мне поднимали акциз на сахар, Абаза сам с торжественною гордостью говорил в Комитете министров о том, что они, сами сахарозаводчики, предложили правительству возвышение акциза. Мы Муции Сцеволы[513], мы римляне, говорил Абаза, мы сами на себя предлагали налагать руки. Все слушали с благоговением и развеся уши! А так ли это? Жаль, что меня не было. Я бы ответил Муциям Сцеволам: неправда, древние римляне, вы опять надуваете правительство: вы скрываете от него то, что обложение берковца[514] акцизом в 80 копеек, благодаря техническому совершенствованию вашего производства, выходит не 80 коп. с берковца, а 40 копеек, потому что казна считает, что вы из берковца свеклы делаете столько-то сахару, а благодаря вашей технике вы делаете из берковца не столько, а почти вдвое больше!
Но та же техника, которая у сахарозаводчиков помогает им обманывать казну и платить гораздо меньше на самом деле, чем берет с них казна, та же техника оказывается бессильною, когда нужно ее применять к удешевлению производства сахара, как за границею. Тут гг. сахарозаводчики уверяют, что они ничего не могут; ни гроша удешевления, следовательно, один способ их спасти это нормировка, дабы сахар не мог слишком дешеветь. Вот где обман.
– Что же по-вашему желать нужно? – спросил я Мансурова.
– Как что? Чтобы Государь прозрел истину, и тогда Он не только решит против нормировки, но вероятно самый вопрос раз навсегда отстранит от обсуждения.
Не могу сказать, как мне отрадно было слушать все эти мысли. Elles disaient mon secret[515].
Ободренный ими, я написал статью против нормировки в своем Дневнике вторую[516].
Да, кажется мне, что какой бы ни был исход вопроса в Комитете министров, если бы Государь на мемориуме Комитета министров, согласившись с мнением хотя бы одного против нормировки, начертил бы слова с таким примерно смыслом: «Желал бы, чтобы такие вопросы не вносились более в круг государственных вопросов», какое огромное нравственное значение имели бы такие слова на весь строй государственной морали.
Ужасно низок стал уровень этой морали. Такое дело, как нормировка сахарного производства, напоминает государственные дела и финансовые предприятия при Людовике XV, когда иные министры под прикрытием разных громких фраз являлись с проектами собственного обогащения под ярлыком государственных вопросов.
Воскресенье 26 октября
Давно не получал пакетов от Главного управления по делам печати с надписью «нужное» и с просьбою явиться для объяснений. Мне казалось, что я привык уже умерять свой язык настолько, чтобы не подпадать под объяснения! Увы, сегодня застаю такой пакет. Ломаю себе голову: в чем mea culpa[517]? Перебираю в памяти все мною написанное, ничего не припоминаю преступного. Разве этот проклятый сахарный вопрос, думаю… Перечитываю статьи. Не нахожу в них резкостей. Разве то, что я задел великого Абазу, будет мне вменено в преступление?
Часа через два разъяснилось недоумение. Был я у И. Н. Дурново. Он провел вечер накануне у графа [Д. А.] Толстого. Граф ужасно встревожен сахарным вопросом и между прочим недоволен нападками моими на сановников, защищающих нормировку, и даже жаловался Государю.
Я разинул рот.
– Как, – говорю я, – граф Толстой против меня в этом вопросе, не может быть.
– Не против вас, а против ваших инсинуаций.
– Каких инсинуаций?
– А вот, что вы как будто даете понять, что Государя в этом вопросе обманывают.
– Да ведь это правда, а главное, сколько мне кажется, у меня нет ни одной резкости, у меня мысли изложены прилично, с уважением к предмету и к лицам.
– Совершенно верно, и я сказал графу Толстому, что по-моему ваша статья гораздо сдержаннее статьи «Моск[овских] вед[омостей]».
– А он что же?
– А он?.. Что он? Точно вы не понимаете! Он боится восстановить против себя всю партию защитников нормировки… Больше ничего.
– Да ведь он сам против же нормировки.
– Против, да; но, между нами говоря, он так боится партии противников, что если бы он вперед себя не заявил против нормировки, он, пожалуй, дал бы себя андоктринировать[518]. На него напустили Бобринских, Шуваловых, говорят что [Е. А.] Воронцова[-Дашкова] тоже на их стороне, так что гр. Толстой, entre nous soit dit[519], представляет себе целую громадную политическую придворную партию, которая непременно будет ему мстить за то, что он по сахарному вопросу идет против них. Вот вам и все!
При этом Дурново рассказал мне в высшей степени характерный диалог между гр. Толстым и Вел. Кн. Михаилом Николаевичем. Вел. кн. Мих[аил] Ник[олаевич] упрекал Толстого за статьи Каткова против Абазы:
– Помилуйте, он член Госуд[арственного] совета!
– А когда все газеты писали против меня, ваше высочество, никто ведь за меня в Госуд[арственном] совете не вступался, а я ведь был член Госуд[арственного] совета, такой же, как Абаза.
– Да, но вы были министр.
– Министр, да, но и член Госуд[арственного] совета.
– Прежде всего вы были министр.
– Значит звание министра это brevet[520], дающее привилегию на право быть руганным в печати, – ехидно и удачно сострил Толстой.
Смею мою последнюю статью о нормировке поместить в Дневник[521].
Я старался уяснить себе: да кто же инициаторы этого дела? Одни уверяют, что А. А. Абаза. Оказывается, что не совсем так. А. А. Абаза составлял по этому вопросу записку, как знаток этого дела, – это правда; но он же, составив эту записку, взял и уехал в деревню… на все летнее время. Вдруг, в течение этого летнего сезона, точно пожар, вспыхивает это дело о нормировке сахарного производства, – и скорее, скорее, давайте решать этот вопрос, точно России грозит смертию открывшаяся опасность, если в течение лета 1886 года не будет обсужден в Комитете министров вопрос о нормировке сахарного производства. И А. А. Абазу настоятельно и экстренно требуют из деревни в Петербург с тем, чтобы на него возложить защиту записки в Комитете министров. Ясно, следовательно, что есть какой-то таинственный двигатель этого вопроса, где-то скрытый в тайниках Министерства финансов. А кто он? – не могу узнать. А что есть двигатель, и двигатель, весьма заинтересованный как можно скорее этот вопрос провести, доказывается именно тою быстротою, с которою, в отличие от всех других дел, это именно дело ведется на парах. Не успело еще кончиться лето, не успел отдохнуть от поездки заграницу министр финансов, как уже проект нормировки поступает в Комитет министров, призывается действительный тайный советник Абаза, и т. д. Затем, теперь, не успел проект нормировки пройти в Комитет министров и вызвать решение, в силу которого ему надлежит поступить на вторичное обсуждение в присутствии всех министров, как уже во вторник, 28 октября, этот проект поступает на обсуждение Комитета министров; вызывается, по телеграфу, министр Двора, только на день заседания, и не дожидаются возвращения управляющего Морским министерством, адмирала Шестакова.
– Почему же так спешат, спросил я приятеля, отчего же не подождали морского министра?
– Да я полагаю потому, что в сущности в вопросе о нормировке сахарного производства вряд ли морской министр может иметь специальные сведения…
Специальные сведения! В этом-то и fatum[522] этого вопроса, что о нем, сколько кажется, специальные сведения могут иметь заинтересованные лица, как техники этого дела, и вряд ли этот министр более того министра в этом загадочном вопросе усматривает ясную истину. Я склонен думать, что иные государственные люди даже очень мало понимают сущность и подробности этого вопроса.
А между тем, чтобы этому вопросу дать какое-нибудь разрешение за или против нормировки, надо непременно быть в нем сведущим, хотя бы настолько, чтобы быть в состоянии подвергнуть критике и сомнению известные данные, на которых вопрос о нормировке основан.
Вопрос этот основан на двух главных тезисах: первый – есть цифра, обозначающая стоимость, во что обходится производство сахара; эту цифру авторы записки о нормировке сахарного производства определяют, положим, в 3 р. 50 к., и, вследствие этого, говорят, что при такой стоимости сахарного производства цена сахара на преизобилующих им рынках чисто в убыток. Но цифра эта 3 р. 50 к., положим, проверена на деле или не проверена правительством? Нет, не проверена, и члены Комитета министров призваны эту цифру принять на веру, что уже прямо свидетельствует о коренном недостатке в рассмотрении этого вопроса Комитетом министров.
Второй тезис это угроза: угроза эта высказана, что, если нормировка не будет принята для сахарного производства, то, вследствие невозможности конкурировать с первоклассными заводами и низкой рыночной цены на сахар, все второстепенные заводы должны будут закрыться…
Таким образом, с одной стороны, непроверенная цифра, определяющая стоимость производства, а с другой стороны гадательная угроза в будущем, – служат главнейшим основанием проекту о необходимости ввести нормировку для сахарного производства.
Ну, а что, если цена производства, показанная в записке, не верна, и в действительности сахарное производство стоит дешевле?
Ну, а что, если предположение, что второстепенные заводы от невведения нормировки не закроются, а вынесут тот неизбежный кризис на сахарном рынке, который может явиться вследствие изобилия сахарного товара на рынке?
Тогда… тогда… тогда что? Тогда окажется, что все члены государственного учреждения, призванные решать вопрос о нормировке сахарного производства, поверили на слово составителям проекта… и… совершенно напрасно, так как введены были в заблуждение.
Но этого мало.
Если верить некоторым компетентным лицам, – третий основной тезис для подкрепления мысли о необходимости нормировки сахарного производства и чуть ли не важнейший – о переполнении рынков излишком сахара против потребления – подлежит тоже тщательному исследованию и строгой проверке, так как многие отрицают буквально практическую правду этого факта. Эти господа рассуждают и говорят так: неверно, что внутренние рынки России переполнены сахаром, – переполнены им рынки одного центрального района в России, а затем, в целых огромных областях России сахар дорог потому, что его мало, а в Сибири немецкий сахар изгоняет русский, как на Кавказе и в Азии его изгоняет английский. Мало того, все азиатское прибрежье, все африканское побережье по Средиземному морю могли бы быть местом громадного сбыта для русского сахара по той же причине, по которой русский керосин оттеснил все другие керосины с этих рынков, по лучшему своему качеству и по дешевизне. Но господа сахарозаводчики находят излишним трудиться для расширения своего района сахарной торговли и хлопотать о возможности удешевить доставку сахара, что было бы целесообразнее желать, чем нормировку сахарного производства. Весь секрет, по мнению некоторых компетентных лиц, этой сахарной бури заключается в том, что сахарозаводчики просто-напросто хотят для своего удобства устроить так, чтобы продажа и сбыт своего сахара велись так же удобно и патриархально, как прежде: сахар готов, повезли в Москву, денежки получили, – и готово… Этим процессом они в течение 10 лет получали все до 40 проц., и, понятно, с такими барышами расстаться навсегда не легко… Отсюда борьба будто бы за существование… И вся драма ведь сводится к тому, что гг. сахарозаводчики должны теперь, в минуту кризиса, из полученных ими за 10 лет доходов, утроивших капитал, уделить часть на то, чтобы пережить этот кризис… им удобнее сделать из правительства своего комиссионера и поручить ему, посредством проекта нормировки, обеспечить им на время кризиса все-таки больший доход и полное обеспечение от убытков.
Все это очень понятно и в порядке человеческих вещей; но почему Комитету министров играть роль сердобольной нянюшки гг. сахарозаводчиков и la bouche en coeur[523] выслушивать повесть о бобо, причиняемых им печальною необходимостью не богатеть, а пускать сахар дешево, и верить на слово разным цифрам, которые могут казаться фантастическими, – этого, признаться, я совсем не понимаю.
Итак, по моему мнению, если правительство признает своим делом входить в рассмотрение, отдельно от всех прочих отраслей страждущей застоем и безденежьем промышленности, интересов миллионеров-сахарозаводчиков, то прежде, чем решить вопрос о нормировке в смысле: да или нет, казалось бы необходимым, чрез правительственных специалистов и техников, поверить два вопроса на месте: 1) верна ли цифра, показывающая в представлении министра финансов стоимость производства сахару, и 2) верно ли то, что все рынки России переполнены сахаром, и что действительно 7 мил. пудов сахара суть излишек против годового спроса в России на сахар?
Но затем, повторяю, что говорил прежде, ни интересы, ни достоинство правительства не согласуются с тем, чтобы самый вопрос о нормировке сахарного производства подлежал бы обсуждению Комитета министров. Это дело ни его ведения, ни его достоинства…
А уж если этот вопрос нужно где-либо рассматривать и обсуждать, как специальный и технический вопрос, то пусть он станет вопросом законодательным и, в порядке законодательного рассмотрения, пусть сперва рассматривает его специальная правительственная комиссия, а потом Департамент государственной экономии Государственного совета.
Но, по-моему, и это было бы угодничеством в пользу сахарозаводчиков… Ведь завтра, если сегодня пройдет вопрос о нормировке сахарного производства, потребуют нормировки чайной торговли чайные торговцы, послезавтра табачные тузы-фабриканты, затем производители шерсти, затем бумагопроизводители, и так далее…
Совершенно подобное кризису сахарозаводчиков я отлично помню в истории бумагопрядилен и ситцевых фабрикантов в начале шестидесятых годов. Громадные состояния нажились в сравнительно короткий срок этими фабрикантами. Потом явилось вдруг переполнение рынков бумажными товарами. Раздался крик: ситцу больше делают, чем нужно! Разве правительство кто-нибудь просил о нормировке ситцевого производства? – Никто! Наступил кризис. Фабриканты, непрочно поставившие свое дело, потерпели и пострадали от кризиса. Солидные фабриканты примирились с действительностью и решили довольствоваться 6, 7, 5 даже процентами, продолжая улучшать и удешевлять свое произведение. И что же? Оказалось, что переполнение ситцами было явление минутное, и сбыт бумажных товаров в России теперь настолько обеспечен, что наши фабриканты на вопрос: «Не пуститься ли в Азию, в Африку, в Болгарию на конкуренцию с европейским ситцем» кричат: «Не стоит, слишком хлопот много, дома проще и удобнее…»
Понедельник 27 октября
Я совсем огорошен. Руки падают. Сейчас вернулся из Главного управления по делам печати и имел горячий разговор с [Е. М.] Феоктистовым. Оказывается, если верить Феоктистову, что граф [Д. А.] Толстой, будто бы из рыцарского великодушия, не желая быть похожим на [М. Т.] Лорис-Меликова, дозволявшего нападки на гр. Толстого, жаловался Государю на «Гражданин» за то, что он позволяет себе инсинуации против Министерства финансов, будто бы оно ведет дела так, чтобы привести к конституции.
Я буквально обмер. Значит или я не так понял И. Н. Дурново, которому Толстой говорил, что не доволен моими нападками слишком резкими по поводу сахарного вопроса на государственных людей, или Феоктистов не так понял гр. Толстого, или И[вану] Николаевичу Дурново гр. Толстой говорил иное, чем Феоктистову.
Я вышел из себя.
– Извините меня, – сказал я, – я понимаю, что я увлекаюсь иногда в Дневнике недопустимыми деталями до личности мин[истра] финансов касающимися, или для bon mot[524] выйду из пределов приличия, но допустить, что гр. Толстой считает меня виновным в глазах Государя в том, что я указываю на опасность угрожающую моему Государю и государству от заговора в Министерстве финансов существующего, и серьезного, и несомненного, – я не могу, ибо тогда в чем же отличалась бы миссия гр. Толстого от миссии Лориса-Меликова? Лорис-Меликов вел к конституции, а гр. Толстой будет мешать честным органам печати предостерегать правительство от опасностей, ему угрожающих и этим будет давать возможность заговорщикам делать свое дело без шума и под маскою преданности? Нет, – говорю я, – если таково желание гр. Толстого, то я лучше откажусь от пера на весь остаток моей жизни, чем подчиниться такому требованию.
– Да какое действие производят на публику такие инсинуации, подумайте.
– Во-первых, публики, читающей «Гражданин», нет; публика читает «Новое время» и «Новости», а «Гражданин» читают или люди глубоко с ним солидарные по мыслям, или враги правительственной самодержавной политики. Первые знают очень хорошо, что «Гражданин» не есть ни орган своих денежных интересов, ни орган того или другого министра, а орган идеи Самодержавия, орган русских священных заветов. И ни один читатель (простой народ не читает «Гражданин») не смутится тем, что в «Гражданине» в защиту Самодержавия чиновники М[инистерст]ва финансов заподозриваются в измене Самодержавию; напротив, они ободрятся духом, увидя, что правда, святая правда уже не боится высказываться в защиту столь долго пренебреженных интересов Самодержавия. А враги его, читающие «Гражданин», и видя нападки на М[инистерст]во финансов этого рода, поневоле станут осторожнее из опасения бóльшей еще огласки их кривых деяний. В чем же, спрашиваю я, вред таких инсинуаций, и как может граф Толстой, знающий очень хорошо, каковы люди, орудующие у Бунге, – желать, чтобы молчали о самом существенном вопросе для интересов государства те журналы, которые только этим интересам и служат.
Нет, если гр. Толстой от меня требует, чтобы я умерял свои резкости и свои увлечения, я все сделаю, что могу, с этою целью, ибо не желаю навлекать на себя неприятности из-за слов. Я много трудился над тем, чтобы себя сдерживать, безгрешных нет и я не рыба, могу еще поработать над собою, но если вы хотите, чтобы я обратился в «Новое время» и писал обо всем как-нибудь, переливая слова, и отказался бы от убеждений основных, священных, руководящих, из которых главнейшее есть убеждение в необходимости всеми мерами и силами бороться против врагов Самодержавия и за укрепление его, кто бы эти враги не были, журналисты или чиновники Мин[истерст]ва финансов, то я предпочитаю все бросить и всего лишиться.
– Вы слишком серьезно на это смотрите и слишком принимаете к сердцу мои слова.
– Нет, извините; легко смотреть на то, что вы мне сказали, я не могу, вы требуете от меня, чтобы я не касался поползновений М[инистерст]ва финансов довести дело до конституции – то есть, другими словами, чтобы я, зная наверное, что я прав, и имея доказательства существования этого заговора, молчал в угоду графу Толстому или Петру Ивановичу или Ивану Петровичу.
– Зачем молчать? Мы не можем этого требовать, так как мы одних убеждений с вами, но мы желали бы, чтобы вы об этом говорили мягче, реже, политичнее.
– Да, но в начале вы не то мне сказали, – ответил я!
Все это грустно и странно.
Невеселое то, что мне в ободрение и в утешение Ив[ан] Ник[олаевич] Дурново сказал: «Не смущайтесь, делайте свое дело честно, как совесть велит, но будьте осторожны в выражениях и из трех слов выбирайте всегда самое нежное; вот и все, а на графа Толстого не пеняйте; он теперь и боязлив, и нервен, и нерешителен».
Вторник 28 октября
Вчера вечером собралось у меня немало гостей на винт, и между прочими был Варшавский, неизвестно почему полюбивший меня за эти последние 2 месяца. Он сообщил нам очень интересное сведение о знаменитой нормировке сахара, будучи сам сахаропроизводителем, если не ошибаюсь, в Кам[енец]-Подольской губ. Признавая этот вопрос безусловно не государственным и не подлежащим вовсе рассмотрению правительства, он сказал: верьте мне, что и вопроса-то этого не было бы вовсе, если [И. Г.] Харитоненко не запродал на 3 года до 11/2 мил. сахарного песку в прошлом и в нынешнем году по 5 рублей кругом. Между прочим, он запродал огромную партию Бобринским и другим заводчикам. Харитоненко, как очень умный человек, предвидел уже в прошлом году падение цен на сахар и с осени прошлого года ввиду этого понижения запродал свой песок на 3 года по 5 рублей. Теперь цена упала до 3 рублей. И что же вы видите? Бобринские и все западные сахарозаводчики, которым будет очень накладно платить по 5 р. Харитоненко за пуд песку, в течение 3 лет, когда цена сахара упадет до 3 рублей, в нормировке видят исход из своего критического положения, то есть повышение цен на сахар. Харитоненке наоборот, запродавшему сахар по 5 рублей, выгодно наибольшее понижение цен на сахар, и вот Харитоненко стоит против нормировки. В сущности все это дело это спор и дуэль между карманами Бобринских, Абазы и Кии и между карманами Харитоненки!
По мнению Варшавского, правительству следовало бы ответить: я в это дело не вмешиваюсь; если вам нужна нормировка, кто вам мешает всем сахарозаводчикам собраться и установить нормировку от себя, как это сделали, например, все земельные банки в России, без всякого правительственного вмешательства, для того, чтобы ограничить выпуск банковых облигаций, так как их оказалось слишком много на биржах.
Но в том-то и дело, что сахарозаводчики не могут сойтись и согласиться на нормировке добровольно и между собою, и потому подняли всю эту интригу в Комитете министров, чтобы добиться от правительства нормировки как средства поднять цену на сахар и поправить свое критическое положение.
Сегодня вечером у меня [М. Н.] Галкин[-Враской] поздравлял И. Н. Дурново с назначением.
– С каким? – удивленно спросил Дурново.
– С местом [Н. Н.] Герарда.
– Ничего не слышал.
– Хитрите.
– Право, ничего не знаю, это слух «Новостей»[525].
Во мне зажглась все-таки надежда. Молясь Богу сегодня ночью, горячо помолился Богу о назначении на место Герарда И. Н. Дурново. Дай того Бог, дай того Бог, дай того Бог!
Узнаю удивительную новость, но если она верна, кричу ура ей от всего сердца, будто кандидатом в болгарские князья избран Государем князь [Н. Д.] Мингрельский! Мне кажется, что такой выбор лучше оккупации.
Понедельник 10 ноября
Светлый день записываю под этим числом, по полноте ободривших меня впечатлений. Беседа с Государем оживила мою область надежд и сказала мне, что я был прав, не предаваясь унынию. Государь видимо прислушивается к разным голосам, прежде чем на что-либо решиться. Еще не видевши Государя, я сказал Императрице, что как бы трудно ни было и во внешней и во внутренней политике положение Государя, я ни на минуту не могу тревожиться, так во мне тверда вера, что Бог Его научает и ведет. А когда побыл в Его мире, то эта вера получила еще большую ясность. Нет вопроса, к которому Он был бы равнодушен, но в то же время нет вопроса, по которому Он бы торопился и увлекался.
В политике внешней – главнейший вопрос – это избрание князя Болгарского. Смущение и тревога, овладевшие мною после беседы с бывшим кутаисским губернатором [Н. Я.] Малафеевым по поводу кн. [Н. Д.] Мингрельского, были во мне настолько искренны, что я решился высказать Государю сущность того, что мне передал Малафеев; но не желая сразу высказать его мнение слишком резко, я слегка смягчил то, что он мне сказал, но потом подумал, хорошо ли я сделал, что не прямо сказал Государю то, что мне с таким серьезным вниманием к вопросу высказал никогда не кривящий душой и не увлекающиеся Малафеев. Вечером разговор сегодняшний с [А. С.] Васильковским меня еще больше подтвердил, что так как главное это интерес Государя, то надо говорить Ему то, что знаешь от людей, заслуживающих уважения. Оказывается, что то, что с таким волнением прибежал мне сказать Малафеев с неделю назад о кн. Мингрельском, после моей статьи о нем в Дневнике «Гражданина»[526], то самое мне сегодня вечером передал тоже с волнением Васильковский, со слов почетного опекуна, бывшего тоже губернатором на Кавказе [Г. К.] Властова[527]. Оба говорят, точно сговорившись. Главная слабая и опасная сторона личности кн. Мингрельского, кроме его неискренности и двуличия чисто азиатских – это среда, в которой он жил столько лет и с которою связан разными семейными и денежными связями. Этот окружающий его мир, это целая паутина всевозможных людей без принципов, где одна часть – низкие угодники и прислужники, а другая всякие темные гешефтмахеры. По мнению Властова, если только он будет назначен и хоть одного возьмет с собою из своего антуража, тогда кончено; сразу откроется доступ посредством этого одного всяким проходимцам, всяким агентам и авантюристам во имя подкупа. Властов говорит так же, как и Малафеев, что не бывши на месте, нельзя себе даже представить приблизительно, что за люди до последнего окружают этого несчастного князя Нико. По их мнению, если назначение его уже дело решенное, и нельзя взять назад его кандидатуру, то, чтобы оградить священные интересы Государя в этом опасном деле и предупредить малейшую возможность разочарований в будущем, следовало бы поставить условием sine qua non[528] назначения князя Николая Мингрельского и протекции России, – чтобы он обязался словом и подпискою ни единого, буквально ни единого человека не брать с собою с Кавказа или из Петербурга, а чтобы все до единого к нему лица были назначены ему свыше в Петербурге. Тогда, окруженный чисто русскими, честными, военными людьми, – князь Мингрельский мог бы оказаться полезным исполнителем предначертаний и воли русского правительства. Но только одного допусти из его приближенных, и это пронюхает агент Англии, тогда последняя лесть может оказаться горше первой[529].
Вот что мне передавали люди, ручающиеся честью за правду каждого из своих слов, и я считаю долгом совести занести эти слова в Дневник.
О Вышнеградском в связи с финансовою нашею критическою минутою, это, на мой взгляд, вопрос во внутренней области в высшей степени важный. Государь дозволил мне говорить о нем, но всего сказать не успел. Главное сказал, о том, как бы хорошо было, если бы Государь его выслушал, и о том, какое важное практическое значение имело бы поручение, теперь данное Вышнеградскому, объездить, начиная с Москвы, все главные центры промышленности и торговли в России, поприглядеться и поприслушаться к гласу народа, к гласу Божиему и затем представить Государю свои мысли и соображения.
Мне кажется, даже более того, я несокрушимо убежден, что это лучший способ для Государя перейти к новому финансовому хозяйству. Так, вдруг сменить Бунге и назначить Вышнеградского имело бы большие неудобства и для Государя, и для самого дела, и для Вышнеградского, наконец. Он очутился бы разом перед сложною задачею нескольких громадных дел разом: и изучения делопроизводства, и изучения финансовых вопросов, и ознакомления с массою новых личностей, и так далее; его ум оказался бы парализован массою прикладного дела; он бы не мог видеть ясно и понимать спокойно.
Совсем было бы другое, если [бы] Государь теперь, в начале зимнего периода, призвал Вышнеградского и просто-напросто спросил его Ему высказать свои мысли тотчас после поданной Бунге записки, и затем, составивши себе о нем понятие ясное, если оно оказалось бы благоприятным, поручить ему в течение 3 месяцев совершить поездку по России и собрать на местах сведения о финансовом положении России. И уже тогда, если бы Государю угодно было назначить Вышнеградского министром финансов, он оказался бы в состоянии приняться за дело с ясным пониманием и своей задачи, и людей.
Я ужасно жалею, что не просил Государя позволения поговорить с Вышнеградским наедине, лицом к лицу, под обязательством честного слова никому ни звука не проронить об этом свидании и содержании беседы, мне кажется, что я бы мог облегчить Государю труд обращения к нему и подготовить почву. Я бы мог узнать, например, сколько времени нужно было бы Вышнеградскому подготовиться, чтобы быть в состоянии устно изложить Государю свои мысли; я бы мог также выяснить предварительно в разговоре с В[ышнеградск]им в его подробностях вопрос о поездке по России, и все добытое от В[ышнеградск]ого изложить Государю, pour Sa gouverne[530]. Таким образом, ничего не предпринимая открытого, ничем не рискуя даже малейшим образом подводить или компрометировать Государя и устраняя неудобство от необходимости что бы то ни было предрешать, – получилась бы возможность для Государя приобрести Себе умного и нужного слугу en pleine connaissance de cause[531].
Счастлив был бы, если Государь дал бы мне доказательство Своего доверия и веры в мое честное слово относительно сохранения в тайне просимого поручения и удостоил бы меня Ему оказать эту посильную услугу. Во всяком случае, вреда я никакого не сделал бы.
Среда 12 ноября
Рассказывал сегодня Ив[ану] Ник[олаевичу] Дурново свою мысль о том, как, казалось мне, могла бы лучше уясниться для Государя личность Вышнеградского как кандидата на должность министра финансов. И[ван] Ник[олаевич] внимательно слушал и затем сказал мне вот что: «Я не совсем с вами согласен. Поездка Вышнегр[адского] теперь в звании частного исследователя по России имела бы неудобства, которые вряд ли перевесили бы выгоды. Он был бы в фальшивом положении. Как частный человек – он не мог бы ездить, ибо он слишком известен и притом член Госуд[арственного] совета; затем если бы начали считать его кандидатом на Министерство финансов, его поездка ставила бы в фальшивое положение министра финансов. На местах могли бы происходить такие сцены: или по знаку из Петербурга – его, Вышнеградского, стали бы обманывать, или, напротив, стали бы эксплуатировать его внимание в расчете на будущие блага. Сам он был бы затруднен в приемах узнавания; требовать сведения неловко, принимать жалобы неловко, и т. д.
Но, – говорит Дурново, – совсем было бы другое, если Государь призвал бы Вышнеградского и сказал ему: “Потрудитесь мне изложить письменно или словесно ваш взгляд на финансовое положение России”. И если бы это изложение удовлетворило Государя настолько, что он был бы назначен министром финансов, и тогда бы Государь ему сказал: теперь прежде всего поезжайте по России и приглядитесь и прислушайтесь к разным центрам экономической жизни, вот тогда бы это поручение Государя своему новому министру финансов имело бы страшно важное значение: 1) оно бы подняло престиж правительства невообразимо высоко, 2) оно бы из поездки Вышнеградского сделало бы событие в высшей степени полезное для финансового дела».
Сегодня уже узнаю невообразимое. Вчера у Кии Абазы уже было первое совещание, чтобы снова поднять сахарный вопрос и нормировку, но в другом только виде. Причина, почему они затеивают новый поход, заключается в нескольких словах, проскользнувших в мнении меньшинства, где сказано было, что все-таки что-нибудь для сахарозаводчиков надо сделать! Привязываясь к этим словам, хотят нормировку пустить в новой форме и под новым соусом.
Мне кажется, что если попытка эта будет, то, когда предположение внести в Комитет министров новую записку о сахаре представят Государю на благоусмотрение, ответ Его совсем готов: внести в совокупное рассмотрение всех других отраслей промышленности, имеющих нужду в каких-либо покровительственных мерах!
Это был бы чудный ответ!
Среда 19 ноября
Сегодня у меня было много гостей. Беседа была необыкновенно оживленная. Длилась она почти до двух часов, по болгарскому вопросу. Споров было по существу мало; в главном все мы сошлись. Главными ораторами были Т. И. Филиппов, Кутузов и я.
Т. И. и в этот раз прекрасно и убежденно говорил, когда коснулся основы вопроса, церковного разъединения. Картина, им вкратце представленная – поразительна. Мы слушали, притая дыхание. Когда возникла церковная распря между Болгариею и Греческою церковью – как мы отнеслись к вопросу? Как малодушный Пилат, мы умыли руки, оправдываясь тем, что это вопрос политический более, чем церковный! Мы закрыли глаза на историческую правду, а она, между тем, была поучительна и красноречива. Какая бы она не была, Греческая церковь, какие бы ее недостатки не были, однако она и только она в течение 4 веков сберегла православие в Болгарии и сберегла те духовные силы, которые эта самая Болгария признала в данную минуту нужным обратить против этой же Греческой церкви.
Мы остранились; и посмотрите, что вышло, и с какою поразительною ясностью Божий промысл действительно и нас наказал, и Болгарию, смешав в одно и церковный, и политический вопрос[532]. И надо изумляться, что так мало на это поразительное явление Божиего рока обращают внимание. Болгары хотят свое церковное управление, это было до войны. Патриарх Григорий XVI[533] им говорит: хорошо, вот карта, глядите: вся Болгария до Балкан пусть имеет свою Болгарскую иерархию, так как население там сплошное болгарское; за Балканами, где есть и болгары, и греки, церковное управление должно быть греческое. На это Болгария отвечает отказом и требует себе самостоятельность церковную по сю и по ту сторону Балкан. Мы молчим, и принцип революции, проводимый теми самыми Муткуровыми средством лжи и обмана – восторжествовал; независимость Болгарской церкви незаконная, узурпаторская осуществляется, благодаря, главным образом, роли равнодушного зрителя, сыгранной Россиею.
И что же совершается? Вопрос церковный немедленно переделывается в политический; Болгарская церковь теряет свою силу с рождения, а все живое преобразуется в политическую страсть, и начинается пропаганда политического освобождения. Все взоры устремляются на Россию. Россия, предавшая на произвол судьбы и революционного принципа вопрос о Церкви в Болгарии, призывается к политическому освобождению Болгарии. И тут какое поразительное явление Божьего Суда и Промысла. Совершается война 1876 года. Победоносное войско, освободившее Болгарию, подступает к стенам Царьграда. У ворот его Ангел Божий стоит с мечом и обращает православного победителя вспять, и смущенное и пристыженное русское войско отступает. Ангел как будто возвестил: Вы презрели церковь – Вы из политических соображений не помешали Болгарской революции самовольно отделиться от Матери-Церкви, так теперь пусть те же политические соображения перед Европою помешают вам достигнуть торжества Церкви; оставайтесь при одной политической свободе, купленной ценою крови ваших героев, но церковного и Божьего благословения на сие дело не будет, и отныне все, что будет предпринято, будет созидаться в разрушение, все будет сеяться в растление, и как Болгария пошла против своей матери Церкви греческой, берегшей ей свободу духа 4 века, и путем лжи и измены пошла, так теперь она тем же путем пойдет против вас, русских, давших ей свободу политическую.
И как страшно скоро эти мечтанные слова оправдываются.
Тут же у ворот Царьграда, в Сан-Стефано происходит совещание с турецкими делегатами об условиях мира[534]. И поразительное совпадение и повторение! Как в переговорах с патриархом Григорием XVI болгарские воротилы требовали признания Болгарской церкви, вплоть до Егейского моря, так на Сан-Стефанском совещании [Н. П.] Игнатьев потребовал политической автономии для Болгарии вплоть до Егейского моря. Дали ее… и затем Берлинский конгресс возвращает Болгарии все те пределы, которые 10 лет пред тем признал бесспорными для автокефальной церкви Константинопольский патриарх, до Балкан и не далее. Поразительное явление Божьего Промысла!
Затем начинается новая жизнь освобожденной Болгарии, и что же мы видим? Буквально и математически тождественное повторение относительно России всего того, что проделано было десять лет перед тем теми же болгарами относительно Греческой церкви: политика лжи и измены в малом и большом. Так же точно по воле Промысла ушла Болгария из-под власти и опеки России, как ушла ее церковь из-под опеки патриархата – и теперь без Церкви, без веры, без связей с Россиею – эта страна представляет небывалую еще в истории народов оргию разврата и растления в периоде своего младенчества.
– Что же теперь делать? – спросили все.
– Государь, господа, – ответил Филиппов, – сколько можно догадываться, и решать чутьем то, что не знаешь точно разумом, – благой путь избрал – dans le doute abstiens-toi[535]! Он не отнимает у болгарского народа – надежду заслужить Его благоволение, но Он порывает всякое общение с властителями этой страны, так как они еще нечестивее своего предместника князя Баттенбергского. Пока все так, нет почвы, на которой русский Царь мог бы, не роняя Свое достоинство, сходиться с болгарским народом даже отцом, не то что Государем.
– А дальше что?
– А дальше молиться о том, чтобы Бог не допустил Россию дойти до печали и позора изнимать меч за этот народ с кем бы то ни было, это раз, а второе, молиться о том, чтобы Государь ясно увидел и твердо уразумел, что иного пути, как посредством Церкви, нет для Того Царя русского, кто хочет явиться на Востоке быть преемником Константина Великого.
– То есть? Что же это значит?
– А значит то, что необходимо не с дипломатами говорить о Болгарии, а в Церкви беседовать о ней с ожиданием благодати Божия откровения, другими словами, нужен Вселенский Собор, по почину нашего Царя, который бы принялся за обсуждение всех не под силу человеку оставшихся нерешенными вопросов. Победоносцев скажет, может быть: не к чему, но Побед[оносцев] не совесть и не дух народа и его Церкви.
При этом один из гостей дал прекрасную мысль: созвать Собор в Севастополе, на русской Голгофе.
И в самом деле, каким светом озарилось бы царствование Государя, если Он решился бы на столь простую и нужную инициативу.
– А войны не дай Бог еще за Болгарию, – сказал Кутузов. – Войны ни с кем, – а жить в ожидании войны с Берлином… Вот где ключ к решению всех наших жгучих и томительных вопросов. Босфор, София, Дарданеллы, Вена, все не прежде будет достоянием нашей победы, пока мы не сразимся с Берлином. Берлин наша Ахиллесова пята, наше проклятие. Мы фанатично должны верить в спасительную необходимость войны с Пруссиею, мы должны разрушить этот дутый колосс, этот арсенал войны и раздоров… и только тогда, убив Дракона, мы можем будем вздохнуть. Без этого так или иначе, мы идем к верной гибели. А потому ни рубля, ни капли крови не будут пожертвованы нами на войну какую бы то ни было, до войны с Германиею… И чем раньше это будет, тем для нас будет лучше и выгоднее. Теперь мы имеем шансы, что малейшая неудача у пруссаков, и Германия начнет отделяться, и Австрия будет не прочь припомнить старые счеты с пруссаками победителями…
– Да, все это верно, совершенно верно, но вот беда, и серьезная беда; у нас, кажется, еще не начали делать магазинных ружей…[536] А надо, и скоро надо, ведь Вильгельм ежедневно может скончаться…
Четверг 27 ноября
Было у меня вчера вечером много гостей на моей среде. В числе гостей был маленький генерал [И. А.] Арапов, женатый на [А. П.] Ланской. Что значит – жить в деревне, подумали мы все, и сказали, когда он ушел… Сколько бы мог этот самый человек сказать самодовольного вздору, живи он в петербургской атмосфере, а теперь как ясно и дельно все, что он говорит.
Интересна была им рассказанная краткая история его отношений к коннозаводству. При [Н. П.] Игнатьеве, когда он был министр госуд[арственных] имуществ, он после представленного им на съезде экспертов по коннозаводству краткого исторического очерка этого дела в России и изложения мер, по его мнению нужных для развития дела, был назначен в члены Совета по коннозаводству, невзирая на полковничий чин. Затем, не участвовавши ни в одном заседании, он узнал в деревне, что Совет коннозав[одства] с переходом в ведение министра двора упраздняется, а через 4 дня он получает прелюбезное письмо от [И. И.] Воронцова[-Дашкова], в котором тот просит Арапова оставаться при коннозаводстве, с переименованьем из членов Совета старого учреждения в члены нового Совета, без жалованья. Он согласился с радостью, думая послужить делу, – и что же? По сегодняшнюю минуту ни разу он, Арапов, не был приглашен в Совет коннозаводства, и ни разу Совет не собирался. Печальное явление.
Невеселую и цифру привел Арапов из статистики казенных жеребцов в Европе. Оказывается, что во Франции казенных жеребцов втрое больше против России, в Австрии в 41/2 раза больше!
Интересные, хотя и печальные сведения цифровые рассказал Т. И. Филиппов про цифры расхода на церковно-приходские школы. К. П. Победоносцев возится и нянчится с ними, как с родным детищем, а между тем дело далеко не так идет вперед, как бы следовало, при несомненной готовности всех частей правительства помогать ему.
Когда еще Абаза был министром финансов, очень интересный был диалог по этому поводу между им и Победоносц[евым] в Комитете министров. Последний внес записку о доставлении ему на церк[овно-]приходские школы 170 тысяч рублей. На это ему Абаза сказал прекрасные слова.
– Конст[антин] Петр[ович], – сказал он, – не мало ли на такое дело? Если бы вы просили миллион 700 000, я бы счел себя обязанным эти деньги отпустить не рассуждая, если бы Вы потребовали 17 миллионов, я бы не мог их дать немедленно, но я счел бы себя обязанным немедленно приняться эти 17 миллионов вам отыскать, до того я считаю дело церк[овно]-прих[одских] школ важным.
Что же затем оказывается в заключение нескольких лет? В эти несколько лет Делянов нашел возможным по своей смете Мин[истерст]ва нар[одного] просвещ[ения] уделить около 60 тысяч, и сверх того Департ[амент] экономии утвердил в прошлом году расходов 120 тысяч из казны на церк[овно]-приходские школы. Оказывается в конце нынешнего года, что не только эти 120 тысяч не были израсходованы на церк[овно]-прих[одские] школы, но что не все 60 тысяч из уделенных мин[истр]ом нар[одного] просвещ[ения] были израсходованы. Вследствие этого Д[епартаме]нт экономии затруднился отпустить на будущий год 120 тыс. р. на церк[овно]-прих[одские] школы. Изумительное явление, это частое противоречие у К[онстантина] П[етровича] между словом и делом. Один член Д[епартаме]нта экономии говорит ему:
– Грешно вам К[онстантин] П[етрович], ей Богу, грешно, – указывая на эти неизрасходованные 120 тысяч.
– Что прикажете делать, – отвечает К[онстантин] П[етрович]. – Людей нет, что мне с деньгами делать.
– А это говорить еще грешнее, – отвечает ему собеседник, – ищите людей, они прийдут…
Характерно сопоставить этот эпизод с моею на днях беседою с К[онстантином] П[етровичем], когда я ему сказал, что его долг поддержать меня в предпринимаемом нами без корыстных расчетов полезном деле издания «Воскресенья», причем я умолял его отпускать 3000 р. на 1000 экз. для церк[овно]-прих[одских] школ.
– Куда, у нас гроша медного нет, – воскликнул он, поднимая руки к небу, – да и то сказать, надо посмотреть, какое издание еще будет, вот я все собираюсь издавать листок для народа, да что прикажете делать, людей нет, никого не найдешь.
– Что же, – вырвалось у меня с негодованием, – вы сомневаетесь, что мы нигилистическое издание будем пускать в народ… Нехорошо, К[онстантин] П[етрович], вы всегда так, всех осуждаете, все критикуете, это не так, то не хорошо, людей нет, а как начнут люди действовать, хотят полезное дело проводить, вы первый идете против них во имя сомнения и руки не протягиваете… А вот что у вас «Церковный вестник»[537] либерален, а вот что у вас в Москве издают духовные журналы либеральные[538], это небось вы допускаете.
– Ну, вы не отчаиваетесь, – поспешил меня успокоить К[онстантин] П[етрович], – если окажется, что ваш журнал хорош, можно будет кое-что для него сделать.
– А теперь нельзя, нельзя помочь началу дела, когда вы знаете, что оно трудно; когда дело окажется хорошим, Бог даст, после его начала, тогда оно само себя вывезет и выручит, и мне вашей помощи и не нужно будет. Ведь согласитесь, К[онстантин] П[етрович], что если бы все рассуждали как вы, тогда нельзя было бы начать дело. У нас всегда так, у благонамеренных. У врагов правительства всегда взаимная поддержка, чтобы начинать любое дело, а у нас мы всегда начинаем с того, что не поддерживаем того, кто начинает, и охотнее сочиним против него гадость или подозрение, чем протянем руку: «да как еще пойдет», «что еще будет», «как бы не украл, как бы не дал промах» и прочее, и прочее, вот с чего мы начинаем, когда кто-нибудь из наших приходит и говорит: «Ради общего дела, помогите мне встать на ноги…»
– Нет, – отвечают ему, – лучше упадите прежде и убейтесь, а потом посмотрим, нужно ли поднимать на ноги.
Пятница 28 ноября
Имел долгую беседу с Вышнеградским. Он рассказал мне следующее. Получает он от Бунге извещение, что по Высочайшему повелению назначен членом Финансового комитета. Поехал он к Бунге. Бунге был с ним сдержанно и холодно любезен. На вопрос: что в записке, представленной им Государю и отданной на обсуждение Финансового комитета, заключается, Бунге сухо ответил:
– Она будет напечатана и роздана членам комитета.
– А нельзя ли, по крайней мере узнать, имеется ли в виду покрыть дефицит займом, – спрашивает Вышнеградский.
– Нет.
– Может быть имеется в виду какая-нибудь операция с кредитными билетами?
– Нет!
– Ну так слава Богу, – сказал Вышнеградский, и они расстались.
Содержание записки Бунге так для него тайна доселе; но по городским слухам он узнал, что будто бы восполнить дефицит Бунге имеет в виду кассовыми остатками неиздержанных в разные годы сумм по сделанным займам, и этих остатков имеется кажется около 140 миллион[ов].
– А если это была бы правда, вы что, были бы за или против этого мнения?
– Безусловно против; я считал бы преступлением коснуться этих сумм, так как это единственный и последний ресурс у Государя на случай войны, для покрытия первых расходов.
– Насчет покрытия дефицита, – сказал Вышнеградский, – то мне кажется, что было бы и проще и рациональнее прибегать к таким мероприятиям, которые не имели бы характер случайных, ad hoc[539], чрезвычайных и поспешно принимаемых мер, а напротив составляли бы, так сказать, осуществление какой-нибудь обдуманной и определенной системы. Не одно мероприятие, а ряд мероприятий, как выводы из известных принципов, должен покрывать дефицит. Я, грешный человек, смотрю на дело так: устранять дефицит значит не столько ограничивать нужные расходы, сколько увеличивать доходы. А если вы меня спросите, какие новые источники дохода я имею в виду, я бы немедленно указал на казенную продажу вина, на табачную монополию и т. д. Для первой имелась бы более или менее подготовленная армия разных инспекций М[инистерст]ва финансов, а что касается второй, то прежде чем учредить казенную монополию, я бы сдал на 3 года, например, табачную монополию в частные руки, чтобы посмотреть и изучить механизм дела, и затем уже воспользовался бы им и людьми, чтобы ввести казенную монополию.
Затем мы говорили о том, о чем желающие Государю блага и облегчения ему трудностей мечтают, о случае его назначения во главу финансового управления.
На это мне Вышнеградский сказал со свойственною ему искренностью:
– Как подданный моего Государя, я одно скажу: прикажут, прийму, помолюсь Богу и приймусь за дело, и конец, хотя, как человек, должен сознаться, что я бы предпочел видеть всякого во главе финансов, кроме меня, потому что критиковать легче, чем делать самому. Затем боюсь и другого. Я слишком новый человек, как государственный человек, и слишком забросанный клеветою человек, чтобы не сомневаться в том: могу ли получить то, без чего немыслима деятельность министра финансов, а теперь в особенности, это доверие Государя. Мне все страшно, не подвожу ли я своею негосударственною фигурою и своим формуляром сплетен и гадостей, на меня взводимых, самого Государя.
– Мне кажется, – отвечал я Вышнеградскому, – что вы преувеличиваете ваши опасения. 1) Государя видимо вдохновляет в каждую минуту, когда Ему предстоит решение какого-нибудь вопроса, наитие правды и меткого взгляда на вопрос. 2) Сколько мне представляется, Государь избрал самый верный путь предусмотрительности и предосторожности, назначив вас членом Госуд[арственного] сов[ета] по Д[епартаме]нту экономии прежде всего, а затем членом Финансового комитета. Ясно, что, назначив вам такой подготовительный путь, Государь достигает трех целей единовременно: во-первых, доверие Свое к вам Он ставит в зависимость от результатов вашего труда и вашей деятельности на этом подготовительном пути; во-вторых – вам дается возможность постепенно знакомить себя с государственною сферою лиц и учреждений и, так сказать, усваивать себе этот мир, и в-третьих – в разных мирах и слоях государственных и общественных верхов до того приучаются к вашей личности, что могу вас уверить, что теперь в гостиных Петербурга о вашем назначении, о возможности вам получить ответственный пост говорят одни: за, другие против, с полным спокойствием, как о явлении нормальном, для иных отрадном, для других [без]отрадном.
Да теперь и не в толках и не в сплетнях против вас дело; дело в безусловной необходимости облегчить Государю трудную и безвыходную минуту нынешнего финансового положения в России. Опасения затруднить Государя такими соображениями, про которые вы говорите, раз как взводимое на вас – ложь, по-моему, совершенно исчезают при сравнении с опасением, что будет, и что может быть, если теперь, пока еще не поздно, не назначат человека, который может с Божиею помощью взяться за дело с надеждою с ним справиться и его поправить.
Говорил я также с В[ышнеградск]им о мысли, как было бы хорошо новому министру финансов начать свою деятельность с поездки по России. Мысль эту он назвал прекрасною, а дело такое святым.
Суббота 29 ноября
После разговоров то с одним, то с другим, проверенных в задушевной, как всегда, беседе с И. Н. Дурново, я пришел к уяснению себе некоторых мыслей, заслуживающих, по-моему, внимания.
Мысль такая просится под перо. Вопрос о новом министре финансов, если он заключается в предположении избрать такое лицо, как Вышнеградский, который представляет собою призвание гениальными способностями и сведениями поднять так сказать из пропасти, куда его свалили всякие нерусские финансовые опыты, махинище государственного хозяйства, поднять и пустить в ход, вопрос этот, говорю я, не исчерпывается, сколько мне кажется, одним Вышнеградским, то есть одним кандидатом на должность министра финансов, буде он Государем выберется. Все государственное хозяйство в данную минуту представляется мне в виде экипажа, везомого четверкою лошадей: в дышле министр финансов и государственный контролер, в пристяжке министр путей сообщений и председатель Департамента экономии[540]. Это связь органическая и неизбежная. Нельзя, например, исчислить, какими миллионами убытков, если не миллиардов, отозвалась на госуд[арственном] хозяйстве за эти 30 лет – отдельная от общей финансовой политики политика железнодорожная, столь часто шедшая в разрез с вопросом о необходимости делать сбережения и не бросаться на разные постройки жел[езных] дорог, без разбора, нужны ли или только составляют прихоть и роскошь. Вопросы о гарантии жел[езных] дорог, о тарифах, о каналах для торговых путей и т. д., – все это в теснейшей связи с ведением Министерства финансов. О контролере государств[енном] и говорить нечего; он почти для министра финансов – сиамский близнец. Затем председатель Департ[амента] госуд[арственной] экономии есть столь же органически связанный с министром финансов человек, сколько и политически. Он призван поддерживать политику, так сказать, министра финансов.
Вот почему, будь я на месте Государя, я бы придавал особую цену единомыслию и взаимодействию и солидарности этих четырех функций, то есть я бы при избрании нового министра финансов задал бы себе и ему вопрос: ожидается ли гармония между ним и тремя остальными сотоварищами. Например, Абаза, как все говорят, видимо утомлен, разочарован и апатичен, потом он не в духе той чисто русской программы, которую, основанную на твердом исповедывании Самодержавия, представляет собою Вышнеградский. Тогда, как говорит И. Н. Дурново, сам собою является вопрос: кто же будет на его месте. Положим – [Д. М.] Сольский, как человек осторожный и толковый. А на место Сольского, кто? Товарищ его [Т. И.] Филиппов или кто другой, и так далее.
Поэтому, думается мне, было бы весьма целесообразно и практически мудро, если бы при разговоре с Вышнеградским, если бы ему суждено было волею Государя заменить Бунге, Государь, наметив и избрав кандидатов на должности трех постов вышеназванных, предоставил свободу будущему министру финансов в Его присутствии высказаться за того или другого.
Но этого мало. Как бы ни был лучше новый министр финансов старого, как бы ни было единомыслие между четырьмя коллегами прочно, необходимо все-таки вооружаться недоверием к ним настолько, чтобы и их действия были, так сказать, проверяемы и освещаемы для Государева ока общею государственною практикою. И вот тут является польза и даже необходимость такого учреждения, как Финансовый комитет. Я бы повелел ему заседать 1 раз в неделю и этим придал бы ему живое значение.
Все это, спешу вписать во избежание недоразумений, мои мысли и И. Н. Дурново, но об них с Вышнеградским я не заикался.
Вторник 2 декабря
Сейчас вернулся от Вышнеградского и пишу под сильным впечатлением им рассказанных мне подробностей про вчерашнее заседание в Соединен[ном] прис[утствии] департамент[ов] Госуд[арственного] сов[ета] по вопросу о Взаимном позем[ельном] кредите.
– Нет, – начал Вышнеградский, когда мы остались вдвоем, – я горько ошибся, когда я говорил вам о возможности для Бунге оставаться во главе финансового управления под опекою или руководительством Финансового комитета! То, что вчера случилось в Госуд[арственном] совете, меня окончательно не только разочаровало и смутило, но ошеломило, и не меня одного, но нас всех, не исключая и самого Абазу. Я вынес, даю вам честное слово, глубоко безотрадное впечатление, и прямо говорю вам, я боюсь за судьбы нынешней минуты: или он с ума сходит, или он решился в грош не ставить ни нас, ни даже само дело, в том смысле, в каком мы все его понимаем, и в каком, по нашему твердому убеждению, понимать мы его должны. Вот что произошло. Как вы знаете, Бунге представил в Госуд[арственный] совет записку, очевидно, составленную [Е. Е.] Картавцевым, во исполнение будто бы Высочайшего повеления 1885 года об облегчении положения заемщиков Взаим[ного] позем[ельного] кредита при переходе в Дворянский банк. Я говорю: «будто бы», потому что, как вы вероятно тоже слышали, и как я сказал это самому Бунге, проект его не есть вовсе исполнение Государевой воли, а есть проект слияния Взаимн[ого] позем[ельного] кредита с Дворянским банком на таких условиях, вследствие которых положение заемщиков облегчается весьма мало, казне навязываются большие затраты, и Дворянский банк перестает быть Дворянским, а делается всесословным. Против этого проекта [В. М.] Маркус и я, мы составили замечания и нашли способ уладить дело на началах более выгодных для заемщиков и менее тягостных для казны. Против нашего мнения Бунге представил свои возражения, и должен сказать, такие замечания и такие рассуждения, что ей Богу, совестно было даже выслушивать их. Очевидно, они наскоро были написаны Картавцевым, и Бунге их подписал, не вдумавшись и не проверив неверные даже цифры. В субботу Абаза долго говорил с Бунге. Что они говорили, не знаю, но после Абаза подходит ко мне и говорит: не соглашусь ли я на следующее решение вопроса: министр финансов возьмет назад свое представление, а заемщикам Взаимного кредита, пока выработает М[инистерст]во финансов особый проект, сделать сбавку к январским платежам с 8 рублей на 7 рублей. Я говорю: «Согласен». Маркус тоже. Отлично. Собираемся мы вчера в заседание. Маркус излагает свои замечания; после него я говорю с час времени, и без хвастовства скажу, разобрав пункт за пунктом замечания м[инист]ра финансов, разбил каждое отдельно логикою цифр. Министр финансов видимо был смущен, а в ответ сказавши несколько общих фраз, прибавил, что относительно цифр он не возражает потому, что не имеет под руками свои цифры. Тогда Абаза делает то согласительное предложение, о котором он сообщил в субботу. Мы все готовимся его подписать, как вдруг Бунге нам объявляет следующее: «Я согласен взять свою записку назад, но с одним условием, чтобы сбавки рубля для январских платежей заемщиков Взаимн[ого] поз[емельного] кредита не было сделано, и они должны заплатить все 8 рублей».
Мы остолбенели. Абаза не верит ушам.
Затем он обращается к Бунге и, напомнив ему его субботние слова, говорит, что ведь то, что он требует, равносильно приговору к продаже за неплатежи до 2000 дворянских имений, так как заемщики не могут заплатить 8 рублей.
Вышнеградский напоминает Бунге, что главная их цель – облегчение положения и платежей заемщиков помещиков и что ввиду этой главной цели прежде всего следует сбавить платеж.
[Б. П.] Мансуров начинает говорить.
Бунге прерывает его и категорически заявляет: «Все это очень может быть, но я все-таки остаюсь при своем: я беру назад свой проект, но за то ни копейки сбавки платежей заемщикам».
Тогда Абаза предлагает вопрос: «Кто же за мнение министра финансов?»
Все молчат, а затем из всех выделяется Влад[имир] Дм[итриевич] Философов и объявляет, что он поддерживает мнение министра финансов.
Таким скандалом кончилось это дело. Разногласие сделано. Бледный и злой министр финансов ушел из заседания, и теперь этому вопросу шествовать предстоит в Общее собрание.
Вышнеградский прибавил, что только сегодня, почти не спав ночи от сильного волнения, он немного успокоился и пришел, в объяснение непостижимого поступка Бунге, к следующей догадке. Не выкинул ли он эту штуку потому, что весьма недавно по вопросу об обложении налогом железнодорожных акций даже тех дорог, которые по своим уставам от этого налога освобождены, он, министр финансов, точно так же был один с [Н. Н.] Селифонтовым против нас всех, и на частном совещании, после заявления [Д. М.] Сольского о том, что слух об отдельном мнении м[инист]ра финансов проник на биржу и роняет курс и кредит, и что в виду этого не следует ли им всем согласиться с мнением м[инист]ра финансов, чтобы не делать во вред кредиту разногласие, на что все, и Вышнеградский в том числе, и согласились; так не пришло ли в голову Бунге, ободрившись этим примером, такую же позицию принять и в этом вопросе, с мыслью вынудить всех согласиться с его мнением. Но и это объяснение весьма неутешительно, ибо в том вопросе была серьезная причина для членов Госуд[арственного] сов[ета] сдаваться, причина чисто патриотическая. А здесь, наоборот, все члены Соединен[ного] присутствия, кроме Философова, поставлены в необходимость сказать министру финансов, что в данном случае, упорствуя не сбавлять 1 рубля для платежей заемщиков на январь, он прямо идет против желания Государя и ставит себя в подчинение Картавцевой фантазии больше, чем воли Высшего правительства, вот что печально и непостижимо.
К этому эпизоду присоединяется еще свежий эпизод, доказывающий, как Бунге смеется над нуждами промышленности. Приехал сюда из Ельца очень умный помещик, [С. С.] Бехтеев. Он устраивает в Ельце на разумных основаниях первый опыт элеватора. Для этого ему нужно между прочим от м[инист]ра госуд[арственных] имуществ[541] получить чиновника для проверки и рассортировки качества зерна, поступающего в склады, и одного чиновника от министра финансов для контроля над количеством зерна, поступающего в склады и из складов. [М. Н.] Островский все обещал Бехтееву устроить так, как он этого просит. Бунге его принял и, засмеявшись ему в глаза, сказал, что он никакого чиновника ему не даст, а что прежде всего надо этим делом заняться, составить инструкции для такого чиновника, что для этого нужно месяцы, словом, затормозил все дело, и в Госуд[арственном] совете сам об этом говорил, смеясь и называя просьбу и проект Бехтеева нелепостью.
Вот что встречает за сочувствие и содействие всякий, кто решается начинать какое-либо разумное и практически полезное дело в интересах нашей бедной промышленности.
Воскресенье 7 декабря
В двух местах слышал сегодня, что будто Катков приехал сюда и в разговоре с разными лицами объявил, что не хочет печатать правительственного сообщения относительно Германии[542], и резко его порицает!
Если это правда – это возмутительно, и вот случай его стукнуть хорошенько, так, чтобы он вспомнил то, что по-видимому он совсем начинает забывать, что он не первый министр какого-то воздушного, им представляемого правительства, а прежде всего журналист, и наравне с другими обязан во всем повиноваться правительственным органам. Делянов, стоя на задних лапках пред ним, и [Е. М.] Феоктистов, стоя на коленях перед ним, больно его избаловали, и невзирая на весь свой ум и на всю мощь своего таланта, грустно сознаться, что Катков входит в незавидную роль зазнавшегося слуги у своего барина и забывается… Ему вскружили голову, его без меры возвеличили, и теперь он перестал понимать, что первая его обязанность помогать правительству единомыслием с ним открытым, хотя в тайне в том или другом случае он может быть с ним в известном вопросе несогласным.
Виделся сегодня с [П. А.] Грессером. Узнал от него подробности, как он справился с рабочим бунтом на фабрике. Тут поразительно интересная и назидательная сторона дела, доказывающая, как я прав, говоря и повторяя, что все, что исходит из нынешнего М[инистерст]ва финансов, пахнет революциею! Только что введен новый, сочиненный институт фабричных инспекторов[543], сочиненный М[инистерст]вом финансов. Податные инспектора, чтобы учить народ, что он может не платить, акцизные чиновники, чтобы душить водкозаводчиков, и фабричные инспектора, чтобы под фирмою правительства учить фабричные населения, как постепенно производить рабочие ассоциации и бунты и прививать к России рабочий вопрос, вот осуществившиеся М[инистерст]вом финансов комбинации. Случай бунта в Владим[ирской] губ. на Морозовской фабрике[544] доказал всю непригодность этой фабричной инспекции, а теперешний случай в Петербургском районе[545] доказал всю опасность этого учреждения фабричных инспекторов. Бунт начался при самых выгодных для бунтовщков и при самых невыгодных для правительства условиях: фабрика находилась в ведении петерб[ургского] губернатора[546]; а петерб[ургский] губернатор – это тряпка и больше ничего. Немедленно явились с одной стороны фабричные инспектора, а с другой господа прокурорского надзора, и проявились два характерные явления. Инспектор поспешил вывесить объявление, в котором объявляется, что рабочим возвышается на 5 коп. с куска плата, первый шаг к упрочению торжества революции. Рабочие как будто успокаиваются, а на другой день, чтобы бунту дать разжечься, инспектор вывешивает объявление, что вчерашняя уступка отменяется, а увеличение платы будет не 5, а 3 копейки, и затем пошел пожар. Такие действия инспекции под санкциею губернатора – это почти умысл производить революции, до того они нелепы и идиотичны. С другой стороны ведомство юстиции показало бестактность совершенно такую же, как проявляло оно прежде при [Д. Н.] Набокове. Не дождавшись исследования и разъяснения дела, Министерство юстиции как будто озабочено одним: опередить м[инист]ра внутренних дел[547] и подвести его, и спешит донести о событии Государю вместо того, чтобы прежде всего сообща действовать с М[инистерст]вом внутренних дел. Грешный человек, будь я на месте Государя, я бы сделал [Н. А.] Манасеину замечание и внушение не иначе доносить о событиях, как сообща с министром внутренних дел. Эта спешность и это стремление опередить м[инист]ра внутр[енних] дел и действовать отдельно от него не раз уже оказывались крайне вредными для интересов розыска и правительства и могут когда-нибудь оказать дурную услугу правительству; и я понимаю, что и [Д. А.] Толстой и Грессер очень недовольны и раздосадованы действиями юстиции.
Но, слава Богу, tout est bien qui finit bien[548], фабрики сдали Грессеру вокруг Петербурга[549], а насколько опасность была угрожающа, доказывает, что на другой день после бунта в Шлиссельбургском участке пристав Выборгской части донес о движении рабочих на фабриках у него, с целью подготовить забастовки, а пристав Нарвской части на другой день донес о сильном брожении между рабочими у него в участке.
Да, все это так, но этот случай, столь рельефно обнаруживающий всю несостоятельность и даже весь вред такого учреждения, как фабричные инспектора, сильнее и настоятельнее чем когда-либо указывает на безотлагательную необходимость не теряя ни минуты покончить с нынешним миром преданий и людей в Министерстве финансов. Просто страшно становится за каждый день. Мало того, на днях я виделся с пермским губернатором[550]; это неглупый и даже дельный человек. Он мне вот что сказал: «Министерство финансов действительно, как вы пишете, подпольно разрушает одною рукою то, что другою рукою хочет приводить в порядок Минист[ерст]во внутренних дел. Представьте, что я узнаю, что пока в М[инистерст]ве внутренних дел на всех парах готовится столь нужный проект усиления власти в губернии, и между прочим проект реформы в земских учреждениях с целью отнять у этого учреждения его право облагать население земскими сборами, Министерство финансов учредило у себя комиссию и разрабатывает вопрос о земских сборах, между прочим, совсем в другом духе и в ином смысле, чем министр внутренних дел, и как бы признавая за земством безобразное право облагать самовольно сборами население России».
Не менее интересно и печально то, что например в М[инистерст]ве финансов готовится так называемая паспортная реформа, то есть отмена паспортной системы. Мысль эта издавна бродит в наших чиновных сферах. Я ее слышал из уст [И. П.] Огрицки в 1862 году. Сопоставление двух отзывов об этом вопросе крайне интересно и назидательно.
Огрицко говорил: «Вернейшее средство покончить с Россиею самодержавною и монархическою это уничтожение паспортной системы; она главная сила у правительства и у полиции…»
Бисмарк сказал: «Если бы я мог восстановить паспортную систему в Германии, я бы победил и раздавил гидру революции окончательно. А Россия имеет паспортную систему, и хочет ее отменить, горе ей…»
Понедельник 8 декабря
Сегодня имел при случайном свидании с товарищ[ем] м[инист]ра финансов по одному частному делу один из тех разговоров, которые потревожат душу и помнятся до конца жизни. После разговора о деле [П. Н.] Николаев обратился ко мне с словами: ну что ж, можно вас поздравить, то, что вы так желали, совершается, Бунге допевает свою лебединую песнь.
– Дай Бог, – отвечаю я.
– Но знаете, вы слишком горячитесь и слишком пристрастно нападаете на все министерство. Во-первых, Бунге сам честнейший человек.
– Это бесспорно, если речь идет о честности в смысле денежном; но о другой честности, гражданской и государственной, вы позволите мне не быть вашего мнения.
– Отчего же, он чист и невинен, как дитя.
– Да, это принято говорить, чтобы его защищать; но я, признаюсь, этой детской чистоте не верю ни на йоту. И в самом деле, надо быть очень простодушным, чтобы представлять себе ребенком человека, который постоянно окружен людьми безусловно крайне либерального [на]правления, когда ему это говорят, пальцем не шевелит, чтобы кого бы то ни было удалить, людям другого направления не верит; это простодушие не детское, а притворное, не говоря уже о том, что он очень мстителен и злопамятен, а это с детским простодушием, согласитесь, не вяжется. А главное, я вам вот что скажу, и вы вероятно согласитесь со мною, что Бунге вовсе не человек нынешнего правительства, это книжный теоретик весьма либерального свойства, который понятия не имеет о практическом значении такого вопроса, как самодержавное настроение правительства, и который потому самому всегда будет, как был, в руках людей исключительно красного направления.
Что же касается чинов министерства, то я вовсе не говорю, что все министерство вредного направления, я говорю, что дух этого министерства такой, какой был при [И. П.] Огрицке.
– Нет, – прервал меня Николаев, – вот тут-то вы ошибаетесь… Дух этот есть, но не везде, далеко не везде.
– Однако, он есть, вы соглашаетесь.
– Я вам больше скажу, я вам вот что скажу: вы правы относительно Департамента окладн[ых] сборов [А. А.] Рихтера; это вредный и опасный человек. Это мой товарищ по школе, но я все-таки скажу, что он опасен, и я это Бунге не раз говорил. Затем не менее вреден и опасен [А. С.] Ермолов, о котором вы, кажется, ничего не говорите, с его Департаментом неокл[адных] сборов, и наконец очень вреден – [Е. Е.] Картавцев, вот эти 3 ведомства действительно таковы, как вы их описываете.
– И это мало? Да именно эти 3 ведомства самые страшные, потому что у них постоянно живая связь с Россиею и народом посредством податных инспекторов, акцизных чиновников и т.д…
– Да, правда. Но другие ведомства в М[инистерст]ве финансов безупречны…
– Да, за исключением Департамента мануфактур, где также много гнездится либеральной плесени…
Итак, вот чего я дождался: от самого Николаева узнал, что три департамента в М[инистерст]ве финансов не только вредны, но и опасны!
Вторник 9 декабря
Узнаю сегодня от ген. [Н. И.] Шебеки вещь, которая заслуживает серьезного внимания, и вероятие коего подтвердил И. Н. Дурново на основании всех прежних его отношений в М[инистерст]ве внутренних дел. Шебеке же это с отчаянием передавала мадам Грессер. Дело в том, что положение [П. А.] Грессера становится каждый день все невыносимее; или он заболеет, или он с ума сойдет, или он должен будет все бросить и уйти. Без того уже каждый день ему приходится жутко от возни с Думою, но теперь преследование его [П. В.] Оржевским доходит до невозможных и нестерпимых пределов. Только что он, Грессер, успел по поручению [Д. А.] Толстого хладнокровием и благоразумием затушить в начале рабочий бунт, как Оржевский вместо того, чтобы его благодарить, призывает его и делает ему выговор за то, что он осмелился превысить власть, и прибавляет, что его обязанность была ограничиться одним составлением протокола.
– А если бы пока я составлял бы протокол, все фабрики стали по примеру этих бунтовать.
– Это не ваше дело рассуждать; ваше дело было составлять протокол!
Но этого мало. На днях Грессер получает от Оржевского запрос: на каком основании он позволяет себе присутствовать во дворце на Высочайших завтраках после парадов?
Просто не верится!
Но и этого мало. Толстой боится Оржевского, и из страха его обошел представлением к награде Грессера в очередь!!!
Это возмутительно! О, думается мне, как бы прекрасно поступил Государь, если [бы] приказал от Себя к Новому году представить Грессера к награде за отличную службу, при мотивированном рескрипте.
Катков продолжает не печатать «Правит[ельственного] сообщения»[551]. Повторяю, это дело зазнавшегося счастливца. Ему следовало бы сделать строгое внушение! Так не служат правительству по убеждению: хочу – служу, не хочу, буду действовать по своему. Такое действие производит глубокое смущение!
Думаю, что Вас могут интересовать все толки и впечатления этой недели около главного вопроса: назначения В[ышнеградск]ого! Вы увидите, что не пожалели и клеветы…
Да благословит Бог для Вас наступающие праздники!
Смею напомнить Вам, что по обычаю прежних лет дерзаю ожидать на елку для бедных 100 детей 25 и 26 декабря 300 рублей, которые Вы присылали. Если можно, удостойте их вложить в конверт и прислать мне через А. С. В[асильковск]ого; потому сие прошу так сделать, что может быть к ним в конверт приложите несколько строк дорогих, очень дорогих от Вас.
Если можно, тогда удостойте сказать, что Вы изволите думать на счет моей просьбы о «Воскресенье». Скажу о ней вот что. Если цифра 1000 экз. велика, то хотя один экземпляр прикажите, умоляю, присылать для Себя; это будет благословение и талисман для дела. А сумму 1000 экз. я примерно назвал потому, что [И. Г.] Харитоненко подписался на 500 экз., и мне представлялось очень естественно, что Ваша цифра должна быть единственная, над всеми! Или изволите увидеть прежде самый журнал, какой он будет?
Затем умоляю, про[ч]тите два слова о «Миллионе»[553]. Торжество аристократического принципа в пьесе навлекло на меня и шиканий и брани в газетах без конца. Пьесу назвали и бездарною, и скучною, тогда как она, по мнению судей беспристрастных, и интересна, и шаг вперед по сравнению с первою. Теперь я ее очень сократил и из 5 актов сделал 4. Но [М. Г.] Савина малодушно испугалась газет и, несмотря на то, что все 4 представления дали полный сбор, – отказалась от роли своей и сделала большую гадость[554].
Теперь умоляю[555] Вас, поддержите меня и накажите сделавших гадость. Если возможно, скажите мне в просимых строках, могли ли бы Вы 1, 2 или 3 января в один из этих вечеров приехать на «Миллион»? Если да, то ничего не говоря про Ваш ответ, я бы просил Дирекцию назначить «Миллион» в репертуар на этот день. Что Вы не поскучаете – ручаюсь, но зато Вы покажете сочувствие принципу, торжеству которого я посвятил 3 акт… Вы устыдите малодушных! Умоляю слезно, не откажите мне!
Да хранит Вас Бог, да благословляет и вдохновляет Вас…
Ваш верный слуга К. В. М.Понедельник 15 дек[абря]
Начну с ничтожного, потому что это ничтожное имеет характерное значение. «Новое время», этот орган общественного мнения à la minute[556], разом повернуло фронт, и как ни в чем не бывало после 3 лет остаиванья Бунге и его финансовой политики, после ряда ругательств, изрыганных на Вышнеградского, теперь ругает финансовую систему Бунге и сообщает известие о том, что ходят слухи о назначении Вышнеградского на высокий самостоятельный пост![557] Таков свет, и таковы люди.
Но любопытно знать, почему так жарко отстаивало «Новое время» финансовую политику Бунге? Ларчик просто открывался: как это ни цинично, но это правда. Статьи финансовые за Бунге пишет и писал в «Новом времени» [К. А.] Скальковский; а этот Скальковский, не скрывая даже, говорил, что ему нужен Бунге потому де, что он обещал ему место директора Д[епартамен]та мануфактур и внутр[енней] торговли. Теперь слухи приписывают Бунге падение, теперь он не нужен, так давай его ругать.
Затем в pendant[558] к этому интересны добытые мною разными подходами и окольными путями мнения государственных сфер о Вышнеградском. Здесь обнаружился, без всякого с его стороны усилия, блестящий поворот в его пользу, который следует самым решительным образом приписать его такту, его скромности и главным образом проявлению впервые замечательно ясного ума и трудолюбия совсем необыкновенного. В особенности интересны впечатления первого заседания Финансового комитета. Впечатления общие особенно выразил за всех [С. А.] Грейг.
– Я ожидал, – говорил он, – услыхать умного человека, но я никогда не ожидал приветствовать в Вышнеградском такого полного государственного человека по соединению знания предмета с ясностью усвоения и изложения и по ширине этих ясных взглядов. Это человек, на которого может опираться государство и в трудные минуты.
В этих словах нет ни аффектации, ни экзажерации[559]. Абаза, со своей стороны, встал в позу высокого покровителя и благожелателя Вышнеградского и осыпает его ласками благоволенья без конца.
Но тут я счел нужным предостеречь Вышнеградского, который совершенно невольно, вследствие своей скромности и как новый в среде государственной человек, очень легко может поддаться обольщениям, от действительно неотразимых и опасных чар Абазы. Это Мачтену(?)[560] в полном смысле слова, и теперь у него одна по-видимому цель: обольстить Вышнеградского.
У Абазы расчет ясен и понятен: обольстить Вышнеградского человеку как он, с большим умом, с этим блеском его ума, с его остроумием и с его личными прелестями – возможно именно потому, что Вышнеградский сам умен, а с другой стороны, не освоился еще с тем миром, где Абаза свой и первый человек. Раз он обольстит Вышнеградского и тот получит назначение или влияние на финансовую политику, у Абазы является сильный повод желать оставаться председателем Департ[амента] экономии, где он очевидно может непосредственно влиять на Вышнеградского.
Но вот что тревожно, это слух, пущенный по городу о желании Бунге быть на месте Абазы. Этого, скажу перед совестью, не дай Бог в интересах Государя и государства. Бунге совсем не индифферентный элемент в области финансовой; он ученый либерал, а ученые либералы у нас это те люди, про которых никогда нельзя сказать: где кончается либерал и где начинается враг Самодержавного русского правительства. Бунге, кроме того, это человек весь пропитавшийся и пропекшийся в самой тлетворной атмосфере демократов и врагов Самодержавия; завтра, будь он во главе Департамента госуд[арственной] экономии, кончено; этим департаментом завладеют те самые Огрицки, которые теперь завладели М[инистерст]вом финансов. И если Вышнеградский будет назначен и их выживет из Минист[ерст]ва финансов, то несомненно они все перейдут в Департамент экономии Госуд[арственного] совета или явно или тайно, и все меры Вышнеградского будут встречать в Деп[артамен]те экономии у Бунге противодействие.
Это было бы бедствие! И из двух – никакого не может быть сомнения в случае выбора – Абаза [в] сто миллионов раз был бы желательнее, ибо он представляет собою среду западно-либеральную с консервативным оттенком, он парламентарист консервативной партии, а Бунге представляет собою среду людей прямо враждебных русскому нынешнему правительству.
Засим сам собой напрашивается вопрос – кого желать на место Абазы? Я останавливаюсь на мысли, о которой говорил мимоходом и вскользь в моем прошлом Дневнике.
Перерыв. Вбегает ко мне гр. Кутузов с встревоженным лицом.
– Слышали? – говорит.
– Что? – вырвалось у меня с испугом.
– Бунге остается; сегодня [Г. М.] Раевский объявил это в Министерстве финансов громогласно.
– От кого вы слышали?
– От двух чиновников Министерства финансов, неужто это возможно.
– Я ничего не слышал положительного об его уходе и ничего не слышал о том, что он остается, а слухам не верю ни за, ни против, дождусь событий.
– Сегодня я и другой ужасный слух слышал, что будто [Д. А.] Толстой уходит, и на его место [Н. А.] Манасеин.
– Ну уж это, мне кажется, басня из басен; судя по тому, что его не утверждают министром, надо думать, что в нем еще не уверены, и не без оснований не уверены, – и вдруг его станут назначать на пост, по своему значению высший в государстве, и во главе министерства, где он первой буквы азбуки не знает.
– Это, впрочем, клубный слух, за что купил, за то продаю.
Продолжаю после ухода Кутузова.
Мне казалось бы, что действительно вопрос о назначении министра финансов столько же важен в настоящую минуту, сколько важен вопрос о том, чтобы при назначении его была полная гармония между некоторыми ведомствами не только в убеждениях, но даже в оттенках убеждений. Это условие чуть ни не важнее всего остального. Это не coup de main[561] – и не coup de tête[562], назначение нового министра финансов в настоящую минуту, если оно должно состояться, это будет важным государственным событием, означающим новую финансовую эру в государственной жизни России. Но затем, чтобы эта новая эра могла привести к практическим результатам, необходимо, чтобы все финансовые функции действовали единомышленно в финансовом смысле и в политическом, то есть чтобы все финансовые коллеги нового министра финансов были глубоко и твердо преданы Самодержавию и в то же время были одного финансового образа мыслей. Без этого ничего не выйдет ни цельного, ни производительного. [Д. М.] Сольский, например, человек способный, но не теоретик, как Бунге, и не имеет за своею спиною ни демократов, ни социалистов; с другой стороны, Сольский не так умен, как Абаза, и опять-таки не имеет, как Абаза, никаких личных отношений ни к той или другой политической партии, ни к той или другой области экономической жизни. Все это вместе дает ему в случае вопроса: кому быть в тон в случае назначения Вышнегр[адского] министром финансов сему последнему председателем Департамента экономии – предпочтение перед называемым толками Бунге или перед нынешним Абазою.
Затем, допустив, что Сольский будет на месте Абазы, следует призадуматься над преемником Сольского по Контролю. Толки называют кандидатами: [А. А.] Половцева, [М. Н.] Островского снова, и [Т. И.] Филиппова. Про первое можно только одно сказать, cela n’aurait pas été sérieux[563], ибо Половцев прежде всего понятия не имеет о работе, а во-вторых понятия не имеет о Контроле. Что же касается Филиппова, но здесь многое за него сказывается само собою: во-первых, он в Контроле служит уже 23 года; во-вторых, весь личный состав Контроля, который замечательно хорош и чуть ли не лучший из всех ведомств в России по благонадежности, весь прошел и проходит через Филиппова; в-третьих, все проекты контрольных реформ ежегодно откладываются в подготовлении, потому что перемены контролеров тому причиною; назначаются все лица, не знающие дел, которые начинают учиться на должности и не имеют ни времени, ни возможности приниматься за осуществление реформ; тогда как Филиппов, если бы он был назначен, как сам участвовавший в составлении проектов реформы и знающий наизусть текущую часть, мог бы и править ею, и вести реформу. Затем мало есть между государственными людьми людей, как Филиппов, в том отношении, что он с блестящими способностями соединяет глубочайшую преданность идее Самодержавия, точно так же так редкость он в том отношении, что стоит за свои правительственные убеждения с храбростью и неустрашимостью неимоверными. И Вел. Кн. Мих[аил] Никол[аевич] имел случай жаловаться на Филиппова за его смелую стойкость, и К. П. Победон[осцев] не выносит Филиппова за ту резкую правду, которую он ему в глаза говорит по вопросам церковным. В этой области церковных вопросов у Филиппова есть свои увлечения и свои страсти, это правда; но в области госуд[арственного] контроля и как государственный муж Совета он не многих имеет себе равных, и жаль было бы, пока этот человек еще в силе своих больших способностей, не привлечь его ближе к госуд[арственному] управлению.
Затем, что касается Министерства путей сообщений, то, увы, вряд ли может подлежать сомнению, что и тут чувствуется с каждым годом сильнее необходимость иметь во главе этого сложного на вид, но весьма простого на деле управления, человека с энергиею и свежими самостоятельными способностями. Нельзя в сущности и в подробностях определить, где грань, отделяющая минист[ра] путей сообщений от М[инистерст]ва финансов; это в деталях и в сущности переплетенное одними и теми же нервами и узлами ведомство, и если Бунге со своею уступчивостью и робостью перед своими Картавцевыми и Рихтерами довел М[инистерст]во финансов до застоя внутри и до банкрота и дефицита извне, то, к сожалению, значительную долю в этом финансовом расстройстве участия принял на себя К. Н. Посьет со своим неуменьем видеть обман и эксплуатацию чужих и частных интересов во всех решительно вопросах, с железн[ыми] дорогами связанных. Вот почему мне кажется, что в интересах государства и Государя было бы пытаться, если выбор Вышнеградского решен, от него узнать: есть ли лицо, способное вести в одну ноту М[инистерст]во путей сообщений. Cela n’engage à rien[564], но с тем вместе жаль было бы не воспользоваться громадным опытом в железнодор[ожном] деле Вышнеградского, чтобы узнать, нет ли в самом деле между людьми честными и знающими дело жел[езных] дорог выдающаяся и светлая способностями личность?
Вторник 16 декабря
Слухи на счет барометрических изменений погоды относительно Бунге и В[ышнеградск]ого начинают выясняться.
Вчера в Общ[ем] собр[ании] Госуд[арственного] совета [Н. П.] Игнатьев подходит к Бунге.
– Вы так выглядите весело, что можно подумать, Н[иколай] Х[ристианович], – говорит Игнатьев, – что вы уходите.
– Нет, не ухожу, – отвечает Бунге.
В это же заседание И. Н. Д[урно]во подходит к Бунге.
– Что же, Н[иколай] Х[ристианович], вы уходите? – спрашивает его Д[урно]во.
– А что? Разве по моему лицу это видно?
– Нет, напротив.
– Нет, я не ухожу, – отвечает Бунге.
В М[инистерст]ве же финансов все чиновники приободрились, говоря: Бунге остается… Но что же случилось?
– А вот что, – рассказывает мне [Д. И.] Воейков, – говорят, что Государь приостановил свое решение насчет Бунге и В[ышнеградск]ого, потому что ему донесли, что В[ышнеградски]й во время представления своего мнения в Д[епартамен]те экономии по Взаимн[ому] позем[ельному] кредиту[565] против Бунге, играл на бирже и наживал деньги.
De mieux en mieux…[566] Я признаюсь, не верю, чтобы такой вздор смели доводить до Г[осуда]ря, но однако раз этот слух пущен, он страшно характеристичен… Клевета слишком глупа, чтобы быть мерзостью, но однако интересна ее связь с правдою. Бунге чуть не поссорился с Вышн[еградск]им в Деп[артамен]те экономии из-за того, что последний, возражая на его, Бунге, записку о Взаимн[ом] позем[ельном] кред[ите], сказал между прочим, что ему, В[ышнеградско]му, известно, что на бирже уже началась игра, спекулирующая на проекте М[инистерст]ва финансов о гарантии всем бумагам Взаимного позем[ельного] кред[ита], и что он, Вышн[неградск]ий, потому против проекта Бунге, что опасается, чтобы этот проект не дал пищи биржевой спекуляции. Бунге обиделся, и затем В[ышнеградск]ий извинялся перед Бунге. Вот очевидно источник, из которого вышла эта курьезная гадость в виде слуха и сплетни-клеветы, пущенных против В[ышнеградск]ого. Кто-нибудь извратил факт, и пошла писать.
Во всяком случае, работа подземная против В[ышнеградск]ого идет, это несомненно. Дурново спрашивал у Дм[итрия] А[ндрееви]ча Толстого, слышал ли он что-нибудь обо всех этих слухах. Он ответил, что ему кажется факт ухода Бунге и назначения В[ышнеградск]ого несомненным, но Государь ему об этом не говорил ни слова.
Итак, кругом темнота и неизвестность. Но вот что скверно. Виделся с графинею [М. Э.] Клейнмихель, и она мне рассказала следующий маленький диалог с [Г.] Швейницем по поводу начавшегося между ними разговора о войне.
– Est-il possible, – сказала графиня Кл[ейнмихель] Швейницу еще нынешним поздним летом, – que Votre Empereur se décide à la fin de sa longue vie de terminer son règne par une guerre avec la Russie et brise toutes les traditions du passé, tous les liens de famille[567].
– Hélas, – ответил ей Швейниц, – il y a trois mois que notre pauvre Empereur y est résigné[568]!
Это очень характерные слова!
Среда 17 декабря
Обедал сегодня у И. Н. Дурново avec le couple Pobiedonostzeff[569]. После обеда мы остались в кабинете втроем, хозяин, Победон[осцев] и я. Дурново обратился к П[обедоносце]ву со словами:
– А вы, К[онстантин] П[етрович], вы ничего не слыхали про то, что Бунге остается?
– Нет, и признаться, если бы даже слышал, не верил бы в этот слух, потому что думаю, что вряд ли есть этому слуху основание. Все дело в том, когда он уйдет; со дня на день вряд ли уход м[инист]ра финансов возможен.
– А о том, что будто назначение Вышнеградского заторможено, не слыхали?
– И того не слышал! Назначение Вышнеградского! Это я вам скажу тоже мудреная вещь и опасная, по-моему.
– Отчего? – спросил И[ван] Н[иколаевич].
– Как отчего? Помилуйте, ведь как не говори, а Вышн[еградский] прошел через медные трубы, ну значит на нем остались следы этого прохождения, волею неволею этот человек должен был возиться с разными темными личностями!
– Ну, а кого бы вы выбрали? – спросил его И[ван] Н[иколаевич].
– Кого? Не знаю! Где тут выбрать!
Я не вытерпел, грешный человек.
– Так что же, – говорю я, – тем лучше, что В[ышнеградск]ий прошел через медные трубы. Он будет знать, кого остерегаться и кого во что ценить. Удивительная вещь, право, минута для Государя настала критическая и безвыходная: не сегодня, так завтра война с Европою и с Германиею будет неизбежна, Россия стала, ни денег, ни жизни, ни доверия к финансов[ому] управлению; курс падает, дефицит растет, банкрот неминуем; в эту минуту является человек гениального финансового ума, он может поправить дело и спасти Государя от страшного безвыходного положения, и что же? Сейчас же являются пуристы и говорят: помилуйте, он через медные трубы прошел, опасно. Ну тогда дайте, назовите Государю другого Вышнеградского по гению, но с душою ангела, – нет такого, никого нет, отвечают пуристы. Так значит пусть гибнет Россия, но В[ышнеградск]ого не назначайте. Опасность, какая опасность? Где опасность? А что же, Бога ради, страшнее как опасность? Безвыходное положение Государя – или опасность, что Вышнеградский – я допускаю самое худшее – впустит в управление какого-нибудь гешефтмахера. Ведь вспомните, во что обошлась России знаменитая честность Бунге: банкрот, а с другой стороны переполнение России врагами и изменниками правительства! Что в сравнении с ними тот или другой гешефтмахер, которого случайно впустит Вышнеградский в финансовое управление? Да я и это отрицаю, К[онстантин] П[етрович]. Я повторяю сто раз, Вышнегр[адский] слишком умен, слишком самолюбив, чтобы отнестись равнодушно к вопросу: кого выбирать и как сделать, чтобы отстранить малейший повод к тому, чтобы враги его могли найти против него в будущей деятельности оружие против него, ссылаясь на прошедшее!
К[онстантин] П[етрович] ничего не ответил определенного, но когда он ушел, и мы остались вдвоем, И[ван] Н[иколаевич] и я, мы сказали вместе: если правда, что назначение В[ышнеградск]ого заторможено, то вот чье влияние могло подействовать. Его [Н. П.] С[мирно]в ему кажется надежнее В[ышнеградск]ого.
Поразительное и грустное явление!
П[обедоносцев] находит опасным назначение В[ышнеградск]ого под предлогом, что его прошедшее – медные трубы, а у него же в Синоде за всякое отступление от закона дерут по таксе немилосердно, и он ничего этого не подозревает…
– Люди – люди, – заключил со вздохом И[ван] Н[иколаевич], – ничего не поделаешь.
Воскресенье 21 декабря
Нынешний день был для меня поистинно Воскресеньем, поистинно преддверием большого праздника. В первом часу зашел ко мне [Т. И.] Филиппов со следующими словами: «Пришел поделиться радостною новостью». Сердце у меня забилось.
– Вышнеградский был вчера потребован к Государю, и Государь предложил ему взять на себя финансовое дело!
Я глубоко задушевно перекрестился три раза и поблагодарил всеми фибрами души Бога за это известие. Мне почуялось в эту минуту, что я отождествляюсь с личностью моего возлюбленного Государя и чувствую, как бремя, тяжелое бремя, облегчается и дает Ему легче дышать!
Конец сомнениям, конец смущению одних и интригам других. Затем я спросил Филиппова, не слыхать ли что-нибудь про то, кто будет председателем Департ[амен]та экономии.
– Ничего не известно, – был ответ Филиппова.
На этом кончились разговоры наши с Филипповым; и мне и ему надо было ехать. Я весь горел душою от этого известия, и главное впечатление было желание молиться Богу.
Молиться о том, да благословит Бог дальнейшие стремления и мысли Государя к возвращению России утраченного благосостояния и порядка. Да укрепится этот выбор полнотою доверия, и да будет дано Царю радоваться об этом доверии и видеть благие плоды его! Да будет утешен, облегчен и укреплен Государь в своем бремяношении!
Обращаясь затем к личностям и частностям, более чем когда-либо желал бы, чтобы Бунге совсем вышел из области финансовой, ибо нельзя предвидеть и предугадать, как много эта в сущности честная и скромная личность по своим связям и симпатиям может еще наделать вреда России, если в другой должности ему придется иметь влияние на финансовую политику России: все злые гении перейдут за ним в его окружение, и новый министр финансов может с первых же шагов оказаться запутанным в сети и парализованным.
Увы, это не фантазия, это несокрушимее всякого убеждения предчувствие.
31 декабря 1886
Кончается год! Дозвольте побеседовать с Вами наедине с любовью и верою и простотою! С чего, как не с молитвы: да продолжает Бог Вас благословлять столь видимо для верующих в Него и для любящих Вас, начну я мою беседу. Да сохранит и укрепит в Вас веру в Его благословение. С этою верою и с этим благословением Вы непобедимы для врагов внешних и для обставляющих Вас со всех сторон препятствий и затруднений извнутри. Извне, что желать, – мира или войны? С полнотою искренности думаю про себя, что не желаю нынешнего мира, ибо он стоит нам дороже всякой войны, и, не дерзая желать войны, желаю, чтобы следуя своему роковому пути, Германия приведена была нам объявить войну в той же обстановке дерзости и самоуверенности, в которой Франция объявила войну Германии в 1870 году, позволивши себе дерзкий вызов и вынудивши Германию на войну; чтобы Германия вынудила нас на войну с нею, вот мое искреннее и сильнейшее желание на будущий год! Тогда, побежденные или победители, мы выиграем громадную победу, мы порвем, и даст Бог, навсегда, все проклятые путы, полвека связывающие нас с Германиею в политическом и в особенности в экономическом отношении, и вернем России ее Русскую политику. До этого, увы, мир как теперь, будет стоить дороже войны, и неудобства фальшивого положения будут повторяться часто. Мы создали Германию и поплатились за эту осуществленную мечту дорого, слишком дорого: не говоря о том, что мы заплатили за нее Парижским трактатом 1856 года, цена нами созданной Германии это Берлинский трактат, это разорение России, ее позор, ее застой и уныние, и наконец – 1 марта![570] Германия, нами созданная, это многоглавая гидра, сосущая нашу кровь и подтачивающая наши основы, это проклятие России. Но наше призвание теперь мудро и терпеливо выносить ее до минуты, пока она сама на нас накинется. Видимо, исторический рок ведет ее по этому пути, и как бы несомненна ни была выгода для Германии нам не объявлять войны, она к этому идет, и помогать ей к этому идти мне кажется делом мудрой политики для нас.
Внутри чего желать? Разумеется, прежде всего подъема духа, промышленности, торговли и власти. Пока этот подъем духа не может совершиться посредством войны с Германиею, ему надо совершиться посредством всего, что может поднять и пробудить нашу экономическую жизнь. Не следует скрывать от себя, последние фазисы нашей европейской политики в связи с экономическим застоем получили в Москве неблагоприятное для Вашей популярности толкование: чего-либо умного в этих московских толкованиях не найдешь, но надо считаться с этим фактом и ведать, что большая масса полуобразованного московского купечества придирается к экономическому застою, чтобы осуждать нашу европейскую политику терпения и миролюбия и желать войны для пробуждения торговых дел. Вот почему мудро было бы устранять причины и поводы к этому ропоту в Москве, предпринимая политику усиленного пробуждения нашей экономической жизни. Назначение Вышнегр[адского] является первым к тому шагом, но не следует всего или даже многого ждать от одного. Я с убеждением безусловно твердым смею думать, что без живого лица в нашем мире путей сообщений, экономическая и финансовая область не могут пройти через полное возрождение. Нельзя приблизительно расчислить, во что обходится России нынешнее положение железнодорожного дела; один произвол в установлении тарифов на жел[езных] дорогах приносит России в год до 200, 300 миллионов убытку. Но вот беда: ни на кого не указывает молва, как на хорошего преемника [К. Н.] Посьету; вот почему смел бы думать, что при случае узнать от Вышнеградского: кто способные и честные путейцы, при его богатой опытом практике в железнодорожном деле – могло бы иметь свою практическую пользу. Но затем остается еще – усиление власти, без которого опять-таки немыслимо пробуждение экономической жизни в полных размерах. Тут одно надо желать: побудить графа [Д. А.] Толстого поскорее внести свой проект в Госуд[арственный] совет. Но затем надо иметь в виду, что все зависит не от хода этого проекта в государствен[ных] учреждениях, а главное от применения его к делу. Здесь надо предвидеть, что слабость и упадок энергии в гр. Толстом многое попортят и многому помешают. Вероятно, явится потребность в энергичном проводителе реформы. Где его взять? Перебирая и разбирая воспоминания истекающего года, останавливаюсь на одной беседе, которую я имел с [П. А.] Грессером, по поводу непростительной слабости графа Толстого относительно [П. В.] Оржевского. В этой беседе на мой вопрос: «А кого бы Вы назначили на место гр. Толстого?», я запомнил имя, которое он мне назвал как мысль, по-моему, серьезную. Он назвал мне князя [А. К.] Имеретинского. И действительно, этим именем при внимательном обсуждении вопроса пренебрегать не следовало бы тогда, когда явится вопрос о том: кому быть преемником гр. Толстого. Имеретинский имеет перед другими несомненные преимущества; а именно, он человек вне всяких партий и тенденций; затем он замечательно умный и дельный человек; в третьих, это русский человек, в четвертых, это энергичный человек, и, в пятых, это военный человек. Не надо делать себе иллюзий: Толстой распустил Министерство внут[ренних] дел до последней степени. После него прийдется все подбирать, все подкреплять, и вот тут первым условием является необходимость военного, настоящего военного энергичного человека. О, если бы Вы знали, как эта потребность в настоящее время насущна и так сказать съедает и томит бедную Россию.
Затем что сказать о старом годе? Не то ли, что он дал доказательства в руки тем, которые сомневаются в строгом консерватизме [Н. А.] Манасеина? Говорят: да, он далеко не консерватор, и вероятно в деле обсуждения проекта Толстого явится настолько тормозом, насколько это будет возможно sans briser les vitres[571], но с целью испортить дело. Вот почему думается мне, что для блага дела было бы полезно, если [бы] он свыше получил совет не делать препятствий проекту. Манасеин настолько умен, что не захочет идти против внушения свыше.
Засим кончаю. Простите за отнятое у Вас, Государь, время. Пишу с безыскусственностью сердечною, и если в этом моя вина, то в этом же мое оправдание! Во всяком случае прикрывать фразами и риторикою свои мысли не умею; глупо – так глупо, дельно так дельно, но никогда ни фальши, ни неправды не будет.
Да благословит же Бог Ваш год, Всемилостивейший Государь, в делах Ваших, в мыслях Ваших и в всех дорогих, которых Вы любите!
Год кончается, прошли праздники, но все смущение не слегло с души. Так бы хотелось иметь словечко от Вас ласковое и доброе, как луч для нового года… И потому дерзаю умолять Вас, если есть секунда свободная, подарите мне мысль, в виде двух, трех словечек.
Самому же мне позвольте сказать: с новым годом, Государь, и коленопреклоненно молиться со всеми за Вас!
31 дек[абря]
1887
Четверг 1 января
Давно не запомню такого оживленного любопытством буквально всех к номеру «Правительственного вестника» первого января, как сегодня. На площади перед редакциею «Правит[ельственного] в[естника]» у Чернышева моста стояла громадная толпа, а на Невском двое моих приятелей заплатили за № газеты ni plus, ni moins[572] как 50 копеек, вместо 6.
В гостиных только и толк, что про назначение Вышнеградского. Замечательно, что сегодня к этому факту относятся несравненно спокойнее и даже если не симпатичнее, то доверчивее! Совершившийся факт и в этом случае взял свое. А когда я вспомнил, что несколько месяцев назад, тот самый гр. Дм[итрий] Андр[еевич] Толстой, который при имени Вышнеградского, в первый раз произнесенного, сказал, что я потому его назвал, что он мне заплатил большой куш акциями какой-нибудь железной дороги, – теперь говорит: «Что же, давай Бог, Вышнеградский бесспорно замечательно умен», – то надо сознаться, что мудро поступил Государь, дав умам несколько месяцев на успокоение и на подготовление к такому назначению.
Но зато тот же граф Толстой и все остальные gros bonnets[573] ужасно смутились назначением Бунге председателем Комитета министров. Тут для них вопрос самолюбия, очень простодушно выраженный тем же графом Толстым: «Помилуйте, я должен надеть мундир, ленту, и ехать представляться к Бунге!» Дальше этих личных ощущений укола самолюбию не идет смущение господ gros bonnets, по поводу назначения Бунге. [А. А.] Абаза сострил по этому поводу сегодня, сказав: «Сбывается евангельское слово: последние из нас будут первыми»[574].
Я, грешный, вместе с многими не придаю этому факту иного практического значения, как отрадного, так как с назначением в председ[атели] Комитета министров – устраняется раз навсегда вопрос о возможности для Бунге быть председателем Департ[амента] экономии, где не он опять-таки, а его злые духи могли бы много сделать вреда.
Все обратили внимание на несвойственную Бунге бесцеремонность и недостаток государственного такта, проявившиеся в его Всеподдан[нейшей] записке по поводу росписи[575], где он вперед подвергает осуждению и критике те мероприятия финансовые, которые стоустная молва приписывает Вышнеградскому как проекты. Прекрасное на всех впечатление произвело назначение двух новых членов Государственного совета, [О. Б.] Рихтера и [П. Н.] Николаева. Последний вне себя от счастья! Это достойный человек. Как он сам говорит, он ждал с назначением нового министра финансов для себя – почти нищеты при самых тяжелых семейных обстоятельствах. Отрадно глядеть на его сияющее лицо. Глубоко симпатическое впечатление в всех сферах произвел сегодня слух, что в товарищи к себе Вышнеградский желал бы иметь [Ф. Г.] Тернера. Это прекрасная личность!
Вообще, я видел сегодня людей несравненно более довольных, чем недовольных, что редко бывает!
Сам же лично для себя под 1 январем записываю грустное впечатление! Прошел день, и желанного и просимого слова привета по случаю Нового года от Того, Кем живу, – не получил. Мне казалось, что счастье, столь много значащее для меня – для Него так немного стоит!
Суббота 3 января
Слышу много гостиных толков про Каткова и его пребывание в Петербурге, столь продолжительное и мотивированное какими-то политическими причинами[576]. В толках этих слышится одно верное суждение; по-моему, ему основательно ставят в вину его неуменье быть скромным и осмотрительным в разговорах своих об отношениях к Главе политики. То от него узнают, что он домогается личного свидания, чтобы повлиять на политику, то узнают, что он подал такую-то меморию с критическим взглядом на нынешнюю политику русского кабинета, то узнают от него, что он резко и негодуя отзывается о том или другом. La discretion, словом, n’est pas son fort[577], и вследствие этого, разумеется, гуляют толки, которые, перелетая в Москву, уже получают феноменальные и колоссально фантастические виды и размеры.
Чем больше живешь, тем поразительнее убеждаешься, что за громадная вещь – такт, и как редко самый большой ум соединяется с достаточным количеством такта. И ведь вот что грустно: с годами ум развивается, а частенько такту не только не пребывает, но убывает. Так именно с Катковым. Его клевреты Георгиевские, Любимовы и все Министерство народ[ного] просвещения вскружили ему голову, и теперь при проявлениях большого ума он все больше поражает своею бестактностью.
Слышу тоже много толков по поводу блестящей речи князя Бисмарка[578]. Надо сознаться, что речь его так же блестяща, как положение его затруднительно. Большинство в оппозиции парламента против усиления военных приготовлений. Факт в высшей степени важный и многознаменательный. Интерес сводится к вопросу: кто это парламентское большинство, на которое так неожиданно наткнулся Бисмарк в герм[анском] парламенте, враги ли правительства, с которыми как с случайными противниками, можно не считаться, демократы, социалисты и т. под., или враги серьезные? Судя по всему, что читаешь, оппозиция эта не случайность и не шуточное явление. Она мне напомнила очень умные предсказания, несколько лет назад у меня же сказанные стариком галичанином [А.] Добрянским. Говоря о Бисмарке и о Германии, как его создании, он высказался так: «О, последнее слово объединения Германии еще впереди; и мне кажется, что оно чем дальше, тем будет сомнительнее. У Бисмарка и его идеи главный враг – не анархисты, да и не французы, а Австрия как империя Габсбургов, как католическая часть Германии и как центр, к которому всегда будет тяготеть вся южная Германия, что бы Бисмарк ни делал. Верьте мне, что скрытая ненависть Габсбургов к Гогенцоллернам, сливаясь с папизмом, всегда будет сильнее идеального объединения Германии с точки зрения Бисмарка, и всегда будет мешать в том или другом виде объединению Германии. Война может временно давать вспыхивать национальному чувству всех германцев, но сколько бы лет не длилась политика мирного объединения Германии князя Бисмарка, она всегда будет встречать непреодолимые препятствия в Габсбургах, в папизме и в южно-германских политических традициях».
Слова эти тогда, я помню, всех нас поразили своею меткостью и оригинальностью. С тех пор прошло много лет, и невольно глядя на эту картину вдруг выросшей громадной оппозиции в германском парламенте, и в такую еще минуту, когда Франция не на шутку является угрозою Германии, – невольно припоминаешь слова старика Добрянского и с вероятием останавливаешься на догадке, что это большинство голосов, нанесшее князю Бисмарку поражение в самом чувствительном для гогенцоллернского германца вопросе, – есть ни что иное, как протест южной Германии против северной и роковой признак несостоятельности мечты князя Бисмарка когда-либо увидеть Германию объединенною в единое тело и един дух…
Едино тело – да; но един дух, видно, никогда!
4 января. Воскресенье
Виделся утром с одним уездным предводителем дворянства Казанской губ., а вечером с Победоносцевым! Первый очень характерно мне очертил, до какой опасности может дойти беспорядок в провинции, когда нет разумной правящей силы в губернии; второй говорил мне о последнем совещании у гр. [Д. А.] Толстого по вопросу о провинциальной реформе. На этом совещании у Толстого, как передавал мне К[онстантин] П[етрович], была речь об усилении губернаторской власти, по поводу которой Победон[осцев] не без основания заметил или, вернее, воскликнул, ибо К[онстантин] П[етрович] все восклицает: «Да что усиление власти, граф, вы бы посмотрели, какие у вас в иных губерниях губернаторы, страшно подумать…» Толстой на это ответил: «Неоткуда взять!» Тут очевидно кроется большое недоразумение. Беда вся в том, что людей не ищут, а когда подвертываются кандидаты на должность, тогда в М[инистерст]ве внутренних дел начинают действовать разные директоры д[епартамент]ов, с одной стороны, и по-Грибоедовски, разные тетушки и кумушки с другой, и выбирается назло из кандидатов не тот, у кого больше ума и такта, а тот, у которого больше протекционных записок и тетушек и бабушек. Но вот с чем я не согласен во мнении с К[онстантином] П[етрович]ем. По-моему, как бы губернаторы иные не были unter allen kritik[579], лучше губернатор неспособный с властью, чем губернатор без власти, по той простой причине, что неспособный губернатор с властью сейчас же может обнаружить свою неспособность или свой злой умысл, ибо он ответствен, раз у него есть власть. А нет у него власти, он может век оставаться необнаруженным в своей неспособности или негодности, а к концу года умный губернаторский отчет может написать любой правитель канцелярии.
Но возвращаюсь к своему предводителю. Он мне вот что рассказал: приезжает к нему в имение казенный землемер для окончательной проверки крестьянского с помещичьим землевладения на основании уставных грамот 1861 года. 25 лет крестьяне и он, помещик, живут в мире и дружбе. Этот землемер начинает проверку границ и обнаруживает, что у помещика будто не додано крестьянам 20 десятин земли. Помещик протестует и говорит, что это неправда. Землемер говорит: «Неправда» в свою очередь и бесцеремонно объявляет крестьянам, что, мол, у вас, ребята, помещик стибрил 20 десятин земли. Крестьяне же являются к помещику и еще более бесцеремонно объявляют ему, что они намерены у него взять 20 десятин земли под его парком и огородами, а если он не захочет им дать этой земли, а даст похуже, то они с него потребуют 3000 рублей отступных, а не то иск начнут. Помещик-предводитель сумел крестьян успокоить и уговорить, но затем, поехавши к губернатору[580] в Казань, он узнает от него, что такое распоряжение об окончательной проверке поземельных отношений крестьян к помещикам – принимается губернским правлением повсеместно в губернии. Страшно себе представить, что из этого может выйти. Ведь любому крестьянскому обществу может прийти в голову сочинить, что столько-то земли у него недостает, любому землемеру может прийти фантазия (или по подкупу крестьян) доказывать, что, после 25 лет спокойного владения, помещик не додал крестьянам 1000 десятин… И тогда что же? Тогда начинается иск в окружном суде, и крестьяне обращаются в беспокойных и угрожающих соседей из мирных, как они прежде были, а помещик должен разоряться на ведение процесса, и если он дело выиграет, крестьяне могут тянуть дело до Сената и сделаться врагами помещика, а если помещик пропустит какой-нибудь судебный формальный срок, он теряет оспариваемую у него землю, и затем крестьяне, увидя, как легко достается незаконно требуемая от помещика земля, могут через год требовать еще земли. И так до бесконечности, так что в 2, 3 года Россия может превратиться в гусландию[581].
Как же горю помочь?
Очень просто: вот тут-то и сказывается необходимость усиления губернаторской власти. Губернатору должно быть предоставлено по всем земельным вопросам под собственною ответственностью производить негласные дознания, и если предмет иска по совладению с крестьянами неправилен, то собственною властью прекращать начало такого несправедливого дела.
6 января. Вторник
Есть нечто на Руси в виде бесспорной истины, сознаваемой народом, это сознание нужды розог; а между тем против этой нужды ратуют решительно все, не только либералы, но и консерваторы, вроде гр. [Д. А.] Толстого, [М. Н.] Островского и Кии. Куда не пойдешь, везде в народе один вопль: секите и секите, а в ответ на это все имущие власть в России говорят: все, кроме розог. И в результате этого противоречия – страшная распущенность, разрушение авторитета отца в семье, пьянство, преступления и так далее… Я видел двух губернаторов практических: это [А. А.] Татищев пензенский и [А. К.] Анастасьев черниговский. Оба как будто сговорившись говорят одно и то же: ничего народ не боится, кроме розог. Где секут, там есть порядок, там пьянства гораздо меньше, там сын отца боится, там больше благосостояния; где не секут, там может весь народ повально спиться, растлиться, разориться.
Граф [А. А. Голенищев-]Кутузов, вернувшись на днях из деревни Тверской губ., говорил мне на эту же тему, и очень остроумно прибавил, что это одна из колоссальнейших нелепостей, перенесенных к нам с Запада, это предубеждение против розог. На Западе в телесном наказании народ видит только позор; с тюремным заключением, наоборот, у него не соединяется представление как о позоре. У нас в России, наоборот: у нас искусственно и насильственно прививают народу позорящее представление о розгах; у нас народ вовсе не считает бесчестием – телесное наказание: он считает это устрашающею, нужною и действительною воспитательною мерою; зато тюремное заключение он считает позором. Но к сожалению у нас действуют до сих пор в духе этого западного либерализма и продолжая избегать телесного наказания из мысли: qu’en dira l’Europe[582], администраторы и сановники помогают быстрому упадку нравственного быта в России. Чем кончится этот повсеместный упадок нравственности и боязни власти в народе – трудно предугадать, но вспомните, что мы горе готовим себе немаленькое, если решимся продолжать бояться вводить телесное наказание. Для этого не нужно издавать нового закона о розгах: Боже упаси, зачем; а нужно губернатору во что бы то ни стало дать власть телесного наказания во всех случаях, когда он признает сие нужным, или предоставить это крестьянским старшинам и исправнику, по уполномочию губернатора… Но главное теперь без сомнения дать понять всем губернаторам, что к телесному наказанию следует прибегать всякий раз, когда есть беспорядки или бесчинства в селении коллективные, и что власть сечь передана быть может от губернатора, под его ответственность старшинам и исправникам.
7 января. Среда
Сегодняшняя моя среда была довольно оживлена. Говорили о многом.
Опять заговорили о губернаторах. [А. А. Голенищев-]Кутузов, вернувшись из деревни из Тверской губ., с ужасом продолжает спрашивать: когда же наконец граф [Д. А.] Толстой сжалится над Тверскою губерниею и признает, что час пришел просить об увольнении почтенного и доброго, но страшно вредного губернатора [А. Н.] Сомова. Невообразимо, до чего доходит распущенность тверских элементов беспорядка благодаря Сомову и его системе laissez faire, laissez passer[583]! Лагерь Бакунина и Кии Новоторжского и Весьегонского уездов[584] окончательно взял верх над всею губерниею и творит все, что ему угодно. Это все сводится, разумеется, к анархизму и демократизации губернии, ведомым последовательно и ловко. Последнее земское собрание в декабре, как подтвердил мне Иванов, председатель Варш[авского] окружного суда, гласный Тверской губ., было полным торжеством партии анархистов. Они предложили между прочим и провели большинством голосов ассигновку 50 тысяч рублей на устройство статистической части в губернии, и не стесняясь тут же в залах Собрания говорили, что у них готов целый полк проповедников в народе здравых идей, курсисток и выгнанных учеников разных заведений, которые под прикрытием звания статистических исследователей будут гулять по губернии и проповедовать народу «свет разума».
Но этого мало. Гг. Бакунины пустили в ход новую попытку пропагандирования своих идей: устройство народных библиотек по уездам, с тем, чтобы составление таких библиотек было возложено на земство! Когда об этих подвигах консерваторы говорят Сомову, ожидая от него какое-нибудь негодование, он улыбается кротко и добродушно, приговаривая: «Пускай себе беснуются, перебесятся!» Но весь вопрос в том: когда перебесятся. Ведь в Тверской губернии, например, полиция уездная уже в нескольких уездах не смеет ездить по селам иначе, как ночью. Днем, как въезжает становой в село, Весьегонского, например, уезда, его закидывают грязью осенью, снежками зимою, и ужасными ругательствами летом. Ведь в Тверской губ. 2 года назад толпа крестьян бросилась на вице-губернатора[585] его бить, и он спасся только тем, что удрал пешком и тайком переодетый. Во всяком случае, Тверская губерния требует настоятельно энергичного и дельного губернатора. Еще 2 года назад жандармский штаб-офицер в Твери мне говорил, что Тверская губерния в ее нынешнем положении между прочим тем вредна и очень опасна, что многие уже развращенные Бакуниными молодцы ведут очень деятельно пропаганду по Московской губ., по соседству, а это не шутка.
Невольно мне представляется странность Толстого относительно той или другой личности. Например, по-моему, идеальным назначением в Тверь было бы вице-губернатора Екатериносл[авской] губ. полк[овника В. П.] Рокассовского; он энергичен, ловок, деятелен, весьма неглуп и предан идее Самодержавия, как культу. Как заговоришь о Рокассов[ском], Толстой на дыбы: ни за что, он слишком молод, он то, он се; если он хочет губернаторское место, пускай просится в такую губернию, где генерал-губернатор есть… А между тем вот 3 года, как тот же Рокассовский управляет Екатеринославскою губерниею как губернатор, так как последний[586] всегда или болен или в отпуску, и большинство людей в губернии безусловно одобряет Рокассовского. Его ненавидят только мошенники вроде знаменитого ростовского [А. М.] Байкова или анархисты и социалисты… Невольно спрашиваешь себя: почему человек, который отлично справляется с своим делом 3 года, как управляющий губерниею, не может быть признан годным быть настоящим губернатором. А в Твери ему быть было бы тем паче хорошо, что близко от Петербурга, всегда он был бы под самым строгим контролем, если бы захотел горячиться и выходить из себя.
Есть еще весьма годный человек для губернаторского места; это генерал [И. А.] Арапов, пензенский крупный помещик, который состоит в коннозаводстве, ничего не делает, а между тем имеет именно практический ум.
Четверг 8 января
Мне не везет. Вчера вечером давали «Миллион», и узнаю, что на нем были Государь и Императрица. Никто между тем не дал мне о том знать из театра, когда это было бы так естественно и так близко! Слышал, что Государь сказал [И. А.] Всеволожскому, что пьеса не так вовсе дурна, как ему говорили, и факт, что Он остался до конца, доказал, что Их Величества не очень скучали. Спасибо Государю за то, что Он поехал на пьесу, невзирая на то, что по-видимому слышал о ней резкие дурные отзывы, и не поверил им! Вот образчик того, как беспристрастно ко мне относятся. По словам [А. А. Голенищева-]Кутузова, «Миллион» – при своих недостатках, все-таки в смысле художественном – лучшая пьеса за нынешний сезон. Cela n’est pas beaucoup dire[587], но все же это литературное произведение, а между тем все газеты убедили общественное мнение в том, что это даже не пьеса, а черт знает что такое, и не нашли в ней ничего, кроме бездарности и скуки[588].
Но вот в воскресенье 4 января выходит первый № «Воскресенья». Казалось бы выход нового, первого в своем роде народного издания заслуживал бы хоть слова отзыва. Издание старательное, интересное, дешевое; ясно для всякого, что оно добросовестно выполнено! И что же? Хоть бы звук отзыва в смысле ободрения или одобрения. Да не только в газетах, но ниоткуда. Ругать невозможно при всем желании, не за что, ну так ни звука, ни полуслова, молчок! Тяжело жить при таких условиях. Еще в воскресенье послал первый № Государю в двух видах[589] – и, грешный человек, ждал словечка приветствия и поощрения. Но нет! И тут ошибся!
Слышал от Сабурова И. А. довольно интересную легенду про назначение Вышнеградского, в народном стиле. Решил де Государь, что ему надоели его финансисты, и он поручил своим приближенным царедворцам отыскать умного человека.
– Есть, Государь, ответили ему придворные, один очень умный человек, да только говорят про него, что и себя он не забывал, и в медные трубы лазил, а умный преумный!
– Мне умного человека нужно, сказал царь, зовите мне его.
Явился Вышнеградский на зов Царя и позван был на беседу с Царем за ужином. Ужинали вдвоем, Царь беседовал и расспрашивал умного человека и нашел, что он действительно умный. Тогда Царь ему сказал: «Теперь ступай, а там немного погодя я опять за тобою пошлю побеседовать…» И отпустил его. Только что ушел Вышнеградский, прибегают царедворцы.
– Царь Государь, у нас несчастие.
– Что случилось?
– Ложку серебряную украли.
– Кто?
– Да вот за ужином, сейчас, схватились, нет одной ложки.
– Кто же взял ее?
– Да некому было ее взять, окромя Твоего гостя, что ужинал с Тобою.
Царь велел вернуть гостя. Вернули.
– Ты ложку украл? – спрашивает Царь.
– Я, Государь, ложку не украл, а взял; а взял я ее для того, чтобы тебе показать, что люди лгут и обманывают. Они говорят, что я серебряную ложку украл; а я взял эту ложку нарочно, чтобы доказать тебе, что она не серебряная, а фальшивого серебра.
Царь поразился этим действиям и назначил его заведовать финансами.
Легенда не лишенная оригинальности.
Воскресенье 11 января
Вчера вечером выпустил второй № «Воскресенья». Сегодня вечером получил на своем письме несколько ответных строк от Государя по поводу «Воскресенья». Из них я не мог усмотреть, увы, одобряет ли Государь первые выпуски; ответ на этот вопрос Им отложен до будущего! Дай мне Бог этого одобрения заслужить. Виделся сегодня с иркутским [А. П.] Игнатьевым, от которого узнал много любопытного касательно Сибири. Самое характерное, что он мне рассказывал, это покорение нынешней Сибири местными капиталистами и тузами, до такой степени, что он, Игнатьев, например, убежден, что они никогда не допустят устройства железной дороги по той простой причине, что упрощение путей сообщений с Сибирью должно привлечь в нее и свежих людей, и массу капиталов для разработки несметных богатств Сибири, и, следовательно, положить конец их царению и всеобщей системе эксплуатации Сибири хищническим хозяйством и кулаками. Эти кулаки – все умнейшие люди. У них все в руках, и нет денег, которые они бы не пожалели дать в петербургских канцеляриях, чтобы тормозить всякий проект железной дороги в Сибирь! О богатстве в Сибири, например, можно судить по тому, что в Якутской области серебро не разрабатывается за недостатком и дороговизною рук; а серебра много. Железо, медь, драгоценные камни лежат как руды, мертвыми. Засновали немцы, засновали американцы по Сибири, в надежде добыть ту или другую концессию.
Игнатьев в восхищении от внимания, коим он удостоен был от Государя. «Но, – говорит он, – трудно себе представить, в каком контрасте стоят к Нему и ко всему живому в России канцелярские сферы петербургских учреждений.
– Я до сих пор думал, – сказал Игнатьев, – что эти рассказы о всемогущем значении столоначальников – это мифы и легенды; но теперь я убедился лично, что в этих рассказах нет даже ничего преувеличенного. Я лично должен был и продолжаю до сих пор ездить по разным канцеляриям и учреждениям, кланяться не директорам и не начальникам, а именно столоначальникам. От них, только от них все зависит в судьбе движущихся дел.
– А пока до министра доберешься, – сказал Игнатьев, – сто раз умереть успеешь».
И вправду так; я сегодня узнаю от [В. К.] Плеве, что [Д. А.] Толстой с Рождества еще не назначал ни одного приемного часа, а между тем теперь, после земских декабрьских сессий самое горячее и нужное для свиданий с министром внутр[енних] дел разных провинциальных людей – время!
По этому поводу характерен очень эпизод под боком у Петербурга в Череповецком уезде. Еще в прошлом году губернатор[590] всеподданнейше доносил, что Череповецкий уезд находится в полном разгаре безначалия и анархии. Государь обратил на это внимание. Его замечания слушались в Комитете министров. Нарядили после долгих сборов комиссию из членов М[инистерст]ва внутр[енних] дел, юстиции и народного просвещения. Поехала туда комиссия и вернулась через две недели. С чем? А с такими словами: туда не комиссию надо посылать, а войска и грозного диктатора; мы чуть живы остались; там буквально никто никакой власти, никакого закона не признает!
Ну а дальше что?
Пока ничего! Толстой боится по-видимому решительных и энергичных мер.
Сегодня в «Новостях» тревожная и воинственная телеграмма: Король Саксонский готовит свою походную кухню![591]
Понедельник 12 января
Не раз дерзал я говорить вопреки всем, и во всяком случае, вопреки многим, что совершенно напрасно наши консерваторы боятся смело, твердо и решительно действовать там, где всякая полумера не имеет практической силы, так как только смелый и твердый образ действий правительства может влиять на умы и даже заставлять их думать иначе.
Наоборот полумера, даже когда она консервативного свойства, не только не имеет практического результата, но напротив, она еще более путает умы и дает смутное ощущение всякому, что правительство чего-то боится и что оно сознает само себя слабым. Отсюда это общее ощущение застоя и недомоганья. Отсюда смелость вредных и злоумышленных людей. Вот уже сколько лет, как вся Россия, поголовно разоренная и [1 слово нрзб.] земством, об одном молит: избавить ее от ига земства, которое хуже татарского. А между тем, хотя [Д. А.] Толстой и вносит в Государственный совет свой Пазухинский проект провинциальной реформы, но я не уверен, что в самую последнюю минуту боя он устоит против тех, которых начнут пугать общественным мнением, опасениями возбудить неудовольствие против правительства и т. д. Ведь вот – церковно-приходские школы начали заводить с тем, чтобы между прочим они заменили дурацкие земские школы; а между тем ни Минист[ерст]во народного просвещения, ни М[инистерст]во внутренних дел пальцем не двигают, чтобы уничтожить до основания эти дурацкие земские школы. Почему? Боятся какого-то либерального общественного мнения. Женские курсы, надеюсь, что они достаточно доказали свой громадный вред и свою полную несостоятельность. Я один осмелился против них выступить. И что же? М[инистерст]во нар[одного] просвещ[ения] сейчас же прибегло к полумере. Оно не решило их закрыть, нет; оно закрыло прием в первый курс; а пока принялось обсуждать, как реформировать высшие курсы[592]. И что же? Теперь один из чиновников Мин[истерст]ва нар[одного] просвещ[ения], некто Смирнов, очень глупый, вдруг получает поручение от Делянова исследовать Высшие курсы, исследовывает их и затем торжественно заявляет, что ничего лучше этих Высших женских курсов и придумать нельзя. И вот того и гляди, что Высшие женские курсы, после полумеры, опять заживут.
В вопросе городского самоуправления совершенно то же. Опыт 20 лет в ста лицах доказал, что самоуправление в городе немыслимо, особливо в Петербурге, что это нелепость и может быть опасно, так как всегда дает возможность горсти негодяев вести Думу в оппозицию к всяким начинаниям градоначальника! И вот было бы так просто взять и городское управление в столицах подчинить градоначальнику, или как председателю Думы, или как начальнику города. Ничуть не бывало. Мин[истерст]во внутр[енних] дел боится пикнуть об этом, боится произвести революцию. И кто же выигрывает от этого? Никто! Кто проигрывает? Разумеется, правительственные интересы. И [П. А.] Грессер между [П. В.] Оржевским с одной стороны и между Думою с другой находится в тисках и половину не может того, что хочет, а если нужно что проводить, ему приходится прибегать к Высочайшей воле, что всегда невыгодно для престижа Верховной власти, ибо вовлекает Ее в арену будничных вопросов партий, интриг и страстей, вследствие чего Грессер избегает прибегать к этому способу борьбы с самоуправлением. А министр внутр[енних] дел не решается прямо и смело поднять вопрос о нелепости городского самоуправления в столице. В судебном мире то же самое. Вся Россия горьким 20-летним опытом дознала, что суд присяжных это безобразие и мерзость, что гласность суда есть яд, что несменяемость судей есть абсурд – и т. д. А между тем какое отсутствие смелости в деле переделки судебных уставов, какая будто бы премудрая осторожность, а на самом деле какой страх сделать твердо и просто то, что нужно для исполнения желания всей России и для укрепления Самодержавия в глазах судебного ведомства. И идут ощупью, и приймут полумеры. А суды все тем временем продолжают свои вакханалии.
Характерны на днях сказанные нелепости в Киевском окружном суде председателем его Богдановым по поводу дела 7 грабителей мошенников. Это бравада и перчатка, брошенные в лицо всему русскому народу. А сменят ли такого негодяя? Его и сменить надо и формулировать: увольняется за нелепые речи! Вот что говорил этот умный председатель суда[593]:
Грустны результаты уголовного правосудия, когда судьи относятся к делу формально, не вникая в душу человека, обвиняемого в преступлении. Легко в таком случае заклеймить названием преступника человека невинного, скажу больше, – великого. Поясню мою мысль историческим примером, всем вам хорошо известным. Следует ли признать виновным человека, с обдуманным намерением заведшего в непроходимые болота людей, обратившихся к нему за помощью – с просьбой указать дорогу, и этим способом лишившего их жизни? Если рассмотреть дело формально, если остановиться только на суждении о том, сделал ли он то, что ему приписывается, если отнять у вас, гг. присяжные заседатели, право проникнуть в душу человека, преданного вашему суду, если заставить вас отвечать не на вопрос «виновен ли», а на вопрос: «совершил ли подсудимый то деяние, запрещенное законом, которое ему приписывается», то вам пришлось бы признать виновным этого человека – а между тем этого человека чтит вся Россия. Его имя с благоговением произносит всякий русский: зовут его Иван Сусанин и он своим поступком спас жизнь Русского Царя.
Затем вот как этот Демосфен российской Фемиды характеризует суд по совести и суд присяжных в Самодержавном русском царстве:
Вы сознаете присутствие великой и таинственной силы, которая поможет вам исполнить вверенное вам дело и пренебречь всеми толками и нападками людей, недовольных судом присяжных. Эта сила, гг. присяжные заседатели – закон, воля нашего Царя. Он хочет, чтобы вы судили и чтобы ваши решения принимались как истина, и никто в суде, после произнесения вами вашего приговора – ни прокурор, ни защита, ни подсудимый, не должны на основании закона высказывать против него не только хулы, но даже сомнения в его справедливости.
[Начало 1887[594] ]
Всемилостивейший Государь!
Письмо это в одно и то же время и крик наболевшей и истомившейся души, и результат долгого мышления, озаренного светлою исходною мыслию. Смею просить прочесть оное со вниманием, а буде оного удостоите сие письмо, почти уверен в сочувствии, тем более, что оно есть в то же время итог так сказать молитв последних двух недель.
Да, увы, есть с чего истомиться. Вот шестой год, как я в душе своей ношу веру как камень несокрушимую, как солнце светлую и горячую, веру в правоту Вашего пути и в правду Ваших мыслей; вера эта растет, а между тем ее участь – бессилие и почти безмолвие посреди моря сомнения одних, равнодушия других и злобы третьих.
Душа болит от этого бессилия, но дух не падает и не слабеет, ибо во всем, что вне этого петербургского сановно-интеллигентного мира, ежедневно я нахожу несомненные доказательства того, что я прав в своей вере и что путь Ваш есть тот, которого желает и благословляет всякая честная душа в России.
В этом безвыходное положение: здесь душа болит и томится от бессилия дать вере своей голос и найти в толпе равнодушных отзывчивость этой вере; там, в России, чувствуешь полное объединение своей веры с верою других; там нет равнодушия, ибо есть надежда и желания. Здесь ничего не желают, кроме нового, как повода к толкам; там желают старого – порядка; здесь новое интересует на минуту, и конечная цель минутных похотей к новому в умах – все та же дурацкая конституция; там – конечная цель желаний – успокоиться под сенью прочного порядка вещей и почувствовать вместе с упроченною властью возврат к действительной народной жизни.
Примеров этого разногласия много. Беру первый попадающий под руки. Вся Россия буквально из конца в конец стонет и плачет над безобразным порядком вещей, силою инерции и бездушного теоретизма установившимся в мире Министерства народного просвещения. Безобразие это слишком ясно, чтобы можно было им не поражаться. Университеты стали от переполнения и от физической невозможности учиться рассадниками анархизма и растления; до 200 гимназий и прогимназий ежегодно впускают в университеты по тысяче человек, а по несколько тысяч в год бросают в омуты жизни под предлогом невыдержанных экзаменов, где эти несчастные ни к чему не пригодные или гибнут или губят других. А школ, где бы мог русский юноша научиться способу зарабатывать хлеб на месте родины – нет. Вот положение. Что же мы видим? Видим какой-то таинственный заговор. Министерство народного просвещения из страха Каткова, с улыбкою Делянова, с равнодушием [М. С.] Волконского, с бездушием [А. И.] Георгиевских и Кии что-то лепечет и ничего не смеет решительного. Катков, которому нужно, чтобы Делянов, его слуга и раб, оставался на месте, молчит, а печать, которая двадцать лет назад кричала против классицизма, когда она видела в нем залог порядка, теперь упорно молчит, видя, что эти гимназии благодаря их массе являются орудиями беспорядка. Но этого мало, известные либералы юристы в среде государственных людей, подобно печати стоявшие против классицизма и против графа [Д. А.] Толстого 20 лет назад, теперь, когда вред для государственных интересов от неправильного ведения учебного дела стал очевиден, кричат за неприкосновенность безобразий и против всякой попытки урегулировать быт университетов и гимназий, даже против профессиональных школ, под предлогом, что они слишком много могут мешать молодежи идти в университеты!
Вот в таком хаосе прежде всего нужна речь в той печати, которая влияет на умы, убежденная, ясная и именно за порядок и за правительственные интересы, речь ежедневная, беспрерывная, которая бы равнодушных будила и служила бы стимулом для иных государственных слуг не засыпать и не предаваться апатии, когда нужно действовать. Нужна речь, которая происходила бы от ясного понимания правительственных интересов и от прислушивания к нуждам благочестивых людей, а не к увлечениям либералов.
И так по каждому вопросу. Правительство действует, начинает действовать, и затем что же? Общество в Петербурге ждет, что скажет газета, а газеты говорят так, чтобы выходило нечто среднее: не то за порядок, не то против излишнего усердия к правительственным интересам, и всегда выходит речь без убеждений, которая в свою очередь воспитывает общество в том же духе равнодушия к интересам порядка. Газета сегодня то сказала, я так думаю; газета завтра так скажет, я принимаюсь так думать… И везде слякоть и размазня, отражающаяся в России застоем и унынием. «Новое время» стало главным органом этого ужасного направления без принципов, без убеждений и без священного огня в вопросах, где не военный нужен патриотизм, а вседневный, гражданский. Прямо за Бога говорить оно не смеет, прямо стоять за царское Самодержавное правительство оно не смеет, прямо идти против зла оно не смеет; везде неубежденность, везде малодушие Пилата, везде ухаживанье за толпою интеллигентов, везде страх уменьшить денежную прибыль своей газеты… Я называю это состояние ужасным, ибо оно действительно таково; оно ведет к торжеству зла и к постепенному ослаблению и уничтожению устоя, порядка, принципов и преданий.
А между тем масса людей, в Петербурге даже, такова, что всякое убежденное и сильно, с огнем сказанное слово на нее действует, и если эта энергическая, верующая и убежденная речь ежедневно раздается, то мало помалу, по неизменному закону природы, она постепенно из лагеря равнодушных переводит по несколько человек в лагерь убежденных и усиливает контингент правительственной партии. Не надо себе делать иллюзий: правительственная партия в Петербурге очень слаба, и настолько слаба в нем, насколько она сильна и многочисленна в России. Но Россию никто не слушает, и в Петербурге нет органа печати, который был бы звеном между Россиею и Престолом, нет органа России. Слабости правительственной партии главным образом способствует печать, печать безубежденная и малодушная, ибо кроме того, что она общественное мнение держит в апатии, она терроризирует и парализирует правительственные сферы; правительственным людям а ла Делянов и даже другим, как напр[имер] Победоносцев, милее «Новое время» с потухшими и продажными убеждениями, чем «Гражданин», где прямо говорится во имя русских, а не петербургских интересов, где от имени русских сердец, преданных Государю, говорится, а не от имени равнодушных; такая речь называется беспокойною, и ей предпочитают фельетончики, статьи ни то ни се говорящие и голоса из России, повествующие о скандалах. Увы, это до такой степени верно, что когда четыре года назад речь зашла о передаче «Петербургских ведомостей» в руки будто бы надежные, с тем, чтобы сделать из них орган консервативных убеждений и правительственных убеждений, газету эту отдали некоему [В. Г.] Авсеенке[595], чиновнику у Делянова и посредственному романисту, с такою инструкциею: быть консерватором и стоять за порядок, но не слишком, чтобы не раздражать и дразнить общественное мнение. И вот 3 года просуществовали «Петербургские ведомости», и в течение 3 лет ни разу ни одною буквою не высказались с убеждением и с огнем за церковь, за правительство, за порядок. И что же вышло? У газеты оказалось 1000 подписчиков. Россия от нее отвернулась, не находя ни единого живого слова, в Петербурге ей сто раз предпочитали консерваторы «Новое время», благо и оно без убеждения, но зато интереснее и пикантнее! Это интересный и поучительный факт. Наряду с этим интересны явления с «Гражданином». Его положение самое невыгодное и безусловно фальшивое. В России, как еженедельное издание, оно выписывается немногими, ибо оно – роскошь, и не устраняет необходимости выписывать ежедневную газету. А при теперешнем безденежьи и роскошь сделалась еще недоступнее. В Петербурге «Гражданин» читают в высших слоях общества с большим интересом; он многих сердит, но все самые заклятые враги его говорят: это единственный убежденный орган, это единственный безусловно честный орган; но он бессилен, прибавляют все, потому что он говорит два раза в неделю, а остальные газеты говорят ежедневно. Он скажет слово, оно произведет впечатление, но в промежуток 3 дней, пока он молчит, это впечатление уничтожают газеты ежедневные; да и читать «Гражданин» многие не хотят, потому что он нарушает привычку чтения ежедневной газеты утром за чашкою кофе; многим некогда его читать. И что же чуть ли не ежедневно со мною случается? Многие говорят мне, что читают с интересом «Гражданин»:
– Да вы не подписаны, – говорю я,
– Да, но я читаю в выписках газеты «Новости».
Мало этого. Сколько раз мне приходилось слышать буквально ту же комическую историю, как с моей пьесою «Миллион»[596].
– Помилуйте, – говорят мне, – за что же ваш «Гражданин» так бранят, я читал выписки из него в «Новостях» и нахожу, что вы совсем не такой ретроград, вы иногда совершенно правильно думаете.
Кончаются все эти разговоры, и словесные, и письменные, по почте, всегда одним и тем же: верьте, князь, издавайте ежедневную газету, вас будут и читать, и слушать! Ну за что вы оставляете «Новому времени» таких читателей, которые непременно были бы ваши, если [бы] вы издавали ежедневную газету.
Все это я слушал годы, и слушал со вниманием, ибо понимал, сколько в этих словах правды. Но говорить: «издавайте газету», легко, а делать это дело – трудно. Много поводов я давал себя бранить, но никто про меня не скажет, что я очертя голову бросался в предприятия как в мыльные пузыри, и, слава Богу, все, за что я брался доселе, являлось делом обдуманным.
Так и тут. Я сознавал, что надо приниматься за ежедневную газету, но я сознавал в то же время, что главного нет, кроме денег, которые я считаю второстепенным, людей нет и сил нет. И так шли годы. Эти годы я посвятил на то, чтобы постепенно подготовлять себе путь к изданию ежедневной газеты. Путь этот был двоякий: с одной стороны, я расширял круг известности «Гражданина» внутри России и в особенности за границею; с другой стороны, я искал людей, изучал их и подготавлял их в моих убеждениях. Затем я уяснял себе материальную сторону ведения дела и дошел до нынешнего года.
Нынешний год мне сказал много в этом вопросе. С одной стороны, я увидел яснее и поразительнее всю страшную силу ежедневной газеты на наше общество, но, увы, в дурном, растлевающем направлении: газета вседневная – это бог и кумир дня; она ведет людей как баранов, куда хочет; а так как все газеты в Петербурге до единой сами не знают, куда идти, то умы людей воспитывают в самом губительном индифферентизме.
С другой стороны, я с Божьею помощью пришел в нынешнем году к тому сознанию, что есть, наконец, силы, с которыми можно, без риска компрометировать дело и знамя, предпринять ежедневную газету; и как нарочно к кружку подобранных мною лиц, присоединился неожиданно разошедшийся с издателями «Нивы» ее редактор, весьма способный человек, Берг.
В этой обстановке год нынешний получает значение роковое. Или бросить арену печати, воспитывающую равнодушных и психопатов, на ее произвол – или с верою в Бога выступить в бой, подняв знамя порядка и убеждений религиозно-монархических бесстрашно и высоко.
Я решился выступить с уверенностью за успех, ибо ободряюсь двумя важными соображениями. Я недаром воздерживался от попытки браться за газету эти 4 года: это были 4 года школы, в течение которых, даже по мнению моих недоброжелателей, я учился владеть собою, выдержке, такту, и, по отзыву всех, «Гражданин» теперь неузнаваем сравнительно с тем, что он был 4, 5 лет назад.
А во-вторых, я со всех сторон слышу: нет консервативной порядочной газеты в Петербурге, и все подписываются на «Новое время» за неимением другого более серьезного органа.
Итак, вот что представляется безусловно необходимым в данную минуту как действительная помощь правительству и порядку: орган, который ежедневно бы говорил, что преданность престолу есть преданность престолу, что религия есть религия, что честь есть честь, что нравственность есть нравственность, что белое, словом, есть белое, а черное – черное, а не менял свои убеждения в угоду лишнему рублю, толпе на улице или влиянию минуты.
Надо же это безусловно для того, чтобы известную массу людей статичных заставить думать так, а не иначе, повторяя все те же ясные, твердые и определенные убеждения.
Но весь вопрос сводится к денежным средствам. Кое-как, на риск, такое дело не стоит устраивать; это значило бы компрометировать еще раз партию порядка; выступать нищим, с протянутою к публике рукою, хуже, чем не выступать вовсе. Напротив, все дело в том, что надо выступить сильным, во всеоружии людей и материальных средств, дабы с первого же дня быть на уровне других больших газет. Тогда можно сразу повлиять на слабодушных и равнодушных и начать их переводить в свой лагерь.
С другой стороны, надо начать это дело не позже 1 октября нынешнего года, дабы до конца года, и до начала подписки на газеты на будущий год – иметь возможность произвести впечатление на публику ежедневным появлением чистой и порядочной газеты.
Какие нужны средства, это у меня все рассчитано. Но прежде всего надо переговорить об этом деле, выяснить его, и у меня пришла мысль такая: если Вы, Государь, одобрите эту мысль, и Бог даст мне жизни, то вверить это дело для устройства его такому человеку, который пользовался бы Вашим доверием и с которым я мог бы говорить, не опасаясь разглашения, от души: это лицо – И. Н. Дурново. Он бы мог Вам непосредственно говорить об этом деле, а я бы через него сообщал бы Вам свои мысли и соображения. Тут были бы обеспечены и осторожность, и тайна.
Я знаю, что принимаясь с Божиею помощью за такое дело, я прощаюсь с последними днями свободы и силами, но я слишком убежден, что это безусловно необходимое и верное средство постоянно помогать делу порядка, чтобы не считать преступным не предлагать его и не предлагать себя…
И[ван] Ник[олаевич], с которым об этой мысли я говорил, совершенно ее разделяет. А там, что Бог даст!
4 марта[597]
Не ожидал, чтобы так скоро после моего последнего письма к Вам, в котором я высказал мою веру, после Ваших дорогих строк, за которые благодарю, как за луч солнца, – Богу было угодно всем нам показать, до какой степени верующие так, как дано мне в отраду верить, истинно веруют! Страха и смущений в себе не обретаю ни атома. Хотел бы ужаснуться, не могу. Слишком поражен явлением Божьей над Вами охраны, слишком радуюсь ей! Что ближе могло, казалось бы, быть этой обнаружившейся опасности, а между тем, никогда дальше не был адский замысл от своего исполнения, как в этот день. Именно как сказано в псалме: «на аспида и василиска наступиши, попереши льва и змию»[598]. Два месяца ежедневно Вы были доступнее всякого для любого покушения: Бог отдаляет от Вас всякое зло. В день отъезда Вашего Бог, дабы явить для Вас виднее Свою охрану, попускает безумцев выйти из толпы и приготовиться к зверскому злодеянию, и что же, адский замысл весь поглощает их душу, и разум их ослепляется настолько, насколько нужно замыслу быть бессильным, и наоборот, стерегущим Вас прибавляется разум, прибавляется чутье, посылается свежесть взгляда, которой после 2 месяцев гляденья можно было и не ожидать, и преступники не замечают, что за ними смотрят, и идут к месту преступления, как в западню, и готовившийся мир весь поразить ужасом преступного замысла, как вещь, как испуганный зверь идет за полицейским, когда тот ему говорит: «Иди за мною к градоначальнику!» Да, и в один миг эта потрясающая ужасом небывалым быль преобразовывается в потрясающую радостным явлением Божьего чуда быль, и ничего нет, кроме света Божьей благодати и отрады Божьей благостыни! О, Государь, чувствуете ли Вы это, объяты ли Вы этим светлым знамением, осенившим Вас; и как еще осенившим, когда Вы были не одни, когда супруга Ваша была при Вас, дабы полнее было явление этого знамения!
И неправда ли, Ваша чистая и верующая душа не дрогнула, Ваш дух не мог возмутиться, ибо в душе не могло быть места для ужаса, когда переполнила ее вера и созерцание Божьей к Вам милости, и та же твердая как камень неустрашимость, та же светлая покорность будут как прежде руководить каждым Вашим движением. И все ближе и все ярче будет над Вами и с Вами Бог! О, если бы Вы знали, какая услада, какое счастье в это верить и не понимать малодушия одних и опасения других. И не ищите другого объяснения чуда: Ваша чистота и Ваша вера делают Вашу душу обителью Божьей благодати и Вашу личность облекают в броню и Вашу жизнь с семьею окружают охраною, и чем сильнее будет казаться адский замысл, тем сильнее будет Божья охрана, тем ничтожнее будет адский замысл.
И нога Ваша не преткнется о камень, и народ Ваш не увидит Вас ни устрашенным, ни смущенным, но увидит Вас бесстрашным и невредимым, и Вы, твердый, поведете слабых! О, как обнимаю Вас от всей души мысленно, и прошу простить мне сие дерзновение! Спасибо еще раз за Ваши строки, где блеснуло для меня чудное слово: дружба!
Как бы хотелось увидать Вас, поговорить с Вами, но можно ли будет об этом утешении мечтать как об осуществимом?
[15 марта[599] ]
Важнейший вопрос
Граф [Д. А.] Толстой, к сожалению, надо это предвидеть, сходит с земного поприща. Уже теперь он только тень, но все же тень, а когда и эта тень исчезнет, сам собою явится важнейший вопрос для Государя: какой живой человек должен занять место этой тени? Грандиозной и сильной, все-таки тени?
Невольно заговорили мы об этом вопросе с [О. Б.] Рихтером, и частенько приходится говорить о нем с И. Н. Дурново и другими лицами в задушевной беседе.
В обществе называют, например, [Н. А.] Манасеина, с легкой руки Победоносцева; другие называют [И. В.] Гурко. Про первого скажу, что думаю и в чем твердо убежден: грех большой взял на душу Побед[оносцев], рекомендовав Манасеина Государю. Кто этого человека не знал, как беспринципного и умнейшего из красных? Победон[осцев] восставал против Вышнеградского, потому что находил его недовольно елейным и чистым: но для м[инист]ра финансов не нужен столько диплом на высокую добродетель, сколько ум и способности; а сам же он, зная, что на должность м[инист]ра юстиции нужна высокая по принципам и по нравственной честности личность, не задумался порекомендовать Манасеина, который куда неудовлетворительнее в смысле добродетели Вышнеградского. А был у него человек прекрасный на виду: не обмолвился об нем: [В. Г.] Коробьин! Нет, не дай Бог Манасеина; с умными людьми, будто бы обратившимися из красных в белые, опаснее играть, чем прямо с красными!
Гурко – менее чем кто-либо умел в администрации. В нем замечательное слияние двух типов! Как воин он смельчак и характер энергичный; как администратор он слабее и мягче и бесхарактернее ребенка; его обойти может, кто хочет. Когда он был в Петербурге полудиктатором, им вертели только нигилисты, и жена его[600] первая из них!
Мысль об Ив[ане] Ник[олаевиче][601] прекрасная мысль: но, увы, 1) Ив[ан] Ник[олаеви]ч здоровьем слаб и плох, а 2) он слишком работает, он заработается, и 3) он был бы отличным министром внутренних дел, но вряд ли мог бы справиться с другою должностью, шефа жандармов.
Да и хорошо ли, что эти должности соединены, нередко спрашиваешь себя, слушая других.
Одни говорят: да, единства больше в от[п]равлении власти; другие говорят: нет, ибо министр внутренних дел не успевает быть достаточно министром внутренних дел и достаточно шефом жандармов.
Кто прав, решить трудно. По мне решение этого вопроса в теории немыслимо. Оно зависит исключительно от личности министра. Министр внутр[енних] дел слаб, и шеф жандармов слаб; министр внутр[енних] дел энергичен, и шеф жандармов хорош.
Но вот по поводу энергии мысль моя останавливалась не раз на одном человеке, который подходит под многие условия, нужные для поста м[инист]ра внутренних дел, и я немало был рад, что мы опять-таки сошлись в этой мысли с Рихтером. Личность эта сибирский [А. П.] Игнатьев. Он замечательно даровит и способен (куда способнее знаменитого Ментир-Паши[602]), работает как вол, энергичен безусловно и предан престолу по Николаевским традициям, глубоко консерватор и религиозный. Этим человеком брезгать, мне кажется, не следовало бы. Я его часто видел и слышал. У него есть недостатки (повирает по-Игнатьевски, но куда реже брата!), но зато это цельная личность и сто головами выше нравственностью брата; он проявил себя не раз стойким в деле принципов, он не останавливается перед опасением не понравиться начальству для долга преданности, он очень тонок и умеет именно дело делать. Кроме того, он неутомим.
Вот почему мысль останавливается на таком решении важнейшего вопроса: буде Толстой уйдет, И[ван] Ник[олаевич Дурново] его преемник, а Игнатьев его товарищ, с мыслью, что И[ван] Ник[олаевич] мог бы из него приготовить себе преемника.
При сем препровождаю листы из Дневника за последние дни. Все они группированы около того же печального события[603]. Меня слишком мучит мысль не высказаться перед Вами по этому поводу в том, что Вас может интересовать, что я писал прямо, как слагалась мысль. Но писал урывками и не спеша, проверяя прежде каждое из впечатлений и каждую из мыслей в беседе с людьми, от которых мог ожидать суждения авторитетного.
Посылаю «Дневник» с чувством, что правду в него вложил, а там, что Бог даст!
Но, увы, в «Дневнике» только часть того, что хотелось бы Вам сказать. Есть что дополнить, что осветить! Вот почему смел бы умолять Вас, Государь Всемилостивейший, если на этой или на будущей неделе будет у Вас часок, уделите его мне. Не на праздные речи, верьте, дерзаю просить о таком счастье. Сердце старого слуги нудит просить о сем!
7 марта
Видел сегодня двух студентов; каждого порознь встретил на Невском; с одним шел, другой подошел. Оказалось, что они были однокурсники, но друг друга не знали! Характерное явление. Оба эти студента из средней, буржуазной среды, приезжие из провинции, из Вильны, и я их знаю потому, что они занимались у меня в конторе. Обоих расспрашивал о событиях у них в университете[604], и от обоих узнал почти то же самое, точно они сговаривались!
Неутешительны их показания.
Во-первых, говорят они, про университет Петербургский можно одно сказать: корпорации студентов нет и помину, а есть агломерация 2500 человек, разделенных на бесконечное множество кружков, большею частью по губерниям. Из этого следует, что говорить про дух в Петерб[ургском] университете нельзя; там нет духа, потому что дух может быть только у корпорации.
Одно можно сказать: если уж говорить про дух, то он скорее нехороший, в том смысле, что большая часть студентов – бедняки, оторванные от своей среды и от своей почвы, которые учиться не особенно охотники по той простой причине, что им в Петербурге скверно, а будущность представляется еще сквернее. Это все молодые люди, живущие из дня в день, которым в сущности все все равно. От этой массы ждать какого-нибудь сознательного сочувствия к правительству немыслимо. Они с ним и вообще с порядком существующим мирятся как с необходимостью, – а чуть что, любой из этой массы может сделаться каким от него потребует кружок – сорванцом. Затем есть меньшинство; это порядочная молодежь; это сыновья родителей в Петербурге; их несколько сот человек. Они и учатся, и ведут себя хорошо, и ни к каким кружкам не примыкают. В день, когда [И. Е.] Андреевский говорил речь, характер университетской массы обозначился таким, как он есть. Большинство было безучастно настроено и начало уходить прежде, чем кончилась речь Андреевского; их вернули в залу. Одна часть, меньшинство, шикало и демонстрировало против ректора; другая часть, тоже меньшинство, петербуржцы, горячо аплодировала ректору, и между этими двумя меньшинствами масса студентов проявляла полнейшее равнодушие. Таковы в главных чертах рассказы студентов, мною опрошенных. Но интересен финал моего разговора.
– Закрыть бы следовало университет, – сказал я.
– И самое было бы лучшее, – сказал мне студент, – и будь я на месте правительства, я бы с этого начал. Никто не проиграет от закрытия. Масса студентов вернется волею неволею туда, откуда пришла, а затем может быть правительство спохватится и догадается иметь столько студентов, сколько места в аудиториях. А места теперь на 800 студентов, а нас 2500. Из них более 1500 студентов безусловно лишние и ничего не делают. И если во время не спохватятся, то не то еще будет; не 5 студентов попадется с снарядами, а 1000 студентов возьмутся каждый порознь за какое угодно гнусное дело. Я сам хочу выходить из университета, от греха подальше; а то все равно не сегодня так завтра прийдется закрывать университет. Речь ректора оказала дурную услугу правительству. Она разожгла страсти у дурных, и эти дурные привлекут к себе много из массы равнодушных; равнодушные всегда охотнее идут к дурным, чем к хорошим; это уж аксиома.
Замечательно, что почти буквально оба студента говорили то же самое. Оба предвещают, что теперь надо ждать постоянного и долгого брожения умов в университете. Андреевского в грош не ставят в университете; попечителя [И. П.] Новикова еще дешевле ценят, а про министра[605] говорят: это шут гороховый. Словом, там анархия полная.
Она тлилась как огонь под пеплом; но оглашение связи университета с 1 мартом сдуло пепел, и теперь огонь стал разгораться.
Не менее замечательна характеристика тех студентов, которые попались, сделанная этими же студентами; замечательная тем, между прочим, что она совпадает с характеристикою, сделанною [П. А.] Грессером. Это не фанатики и не закоренелые злодеи; это просто люди без всяких связей с окружающею их жизнью, которым нечего ждать от жизни и нечего терять от смерти; каждый из них рассуждает так: если бы 1 марта я не пошел с снарядами на Невский, 2 марта я бы пустил себе пулю в лоб, потому что мне решительно все равно, жив ли я или мертв. И вот таких-то молодцов в университете теперь в Петербурге много!
7 марта
В первый, кажется, раз на моем длинном веку глубокого единения в мыслях, взглядах и даже в оттенках мыслей, с Государем, приходится быть в разладе, и это по вопросу о драме гр. [Л. Н.] Толстого[606].
И то мне кажется, разлад этот происходит не от существенной причины, а от того, что Государь смотрит на эту драму только со стороны ее художественного интереса, а я смотрю главным образом на нее с социальной точки зрения и ставлю ее в непосредственную связь с новыми и вредными доктринами, государственными, нравственными и религиозными, коих граф Толстой теперь, благодаря своему необычайному таланту, опасный и могучий распространитель.
Нельзя ошибиться в том, что драма эта не есть простая литературная вещица, без связи со всем, что теперь пишет Толстой в разобщении с Церковью, с государством и с общим строем жизни. С одной стороны это доказывает – конец пьесы, где после мучительной нравственной агонии от созерцания стольких ужасов распущенной нравственной жизни вместо сильного положительного противодействия злу является слишком, по-моему, слабое и слишком отрицательное проявление добра в форме публичного покаяния Никиты и возгласов Акима: «Бог… во!»[607]
По-моему, все дурное слишком ужасно в этой драме, а хорошее слишком слабо, слишком отрицательно! Вся последняя сцена могла бы столь же удобно происходить в американской семье квакера[608], как и в семье Никиты, тут намека нет, что эта сцена из жизни православного мужика. Будь это у православного мужика в семье, нашелся бы урод в этой семье, который о добре и против зла поговорил бы сильнее и положительнее, чем юродивый – менонит Аким; он именно похож на менонита[609]! Он о Боге говорит возгласом; но о Боге то же говорит буд[д]ист, и менонит, и магометанин! Затем самая сцена покаяния – верна ли она в русском духе? По-моему, нет! Она американская сцена! В русском быте Никита падет на колени и исповедь свою скажет перед отцом, но перед бабами никогда; это эффект ложный и аффектация, ослабляющая силу исповеди! Это с одной стороны; а с другой стороны, откровенно говоря, когда я вижу такую лихорадочную страстность в массе людей к обожанию этой пьесы, как кумира, и вижу эту пьесу в ореоле у людей того лагеря, я уже чую что-нибудь неладное, что-нибудь противное духу нашей веры, нашей семьи, наших преданий. Не было бы такой суеты из-за пьесы гр. Толстого, если в ней был поставлен светлый и сильный тип русского человека, живущего по-Божески!
Да и потом: одно чтение, а другое – сцена! Если при чтении, как рассказывают в газетах, у одного крестьянина сорвалось мненье, что Микита оплошал, покаявшись, то что же ждать от театра? Да еще от Александр[инского] театра, где все скверное будет хорошо и рельефно передано, а последняя сцена, soi-disant[610], успокаивающая – наверно пропадет?
Да и то сказать: после Пасхи, праздника любви Христовой – время ли ставить на сцене Императ[орского] театра такую картину ужасов и мерзостей, да еще в присутствии Царя? Это одно на благочестивых людей произведет удручающее впечатление.
Да и время ли вообще на сцене вводить публику, без того распущенную, без того расшатанную, а в иных слоях совсем готовую на какие угодно преступления – во все сокровенные тайны преступлений, мастерски охарактеризованных? Не будь это chef-d’œuvre[611] пера Толстого, не стоило бы говорить о предмете. Но раз это Толстого вещь, надо считаться со всеми последствиями такого события, как появление на Императ[орской] сцене по желанию Государя, вопреки запрещению цензуры, пьесы, где проведена все-таки мысль народного быта целой семьи, совсем обособленной типами и нравами от общей семьи православного люда.
Да и сдается, что если правда Государь поедет на репетицию, то Бог вдохновит Его увидеть, что на сцене после Пасхи страшно волновать умы такими страстями. И тогда как легко было бы сказать: нет, лучше повременить ставить, а там и забыть про нее.
Из дневника 8 марта
Свидание с [П. А.] Грессером произвело на меня сильное впечатление. Чтобы такого человека довести до упадка энергии надо много серьезных причин. И эти причины действительно серьезны. Последние события 1 марта проявили [П. В.] Оржевского в таком уже свете, что вопрос ставится ребром для бедного Грессера: быть или не быть? В то же время, по-моему, ставится и другой вопрос: в здравом уме Оржевский или нет? Мне кажется, что его честолюбие, уже слившееся в одно с ненавистью к Грессеру, перешло пределы здорового умственного состояния. Он заговаривается и не владеет собою. А сколько от этого может пострадать дело, страшно и подумать. Уже прошлогодняя выходка Оржевского, имевшего наглость сказать [Д. А.] Толстому: «Я на все согласен, распределяйте обязанности на случай вашего отъезда, как хотите, но под одним условием, чтобы Грессера бы не представляли к награде, а меня представили бы» – уже это, говорю я, было проявление помраченного ненавистью и завистью рассудка.
Но что же сказать о том, что он теперь делает? Начать с того, что он в Петербурге поднял целую партию в обществе против Грессера, пустив по свету ложные рассказы о том, что полиция, благодаря Грессеру, проспала будто бы заговор 1 марта. Во-вторых, он весь Департамент полиции вооружил ненавистью против Грессера. В-третьих, на первом же розыске, в присутствии министра юстиции[612], он имеет наглость обратиться при Грессере же к директору Д[епартаме]нта полиции [П. Н.] Дурново с внушением за то, что тот 27 февраля сведения о предполагающихся заговорщиках послал к Грессеру, а не к начальнику сыскного отделения[613], «как я вам это приказывал», прибавил Оржевский. В-четвертых, этот же Оржевский имеет бестактность сказать [П. А.] Черевину, что он не выносит Грессера, потому что тот все приписывает себе, и вследствие этого Государь с ним любезен, а с ним, Оржевским, нет!
И вот к чему сводится дело в такую минуту, когда малейшая оплошность, малейшая недомолвка может испортить весь розыск неисправимо!
Понятно, что при таких условиях одному из двух надо уйти, или же надо совсем изъять Грессера из малейшей зависимости от Оржевского. Второе мне кажется труднее сделать потому, что если даже Грессер совсем освободится от зависимости от Оржевского, Оржевский, как подобие шефа жандармов, сохранит за собою возможность пакостить Грессеру и способен ему пакостить именно там, где интриги Оржевского могут сильно вредить делу политического розыска.
Всего лучше было бы прямо поставить вопрос: кто нужнее, Оржевский или Грессер? Оржевский умен и способен, но он в этой должности парализован ненавистью к Грессеру; следовательно, отчего бы ему не дать один из генерал-губернаторских постов, как о том ходят сплетни в городе[614].
Грессеру же не дай Бог уходить. Он слишком нужен Петербургу и ее полиции.
А кого на место Оржевского?
Я бы предложил этот пост прекрасному человеку, генералу [Н. И.] Шебеко. Он высоко честный, глубоко преданный и умный человек. Он был кишиневским губернатором и с тех пор сидит забытый и о себе не напоминает. А жаль такого человека не утилизировать. К тому же Толстой его очень любит, и Грессер его любит. С таким человеком было бы Грессеру легко ладить, но все-таки главное – совсем освободить градоначальника от отношений личных к начальнику жандармов и поставить в прямые отношения подчинения только к министру внутренних дел.
9 марта
В предположении, что нижеследующая статья, поистине прекрасная К. П. Победон[осцева] в вчерашнем «Гражданине»[615] может заинтересовать, привожу ее целиком.
Отличительный характер настоящего несчастного времени составляют явления дикого анархизма, стремящегося – уже не словом только и учением, но и самым делом, к насильственному разрушению всех существующих государственных и общественных учреждений и порядков. Явления эти вытекают из целой теории, эпидемически распространяющейся в наши дни особливо между молодыми людьми, не успевшими еще войти в ту или другую колею практической общественной деятельности и найти в ней успокоение мысли.
Очевидно, что развитие этой теории вступило в острый, критический период. Явления, к ней примыкающие, до того умножились, что стали в иных краях обычными, но тем не менее, умножаясь и усложняясь, начинают грозить серьезною опасностью существованию самого гражданского общества, в коренных и существенных его основах.
Теория эта ужасна и составляет, по-видимому, крайний пункт безумия человеческого, возвращающего разумного человека в первобытное дикое состояние.
Но отыскивая начало ее и корни, убеждаемся в органической, причинной связи этой теории с теми основными началами великой французской революции, которые до сих пор прославляются доктринерами нашего либерализма, – хотя и восстающими против современной анархии. Это те самые начала, коих столетие Франция собирается торжественно праздновать в 1889 году, приглашая на празднество всю просвещенную Европу… То-то будет пир на весь мир! Представители европейских правительств, государственные люди, ученые профессора, самые принцы владетельных домов съедутся петь гимн свободам всякого рода и торжествовать провозглашение начал, разрушающих и истинную свободу, и порядок, и нравственные начала, завещанные человечеству вековым священным преданием.
Поистине это будет нечто похожее на «Пир во время чумы», описанный Пушкиным.
Страшную, поучительную, но не научившую ни владык, ни народы картину представляет Франция перед революцией. Миновал век возрастающего разврата высших классов и возрастающего гнета народного под разнузданною властью. Дворянство, успевшее позабыть и сложить с себя старинное свое призвание – жить посреди народа и служить службу общественную, – переродилось в придворных кавалеров, слуг и чиновников. Духовенство, подобно дворянству, позабыв свое призвание, заражено корыстолюбием, развратом и скептицизмом в странном соединении с нетерпимостью. Является новый класс литератов – людей праздной формы и праздного художества, не имеющий ничего общего с народом и его потребностями. Народ, коснеющий в невежестве и в угнетении бедности.
Все устали. Общество ждет какого-то нового слова. И вот, в такую-то пору является, будто бы откровение человечеству, новое слово талантливого, одушевленного писателя. В увлекательной форме, с необыкновенным искусством, он проповедует французам, что все бедствия, от коих страждут они, происходят не по их вине, не по грехам человеческим, не по слабости человеческой природы, но должны быть поставлены в вину самому обществу: – оно развратило их и испортило. Стало быть, требуется не преобразовать только учреждения общественные, в течение времени испортившиеся; но требуется создать новое общество, основав его на отвлеченных началах разума. «Да здравствует разум!» Действие нового учения оказалось поразительное, и роковое заблуждение, овладев умами, распространилось с необыкновенною быстротою. Его усвоили себе все недовольные настоящим порядком вещей: и высшее сословие благородных, и среднее сословие. Все обрадовались возможности обличения злоупотреблений, в которых все сами повинны были; все возложили на монархию, их же руками созданную и направленную, ответственность за общественное зло. Новое учение встречено всеми с восторгом, который в среднем сословии вскоре принял характер фанатизма.
Учение Жан-Жака Руссо стало великою силой и образовало школу, в коей воспиталось все молодое поколение. Оно выросло на ложном, фанатически усвоенном понятии о первородном совершенстве человеческой природы. Из этой-то основной лжи извлечены работою логической мысли три вывода, три догмата новой веры, имевшие роковое влияние на все последующие поколения.
Во-первых, учение это, основываясь все-таки на мнимом природном расположении человека к добру, отринуло решительно и догматически всякое принудительное действие на волю всякого человека, хотя бы и малолетнего. Вот основание той свободы, о коей мы ныне столько слышим. Свобода провозглашена священным достоянием человечества не только в интересе каждого отдельного лица, но и в интересе всеобщем. Обществу предоставлялось положиться на веру в благодетельное действие природной склонности человека и ожидать самых счастливых последствий от действия безграничной свободы. Догмат этот можно назвать догматом систематической свободы: он отрицает решительно законность родительской власти, религиозной мысли и власти государственной, то есть отрицает все те силы, кои, по закону Десяти Заповедей, призваны управлять свободой человеческой, сдерживать ее и направлять к добру. Сколько ни причинил бедствий человечеству этот лживый догмат, он служит еще по сей день главным артикулом веры во всех политических и общественных спорах. На нем основывается, его прославляет преимущественно всякая оппозиционная партия, – но увы! она же пренебрегает и забывает его, как только сама достигает власти.
Из первородного совершенства вытекает и другой вывод. Как скоро в обществе, сколько-нибудь сложного состава, начинается разделение труда и образуются отдельные профессии, – так, вместе с тем, оказывается неравенство между состояниями – всех и каждого. В благоустроенном обществе это неравенство образует известную иерархию сочленений, происходящую прежде всего и вполне естественно, от неравенства природных способностей, достоинств и личного труда. Но кто признает первородное совершенство, тот по тому самому принуждается уже отрицать и неравенство способностей, по крайней мере, способностей нравственных, т. е. существенно важного элемента в общественном устройстве. С этой точки зрения, самым добродетельным человеком представляется тот, кто мог пользоваться наибольшею свободою в своем развитии, ибо все люди без различия одинаково способны к тому же самому. Итак, всякое общественное неравенство между творениями одинаково прямыми и добрыми есть ни что иное, как несправедливость, которую следует искоренить. Правда, что сам Руссо видно принужден был житейским опытом отступить в этом отношении от логических последствий своей доктрины. В его рассуждении «О причинах неравенства состояний» встречаем такую фразу: «Неравенство, почти ничтожное в состоянии природном, приобретает силу и возрастает по мере развития наших способностей и успехов ума человеческого, получает затем устойчивость и становится законным посредством учреждения собственности и законов». Этими словами оправдывается у учителя существование общественной иерархии; но школа пошла далее своего учителя в логическом развитии основной его мысли и установила в решительном смысле догмат предопределенного равенства между людьми в обществе. Вот другое излюбленное заблуждение нашего времени.
Третье заблуждение – самое роковое, самое ужасное, – и его кровавые плоды на виду у всех нас.
Если человек добр и справедлив по природе, если единственною причиною зла полагается общество, то выбора нет, – надо истребить общество, чтобы положить конец злу и беспорядку. Следствие такое: всякий, – если только видит вероятность успеха, – не только в праве, но обязан истребить общество со всеми его порядками, дабы оно могло вновь само собою устроиться по началам разума. Вот существо третьего догмата о праве мятежа против общества.
И вот, мы спали, спали князья и бояре, спали чиновники, спали мудрецы, спали добрые и благочестивые люди посреди ежедневных житейских забот; а в эту пору, ночью, пришел враг и посеял плевелы. И вот, они выросли перед нами – и надобно ждать до дня жатвы…
Этот роковой, поистине дьявольский догмат укоренился, и по преимуществу в той стране, где злое семя было брошено, и оттуда пустил корни во всю вселенную. Он ослепил очи миллионам людей, заставил их забыть все благодеяния мира общественного, приучил, в особенности французов, к страшным, периодически возобновляющимся потрясениям и переворотам, до того, что стали уже смотреть на них как на естественные движения жизни и развития у народа свободного. А каждое из этих потрясений есть кризис, приближающий общество к гибельной бездне. Он-то, этот догмат, вербует развратные мысли и сердца в ряды анархистов и вооружает их изобретениями науки на пагубу общества.
Но видно верно еще Грибоедовское слово:
«Ах Франция, нет в мире лучше края»[616],
и что мудреного, может быть увидим, как наши князья и бояре, и чиновники, и мудрецы, и добрые и благочестивые люди потянутся в Париж праздновать столетие великой революции и великих начал 1789 года…
Среда 11 марта
Просидел с час времени у [И. Н.] Дурново! Не видевшись после событий 1 марта, оказалось, что мы как будто думали и чувствовали все время одно и то же!
Первый крик Дурново был: что это за тряпка [И. Д.] Делянов. Представьте, я приезжаю к нему и говорю: «Иван Давыдович, что это у вас творится?» А он мне с своею обычною улыбочкою: «Да, ужасно, что прикажете делать, я это предвидел, во всех университетах то же самое, только разве в Московском лучше, а то везде скверно! Ничего не поделаешь!»
Утешительный квиетизм.
Но мне кажется, что надо серьезнее взглянуть на слишком явно обнаружившуюся несостоятельность Министерства народного просвещения. Там не то, что людей нет, не то, что ума и воли нет, там крошки сердца нет! Еще два, три года деляновского управления при диктатуре бессердечного Каткова, бездушного [А. И.] Георгиевского, мертвого [Н. М.] Аничкова, директора Д[епартаме]нта, и безусловно равнодушного [М. С.] Волконского, при таких попечителях как сумасшедший [И. П.] Новиков, взяточник и предатель [Н. А.] Сергиевский в Вильне и т. д., может наступить серьезная опасность для государства от нескольких тысяч людей, решенных на все, за отсутствием хлеба, занятий и принципов. И в самом деле, вот положение. Везде в России все спокойно; жутко живется, но все кое-как сжавшись примирились с тяготами времени и верят в лучшее будущее; провинция куда как стала спокойнее и консервативнее.
И что же? Несколько очагов революции и анархии держат всю Россию в страхе и в волнении! Очаги эти – университеты, где сознательно, благодаря непростительной и даже преступной слабости Делянова, насажено вчетверо более студентов, чем стены университета могут вмещать, и в каждом университете на 400, 500 учащихся приходится до 1500 бродяг и умственных калек, которые учатся одному: ненавидеть правительство и весь существующий строй жизни в России.
И вот тут-то начинается страшная перед Богом ответственность Делянова. Он знает, что в России 220 гимназий и прогимназий, из которых лишних до 150; он знает, что из каждой гимназии прежде выпускали в университет 5, 6 человек, а теперь выпускают 15, 20, благодаря слабости экзаменов; он знает, что Россия вот сколько лет стонет по преобразованию реальных училищ, по профессиональным школам, дабы молодежь могла не поступать в гимназии, а образовываться на месте для практической пригодности на своей родине, а между тем сколько времени он не дает ходу этим до зареза нужным школам, а продолжает наполнять гимназии и переполнять университеты! Он знает, что из выходящих ежегодно из университетов по окончании курса только 3, 4 студента получают места, а остальные десятками входят в жизнь голодающими, раздраженными и бесполезными!
Но этого мало: в прошлом году закрыли Киевский университет[617]; вот, казалось, был случай по-новому устроить университет, чтобы было в нем столько, сколько слушать может лекции, человек 600 maximum! Нет, опять возобновляется старая комедия, и теперь до 1500 студентов наполняют университет, из которых до 1000 люди безусловно беспринципные, и опять-таки готовый материал для всякой разрушительной пропаганды.
А теперь в эти дни – как все, что сделал Делянов, было неловко. Раз сделана была ошибка, и в «правит[ельственном] сообщении» появилось слово «студент»[618], самое лучшее, казалось бы, не трогать университета и дать волнению затихнуть. Нет, он устраивает это собрание студентов и вызывает целый ряд беспорядков в университете. Мало этого, по-моему, забывая совсем, что студенты не граждане, а мальчишки, он поступается достоинством и обаянием Царского Имени настолько, что как будто выклянчивает у этой толпы адрес, дает ректору говорить с каким-то неуместным пафосом там, где нужна была строгая и краткая речь, и все это кончается тем, что адрес одних вызывает протест других, возбуждаются страсти, нужны аресты, и в конце концов что же? Та же гнусная комедия 2500 студентов, из которых 1500 ничего не делают, возобновляется, и студенты говорят: ага, небось, нас боятся!
А было бы так просто все это покончить; закрыть прием в 150 гимназиях с нынешнего года; оставить по 1 гимназии на 2 губернии; в каждой устроить интернат, то есть пансионы, и затем на сбережение от 150 закрытых гимназий, прогимназий и реальных училищ устроить профессиональные и ремесленные школы, и затем постепенно приводить университеты к норме от 500 до 800, с тем, чтобы на каждом курсе по каждому факультету максимум был 50 студентов.
Четверг 12 марта
«Гражданин» был сегодня заарестован за 2 статьи моего Дневника. Одна – оказалась нарушением объявленного нам запрещения говорить по поводу событий 1 марта; так как я поместил в «Дневнике» рассуждения относительно прокламации студентов, присланной мне по городской почте за подписью: Союз студентов С.-П[етер]бургского университета[619]: протест против адреса. Но за что вторая статья была приравнена к преступным статьям, я доселе понять не могу. Неужели потому, что она бьет наше ведомство Минист[ерство] нар[одного] просвещ[ения] в больное место. Пришлось переделать эту статью, а первую заменить другою. С трудом выпросил веленевые экземпляры для посылки № Государю в неисправленном виде.
Во всяком случае для подкрепления моего недоумения: за что вторая статья была признана неблагонадежною, я ее здесь привожу[620]:
Суббота, 7 марта
В «Правительственном вестнике» сегодня и в особых прибавлениях к газетам, продававшихся на улицах (между прочим разнощики кричали так: «интересные телеграммы», а другие – «речь директора»), помещен текст речи, с которою ректор университета обратился к собравшейся в огромном числе толпе студентов (до 2500 человек!) по поводу печального и позорного для всей русской молодежи события 1 марта…
Речь эта, там, где говорило чувство, была приветствована самыми теплыми приветствиями большинства студентов…
Но в этой речи, кроме чувств, были и мысли. В числе мыслей была брошена, между прочим, одна, на которую невольно приходится обратить внимание… Говоря о призвании науки и о наслаждении заниматься наукою, почтенный ректор университета высказал, между прочим, мысль о призвании науки в стенах университета служить «объективности».
Слово это или сорвалось с языка, как красивая фраза, или сказано нарочно с какою-нибудь целью… Во всяком случае, мне кажется, что мысль о служении науки объективности, в это время сказанная, – была не к месту. Раз объективность, по мнению ректора, поставлена им так высоко как цель научного образования, что поименована в числе трех главных идеалов научного труда, понятно, этой объективности, как желанному двигателю научного труда, следует противопоставить субъективность, как нежелаемую цель научного образования. Это логично?
Но тогда что выходит?
Выходит, с позволения сказать, та именно ерунда, которая, на мой взгляд, есть главная характеристическая черта нынешнего нашего высшего учебного образования по всей России. Если в чем-либо эта сумбурность резко проявляется в нашем учебном мире, если чем-либо эта сумбурность может быть охарактеризована, то именно тем, что она чересчур объективна и слишком мало субъективна.
А тут еще ректор университета возводит эту объективность научного труда в степень идеала в стенах университетского святилища труда! Горе нам, что мы с таким сумбуром носимся в голове и на языке! Горе большое, ибо не будь этой объективности в нашем педагогическом мире, не пришлось бы университетам в России вносить в свои летописи имена извергов и зверей, в студентские мундиры одетых… Кто эти изверги, как не несчастные умственные калеки и бродяги, доведшие свой объективизм до отрицания всякого субъективного принципа и чувства и до полнейшего равнодушия к вопросу: жить или не жить, убить или самому быть убитым?
А затем дальше? Кто эти, переполняющие наши университеты тысячи лишних студентов, оторванных от своей среды, от своей родной простой и безыскусственной жизни, чтобы сделаться не студентами в прежнем смысле этого слова у нас и в современном смысле его в Германии, а лишь атомами какой-то серой, безличной, пассивно и отрицательно настроенной ко всем идеалам и авторитетам жизни массы, – кто они, как не бессознательные жертвы объективности, ставшей главным и единственным взглядом наших педагогов на Руси? Ведь стоит только допустить малейшую субъективность в воззрениях молодежи на свое положение в русском мире, чтобы ожидать от нее собственным здравым смыслом поставленного вопроса: да в сущности на что мне университет, что он мне даст, что он может мне дать для жизни полезного и прочного при условиях нашего общего общественного быта, не лучше ли мне учиться, не отрываясь от своей среды, и учиться тому и настолько, чтобы я мог приносить пользу и своему месту рождения и самому себе?
А почему же субъективности этой нет в взбаламученной и серой среде нашей учащейся молодежи, а есть такой губительный избыток объективности, ведущий массу к нигилизму, а единицы – к анархизму?
Почему?
К сожалению, ответ очень простой. Потому, что этот роковой и тлетворный взгляд объективности внесен в нашу учащуюся сферу учащими и ответственными за учение и за воспитание педагогами. Вот сколько лет я живу на свете, и доселе я почти не встречал педагога в России, который иначе бы смотрел на свое дело, как объективно… Точнее сказать, я только встретил двух педагогов, изменивших завету объективности и глядевших на дело только субъективно. Откуда взялись эти исключения? Взялись они из глубокого сознания, что быть педагогом – значит, прежде всего, быть глубоко верующим христианином и верным слугою Престола, и с этим источником силы в сердце – отдать это сердце всецело на любовь детям и притом не объективно к детям вообще, а субъективно – к каждому малейшему вопросу, в педагогической практике из жизни той или другой ученической души возникающему. Замечательно, что эти два педагога были различны по способностям: один был необыкновенного ума и дарования; другой был среднего ума и маленького дарования; но оба, едва призваны были к делу, стали творить то же чудо: собираться стали вокруг них все лучшие по сердцу, по честности, по любви к детям русские люди, и силы этих двух педагогов утысячерились… и явились плоды, плоды отрадные и прежде всего субъективные: явились хорошие учителя, явились прекрасные ученики…
Но справедливость требует сказать, что не долго этим педагогам суждено было действовать. Они слишком были уроды в своей семье. Они удалились с воспитательной нивы, приведенные к тому все большим натиском на русскую школу генералов от объективности… Теперь они давно не у дел… с ярлыком ненужных России слуг; а куда ни пойдешь, куда ни ступишь по трясине нашей педагогики, – везде педагогия слилась в их превосходительствах с такою объективностью, что, когда я говорю, например, одному моему приятелю, патентованному педагогу: «Однако, почтеннейший, вы криво служите Царю и Отечеству, вы малодушно служите Церкви», – он, даже не запинаясь, дает мне такой ответ: «Да, знаете, лучше не возбуждать умы; газеты, знаете, начнут говорить… лучше потихоньку, лучше понемногу, как-нибудь…»
И, вот, потихоньку, понемногу и как-нибудь, мы дошли до такого совсем неожиданного для консерваторов состояния в нашем педагогическом мире, которое, без страха быть в противоречии с истиною, смело можно было бы назвать диктатурою объективности… Говоря проще, я скажу так: во всем нашем педагогическом мире чуется зловещий маразм, как последствие отсутствия сердца. Говоря еще проще, я переведу слово объективность словом – отсутствие сердца к учащемуся юношеству, а слово субъективность словом сердце… А говоря аллегорически, я представляю себе нашу бедную русскую школу сверху донизу в виде больного, которого окружили все медицинские высоконаучные светила с открытием кредита на какие угодно научные медикаменты и аппараты, но которого в то же время лишили всяких проявлений к нему, как к человеку, теплого сердца и сострадательной христианской души… Такой больной находится в опасном положении, и опасность не в болезни, а в том, что, за отсутствием сердечного к нему участия, самое гениальное научное средство может оказаться не вовремя и не в той дозе данным и повредить, самый легкий хирургический надрез может, вследствие равнодушия в уходе за больным, – привести к нагноению и гангрене.
Разве не так?
Да подумают же наши ответственные перед Богом и Царем за сотни тысяч дурных жизней педагоги – о том, не нужны ли теперь люди с сердцем для нивы воспитания… А явятся люди с сердцем, любящим молодежь не объективно, а субъективно, – можно наверно сказать: они сердцем поймут, что иметь по 2500 человек на университет, вмещающий в себе 800, значит губить и университет, и молодежь!
Пятница 13 марта
Сейчас был у И. Н. Дурново, уезжающего сегодня в Москву, и узнал от него, чем разразилась история с Катковым. Об этой истории имел уже понятие со вчерашнего дня, когда, зайдя утром к [Е. М.] Феоктистову, застал у него одного из рабов Каткова, [Н. А.] Любимова, с носом на квинте[621], и самого Феоктистова нашел крайне встревоженным и едущим к [В. К.] Плеве, по важному делу, как он говорил. Сегодня днем узнаю от зашедшего ко мне другого клеврета Каткова, [Д. И.] Воейкова, бывшего правит[еля] канц[елярии] у [Н. П.] Игнатьева, что речь идет о предостережении Каткову. Воейков при этом как будто представлял правительство виновным, а Каткова каким-то недоступным богом. Я не вытерпел и сказал Воейкову, что совсем не понимаю ни его речей, ни Каткова, и только тем, что он стареет, объясняю себе то незнание меры и ту бестактность, которые в Каткове все более проявляются и дают ему фигуру зазнавшегося холопа; в особенности он неузнаваем с того времени, как удалось Делянову выхлопотать ему последнюю мотивированную награду[622]. Воейков начал было говорить общие фразы о значении Каткова, но я ему на это сказал: чем сильнее талант Каткова, чем сильнее его значение, тем строже его обязанность понимать, что не в теперешнее время, когда у Государя без того избыток трудных забот, когда умы вообще настроены минорно и тревожно, не теперь ему, поставившему себя во главе защитников принципа и основ власти, – играть роль народного трибуна по вопросам иностранной политики и волновать умы против правительства! Что же это за служение принципу, если я буду его поддерживать в том, в чем я с правительством согласен, и буду против правительства в том, в чем я с ним не согласен. Ведь тогда исчезает разница между Катковым и [И. К.] Нотовичем – ибо Катков в трудную минуту для России идет против иностранной политики правит[ель]ства, а Нотович идет против внутренней политики. Нет, это не патриотично и не хорошо. И неужели Катков думает, что в нем больше патриотизма, чем у Государя?
Ведь это сумасшествие, если он это думает.
– Так что – вы были бы за предостережение Каткову? – спросил меня Воейков.
– Боже сохрани.
– А за что же?
– Предостережение дало бы ему только новый повод драпироваться или выкинуть какую-нибудь штуку. Нет, я бы дал голос за объявление ему Государева неудовольствия за то, что его статьи по иностранной политике России неприлично и резко расходятся с теми основными началами уважения к правительству, которые он постоянно столь справедливо охраняет и отстаивает в других областях государственной жизни.
И за то спасибо Воейкову, что мне удалось его поколебать в его необдуманном обожании непогрешимости Каткова.
От Дурново узнал, что, к счастью, предостережение было отменено и заменено именно этим изъявлением неудовольствия.
Очень жаль, что все это случилось. Но, грешный человек, я прежде всего жалею о том, что появляются такие «правительственные сообщения», которые касаются щекотливого вопроса услуг нам Германии и т. д. Зачем в нынешнее нервное время говорить об этом; прямо или косвенно все-таки читая такое сообщение, невольно представляешь себе: не вызвано ли это сообщение каким-нибудь давлением на нас Германии, или особенною дружбою к Германии, или каким-нибудь соглашением с Германиею? А все это невольно возбуждает что-то горькое в душе, и в конце концов, комментируемое, ведет к фальшивым положениям и задевает самое дорогое и святое, обаяние Царя… А Каткову дает повод прикидываться народным трибуном, а пожалуй и мучеником за убеждения!
Более того, по-моему, неполитично придавать какое-нибудь важное значение статьям Каткова и как бы с ним вступать в равные полемические отношения, чтобы затем пускать по Европе правительственные сообщения, как бы вызванные сильным влиянием статей Каткова. В таком сообщении правительства всякий видит признание правительством какой-то особенной силы за катковскими статьями, вследствие чего разлад между газетою «Моск[овские] вед[омости]» и русским правительством производят в какое-то государственное событие. А затем это событие дают на эксплуатацию европейским газетам и, пожалуй даже, политиканам. Является такой толк: будто Бисмарк нарочно раздувает значение статей Каткова, чтобы потом на это значение жаловаться русскому правительству и усиливать нерасположение его к такой газете, как «Моск[овские] ведомости». Когда этот толк пущен, тогда является в сферах, окружающих Бисмарка, другой толк: вы видите, говорят там, как правительство в России непопулярно, даже «Моск[овские] ведомости» идут против него. Весь этот мир толков и сплетен надо иметь в виду, в особенности потому, что в сущности, на дне всего этого раздуваемого Бисмарком значения печати в России лежит непримиримая теперь ненависть Бисмарка к «Московским ведомостям» за их дальновидное недоверие к политике Бисмарка вообще и к его дружбе к России… Вот почему, во избежание всех этих недоразумений и толков, будь я правительство, я никаких других сообщений относительно статей Каткова не делал, как краткие и категоричные: «Статья № такого-то в “Московских ведомостях” по вопросу иностранной политики, как основанная на догадках и заключениях несправедливых, безусловно неверна». И больше ничего.
14 марта
Вопрос о нескладном ходе нашей государственной полиции далеко не исчерпывается дурными отношениями [П. А.] Грессера к [П. В.] Оржевскому и неправильною, сколько кажется, постановкою отношений петербургского градоначальника с его полициею к государственной полиции и к товарищу мин[истра] вн[утренних] дел, начальнику жандармского управления. В данное время тут есть еще одна важная причина неурядицы. Причина эта – одна личность, про которую мало говорят, потому что она в тени, но на самом деле эта личность далеко не в тени. Скажу без церемоний, личность эта просто дрянь и большая и вредная дрянь. Это [П. Н.] Дурново, директор Деп[артамен]та госуд[арственной] полиции. Какими судьбами такая бездарная, мелкая до ничтожности и дурная личность могла попасть в директоры деп[артамен]та, да еще такого важного департамента, как госуд[арственная] полиция – никто понять не может. Но кроме того на беду у этого Дурново есть жена[623], самого современного направления, у которой все связи и симпатии в лагере нигилистов. Отсюда выходит, что Дурново представляет собою двойную личность: наружно он будто служит правит[ель]ству, а внутренно, находясь в полнейшем рабстве у жены, он левою рукою покровительствует немалому количеству тех негодяев, которых он правою рукою будто преследует. Давно недоумевал, слыша от разных губернаторов сетования на Департам[ент] госуд[арственной] полиции, что они в нем постоянно находят прямую оппозицию всякой мере, направленной против того или другого политического негодяя, что это значит? Еще больше стал недоумевать, когда от разных чиновников Департамента полиции на правоведском обеде[624] (эти чиновники все правоведы молодые) слышал точно по лозунгу какому-то, ненавистью исполненные нападки на Грессера с одной стороны, а с другой под пьяную руку какие-то сентиментальные диссертации о том, что политических преступников надо окружить ласковыми заботами, давать им возможность возвращаться в общество и т[ому] подобные сентиментальные излияния. Только на днях все эти недоумения рассеялись, и я узнал всю печальную правду. И как нарочно при свидании с губернатором тверским и с [А. А.] Татищевым, бывшим пензенским губернатором, оказалось полное подтверждение всей этой печальной подноготной. [А. Н.] Сомов, губернатор тверской, был недавно здесь и имел объяснение с [Д. А.] Толстым по поводу вопроса: правда ли, что Тверское земство наводнено политическими агитаторами?
– Правда, – сказал Сомов, – и главная тому причина Министерство внутренних дел.
– Как так?
– А так, ваше сиятельство! Департамент полиции шлет всех политических агитаторов, согласно их желанию, когда после ссылки их спрашивают: где вы хотите поселиться, кроме Петербурга и Москвы – в Тверь и только в Тверь! Ну а земство их призревает.
– В таком случае, это надо прекратить, – сказал Толстой.
Обрадованный Сомов едет к Дурново, директору Деп[артамен]та полиции, и объявляет ему решение министра.
– Ну нет, – отвечает Дурново, – граф ошибается, помилуйте, мы потому и назначаем им Тверь как место жительства – что в Твери им лучше жить!
И так Сомов и уехал. Воля графа Толстого не исполнилась, а воля Дурново торжествовала.
Но то, что Татищев мне рассказывал, еще поразительнее. В последнее время [его] губернаторства некоего под надзором находящегося в Пенз[енской] губернии мерзавца и негодяя, родственника [В. И.] Засулич, красная партия хотела вывести в люди, и началась интрига, сперва в губернии, а потом она перешла в Деп[артамен]т полиции в Петербурге. Избирают этого молодца в земскую управу. Представляют Татищеву на утверждение. Татищев не утверждает, а посылает протест в Петербург; он попадает в деп[артамен]т к Дурново. Дурново спрашивает пензенского жандармского шт[аб]-офицера. Тот пишет, что по его мнению личность эта и вредна и опасна. Тогда что же? Дурново присылает Татищеву бумагу с уведомлением, что к утверждению этого избранного лица с стороны Деп[артамен]та полиции препятствий не имеется, а когда Татищев снова представляет, ему дают знать, чтобы успокоился, и теперь этот молодец метит, как бы шагнуть в государственную службу. Но этого мало. Дурново упрашивает Татищева рекомендовать на должность податного инспектора одного своего протеже.
– Не могу, – отвечает Татищев.
– Отчего?
– Оттого, что я его знаю, это негодяй.
– Ну все равно, как-нибудь.
Татищев 3 раза отказал дать ему рекомендательный отзыв. И что же? Дурново едет к тому самому [А. А.] Рихтеру, которого он мне называл красным и опасным (директору деп[артамен]та М[инистерст]ва финансов) и умаливает его назначить этого негодяя в податные инспектора ему в личное угождение, и Рихтер назначает его, но, разумеется, не даром, а в том соображении, что когда он, Рихтер, следующее сделает представление о назначении кого-нибудь из своих на должность податного инспектора, то Департамент полиции, на заключение которого посылается всякое назначение в податные инспектора, вероятно даст о кандидате Рихтера благоприятный отзыв.
Все это несомненно доказывает, в каком запущении и распущенности находится Департамент госуд[арственной] полиции в такое время, когда он особенно нужен. Такой мизерной личности, как Дурново, не может быть во главе департамента, снабженного столь трудными обязанностями, без вреда, и серьезного вреда, для дела.
Но кого же желать на его место? Мне кажется, что это вопрос второстепенный – раз как обеспечен будет выбор преемника Оржевского. Все дело сводится к тому, чтобы в лице этого преемника правительство соединило строгую честность с глубокою преданностью Государю, это главное, и затем способности. Эти первые качества соединенные всего труднее найти! И вот почему с особою настойчивостью возвращаюсь к раз уже названному мною генералу [Н. И.] Шебеко. У нас странна бывает судьба относительно личностей: под рукою есть жемчуги, а идут искать самые невероятные по ничтожности личности. В этом отношении граф Толстой имеет fatum[625]: выбрал Оржевского, которого не знал, выбрал Дурново ему в помощники, которого тоже не знал, а Шебеко у него же в доме играет в винт с графинею[626], и только потому, что этот Шебеко никогда не заикнется, чтобы даже просить намеком о каком-либо назначении, – ему так и суждено играть в винт с дамами. Я глубоко знаю эту личность. Оттого и настаиваю на ней: это высокая честность и глубокая преданность, это человек старых принципов и вдобавок в сношениях необыкновенно приятный.
15 марта
Как ни верти, как ни старайся успокаивать себя, а все же положение нашей внутренней жизни не может успокоиться, если не будет возвращен какой-нибудь успокоительный порядок в наше учебное ведомство. Чем более вникаешь в него, чем более делишься мыслями с другими, тем страшнее становится действительность и тем неотложнее вверить это ведомство кому-нибудь более серьезному и менее одряхлевшему, чем почтенный Иван Давыдович[627]. Он слишком умалил себя во мнении всех, сверху между государственными людьми, снизу между учащими и учащимися. Везде его в грош не ставят.
Повторяю, положение таково: везде спокойно в России, только 5 очагов постоянной революции, это 5 университетов, Петерб[ургский], Казанский, Киевский, Харьковский и Одесский, а затем вокруг них по всему пространству России раскинута сеть гимназий, прогимназий и реальных училищ, где на 10 юношей кончают курс 3, а остальные пропадают в массе неудачников, ежегодно составляющую контингент для какой угодно мути и смуты.
Вот положение, а затем сверху все министерство с попечителями включительно (за исключением [А. Л.] Апухтина и [М. Н.] Капустина) составлено из самых жестких и бессердечных людей, и дух его – исходящий от Делянова – трепет и рабство перед Катковым!
Но затем является самый трудный вопрос: кого же желать на место министра нар[одного] просвещения.
В ответ слагается другой вопрос: что требуется от нового министра нар[одного] просвещения?
Дерзаю прямо и смело сказать, в уверенности, что передаю мысль всех честно преданных Царю и Отечеству людей: прежде всего требуется, чтобы он не был педагогом! Педагоги наши чуть не погубили Россию! Требуется прежде всего, чтобы кроме ума, человек этот имел теплое сердце, всею душою любил молодежь, был религиозен и глубоко предан был Государю. Требуется, чтобы это был совсем свежий человек, никакими связями не связанный с камариллою, правящею министерством из слуг Каткова, Георгиевскими, Любимовыми и Кей. Называют, например, не выходя из стен Министерства нар[одного] просв[ещения], Апухтина и Капустина. Да, прекрасно…
Но я осмелюсь назвать человека, которого никто не называет, потому что он в тени, но между тем это человек замечательный, как идеал честности, преданности, теплоты сердца и религиозности, кроме того, что он способный и даровитый человек. К[онстантин] Петр[ович Победоносцев], по моему, согрешил, проглядев этого человека, своего же училищного товарища, когда он советовал выбор министра юстиции и рекомендовал [Н. А.] Манасеина – человек этот [В. Г.] Коробьин. Он никогда не покидал судебное ведомство, это правда, но этот человек, куда его не поставьте, везде будет высокая личность. Стоит только заглянуть в его семью и в роль, играемую им как глава семьи и как воспитатель своих детей, чтобы понять, как высоко этот человек поднимет знамя религии, патриотизма и чести в том учебном мире, где это знамя уже что-то очень опущено. Мне сдается, что Бог этого человека благословит!
[Середина марта[628] ]
Прибыли сюда мой старик дядя, последний сын Карамзина, с женою своею[629] на несколько дней. Живут они все в своей деревенской глуши в Нижегород[ской] губернии. Выехали они оттуда в начале марта, ничего не зная о событиях 1 марта, и прибыли в Ардатов[630], где тоже ничего не знали. Здесь тетка моя по обычаю пошла к одной 80-летней схимнице, слепой, за благословением: приходит, и когда старуха схимница узнает, что они едут в Петербург, она говорит тетке: «Ах, как все эти дни у меня сердце кипит о Царе, кипит и кипит, и я все молюсь, все молюсь за него, а вот вас Бог и послал, возьмите и свезите в Петербург и отдайте Царю, чтобы надел» – при чем она достает крестик и дает моей тетке. Потом как бы очнувшись старушка говорит: «Я и не знаю, может это я по глупости да по простоте своей вас прошу об этом, ну да Бог простит, уж как-нибудь приведет исполнить мою просьбу…» Тетка взяла крестик… И каково было их душевное изумление, когда только в Муроме они узнали о событиях 1 марта.
Тетка просила кн. [Е. П.] Кочубей представиться Императрице; 5 лет она не представлялась; быть может, подумал я, и Вы войдете к Императрице, когда она там будет, и примите этот крестик… Это я пишу, ничего не сказавши о том тетке, от себя непосредственно, в отрадной вере, что такой дар от схимницы благодатен.
Скажу затем, как она, простите мне по простоте и по глупости с людской точки зрения вылившиеся эти строки.
Но затем вот еще что. Простите мне и следующие строки. И я скажу: вот несколько дней, как мне покоя не дает и мучит, томит и терзает сердце неотступно один страх или одна тревога, не скажу суеверный, ибо это слово не серьезно, но благоговейный, исходящий из состояния души, которое вы поймете, зная меня и веря в меня. Мучительный этот страх происходит от несомненно не только существующей, но страстно разжигаемой мысли – указывать на гр. Ник[олая] Игнатьева, как на лучшего в данную минуту кандидата на должн[ость] мин[истра] иностр[анных] дел, в том случае, если Вы решите искать заместителя [Н. К.] Гирса[631]. Мысль эта – проклятая! Она как адский огонь давно тлится в гостиной и в душе Игнатьева, но теперь эту мысль принялись раздувать в пламя Катков и, чему, признаюсь, не верю, – ему в помощь Победон[осцев] и [М. Н.] Островский! Это попытка уничтожить результаты двухлетней политики мудрого и самостоятельного самоустранения и повернуть Россию на путь политики приключений под предлогом политики инициативы. Я уже не говорю о том, что Игнатьев это человек sans foi ni loi[632], без принципов и без серьезного патриотизма, который весь во фразах и во лжи, с душонкою исключительно преданной обогащению; но я боюсь его прикасательства к Вам, ибо Бог отдалится от того места, где именем Его и России этот лжец будет говорить с Вами. На все, что только трогал Игнатьев, ложилось проклятие. Его миссия в Константинополе[633] была рядом лет, в течение которых Россия разъединилась со всеми Церквами на Востоке, от всего своего исторического прошлого отреклась, и в конце концов подготовила нам всю страшную и поразительную, потому что Бог так видимо отошел от нас, эпопею, где святая русская кровь лилась в будущий позор наш, победы и героизм привели к бесчестию, Христово имя приводило к безбожию… Страшно вспомнить, что стоило России Игнатьевское служение ей, пока в то же время он подводил блестящие итоги своим удачным денежным и биржевым спекуляциям и реализировал[634] миллионы!
Я был тогда в Сан-Стефано[635]. 19 февраля подписывался злополучный трактат. Как вчера помню, что мы перестрадали от всего, что знали о позорно-глупой роли этого посла России, этого друга славян, этого знаменитого патриота, во все время переговоров. Бедный [М. Д.] Скобелев с ума сходил от бессильного бешенства, видя, как турецкие делегаты по диктовке Англии и Австрии дурачили и морочили Игнатьева. Скобелев и все русские понимали, что надо было занять прибрежье Босфора и требовать турецкий флот, но с быстротою молнии, дабы Англия могла узнать о нашем требовании только после занятия нами позиций над Босфором, Дарданеллами и Константинополем. Но Игнатьев все трубил, что потребует флота, и не требовал его, откладывая до конца. Конец пришел. Игнатьев заикнулся о флоте. Турки отвечают: султан скорее сожжет Константинополь и флот, чем его отдать. Игнатьев сдается вместо того, чтобы даже тогда, хотя слишком поздно, ответить: пусть жжет, и прямо врывается головою в подставленную ему сеть. Турки продолжают: султан предлагает взамен самые широкие границы для Болгарии и даже Эгейское море. Тут заметили обмен улыбки между турецкими делегатами. Игнатьев принимает, не задумавшись даже над тем, что чем больше Турция будет отдавать земли для Болгарии, тем неизбежнее будет вмешательство Европы. И вот одураченный Игнатьев подписывает предисловие к Берлинскому трактату под именем славного будто Сан-Стефанского мира! Господи, когда я вспомню эти часы в Сан-Стефано, эти рассказы [М. К.] Ону, это мучительное бешенство Скобелева, этот горький смех над Игнатьевым… тогда душа страдает опять, как тогда страдала. Величайшая ложь из массы лжи, налганной Игнатьевым, это то, что он умен… Он вовсе не умен: его провели в Константинополе мальчишки, а когда он в Петербурге был м[инист]ром внутренних дел, его проводили такие пигмеи, как [Д. И.] Воейков, как [П. Д.] Голохвастов…
Простите за эти строки.
Но затем еще раз дерзаю умолять Вас, дозвольте повидаться с Вами: видит Бог, что не из-за пустяков я дерзаю желать этого.
Четверг 2 апреля[636]
По обычаю, для меня святому, после причащения Св. таин, то есть тогда, когда в праве считать себя лучше, когда каждому слову могу просить больше веры, – всецело переношусь к Вам! Если и Вы, Государь, причащались сегодня, то прежде всего дозвольте Вас поздравить и в это поздравление вложить всю силу моих желаний для Вас блага; и главнейшее из благ – это благословение Божие на Вас, на Супругу Вашу и на Детей Ваших. Под сенью этого благословения да пребудет и преизбудет и крепнет в Вас спокойная уверенность, что Вы идете с Богом и с Вашим народом, следовательно, по верному пути, и путь этот да будет тверд. Много, много во все эти часы говения пребывал с Вами мысленно, молясь за Вас и уясняя себе Ваше трудное положение, и чем ближе и яснее сближался с Вами, тем легче становилось на душе, тем светлее становился Ваш образ в обстановке Ваших забот, и тем сознательнее и глубже становилась вера в Вашу безопасность, в Вашу неприкосновенность и в лучшие дни будущего. Это не слова, Государь, легкомысленно сказанные: это выражение несокрушимой веры и душевного чутья, никогда не обманывающих, когда они приходят в связи с молитвенным настроением. Умнее меня, искуснее меня, полезнее меня может быть всякий, но душою, объединенною с Вами так близко, как я, нет другого; этого ни дать, ни отнять никто не может; это сущность наших отношений молодости, ежеминутного общения с Вами в те годы, когда душа Ваша развивалась и воспринимала свою мощь и свою пищу. Отсюда явилось у меня постоянное душевное чутье к каждому дыханию, так сказать, Вашей душевной жизни, и Вы не поверите, как я благодарен Богу за то, что Ему угодно было меня уединить в самую глубокую тень и отнять всякие личные интересы самолюбия и честолюбия в моей жизни, дабы легче было мне жить только для общения и объединения с Вами душевных исключительно. Эта милость Божия неизреченная и для меня глубоко премудрая: нет ничего в моей жизни умаляющего или могущего портить мое постоянное чувство к Вам; я думаю, наблюдаю, чувствую только потому, что общаюсь с Вами; у меня нет другой причины бытия и другого угла зрения. Оттого так чисто чутье мое; оттого не может быть лжи ни в едином помысле моем; оттого так отрадно благодарить Бога за то, что Вы можете верить мне и не иметь опасения быть мною обманутым. Тут и тени заслуги нет с моей стороны, как с Вашей не может быть благодарности, ибо это по милости Божией есть так сказать историческое, фактами добытое достояние Вашей высочайшей и моей маленькой судьбы. И вот сегодня я так счастлив, что, много молившись о Вас и много думав о Вас, ощущаю, как на душе легко и светло, взирая на Ваше будущее.
Много идет толков эти дни по поводу [П. В.] Оржевского и его ухода. Называют 3 кандидатов. О моем кандидате и речи нет. А жаль. В числе трех называют: [Н. А.] Безака, [Г. С.] Голицына и кого-то еще, чуть ли не Бобрикова[637]. Второй, то есть Гри-Гри Голицын, кажется ничего себе… Но Боже упаси остановиться на первом, на Безаке: сегодня, в день причастия, не остановлюсь сказать, что это не[638] надежный человек; он окружен вонючею красною атмосферою, и не хватило бы слез наплакаться над таким назначением. Но главное скинуть поскорее [П. Н.] Дурново из директоров Департ[амента] госуд[арственной] полиции.
Кстати о Дурново, но о другом [Н. И. Дурново]. Слышал, что в случае ухода [Д. А.] Толстого на него указывают как на преемника. Дай Бог этой мысли осуществиться, и если она Ваша мысль, то тем она отраднее.
Засим еще раз осмеливаюсь остановиться на личности [В. Г.] Коробьина. Верьте мне, Государь, это драгоценная личность: это соединение чести, преданности, ума, работы с верою!
Засим при мысли о Воскресеньи дозвольте мне трижды Вас облобызать и от глубины души сказать Вам: Христос воскресе!
Смею все продолжать надеяться, что после праздников Вы услышите мое моление о свидании. Умоляю о нем, если только есть малейшая возможность.
Итак, при мысли о Воскресеньи, Христос воскресе! Да хранит Вас Бог!
[5 апреля[640] ]
Как давно лично и близко знающий Шебеко, я очень обрадовался назначению этого честного человека в преемники человеку положительно нечестному. Ничего не подозревая о случившемся, сижу у себя дома и завтракаю. Приходит Поляков, врач княг[ини] Дондуковой. Я спрашиваю его: «Что нового?» Он мне в ответ: «Как, не знаете?» – «Нет, ничего не знаю». – «Шебеко назначается на место [П. В.] Оржевского».
Мысленно я перекрестился, узнав об этой новости. Потом узнаю от [И. Н.] Дурново следующее. Гр. [Д. А.] Толстой собирался предложить пост генералу [Н. А.] Безаку: замечательно, что у гр. Толстого всегда выбор людей необыкновенно неудачен. Призывает он Безака и предлагает ему; разумеется, Безак соглашается. Видится Дурново с Толстым. Толстой сообщает ему свой выбор. Дурново не одобряет его.
– Так кого же, по вашему, – восклицает Толстой.
– Да вот вы имеете под рукою близкого вам человека, Шебеко.
Гр. Толстой говорит: «Tiens, c’est vrai»[641]. И когда Безака нашли проще оставить на его месте, тогда гр. Толстой предложил Шебеко.
Вот повесть Дурново. Но затем пошла петербургская комедия. Редко я видел назначение, которое бы вызвало столько страстей. Казалось бы, всякий после Оржевского должен был бы быть приветствован. Ничуть! Ругавшие с ожесточением Оржевского накинулись с остервенением на бедного Шебеко и давай его честить и за то, что он глуп, и за то, что сестра его при кн. [Е. М.] Юрьевской[642], и т. д. Во всех гостиных стон стоял брани, и самое комичное было то, что сам гр. Толстой, очень уже близящийся к состоянию старухи, говорит Дурново:
– А я, кажется, ошибся, предложив Шебеко.
– Чем, отчего?
– Да вот, все говорят, что он глуп!
– Да вы же его знаете, вы знаете, что он не глуп.
– Да, но все кричат…
Не характерно ли это как картина нравов Петербурга. Шебеко всегда был человеком с тактом, с здравым смыслом, и весьма не глупый; честность его высокой пробы, в печальной истории кн. Юр[ьевской] он показал себя рыцарем чести, стушевавшись совсем, и что же? Пока он был без дела и играл в винт, все находили его премилым, как только его как честного человека взяли к делу, тогда со всех сторон зашипели змеи, и пошли толки об его бесчестности, точно прежде никто не говорил о его порядочности и честности, точно честность это такие пустяки, что и говорить об ней не стоит.
В Шебеке есть важные черты для его новой деятельности: строгие принципы, высокая честность, глубокая преданность, такт, умение слушать и примирительный характер. Все это вместе при здравом смысле и способностях обещает в нем хорошего товарища для Толстого и союзника для [П. А.] Грессера. А это главное.
[13 апреля[643] ]
Беседовал сегодня с [В. К.] Плеве и узнал от него, что есть основание предвидеть, что гр. Толстому nolens volens[644] прийдется отложить рассмотрение первой части своего проекта, предложение о земских участковых начальниках, до осенней сессии Государственного совета. Причина этого вероятия заключается в том количестве отзывов и мнений на проект, которые поступают в Госуд[арственный] совет и возлагают на министра внутрен[них] дел, то есть в данном случае на [А. Д.] Пазухина, обязанность отвечать на каждый из отзывов. В числе отзывов есть важные, как, например, отзыв министра юстиции в большой записке; есть и смешные отзывы, как отзыв [М. С.] Каханова, который, прямо нападая на сущность проекта с либеральной точки зрения петербургского бюрократа, полагает, что вопрос этот не может быть рассмотрен отдельно от совокупного рассмотрения всех Положений, до внутреннего управления касающихся.
Но зато весьма серьезны соображения [Н. А.] Манасеина; тут, по-моему, есть над чем и подумать, и поработать, ибо мне кажется, что министр юстиции бьет проект Толстого по надлежащей, больной стороне. Проект графа Толстого, между прочим, отнимает у нынешних мировых судей немало дел и передает их будущим участковым начальникам. Министр юстиции между прочим бьет по этому вопросу проект гр. Толстого, – и кажется, основательно. По практическому расчету выходит, что если у будущего участкового начальника будет столько дел, сколько по проекту ему передается из юрисдикции мирового суда, то участковому начальнику прийдется до 6 и 8 часов в день посвящать на разбор этих дел порядком письменного производства у себя на дому или в камере. Тогда что же останется у него для главного, для разъездов по уезду, для вершения дел и споров на месте, словом, для проявления своей власти, как бывшего мирового посредника? Очевидно, останется очень мало времени, и главная практическая цель нового учреждения, предоставление участковым начальникам возможности постоянно разъезжать по уезду, чтобы дела решать и вершать на местах, будет мало достигнута. Участковый начальник замрет с самого начала под бременем бесконечной переписки и формальностей делопроизводства.
Вот почему, сдается мне, хорошо бы сделал гр. Толстой, если [бы] он не спешил теперь наскоро проводить свой проект, отстаивая его во всей неприкосновенности, а напротив, дал бы себе летний досуг на обсуждение того, насколько такие возражения, как Манасеина, могут быть с пользою для дела приняты в соображение. Пазухин слишком увлекся теориею и буквою своего проекта и недостаточно вник в практическое осуществление проекта. К тому же отложить рассмотрение проекта до осени имело бы и ту выгоду, что тогда не пришлось бы делить обе части проекта, и явилась бы возможность безостановочно рассматривать и первую часть, о земских участковых начальниках, и вторую часть, об изменении некоторых частей Земского положения. Выдерживать нападение оппозиции отдельно по каждой из частей проекта несравненно невыгоднее, чем представить обе части проекта на одно генеральное сражение, тем более, что одна часть проекта все-таки в связи с другою.
Казалось бы потому самому, что если в разговоре с гр. Толстым Государь, с одной стороны, поощрил бы его не спешить, а идти на совокупное рассмотрение обеих частей проекта осенью, а с другой стороны, внушил бы графу Толстому как можно более дать участковым начальникам свободного времени и как можно менее обременять его формальностями и сидячею работою, – было бы весьма и весьма полезно для дела. Главное, что нужно, это предоставление участковым начальникам возможности как можно больше и шире орудовать в области крестьянских дел между крестьянами и с помещиками.
[19 апреля[645] ]
От [К. К.] Случевского, постоянно вращающегося около Бобрикова, узнаю, что какая-то сильная придворная партия, страшно негодуя против Вышнеградского, поклялась, будто, его погубить. Насколько это известие вероятно, не знаю, но если связать его с теми страшными криками озлобления, которыми наши матроны большого света закидали Вышнеградского за его проект о паспортном налоге, то удивительного тут ничего нет. В этом отношении важно одно только: принять в соображение, что если правда так сильно вопиют в известных сферах против Вышнеградского, то это несомненно доказывает, что он очень деятельно работает, настойчиво проводит свои идеи и свой план и не взирает ни на какие личные соображения: кому понравиться, кому угодить. Пока был ничего ровно не делавший Бунге, при котором мы на всех парах долетели до пропасти, и скрытые враги государства орудовали во всех гнездах министерства, чтобы поскорее кувырнуть машину, никаких криков в тех же высших сферах против Бунге не было, все молчали, и дело шло к роковой развязке безмолвно и беспрепятственно. Бунге и его люди держали в молчании всех министров, потому что всем сверхсметным кредитам он давал ход, а отказывал только в помощи промышленности и частным лицам. Теперь наоборот. Вышнеградский принялся за дело с иным взглядом и признал невозможным вести хозяйство при сверхсметных назначениях. Следовательно, кого же как не министра N или министра NN он сразу против себя мог вооружить.
Дай Бог только, чтобы Государь верил ему и не колебался, зная наперед, что нет той гадости, которая не будет пущена в ход, чтобы подорвать доверие к Вышнеградскому, в особенности теперь, когда первые шаги его управления дали уже известные результаты положительные к лучшему. Надо дать времени, кажется мне, пройти настолько, чтобы можно было судить о человеке не по толкам и словам, а по фактам и данным.
Впрочем, и я записываю себя к числу обвинителей Вышнеградского, и ему лично на сих днях передам мое обвинение. Оно серьезно. Вышнеградский работает как вол с 8 утра до 12 вечера, это несомненно, но он слишком надеется на свои собственные силы и совсем игнорирует шипящих вокруг него весьма ядовитых змей. Змеи эти – наследие Бунге: [А. А.] Рихтер, дир[ектор] Д[епартаме]нта оклад[ных] сбор[ов], [В. И.] Ковалевский, его вице-директор, [А. С.] Ермолов, директ[ор] Департ[амента] неокл[адных] сборов, [Е. Е.] Картавцев в Двор[янском] и Крест[ьянском] банках и [Н. П.] Забугин, вице-дир[ектор] Департ[амента] таможни. Все это ярые красные и враги Вышнеградского, не стесняющиеся это высказывать громко à qui veut l’entendre[646]. Вышнегр[адский] хочет по-видимому управлять с ними и делать то, что он хочет, не прогоняя этих господ. Здесь заблуждение ужасное. Эти люди не дадут Вышнеградскому действовать и непременно начнут сперва его подводить, а потом или им вертеть по текущему делоотправлению или соединятся с врагами Вышнеградского в высших сферах, чтобы ему везде мешать и неизбежно испортят все дело даже тогда, когда им не удастся сломить Вышнеградскому шеи. На днях был уже один подвод по проекту Пограничной стражи[647]. Забугин, в Д[епартаме]нте таможни, составил записку для отзыва военному министру, но так, что некоторые соображения Вышнеградского были нарочно исковерканы, и части записки оказались в разладе с Высочайшею волею по этому вопросу. Составив записку, Забугин и Кя так распорядились, что доставили ее как раз в минуту отъезда Вышнеградского в Гос[ударственный] совет, и Вышнеградский, спеша и ничего не подозревая, взял на лету записку, не подписал даже ее второпях, и лично передал военному министру. Оказалось, что записка эта вызывает бурю возражений в Военном м[инистерст]ве, тогда как в заседании комитета по этому вопросу Вышнеградский вовсе не расходился в существе с военным минист[р]ом. И этого рода подвод со стороны департаментов уже не первый случай. Вот почему совершенно уверен, что пока Вышнеградский не решится удалить Картавцева, Ермолова, Рихтера, Ковалевского и Забугина (последний – просто анархист!), дотоле не пойдет М[инистерст]во финансов твердо и решительно на пути возрождения.
[30 апреля 1887[648] ]
Увы, надо сознаться, что слабость графа [Д. А.] Т[олстого] как министра внутр[енних] дел идет crescendo[649], и нигде уже не видать каких бы то ни было проявлений энергичного действия правительственной власти там, где только энергия может не то что в данном случае покарать, но произвести надолго сильное влияние на умы. Все идет, как будто не нужны проявления энергии и сильной власти, и это-то беда; ибо если в какой-нибудь деревне насилие, произведенное крестьянами, им сходит, как говорится, то через месяц весть об этой слабости правительственного воздействия облетает уже целый уезд, а в 3, 4 месяца целую губернию, и тогда уже приходится иметь дело с целыми местностями, зараженными, как гангреною, уверенностью, что правительство попускает крестьянские насилия. Выписал из газет следующие два поразительные случая[650].
В Пензенской губернии в Инсарском уезде:
«Г-жа Тучкова, принявшись по смерти мужа за ведение хозяйства в своем имении Долгоруковом, долгое время никак не могла справиться с крестьянами. Нынешний год она решила нанять себе управляющего. Управляющий был нанят, и 17 марта вступил в заведывание имением. Первым делом его было позаботиться о прекращении беспорядков, чинимых местными крестьянами. Ближайшим же результатом его деятельности было то, что управляющий был найден убитым. Убийство, как оказывается, по словам корреспондента “Московских ведомостей”, было решено не отдельными лицами, а целым сельским сходом, вместе с сельскими властями, и приведено в исполнение при деятельном участии последних. Дело было так. Несколько человек было отправлено к управляющему с целью вызвать его из дома. Когда это было сделано, то толпа человек в 70 крестьян окружила его на дворе с кольями и цепами в руках. Управляющий, поняв, в чем дело, попросил лесника принести ружье и стал просить крестьян пропустить его обратно домой, угрожая выстрелами. Толпа пропустила его; но пошла за ним. Дорогу пересекли другие крестьяне с кольями, с сотником и десятником во главе. Десятник прыгнул на плечи управляющему и ухватился за ружье. Раздался выстрел, ранивший одного крестьянина. Это на минуту отвлекло внимание толпы, и управляющему удалось убежать в сад. Но скоро за ним побежали. Начали его бить цепами, дубинами и камнями. Дружными усилиями дело скоро было окончено. Убедившись в этом, толпа было разошлась; но скоро вернулась и, найдя, что управляющий “очень живущ”, стала потешаться над мертвым».
Из Гродненской губернии:
«Слоним. В “Виленск[ом] вестнике” читаем: назад тому 18 лет крестьяне двух соседних деревень Переволоки-Заболотья и Переволоки-Смовжов для удобства добровольно заменили свои земельные участки, заключив об этом домашним порядком сделку. Крестьяне первой деревни в течение этого времени на замененных участках окончательно истощили почву, а последние сделали свои участки более плодородными. Наконец крестьяне Переволоки-Заболотья вздумали отнять от своих соседей свои бывшие участки. Вначале было они обратились за содействием в местное волостное правление и к участковому мировому посреднику; но везде получили отказ, так как на основании закона по давности утратили права собственности. Собравшись в своей деревне на сельский сход, крестьяне деревни Заболотья порешили самоуправно завладеть оспариваемыми участками, для чего составили приговор в таком смысле, что если кто-либо из них откажется в назначенный день явиться на поле с сохой и не примет участия в драке, если она возгорится, то тот должен “грумаде”[651] уплатить в виде штрафа 5 руб. В назначенный день, а именно 26 марта сего года, вся деревня высыпала на участки крестьян Переволоки-Смовжов. Те, разумеется, заметив непрошеных гостей, с своей стороны, поспешили на поле. До прибытия сельского старосты ни та, ни другая сторона, как будто в ожидании чего-то, не решалась начать драку; но как только он явился с кандидатом старшины, то первый начал драку, а за ним последовали его односельчане. Завязалась драка не на жизнь, а на смерть. Не разбирали тут ни стариков, ни детей, ни женщин, ни родства. Кстати сказать: эти две деревни состоят между собою в родственных отношениях. Взрослые женщины и дети обеих сторон, слившись в одну общую массу, вцепившись друг другу в волосы, наносили удары кто дубьем, кто камнем, кто чем попало. Бил сын отца, дочь мать, брат брата, сестра сестру. Поднялся раздирающий душу крик, стон раненых. Раненые, обливаясь кровью, валялись на земле. Дети обеих сторон, взятые родителями для подмоги в драке, с варварским ожесточением бросали каменьями в противников своих родителей. Трех женщин, опасно раненых, отправили в больницу; кто остался с подбитыми глазами, у кого до неузнаваемости изуродовано лицо, у кого выбиты зубы; редко кто не был ранен. Дело пока передано полицейской власти; но чем оно кончится – неизвестно; только побежденные крестьяне деревни Переволоки-Заболотья собираются снова с большой силой на своих победителей, крестьян деревни Смовжов».
Случаи эти наводят на вопрос: что же делать? Мне кажется, что если бы министру внутренних дел указаны были эти случаи, как проявления слабой власти, и такие ужасные преступления, как убийство управляющего целою толпою, немедленно вызывали бы военно-полевой суд, и тут же на месте преступления – то один или два примера беспощадного применения военно-полевого закона повлекли бы за собою действие устрашающее на всю Россию. В этом нельзя сомневаться. [А. К.] Анастасьев в Черниговской губернии, после одной военной порки в местности[652], где распущенность и дерзость крестьян дошли с течением лет до невообразимых пределов, не только усмирил одно это местечко и нагнал на него страх, но этот страх разошелся молвою по всей губернии, и теперь крестьяне шелковые и за 100 шагов снимают шапки, когда барин едет, а прежде так губернатору не кланялись.
[Конец апреля[653] ]
Из дневника
Катков опять здесь – призванный спасать Делянова и его клику, по вопросу о гимназиях. Господи, что за трясина это министерство, что за мертвечина, что за позорное холопство перед Катковым. Больно и отвратительно, ибо сотнями считаешь в несчастной молодежи ежегодно погибающих молодых душ, жертв этой бездушной трясины и этого пресмыкания перед катковским ригоризмом и диктаторством.
Слышу по городу толки об уходе сумасшедшего [И. П.] Новикова, но только толки; он все еще сидит, когда ежеминутно в припадке самодурства он может выкинуть штуку такую, что потом не наплачешься. Как будто людей с сердцем нет! А только это и нужно.
Слышу также толки о том, что К. П. Поб[едоносцев] публично будто говорит о пользе замещения Делянова [М. Н.] Капустиным. Капустин – умная и способная голова; но тут вот что важно. Во-первых, Капустин все-таки человек партии: он принадлежит к известному кружку профессоров, а теперь прежде всего нужно полное беспристрастие в учебном деле. Во-вторых, Капустин тоже сильней головою, чем сердцем; он до известной степени сух и затем имеет свои антипатии и симпатии в учебном деле. А в-третьих – Капустин только что начинает, и очень хорошо начинает, учебное дело в Остз[ейском] крае: взять его оттуда теперь, значило бы не только прервать удачно начатое дело, но погубить это дело.
Грешный человек, я верю с фанатизмом в одно: надо таких людей в учебное дело, которые были бы под благословением Божиим, а не мудрствовали лукаво; дело так важно, что прежде всего нужно на нем благословение Божие, а для этого надо искать людей любящих и верующих, те поведут и спасут дело, а Катковы погубят его. Вот почему я так настоятельно позволил себе остановиться на [В. Г.] Коробьине, как на светлом душою человеке. Любо смотреть, как он семью воспитал, какой светлый и чистый дух царит в его семье: этот дух он перенес бы во всю область Мин[истерст]ва народного просвещения; везде зажглась бы любовь, и теоризм и педантизм с его холодным мраком исчезли бы! Вот почему так бы хотелось, чтобы прежде Государь хоть раз поговорил бы с этим человеком, чтобы проверить мои слова.
Слышу от И. Н. Дурново, что [М. С.] Каханов не примирился с мыслию бездействовать, а метит в преемники [Д. М.] Сольскому, на случай, если его болезнь усилится – расчет его основан будто на ненависти К. П. Поб[едоносцева] к тому человеку, который как бы естественно двадцатилетним опытом в этом учреждении с его начала при [В. А.] Татаринове стоит подготовленным принять это дело в час, когда Царь этого захочет, к Т. И. Филиппову; а тут еще разошедшийся за последние годы с Филипповым с боку [М. Н.] Островский – ну и давай строить интриги. Понятно, не верится в успех такой интриги, но заношу ее в Дневник, как характерный эпизод времени.
15 мая
Вероятно, Вы не посетуете на меня за то, что именно сегодня после молитвы за Вас пишу Вам эти строки под впечатлением памяти Дня, низведшего на Главу Вашу и в Душу Вашу благодать Божьего наития.
Не будь Ваше дело трудно, страшно трудно, не имело бы глубокого смысла размышление и сосредоточение над мыслью о пребывании на Вас и над Вами Всемогущего Божьего Духа. В делах человеческой славы легко забыть нужду в помощи Божией. Но в Вашем деле, на Вашем пути, где все труд, все бремя, все препятствия, связь с 15 маем 1883 года ощущается ежеминутно, связь царствования с Богом, его ведущим. Думаю и верю, что Вы это чувствуете и видите постоянно и не поддаетесь вследствие этого ни унынию, ни сомнению, ни отчаянию.
В моем представлении Ваш путь невообразимо трудное и неблагодарное дело, но при свете свершаемое, а не безвыходное дело, во тьме совершающееся. В этом вся разница, дающая бодрость, веру и силы. Я никогда Вас не вижу во тьме или одиноким. Вы всегда освещены лучами 15 мая и всегда с Вашим Руководителем. Чистота Вашей жизни – это хранилище света и храм Божией помощи для Вашего царственного пути. И да будет так всегда.
Либералы ждут реформ, западники желают конституции, анархисты хотят разрушения, нервная и беспокойная интеллигенция хочет чего-нибудь нового, помощь государственная от министров и госуд[арственных] людей далеко не достаточная и не мешает, увы, обманам играть свою роль, – все это вместе составляет сущность Вашего страшно трудного положения.
Да, но зато в каждую трудную минуту Вас Бог не оставляет и не оставит, и обман под лучом, Вас осеняющим, рассеется и обличится, и слабая помощь того или иного слуги Вашего Вами восполнится лично, и Вы поднимете бремя, и Вы справитесь с тяжелым трудом дня.
И, правда, так много еще чудного в вседневной жизни многомиллионного русского народа, так много в ней нужд и сторон, которым Царская помощь нужна, – что нельзя иначе как бодрым идти вперед и глядеть на трудный путь!
О да, много прекрасного можно сделать, много злого можно побороть, лишь бы вера была, как источник бодрости!
Эту веру и эту бодрость да хранит и да множит в душе Вашей Бог, вот моя сегодняшняя молитва и те слова, с которыми дерзаю невидимо предстать пред Вами, приветствуя со днем 15 мая. В этом смысле это день увеселения и отрады для всякого любящего Вас бескорыстно!
Ваш старый слуга.
Более чем когда-либо, ссылаясь на Ваши добрые слова перед отъездом, смею умолять Вас о свидании, ибо невтерпеж высказать Вам многое и поделиться с Вами многим, что должно быть Вам сказано, как достойное того и нужное Вам, а потому, если только есть малейшая возможность уделить часок, умоляю, уделите его!
Понедельник 11 мая
Сегодня было бурное заседание в Соединенном присутствии департ[амен]тов Госуд[арственного] сов[ета] в честь проекта новых реально-профессиональных училищ, представленного министром нар[одного] просвещ[ения] и написанного во дни оны [И. А.] Вышнеградским. По этому поводу последний сказал сегодня, как мне сообщали, очень хорошую речь. Невзирая на то, что этот проект очень толково составлен, и эти училища – отвечают всеобщей нужде, наши юристы и мудрецы либералы в Госуд[арственном] совете сочли своим священным долгом составить крепко сплоченную оппозицию, весьма напоминающую тех торговцев в Милютиных лавках[655], которые на вопрос: «Апельсины есть у вас?», отвечают: «Апельсинов нет, но лимоны есть». И в самом деле, мин[истр] нар[одного] просв[ещения] представляет проект таких профессиональных школ, в которых в России молодые люди всех сословий могли бы в сравнительно короткий срок получить законченное, применимое на месте образование, а господа члены Госуд[арственного] совета, в ответ на эту общую нужду, сочиняют оппозицию во имя каких-то милютинских старого фасона гимназий[656], так назыв[аемых] общеобразовательных, с правом служить переходною школою для высших учебных заведений. Ясно, что одно – лимон, а другое – апельсин. А что оппозиция эта беспочвенная и дутая, доказательством тому служит, что все министры, у которых есть школы и училища, за проект Делянова – Вышнеградского, а против – лишь теоретики-либералы.
Но Боже праведный, что за размазня, что за безалаберщина в том же М[инистерст]ве народного просвещения по вопросу об университетах и гимназиях… Катков не хочет уменьшения гимназий, Катков не хочет изменения устава университета, а между тем надо что-нибудь же делать с хаосом и сумбуром, царствующими в университетах и в гимназиях. Деляновым играют, как куклою, и велят ему лгать и кривить душою перед Государем – когда нужно доказывать, что гимназии не следует сокращать, что университеты не следует доводить до 700, 800 студентов.
И, увы, чую, что ничего не выйдет, кроме усиления раздражения и в учащейся среде, и в России против этих педагогического мира бесхарактерности, бессердечия и безобразия.
Кому не известно, например, что вся главная, давнишняя суть беспорядков в университетах кроется в профессорах и в ректоре в Петербурге?.. Ведь часть профессоров, – их любой студент назовет по имени, – прямо и не стесняясь проявляет себя политическим врагом правительства, ведь не было дня, чтобы эти мерзавцы не науськивали студентов в какой-либо аудитории к духу вражды против правительства; ведь [И. Е.] Андреевский, ректор университета, это глубоко беспринципный человек, сто раз менявший свои убеждения и всегда для правительства негодный, ненадежный и даже опасный… А между тем, что делает Делянов с своею компаниею к борьбе с этим главным злом? Он оставляет Андреевского во главе университета, а в виде правительственного агента предлагает в попечители округа сумасшедшего [И. П.] Новикова, и Петербургский университет с ватагою в 2500 человек доходит до такого состояния анархии, что в данную минуту никто и уяснить себе не может: с чего начать, что делать. Ряд бестактностей Андреевского скомпрометировал правительство, вооружил студентские массы, усилил дерзость дурных профессоров и затем привел самих Делянова и Кию в вопросу: не закрыть ли университет?
Ну закроют, а потом что? Опять начнется, когда откроют его, та же беспринципность? Ведь закрыли же Киевский университет[657]. Была возможность убрать всю профессорскую дрянь, была возможность определить комплект не свыше 500 студентов?
Нет, открыли вновь университет, и те же остались профессора, и ту же массу студентов, где половина лишняя, вогнали в университет, и тот же хаос вернулся.
Смею думать, что если бы Государь благоизволил категорически изъявить Делянову, что Он желает, 1) чтобы все ненадежные профессора были удалены из университета, 2) чтобы ректором был назначен человек честный, преданный и энергичный, и 3) чтобы в попечители округа был назначен способный и энергичный человек (трудно ли взять одного из директоров кадетских корпусов, напр[имер] 3-го[658]), и 4) наконец, чтобы число студентов было сокращено до minimum’a, если бы Государь это одно высказал Делянову, то уже какое-нибудь определенное начало положено было бы в основу дела приведения в порядок этого нынешнего хаоса. Делянов не посмел бы ослушаться Государя и слушаться Каткова.
[Май 1887]
[В. К.] Плеве позвал меня сегодня к себе. Я недоумевал, признаюсь, из-за чего: приятное ждать от зова Плеве немыслимо, а неприятное за что? – в последнее время, если, по словам [И. Н.] Дурново, на что-нибудь против меня жаловаться, то разве на то, что «Гражданин» слишком хорошо себя ведет и никаких грешков пикантности себе не дозволяет. Приезжаю и узнаю, что Плеве пригласил меня от себя только для конфиденциального сообщения мне, что гр. [Д. А.] Толстой сетует на меня за то, что я так настойчиво говорю в «Гражданине» о сокращении гимназий и прогимназий, – что совершенно противно его мыслям и его убеждениям. Я слегка озадачился.
– Значит, граф Толстой находит, что 200 гимназий и прогимназий классических на Россию не слишком много?
– Кажись, что так, – отвечал Плеве, – во всяком случае, граф находит, что из-за одного прискорбного университетского эпизода не следует делать вывода о необходимости сокращения гимназий.
– Да когда этот случай открыл глаза.
– Я вам одно могу сказать: я лично, да и не я один, а многие разделяют ваше мнение, но вы знаете, что это больное место графа.
Маленький этот эпизод характерен. Больное место графа, et voilà![659] Больное место графа противопоставляется больному месту России, и первое считается важнее второго. Это в высшей степени грустно. И вот в этом-то духе теперь сидят, думают и соображают великие мудрецы педагоги [А. И.] Георгиевский, [Н. А.] Любимов и Кия и, сбираясь у Делянова, выслушивают изречения оракула и господина своего – Каткова…
Ни факты, ни цифры – ничего они знать не хотят… Сколько было гимназий, столько и будет! Ни пансионов не нужно, ни интернатов, ни улучшения надзора, ничего. Что и как было, то пусть будет! А что ежегодно все 200 гимназий и прогимназий выпускают из своих стен до 10 000 юношей, выбрасываемых в омут жизни ни на что не годные и не окончившие гимназического курса – это им все равно: пусть гибнут.
Вот мы устроим профессиональные реальные училища по новому плану, туда пойдет большинство молодежи, а в гимназиях и прогимназиях наплыв уменьшится сам собой! – говорят мудрецы педагоги.
И тут неправда. Они очень хорошо знают, что главная приманка гимназии это университет, и не потому, чтобы учиться, а чтобы добиться чина; сыну дворянина лестно быть гимназистом, чтобы чин получить и сделаться барином. Вот где кроется зараза и растление.
Отчего же, если добросовестно отнестись к вопросу, не прийти к таким соображениям:
Гимназии нужны для университетского образования: хорошо; опыт доказал в течение нескольких лет, и доказал неопровержимо убедительно, что 1) из 100 гимназистов, поступающих в гимназии, переходит в университет от 8 до 10, значит до 90 пропадают, 2) что из 10 поступающих в университет из каждой гимназии только двое по окончании унив[ерситетского] курса получают в течение первых трех лет после выпуска места, значит, складывая все гимназии и все университеты, получаешь такую цифру: ежегодно из университетов России до 800 студентов, оканчивающих курс, остаются в течение первых трех лет после выпуска без места и без пропитания, и 3) из 100 человек, поступающих в университеты, до 60 не оканчивают в них курсов, значит ежегодно кроме 800 человек, окончивших курс, выпускаемых в нищие, до 2500–3000 студентов, не оканчивая курса, выпускаются в жизнь пролетариями и нищими.
Откуда же все эти массы?
Из гимназий – понятно. А идут они из-за чина и из-за стипендий.
Отсюда выводы простые и поразительно ясные для всякого 9-летнего ребенка, но только не для нынешнего Министерства нар[одного] просвещения, ведущего под ферулою[660] Каткова и из страха больного места гр. Толстого учебное дело и самую Россию к большой опасности.
Выводы таковы:
1) Гимназии и прогимназии надо сократить в такой пропорции, чтобы средним числом в каждом учебном округе приходилось по одной гимназии и по одной прогимназии на 2 губернии.
2) Чтобы суммы от сокращения числа гимназий и прогимназий употреблены были на устройство пансионов или интернатов в каждой гимназии и прогимназии.
3) Чтобы прогимназия всегда находилась там, где гимназия, если не в одном здании, то в том же городе, чем достигнется единение духа в ведении обоих заведений, сокращение расходов и большая легкость находить учителей.
4) За воспитание в гимназии и в прогимназии должна взиматься плата не менее 200 р. в год в провинции и 300 рублей в Москве и в Петербурге, а для неимущих должен быть допущен известный процент или штат казенных пансионеров на общем основании по полученным на экзамене баллам.
5) При поступлении в университеты от каждого выдержавшего экзамен зрелости требуется за университетское образование плата по 200 рублей в год и сверх того реверс[661] в том, что он обеспечен в своем существовании в размерах не менее 50 рублей в месяц в столицах и 40 рублей в других городах. Затем казенные пансионеры из гимназий поступают в университеты по выдержании экзаменов казенными же пансионерами студентами и должны жить в казенном общежитии, но отнюдь не на частных квартирах. При этом все стипендии должны быть уничтожены. А в университетах, чтобы студенты учились и не могли иметь возможность тратить в стороне время, должны быть установлены полугодовые обязательные репетиции.
Вот мысли, которые потому записываю в Дневник, что они результат мнений в высшей степени добросовестных и толк знающих в этом деле людей, начиная с самих студентов и кончая такими практиками педагогами, как [Н. А.] Вышнеградский, например.
Но, увы, в М[инистерст]ве народного просвещения всего боятся – кроме ответа перед Богом за судьбы России, и студентов, и профессоров-либералов, и газет, и графа Толстого, и Каткова с его мрачным и бездушным упрямством, и все вопросы стоят в оцепенении[662].
Еще раз должен вернуться к ужасному делу в с. Долгорукове Инсарского уезда Пензенской губ. убиения управляющего имением целым сельским обществом.
То, что я предвидел с опасением и страхом, то и случается. Вся местность кругом охвачена духом самого дерзкого вызывающего настроения против всего, что есть помещичье.
Сегодня был у меня один из братьев, совладельцев этого злополучного имения[663], и с ужасом говорил мне, что тот факт, что это убийство предано обыкновенному течению судебного процесса, произвел на всю губернию двойное впечатление: на всех помещиков он произвел удручающее, подавляющее впечатление; всех объял ужас; на крестьян, наоборот, этот же факт произвел ободряющее впечатление: везде, и в этой местности специально, ждали военного суда, и вдруг простое следствие судебного следователя! Крестьяне подняли головы и говорят: «Ну, теперь держитесь только господа помещики и управляющие».
А в «Моск[овских] ведом[остях]» оттуда вот что пишут[664]:
«На третий или четвертый день после убийства в Долгорукове, управляющий в селе Иссе выехал в поле делить с крестьянами землю. Дело в сельской жизни важное. Произошло несогласие. Крестьяне подняли крик, шум, и тут же убедили управляющего согласиться на их требования. “Ты лучше не противься, ведь тебе ведомо: одного спровадили, – и тебя спровадим; мир велик, острогов на всех не хватит”.
Такие же угрозы со стороны крестьян сыплются и на управляющего имением в селе Бутурлине».
По-моему, страшно опасно оставлять это дело без внимания сверху. Это первое преступление пока еще на Руси, обществом крестьян совершенное, и тяжелую ответственность на душу берут те, которые стараются затмить перед Государем весь ужас и всю опасность такого выходящего из ряда преступления.
Тут необходимо сразу остановить в зародыше такой страшный вид злодеяния, тут необходимо, чтобы наказание грянуло, как гром, и испугало всех. Отдать это дело общему ходу судебного процесса, это в глазах народа все равно, что сказать: убивайте, режьте, ибо народ, увы, изведал опытом, что такое общий уголовный суд.
Что же делать теперь?
Мне кажется, что прежде всего следовало бы проверить факт, не доверяясь ни М[инистерст]ву внутр[енних] дел, ни М[инистерст]ву юстиции, и послать Царского посланца, как прежде делалось, флигель-адъютанта Государя на место; затем, если факт подтвердится, то предать обвиняемых военно-полевому суду. Уже одна посылка флигель-адъютанта Государя на место произведет сильное действие и там, и по всей России. Это несомненно.
Привожу из газеты «Современные известия»[665] глубоко впечатляющий рассказ о суде над человеком, 40 лет честно служившим своему Государю и Отечеству, и тем не менее не пощаженным военным судом.
Мне кажется, что вот одно из тех дел, в котором милосердие Царя, без просьбы даже, по непосредственному так сказать проявлению и наитию, произвело бы потрясающее благоговением впечатление из конца в конец России.
Я представляю себе возможность осуществления этой благой мечты следующим образом. Государю могла попасть под глаза эта газетная статья, здесь прилагаемая; Он бы мог от военного министра потребовать сведение: правда ли то, что напечатано, и если правда, какая прекрасная возможность: объявить осужденному полную Царскую милость во внимание к 40 годам честной службы.
Сколько благословений вознеслось бы к Богу и осенило главу обожаемого Монарха[666].
Из Харькова, 19 апреля. (Дело отставного капитана Радыгина.)
«Три дня тому назад на скамье подсудимых в Харьковском военно-окружном суде сидел скромный человек в военном мундире отставного армейского офицера, с загорелым лицом, с глубокими темными глазами, смотрящими грустным взглядом. На вид ему можно было дать не более 40–45 лет; на самом же деле – этому человеку за 60. Какое же преступление, какое злодейство привело его, на склоне лет, на закате жизни, на эту позорную скамью? А вот послушайте. Поступив в 1845 году на службу из крестьян Вятской губернии рекрутом в один из карабинерных пехотных полков, о которых ныне сохранилось лишь одно воспоминание, о которых мало кто из молодых офицеров и знает, – рекрут Радыгин начал проходить тяжелую, суровую школу николаевского солдата, обязанного служить двадцать пять лет. Проходил он ее с честью, безупречно; произведен был сначала в унтер-офицеры, а затем сделался и фельдфебелем. В 1860 году он уволен был в бессрочный отпуск, и чем занимался в это время – неизвестно. Но наступает 1863 год; по случаю возникшей войны с польскими повстанцами Радыгин вновь призывается на службу и в 1867 году, выдержав экзамен, производится в первый офицерский чин – прапорщика, будучи 42 лет от роду. С этого времени начинается новый период его служебной деятельности. Как прежде исправный солдат, так и теперь он строгий, исполнительный офицер, отличаемый начальством; по воле начальства, он странствует из части в часть и попадает, наконец, в 71 пех[отный] резервный батальон, квартирующий в Воронеже. Здесь он получает за отличие по службе чин штабс-капитана и назначается заведывающим оружием. Начальство аттестует его прекрасно, ходатайствует перед командующим войсками округа об оставлении его на службе, так как по закону преклонный возраст его (в 1885 г. ему исполнилось 60 лет) не позволяет ему долее оставаться на службе. Ходатайство это уважается, и ветеран Радыгин продолжает свою честную деятельность. В прошлом году явилась необходимость произвести переснаряжение холостых патронов по новому образцу; работа серьезная и опасная, требующая самого строгого отношения к ней, самой неусыпной бдительности и внимания, и командир батальона поручает эту работу штабс-капитану Радыгину, как самому усердному и исполнительному офицеру.
Между тем на штабс-капитане Радыгине лежит и без того масса служебных обязанностей: он заведует батальонной швальней, пороховым погребом, оружейной мастерской и др. Всюду ему надо побывать, за всем присмотреть, обо всем похлопотать. Не помню, кто-то утверждал на суде, что штабс-капитану Радыгину необходимо было сделать ежедневно до 30 верст, чтобы побывать во всех вверенных его надзору учреждениях. Вот при каких условиях приступил он к операции переснаряжения патронов, начавшейся 6 мая. С обычной энергией принялся он за новое дело; переснаряжение производилось успешно и уже приходило к концу: оставалось переснарядить последнюю тысячу; но тут то и случилось то роковое событие, которое сделало честного, хорошего офицера преступником. Около 2 часов по полудни, 16 мая, когда штабс-капитана Радыгина не было в батальонной лаборатории, произошел взрыв четырех фунтов пороха, находившегося в одном из ящиков. Последствия взрыва были печальны: шесть человек нижних чинов, работавших в лаборатории, в том числе и унтер-офицер, назначенный в помощь штабс-капитану Радыгину, получили ожоги, причем трое из них настолько сильные, что они причинили увечья, сделавшие пострадавших неспособными продолжать службу ни в постоянных войсках, ни даже в государственном ополчении. Радыгин немедленно был отрешен от должности, а вскоре после того и совсем уволен от службы. В чем же его вина?
Прокурорский надзор усмотрел вину в том, что им не были соблюдены все те правила, которые установлены законом при производстве пороховых работ, и признал его виновным в бездействии власти.
Спрошенные на предварительном следствии трое наиболее пострадавших нижних чинов показали: 1) люди, назначенные для производства работ, не осматривались перед входом в лабораторию; 2) работали, не снимая сапогов; 3) пол и нары лаборатории не покрывались брезентом и рогожами, и 4) работы производились иногда в отсутствие шт[абс]-кап[итана] Радыгина. Остальные свидетели этих обстоятельств не подтвердили. На судебном же следствии первые свидетели изменили первоначальные свои показания и, под присягою, показали, что все требования инструкции соблюдались, и, находясь под перекрестным допросом сторон, упорно стояли на том, что люди осматривались, что сапоги снимались, что пол и нары были покрыты рогожами и брезентом. Но еще важнее свидетельских показаний для Радыгина была экспертиза. Три эксперта, вызванные в суд, из которых один – по требованию прокурорского надзора, единогласно дали заключение, что взрыв 16 мая был результатом роковой, неотвратимой случайности, самой, так сказать, природы существа производившихся работ; что если бы все правила были соблюдены в самой строгой точности, то и тогда взрыв мог бы произойти. И это подтверждал артиллерийский полковник, академик[667], начальник полигона, имеющий постоянно дело с лабораторными, пороховыми работами, не только теоретически, но и практически изучивший это дело. Таким образом, для обвинения не оставалось по-видимому никакого материала. Но обвинитель стал отрицать правдивость показаний трех свидетелей, данных ими на суде, под присягой, находя, что они даны под влиянием, а что, напротив, показания, данные у следователя, были искренни и независимы; что унтер-офицер Терехов, сделавшийся неспособным к личному труду вследствие полученных им увечий, не может относиться к виновнику катастрофы враждебно, а напротив, – должен быть ему благодарен за преждевременное увольнение его от службы. Во-вторых, обвинитель утверждал, что вся экспертиза есть не более как измышление праздной фантазии, и следовательно верить ей нельзя.
Можно посмотреть совсем иначе. Разнородие свидетельских показаний, данных на предварительном и судебном следствиях, можно объяснить тем, что у следователя они давались менее спокойно, под влиянием раздражения, вполне естественного у людей пострадавших, – у следователя, который, как офицер, есть в “некотором роде” начальник. Когда же раздражение улеглось, когда им священник и председатель суда напомнили о святости присяги и о том, какая тяжкая юридическая и нравственная ответственность на них ляжет за ложное показание, данное под присягой, когда они целовали крест и св. евангелие в подтверждение правдивости своих слов: тогда по-видимому не должны бы они утверждать то же самое и относительно экспертизы. Трое сведущих людей совершенно сходятся между собою в объяснении, истолковании известного факта, и их упрекать в фантазерстве!
В последнем своем слове подсудимый сказал: “Что я могу сказать, ваше превосходительство; я едва здесь сижу. Обратите внимание на мою долголетнюю, беспорочную службу, на мои лета, на мою семью”…
После четырехчасового совещания суд вынес обвинительный приговор, коим признал отставного капитана Радыгина виновным в бездействии власти, приговорил его к содержанию на гауптвахте в течение трех месяцев, с ограничением прав. На меня этот приговор произвел удручающее впечатление; невольно прошибала слеза. Как же, думалось мне, этот старик, посвятивший всю свою жизнь, сорок с лишком лет, службе Престолу и Отечеству, должен будет лишиться и той скудной пенсии, которую он заслужил пóтом и кровью? А что станется с его семьей, состоящей из трех подростков и одной глухонемой дочери? А его доброе имя?..»
Сегодня обедал у меня Вышнеградский. Мы были втроем и могли поговорить по душе; третий был Т. И. Филиппов. Цель этого обеда была поговорить с И. А. Вышнеградским насчет его врагов. В моих главных мыслях встретил полную поддержку со стороны Филиппова. Я сказал В[ышнеградск]ому, что, насколько мне известно, враги его делятся на две категории: первая – те министры или сановники, которым он как управляющий Минист[ерством] финансов не признает возможным отпускать или испрашивать сверхсметные кредиты. Это враги, по-моему, не опасные, так как всякий, кто честно служит Государю, может опираться на Его доверие и врагов этого рода не бояться, ибо там, где правда, там будет за нее Государь. Но опасны враги второй категории, это те лица в его министерстве, которые были предателями при Бунге и доселе остаются при нем, ибо эти люди 1) мешают доступу к Вышнеградскому в м[инистерст]во всякого порядочного человека, и 2) где могут, мешают всякому делу, когда оно идет в разрез с их направлением или с прежними традициями, и 3) рано или поздно могут подвести Ив[ана] А[лексееви]ча, и непременно подведут.
Следовательно, удаление этих вредных лиц нужно в интересах самого дела. Но кроме того удаление этих известных лиц нужно и как нравственное удовлетворение, как первый сигнал, возвещающий всему порядочному люду, что служба в М[инистерст]ве финансов не терпит отныне динамитчиков и двоедушных.
Иван А[ндрееви]ч, выслушав меня, согласился со мною, – и затем поставил вопрос ребром: кто эти лица?
Я назвал: [А. А.] Рихтера, дир[ектора] деп[артамен]та, [Е. Е.] Картавцева, [В. И.] Ковалевского, вице-д[иректо]ра, [Н. П.] Забугина, вице-дир[ект]ора Тамож[енного] деп[артамен]та, и к этому списку прибавил: заведомо динамитчика и анархиста [П. А.] Корсакова, назначенного по ходатайству Рихтера при Бунге управляющим Петерб[ургскою] казенною палатою.
На это В[ышнеградск]ий сказал, что уход Рихтера решен, что касается Кар[тав]цева, то он медлит потому, что только теперь обнаруживаются безобразные последствия его ведения дела Крестьянского банка, и он хочет дать трем или четырем случаям отказа крестьян от купленных ими с помощью Крестьянского банка земель ясно привестись в известность, чтобы на основании их выяснить всю ответственность Картавцева, затем его уволить, и затем назначить человека, которому не пришлось бы расхлебывать заваренной Карт[авцев]ым каши, а дело вести очищенным. Мысль верная!
На вопрос наш: когда это будет, он сказал, что летом, после закрытия Госуд[арственного] совета, он начнет заниматься личным составом минист[ерст]ва.
– Что же касается двух вице-директоров, – сказал В[ышнеградск]ий, – то мне кажется, что не следует ли прежде попробовать их повести в мою дорогу, ибо они люди способные и дельные, и как умные люди, они поймут, что выгоднее идти со мною, чем против меня.
На это я ответил В[ышнеградско]му с живостью и убеждением, которые вполне поддержал Филиппов, и которые, к счастью, очень подействовали на В[ышнеградск]ого.
– Мысль эта, верная в теории, не новая, – сказал я, – вот 30 лет, как я слышал ее не раз в государственных сферах: лучше впрягать в свою запряжку умного негодяя, чем пускать его на свободу или впрягать вместо него благонадежного, но неспособного. Вот теория, которая с разными вариациями привела Россию к нынешнему положению, когда ищешь с фонарем две вещи: 1) власть, и 2) порядочного человека. Нет, это теория на практике неверная и опасная. Пока в запряжке есть один ненадежный человек, он будет ваш во все время, пока вы за ним будете смотреть, а чтобы смотреть за ним в оба, вам придется много тратить времени специально на то, чтобы смотреть за ним; но зато, едва вы отвернетесь на миг, едва вздремнете на миг, этот ненадежный человек может перекувырнуть весь ваш экипаж; пока есть одна крыса на корабле – опасность грозит кораблю от 1000 крыс; чтобы опасность избегнуть надо, чтобы ни одной не было крысы. Да кто лучше их самих эту истину практикует; вы церемонитесь выгнать Забугина и Кию, а они, посмотрите, как они действуют; они захватили все М[инистерст]во финансов при Бунге и не допустили ни одного консерватора, ни одного не их партии; они дружно сплотились и никому, кто не ихний, нет ни пощады, ни доверия, и будь теперь на Вашем месте тот Забугин, которого Вы хотите запрячь в свою запряжку, а вы будь на его месте, знаете, что сделал бы Забугин, он сейчас бы вас прогнал, клянусь вам.
В этом роковое наше бессилие: мы все церемонимся с негодяями и мерзавцами, а они, дружно сплачиваясь, ведут против нас ловкую и скрытую осаду. И рано или поздно, пока мы с ними будем церемониться или будем друг с другом в разъединении, они нас подведут или вздуют… Нет, нет и нет; ненадежных людей надо гнать, гнать и гнать, как гонят они нас, иначе рано или поздно они или вас сгонят или дело ваше испортят.
В[ышнеградск]ий почти убедился и после минуты молчания – сказал: «Да, это верно, верно».
Филиппов обратился к В[ышнеградск]ому с вопросом: говорил ли он с Государем об этом вопросе о личном составе с точки зрения его намерений.
– Я потому это спрашиваю, – сказал Филиппов, – что предвидеть могу минуту, когда Государь вас спросит первый: а что же негодяи, которые у вас, не убраны еще?
На это В[ышнеградск]ий сказал, что он не считает себя в праве говорить с Государем о своих намерениях без вызова на то самого Государя; а только тогда должен говорить об этих лицах, когда являюсь с фактами в руках и с деловым, так сказать, по этому вопросу представлением. Мне все кажется, что я не имею права переступать границ делового общения, в особенности в начале, когда может быть доверие Государя я еще не заслужил в той мере, в какой оправдывался бы разговор не прямо о деле, а в области намерений.
– Простите меня, – обратился я к Вышнегр[адскому], – но я в этих словах ваших слышу влияние четверговых ваших обедов у М. Н. Островского.
Вышн[еградский] засмеялся.
– Отчего так? – спросил он.
– Оттого, что я не знаю государственного человека, который имел бы более фальшивое представление о личности Государя, чем Островский, и об обязанностях совести, вытекающих из представления об личности Царя. Островский убедил себя, что чем более человек является перед Государем накрахмаленным чиновничьим духом и навьюченным бумажными материалами, тем отношения его к Государю правильнее. Но Островскому это простительно, ибо 1) он наш, то есть служит Самодержавию, только со вчерашнего дня, а 2) он в полном смысле слова чиновничья душа; в нем нет ни глубины, ни высоты, и он добродушно верит, что перед Государем надо быть во всеоружии чиновничьей хитромудрости, а о том, что надо быть с душою открытою как перед Богом и на всей высоте благородства, он понятия не имеет. Оттого он мог вас научить не выходить из строгой области дела министерского в отношении Государя.
Но вам непростительно было бы смотреть на этот важный вопрос глазами Островского, ибо 1) вы человек по убеждению консерватор и не новый, а 2) вы живой человек, а не чиновник. Наоборот, я совершенно твердо убежден, что только тогда вы можете приобрести полное доверие Государя, когда станете в отношениях своих на твердой почве, а чтобы почва эта могла быть тверда, надо, чтобы для Государя все было освещено и ясно, как днем, и нигде не оставалось бы ни тени, ни темной щели, ни повода для вопроса. Вот вы нам объяснили в кратких словах, почему вы не гоните Картавцева немедленно, мы выслушали и безусловно преклонились пред вашими мыслями; ручаюсь вам, что столь же ясно и коротко ваша обязанность выяснить этот вопрос перед Государем, не дожидаясь Его вопроса, ибо этим вы только освещаете и уясняете почву, на которой вы предстоите перед Царем. В чужие дела вмешиваться, этого, я понимаю, Государь не любит в министрах, но в своих делах каждый министр, мне кажется, должен не только с портфелем, но и с душою предстоять перед Ним.
– Я одно могу только сказать, – заключил Филиппов, – что чую в словах Влад[имира] Петровича правду.
После двухчасовой беседы мы расстались. Вышнегр[адский] горячо благодарил меня за мои искренние речи, видимо ими впечатленный, и мы пришли к решению, что надо сходиться и толковать чаще.
Воскресенье вечер [7 июня[668] ]
Пишу эти строки, вернувшись к уединению и тишине после долгой беседы с И. А. Вышнеградским и Т. И. Филипповым, обедавшими у меня.
Беседа эта имела разнообразный интерес. Прежде всего Вышнеградскому пришлось подвести итог только что окончившемуся зимнему политическому сезону.
– Прежде всего, – сказал он, – устал маленько, должен сознаться; во вторых, собою не доволен.
На вопрос мой: «Отчего?» он ответил:
– А тем недоволен, что не довольно твердо отстаивал интересы казначейства против разных требований. Но одним утешаюсь: все-таки сколько хватило сил, отстоял кое-что, а главное поучился чему-нибудь; и если даст Бог мне за второй год управления приняться, то школа нынешнего года и уступчивость по тому или другому вопросу даром не пропадут. Я, вероятно, буду чувствовать себя более оперенным на знание дела, и Бог даст, буду тверже. В третьих, продолжал Вышнеградский, интриг не оберешься, а в четвертых, и это я оставил себе, как говорится, pour la bonne bouche[669], ни интриги, ни усталость, ни дующиеся против меня члены Госуд[арственного] совета, ничего меня не смущает и не тревожит, так как я вынес отрадное убеждение, что работа для Государя есть работа для России, и в этом смысле она есть не труд, а наслаждение, ибо для Государя ничего не существует, кроме дела и правды. Сторонних соображений нет и, работая для Него, именно потому наслаждаешься, что чувствуешь все время, как говорит пословица, что за Царем служба не пропадает. Для меня это совсем новое ощущение, но оно прекрасное.
Заговорили о Сибирской жел[езной] дороге по проекту [А. Н.] Корфа и [А. П.] Игнатьева[670]. Вышнеградский ее оценивает в 80 миллионов; но, по его мнению, есть соображение пошлин на один чай, которые могут в случае проведения железной дороги дать до 3 мил. металлических рублей в год, не говоря о громадном значении присоединения de facto[671] Сибири к России, относительно хотя бы добывания золота, которое, по его мнению, должно учетвериться. Но весь вопрос, сказал Вышнеградский, в К. Н. Посьете. Он будет против дороги, потому что чует, что она не ему достаться может, а военному ведомству.
– А что лучше, – спросил я наивно, – [М. Н.] Анненков или Посьет?
– Понятно Анненков. Посьет прекрасная личность, Анненков – из Хлестаковых, это несомненно, но у Посьета зато есть Василий Васильевич Салов, а у Анненкова никого нет, кроме голодненьких сподвижников. У Салова целая плеяда инженеров-monstres[672], которые без малейшего труда дорожную смету в 80 миллионов обратят в 150 миллионов, и Салов будет их отстаивать, хоть сам и не возьмет ни гроша, – из принципа, из упрямства и из легкомысленного самолюбия. Ну а Анненков поставит себе за гонор построить дешевле, а это много значит.
Говорили о проекте реальной школы, бывшем в Госуд[арственном] совете[673].
– Хотя, откровенно признаюсь, – сказал Вышнеградский, – что один лишний год, по-моему, много значит в местной провинциальной жизни для училищного воспитания первоначального, но все же нельзя не радоваться тому, что в этом виде измененный проект все-таки решает спор в нашем смысле. Вопрос закрывается, и конец. Все попытки привязать эти училища к высшему образованию рушились. Это главное, и слава Богу.
Самое отрадное для меня было то, что заговорили мы о том вопросе, который я считаю одним из важнейших, если не важнейшим, и без которого, что ни делай, не поправишь экономического положения России. Вышнеградский не только согласен со мною безусловно, но он даже просил меня чем могу помочь ему приступить к этому вопросу. Вопрос этот заключается в приведении в известность и ясность по всей России: что платит крестьянин казне в виде прямых сборов и что он платит земству и другим, необязательных разных сборов? Привести это в известность можно в один год посредством одновременных командировок по каждой губернии известных лиц, для объезда волостей (у министра внутр[енних] дел до 40 чиновн[иков] особ[ых] поручений, у министра финансов до 60 чин[овников] особ[ых] поручений и податные инспектора[674], у губернатора каждого по 4 чиновника особ[ых] поруч[ений]). Затем, по приведении в известность всех платежей, можно будет самым легким образом совершить самую важную и коренную экономическую реформу, а именно определить: сколько необязательных платежей можно сократить и насколько можно будет увеличить прямые платежи в казну? По приблизительному расчету можно ожидать таких цифр: можно будет на каждую душу сбавить до 7 рублей необязательных платежей и на 3 рубля увеличить платежи в казну; а 3 рубля составит до 35 миллионов увеличения дохода не только без обременения, но с облегчением крестьянину общей суммы платежей.
Но весь вопрос сводится к тому, чтобы подвинуть на сообщество в работе графа [Д. А.] Толстого.
Вопрос этот я лично изучил в течение тех семи лет, когда я ездил по России. Это было почти 20 лет назад. Уже тогда, даже при подушных, крестьянин, как показывали мне цифры, платил в казну почти втрое меньше, чем на земство, волость, сельское управление и т. д.
Говорили мы также о проекте водочной монополии[675] с точки зрения выгод не столько для казны, сколько для государственного благосостояния.
Казенная монополия водки должна, кроме увеличения дохода, главным образом иметь два результата:
1) поднятие мелкого винокурения, а через это и сельского хозяйства среднего, и
2) ослабление губительного действия кабака на народ, как союзника кулачества и всех агентов спаивания народа.
Говорили мы о злых гениях Вышнеградского, то есть о тех, которых для блага его же как можно скорее следовало бы удалить из министерства. Их три, главных врага: [А. А.] Рихтер, [Е. Е.] Картавцев и вице-директор Таможенного департ[амента Н. П.] Забугин.
За первого Вышнеградский уже принялся и, кажется, готовит ему преемника; за остальных двух он не принялся еще, но думает приняться в течение года. Дай то Бог, а то они его начнут грызть прежде, чем он их съест.
– Верьте моему нюху, – сказал я в заключение Вышнеградскому, – они ваши заклятые враги, и рано или поздно они вам это докажут.
На среду мы сговорились продолжать беседу у него на даче.
Плохи наши финансы, это бесспорно, но чтó наше экономическое положение сравнительно с европейскими государствами, если судить по цифре платежей.
В России платят по 14 % с души.
В Германии – по 26 %.
В Австрии по 46 %.
В Италии по 55 %.
Во Франции по 72 %.
В разговоре о Пермской выставке[676] Вышнеградский высказал сожаление, что не удалось ему убедить [Г. Г.] Даниловича испросить у Государя позволение сделать для раздачи от имени Цесаревича не 2, а 10 золотых медалей, то есть по одной на каждый отдел, тем более, что стоимость каждой медали не превышает 117 рублей. При двух медалях явится затруднение, какой выбрать отдел; явится вопрос: почему именно этот отдел, а не другой, и невольно остальные отделы почувствуют себя обиженными и огорченными.
[Июнь, не ранее 7 июня[677] ]
Один ум хорошо, а два лучше! После того, что установлены были, благодаря милостивому сочувствию Государя, основания предпринимаемого с Божиею помощью мною издания газеты[678], в разговоре с людьми, сочувствующими этому делу, родилась замечательно хорошая мысль. В настоящее время потребность в ежедневной газете стала всеобщею; но в то же время надо помнить, что все читающее газеты общество очень резко и наглядно делится на две части. Одна, меньшая часть, интеллигенция больших центров, высшее общество, сановники и общественные деятели высших кругов и учреждений, словом, все то, что дает, так сказать, характер и направление общественной и политической жизни. Эта меньшая часть читающего люда требует газеты дорогой и большой, ибо она воспитана на наших больших столичных газетах, да она дешевую газету и читать не станет, пиши в ней гений: так уж сложились привычка и понятие. Дешевая газета – это mauvais genre[679] для этого меньшинства. Затем вторая часть – это большинство читающего люда: провинциальные чиновники, купчики, духовенство, часть мещанства и крестьянства. Тут требуется прежде всего дешевая газета. Вот по совещании с типографиею мы и решили так. С 1 октября будет выходить одна большая газета в 15 рублей – «Гражданин».
С 1-го же января, с Божиею помощью, будут выходить из той же редакции две газеты, одна дорогая, «Гражданин», и другая, дешевая, 4 р. в год, под названием «Россия»[680]. В ней будет помещаться с сокращением и выкидками главный набор из большой газеты, так что стоимость издания дешевого будет при существовании большой газеты ничтожная: расход на бумагу, на переложение того же набора из большой газеты в маленькую, печать, и больше ничего. Один лишний помощник редактора, et voilà[681]. При чем является важное экономическое соображение: дешевая газета при объявлениях может, если даст Бог, с первого же года принести чистый доход, так что этот доход пойдет на расходы по большой газете и уменьшит потребность в субсидии против сметы, так что есть основание надеяться, что на второй год прийдется просить субсидии на большую газету вдвое меньше против первоначального предположения.
По-моему, это гениальная мысль, ибо сразу достигается возможность не только пропагандировать здравые и нужные идеи в интеллигентных сферах, но в массе читающего люда в провинции, которая, за неимением порядочной газеты, накидывается на всякую печатную дрянь, лишь бы она была дешевая.
А что это не утопия, доказывает мой журнал «Воскресенье». Случилось небывалое с ним явление: первый год издания, июнь месяц, и уже 221/2 тысяч подписчиков! И подписка продолжается до сего дня непрерывно. И масса приходящих ко мне от простого люда писем с благодарностью за направленье (и много от молодых крестьян) доказывает несомненно потребность в хорошем направлении и дает сильное основание надеяться, что успех дешевой газеты, при хорошем издании и добросовестности, можно ожидать с Божьею помощью в тот же год.
[После 6 июня[682] ]
В разных кружках происходят толки, вызванные мерами строгости против двух журналов, по требованию Посьета, за статьи, против его ведомства направленные и писанные [К. О.] Скроховским. Скроховский этот – тот самый инженер, который первый обратил внимание на страшные денежные злоупотребления в Главн[ом] обществе, и благодаря которому казна получила право начета в 14 мил. рублей на Главное общество[683]. Скроховский весьма понятно теперь оскорбленный и глубоко смущенный в своей воинствующей деятельности против М[инистерст]ва путей сообщений человек. Он не только пострадал за свой поход, но он, так сказать, пал жертвою в неравном бою, ибо по требованию Посьета Управление по делам печати издало циркуляр, на основании которого, под угрозою кары, запрещаются к печатанию всякие статьи до отношений М[инистерст]ва пут[ей] сообщений к Главному обществу относящиеся, и где Скроховский выставлен подстрекателем и защитником каких-то подпольных будто бы и вредных агитаций.
Правда, что Скроховский пишет слишком резко и недостаточно обузданно, но в нравственных интересах правительства было бы желательно, чтобы такое давление на печать и Дамоклов меч, висящий над всею русскою печатью только по вопросам, касающимся щекотливости М[инистерст]ва путей сообщений, не существовали, ибо невольно производят смущение в печати и в обществе. Такие угрозы правительства в то же время раздражают умы, а главное, невольно ведут к мысли, что ненавистное всей России Главное общество рос[сийских] жел[езных] дорог находится под особым покровительством правительства и в особом у него фаворе и что это покровительство вызвано общим будто бы и у М[инистерст]ва путей сообщений, и у Главного общества интересом скрывать какую-то неприглядную правду.
А между тем Главное общество – это подтверждают цифры – это ужаснейший вертеп грабежей и мошенничеств, против казны направленных. И недавно обнаруженный Контролем сообща с М[инистерст]вом финансов наглый обман Гл[авного] общества, посредством которого (по совету [В. В.] Салова) оно получило за истекший год не 1/4 %, а 1/2 % прибыли в раздачу акционерам, и ряд лет причиняло казне убыток в 11/2 миллиона и больше просто мошенническою проделкою, – громче всяких статей Скроховского свидетельствует о страшном вреде, наносимом казенным интересам Гл[авным] обществом, и совсем ставит в тупик перед вопросом: что значит это поразительно пристрастное отношение такого высоко честного человека, как Посьета, в пользу Гл[авного] общества и против всякого, кто с точки зрения русских государственных интересов нападает на Гл[авное] общество и обличает его несомненные мошенничества? На этот вопрос в Контроле и в М[инистерст]ве финансов один печальный ответ: Посьет окружен умными клевретами Главного общества и совсем ими заколдован. Но дело в том, что в таком случае само собою возникает сильное защитительное слово в пользу Скроховского, ибо какие его проступки не были бы, но тот факт, что он при своем знании и уме мог бы от Главного общества, чтобы молчать, получить вдвое и втрое больше тех клеврет Посьета, которые его окружают и агитируют в пользу Главного общества и против Скроховского, и ничего не получил и живет только своим трудом и своими изобретениями, ставит Скроховского в наш век высоко под охрану правосудия и побуждает прощать ему все!
Во всяком случае, желательно было бы, чтобы то, что ни один министр не требует себе и о чем ни один министр никогда не просил, запрещение писать против своего образа мыслей или действий по тому или другому вопросу, было бы ограничено самыми крайними случаями относительно Посьета, если нельзя совсем это право признать ему не принадлежащим. В особенности крайне было бы в интересах нравственных правительства желательно, чтобы циркуляр по делам печати, о котором говорил, и в котором запрещено обсуждать действия М[инистерст]ва пут[ей] сообщ[ений] относительно Гл[авного] общества, был бы отменен. Посьет рассердится, но зато казна может выиграть много.
[Середина июня[684] ]
Обедал сегодня у Вышнеградского на даче. Узнал от [Т. И.] Филиппова, что он собирается в заместители зловредного [А. А.] Рихтера, предложить шурина Филиппова[685], человека труда и дельного. Но о других заместителях пока нет речи.
После обеда, вернувшись к себе домой, пришел, размышляя, припоминая, связывая в одно все слышанное о Вышнеградском и по поводу его, к убеждению, что вряд ли в России есть человек с более трудною ношею на плечах, чем [он], кроме самого Государя, bien entendu[686].
С одной стороны, он всего 51/2 месяцев у дела; это раз, и у дела совсем нового. Во-вторых, он окружен или врагами, или недоброжелателями, или равнодушными, в виде подчиненных, следовательно должен и может полагаться только на самого себя. В-третьих, между коллегами, государственными людьми у него все недоброжелатели, только одного желающие: неудачи, без всякого серьезного внимания к вопросу, что дело не в Вышнеградском, а в человеке, желающем поправить финансы русского государства. В-четвертых, принял он наследие от Бунге с колоссальным дефицитом в исполнении росписи. И в-пятых, наконец, принял он этот дефицит в самое острое время экономического застоя во всех сферах жизни в России…
Действительно, положение ужасное.
С одной стороны, надо принимать немедленные меры к погашению дефицита; раз они спешны – эти меры, они не могут быть достаточно обдуманны, они идут спешно; значит, на них легко нападать, если кому нужно выступать против Вышнеградского лично. С другой стороны, надо посреди этой лихорадочной спешности думать и много работать над принятием радикальных финансовых мер для поправления финансов в России.
А легко ли это, когда так глубоко испорчен путь нашей финансовой политики – внешними неоплатными займами и полною зависимостью от еврейской Европы. За доказательствами идти не далеко, – нужно было во что бы то ни стало облегчить положение заемщиков Взаимного поземельного кредита и выйти из безвыходного положения; что же можно было сделать? Очевидно, ничего другого, как конверсию, а что такое конверсия?
Конверсия эта – это 1 % процент выгоды для заемщиков Взаимн[ого] поземельного кредита, 10 % выгоды для владельцев закладных листов Вз[аимного] позем[ельного] кредита, 40 % выгоды для главного агента конверсии, [Н. Н.] Сущова, и 60 % выгоды Ротшильду и Кии. И Вышнеградский это сознает, и все это сознают, но что же делать, когда вследствие ряда лет нашей финансовой политики, чисто внешней, нет возможности физической найти другой исход.
Это в одном виде. А вот эпизод другого вида. И. Н. Дурново очень основательно добивается преобразования Московского Технич[еского] училища высшего в Ремесленное[687]. Вышнеградский сочувствует этой мысли, но высказывается против. Это что же такое? Гадость? Да, в строгом смысле, как он сам говорит, гадость; но какое же ее оправдание? Оправдание, по-моему, серьезное: «Московское купечество просит меня быть за высшее техническое училище». «Мне до зарезу нужно московское купечество иметь за себя для финансовой политики будущего», – прибавляет Вышнеградский. И он прав, ибо если он имеет в виду постепенно сделать эту политику более русскою, то с самого начала своего управления возбуждать против себя московское купечество в вопросе для Министерства финансов чужом, – весьма неполитично, ибо тогда он лишается сочувствия этого купечества во всех будущих своих вопросах. И рассуждения его верны.
– Вы можете, – говорит он Дурново, – в крайнем случае поправить Ваше дело. Ну останется Техническое училище. Вы можете весь персонал переменить, исключать сколько угодно воспитанников, и в конце концов улучшить дух и направление училища. А я, если после поданной мне купечеством просьбы прямо пойду против, я себе устрою для своей финансовой политики зло непоправимое; а потому не лучше ли мне, так сказать, устраниться от решения вопроса.
И вот чуть ли не ежедневно приходится в эти первые месяцы обходить подводные камни и мели, прежде чем прямо и храбро идти в море.
– Я лично, – сказал я Вышнеградскому, – я не разделяю вашего мнения. Во-первых, это не в моей натуре лавировать и заискивать, а во-вторых, с вашим умом, право, вы могли бы московское купечество себе подчинить, а не заискивать у него… Но я вас понимаю; это притча Евангелия на слова: сотворите себе други от мамоны[688].
Перейдя очень естественно к другому вопросу, я нахожу, и сказал это Вышнеградскому, что его непременная обязанность – приобресть купечество русское на свою сторону совсем иным путем.
Путь этот прост и практичен: поехать в Москву, поласкать его, поговорить с ним, и затем поехать на Нижегородскую ярмарку, и там поговорить с ним, выслушивать его.
К сожалению, наши государственные люди ужасно тяжелы на подъем в этом отношении, и я очень боюсь, что моя проповедь Вышнеградскому о безусловной необходимости побывать в Москве и в Нижнем останется гласом вопиющего в пустыне, если только эту же мысль не признал дельною Государь, и не высказал бы ее Вышнеградскому. Он бы мог ее просто даже выразить в виде вопроса: «Не поедете ли в Москву или в Нижний на ярмарку?» Это было бы равносильно изъявлению желания. А нужно это очень.
У Вышнеградского, [скажу] со свойственною мне откровенностью, кроме многих недостатков есть один, существенно ему вредящий: он так вечно занят головною работою и заботою, как выйти тут, как выйти там из крутого положения, что он совсем не умеет принимать людей и просителей, ни любезно, ни даже просто внимательно, не умеет им отдавать хоть секунду времени и атом полного участия. Ну раз уж этот недостаток есть, то понятно, что поездка в Москву или на ярмарку, выслушивать из 100 глупых речей одну умную, со всеми любезничать, и т. д. это кажется ему каким-то восхождением на Арарат или Монблан.
Но затем что же?
Затем скажу с тою же откровенностью, я твердо уверен, после 4 месяцев наблюдений со стороны, что с Божиею помощью Вышнеградский выйдет из затруднительного положения и вывезет машину финансов с мели на воду, если никакие экстерные события не помешают ему довести до конца свой план прежде всего избавиться от дефицита, до конца.
Я слышу от многих такие рассуждения: эка хитрость, сочинять новые налоги, это всякий сумеет, и Бунге это сумел делать. От Вышнеградского другого ждали. Он сам в своей записке осуждал одинаково и мелочные налоги, и мелкие ограничения расходов в роде урезываний и придирок; а как стал во главе финансов, начал то самое делать, что осуждал в своем предшественнике. Эти рассуждения и обвинения мне кажутся слегка легкомысленными и неосновательными.
Если бы Вышнеградский не оставил, вступив в управление, все как было в мелочах, и прямо принялся бы за осуществление крупных финансовых реформ, с старыми людьми и с принятым состоянием кассы, то в конце года могло бы вот что случиться: проекты экономических мер крупных были бы далеко еще не кончены, но зато дефицит возрос бы до 200 мил., и в казне не было бы ни гроша, и страшный банкрот шел бы рядом с проектированием крупных экономических реформ.
Вышнеградский писал свою записку, зная Министерство финансов только en gros и à vol d’oiseau[689]. Но когда он вошел в него и разглядывать стал его en détails и de près[690], тогда, увы, им овладели два чувства: страх за пустую государственную кассу и скряжничество за каждую копейку. Страх за немедленный, почти неизбежный банкрот казначейства вынудил его немедленно же приняться во что бы то ни стало за пополнение кассы всеми возможными мерами решительными и быстрыми, в виде налогов à la minute[691], и займа внутреннего, без которых нельзя было бы выворотиться. А с другой стороны скряжничество родило в нем – временно – неизбежную, роковую так сказать потребность везде, где возможно, урезывать каждую копейку.
А рядом с этим он приступил к медленной и обдуманной работе серьезных и коренных изменений в системе взимания доходов, более производительной.
Так что мне кажется, винить его теперь за то, что он в это горячее, острое время как бы себе противоречит, вряд ли основательно. И чтобы быть справедливым, надо это право обвинять беречь до двухлетних по крайней мере результатов его хозяйничанья.
Минуты рождают проекты финансового управления. Например: со дня на день казна может без всякого отягощения кого бы то ни было получить minimum 20 миллионов, стоит только обложить налогом сахар рафинированный. Я плачу 15 коп. за фунт сахара; мне ровно ничего не стоит платить вместо 15 коп. 18 копеек, а 3 коп. с фунта в казну; но оказывается, что ранее 2 лет вследствие принятого на себя правительством обязательства казна не может увеличивать сахарного акциза, и рафинад не может облагаться.
Один проектер представил Вышнеградскому гениальный проект, но для него нужно время для разработки, – облагать налогом 1 % всякий торговый расход. Я продал лес, покупатель приплачивает 1 % налога; он продает в свою очередь другому; другой приплачивает опять 1 % налога, и так со всеми видами торговли. Приблизительно этот ни для кого не обременительный налог 1 % приплаты может дать до 100 миллионов в год дохода.
[Середина июня[692] ]
Злобою дня для милого Ивана Николаевича Дурново это вопрос о судьбе Московского Технического училища. Узнал с благоговейною радостью, что опять-таки с простою мудростью и с мудрою простотою Государь дал исходную этому делу мысль безусловно верную – обратить высшее технич[еское] училище как бездельное – в ремесленное училище, как нужное.
Но разумеется наши теоретики либералы предпочитают, чтобы существовало высшее техническое училище, потому что оно пахнет чем-то либеральным и, в случае нужды, чем-то нигилистическим. Московские профессора-реалисты вдохновили добряков московских купцов, и те, как Панургово стадо, давай мычать за высшее технич[еское] училище в хор с газетами. Но от этого приходить в смущение вряд ли можно, говорю я Ивану Николаевичу: если крики Панургова стада так сильны, то это прямо значит, что вы попали как раз в больное место и центр, и эти-то крики и должны побуждать вас осуществить дело до конца. А через год те же купцы скажут: а умно поступило правительство, что обратило высшее техническое училище в ремесленное! Это неизбежно.
По этому вопросу в Дневнике «Гражданина» я написал нижеследующие строки[693]:
Один английский юрист сказал: «Во всяком преступлении ищут женщину»; а я, грешный человек, скажу, что когда в наших газетах поднимается громкий, ураганообразный вопль в защиту какого-либо образовательного учреждения, тогда это значит, что надо искать нигилиста. Все эти дни в московских газетах, Ланинских[694] и неЛанинских, стоит стон в защиту высшего технического училища, предназначавшегося ведомством учреждений Императрицы Марии к разжалованию. Ищите нигилиста, и вы сейчас найдете причину этого газетного рева в защиту неприкосновенности этого святилища высших технических наук!
Явление это не новость; к трусам, потопам и другим народным бедствиям можно быть равнодушным; беды хозяйства пустяки; безопасность помещика пустяки; а покушение на целость какого-то высшего технического училища – это почти нашествие Наполеона и двунадесяти язык. А между тем, стоит ли шуметь? – По-моему, нет! Неизвестно, как и почему, во дни оны, лет десять назад, нескольким проектерам и мечтателям Белокаменной удалось уговорить начальство учреждений Императрицы Марии взять на себя почин устройства в Москве высшего технического училища, и вот это начальство уделяет на осуществление проекта миллионы из сумм ведомства, призванного на них воспитывать сирот и лечить больных в России, – и созидается это знаменитое училище. Создалось и пошло… Но как? Оказывается, что шло оно уже с самого начала очень плохо: запустилась сейчас дисциплина; учителя и профессора учили премудростям кое-как, серьезного надзора никакого не было ни за учением, ни за поведением воспитанников, а сотни тысяч денег, между тем, отнимавшихся от простого и практического воспитания сирот, издерживались самым бесцеремонным образом, но результатов этого училища для техники вообще, и для Москвы в особенности никто не видел, нигилистов там насчитывали десятками, а на хороших техников-практиков и дробей-то было много для счета. Но замечательно, пока это училище так плохо шло и так много нужных и кровных денег поглощало для ненужного, – и вся печать, и все именитое московское общество молчало, точно так и нужно было для счастья Москвы, чтобы высшее техническое училище в нем оказывалось бесцельным и непроизводительным, и стоило бы миллионов…
Но вдруг, при новом взгляде на учреждение, начальство учреждений Императрицы Марии приходит к мысли, что грешно отнимать сотни тысяч от сирот и страдальцев, чтобы воспитывать людей, умеющих в крайнем случае делать солнце и луну, но не умеющих чинить сохи, и решается на практическое и коренное преобразование этого училища из ненужного в нужное, из бесполезного в полезное. И тогда, бррр… Канонада по всей линии московской печати, до того дружная, что грохот ее будит от сладкого сна интеллигенцию, и к общему газетному вою «караул», присоединяется голос граждан. «Москва гибнет, – вопиют они, – как, у нас хотят отнять высшее техническое училище!»
Но так ли это? Мне сдается, что нет; у Москвы нельзя отнять того, чего нет: высшего технического училища нет, а есть какое-то учебное заведение, которое возводит каких-то бедняков до высоты чуть ли не самого солнца в областях всякой смеси высших математических знаний, чтобы затем бросать их на мостовую, где этих делающих луну молодцов, и делающих ее скверно, – ждет голодная смерть, за неимением места, куда девать свои высшие технические сведения…
Мне сдается также, что если московскому обществу так дорого иметь высшее техническое училище для пускания их на небеса изучать солнце, то оно имеет полную возможность на свои миллионы учреждать и содержать высшее техническое училище; но в данном случае возвышать голос за отстаиванье на благотворительные деньги устроенного училища, оказывающегося начальству этого заведения негодным, это общество не имеет ни малейшего права или, во всяком случае, право весьма сомнительное.
Мне сдается также, что если Технологический институт в Петербурге оказывается один воспитывающим избыток высших техников, а харьковский уж подавно оказывается ненужным, в виду малого спроса на теоретиков-техников, то почтенное московское общество могло бы, вместо того, чтобы отстаивать свое техническое училище, доставать места и хлеб бедным петербургским и харьковским техникам по окончании курса…
Я думаю, что мне не одному все это кажется…
Во всяком случае, надо надеяться, что ведомство учреждений Императрицы Марии не смутится этих криков и пойдет твердо и разумно к своей цели: переделать высшее техническое училище теоретическое в практическое учебное заведение.
Секретно[695]
Суббота 20 июня
Картинка с натуры! Как я прав был, прося [О. Б.] Рихтера не откладывать до августа перевода в придворный оркестр молодого Рубина[696], а раз последовало милостивое разрешение Государя, совершить это теперь, чтобы не подвергнуть переводимого риску пострадать от мести адъютанта батальона [Д. А.] Озерова. Буквально то, что я предсказывал Рихтеру, случилось. Рихтер с Альбрехтом решили, чтобы не расстраивать стрелкового хора, бумагу о переводе Рубина хранить под спудом до августа, а затем его перевести. На днях является к Альбрехту другой музыкант того же оркестра, кончающий срок службы, предлагаться по найму. Альбрехт между прочим сообщает ему о предстоящем переводе товарища его Рубина; никто в оркестре ни в батальоне еще не знал. Тот возвращается в хор, и давай рассказывать о Рубине весть, переданную ему Альбрехтом. На другой день Озеров узнает об этом через своих шпионов в команде и приходит, по словам рассказывавшего мне сие капельмейстера, в такую ярость глупую и неприличную, что говорит капельмейстеру: этого не будет, я настрою командира[697] так, что он поедет к принцу [А. П.] Ольденбургскому, я погублю скорее этого мальчика, чем отдать его, я в отставку подам, я знаю, кто это интригует против меня, я и его скомпрометирую, я его оскандалю, у меня есть письма против него, и проч. и проч.
Капельмейстер говорит ему:
– Успокойтесь, Бога ради, Давид Александрович, вы себя компрометируете, неужели вы хотите для вашей фантазии губить целую семью, да и что вы можете, кроме вреда самому себе, успокойтесь, оставьте, пусть дело идет своим порядком.
– Нет, ни за что, – отвечает, весь дрожа от бешенства, миленький адъютант. Кое-как его однако успокоил капельмейстер. Первая картина.
Вторая картина. На другой день. Оркестр, играющий и живущий в Петербурге в саду Лаврова, вытребовывается утром в Царское на смотр бригадного[698]. Рубин ночью заболевает припадками судорог в животе и головокружения. Ему разрешает старший и капельмейстер в Царское не ехать. Приезжает оркестр. Адъютант обращается к капельмейстеру:
– Где Рубин?
– Он болен, я ему разрешил остаться!
– Потребовать его к 2 часам сюда по телеграфу.
Вытребовали раба Божия. Адъютант его призывает в 7.
– Как ты смел не явиться?
– Мне разрешил капельмейстер, ваше в[ысокоблагород]ие, я сильно болен.
– Вздор, мертвый, ты должен был явиться.
– Позвольте в лазарет, ваше в[ысокоблагород]ие, я стоять не могу.
– В лазарет? На гауптвахту на двое суток, там вылечишься!
– Слушаюсь.
Потом он его зовет в кабинет, запирает дверь, и начинается третья картина.
– Я слышал, что твой отец пролез к Государю с прошением, и что тебя в придворный оркестр берут.
– Не могу знать.
– Ну, а я тебе скажу вот что: этому не быть. Твой отец вздумал со мною бороться, хорошо, посмотрим, кто кого поборет, и если я его поборю, то знай, что я на тебе возмещу все, чем твой отец виноват против меня. Я ему ничего не могу сделать, но тебе, пока ты будешь у меня, я покажу, что значит в придворный оркестр проситься. Тебе сладко будет.
Рубин молчит.
Вероятно, сам испугавшись своих неприличных и глупых речей, адъютант, меняя тон, говорит:
– Вот что, лучше кончить все эти интриги, пускай твой отец примирится со мною, а ты останешься у нас.
Рубин молчит.
Тогда опять другим тоном.
– Ну ладно, переходи себе, может быть кривая вывезет, но смотри, чтобы после ни тебе, ни твоей семье ко мне не обращаться. Марш на гауптвахту.
Два дня просидел несчастный на гауптвахте, и в эти 2 дня даже не дали ему черного хлеба.
Но, отправляя его, адъютант прибавил угрозу:
– Смотри, чуть что, опять гауптвахта.
Несчастный отец чуть не сошел с ума, узнав об этом, хотел ехать в Петергоф просить милости и защиты. Я его удержал и поехал к Рихтеру, которого застал на пристани Петергофского пароходства в Петербурге, рассказал ему все. Рихтер обещал немедленно вытребовать Рубина в придворный оркестр, не дожидаясь августа, уже по той простой причине, что если адъютант собирается его держать больным на гауптвахте, то значит соображение деликатности о расстраивании хора не идет к делу, ибо он сам его расстраивает и не нуждается в Рубине. А главное, может хуже быть: бой не равен: малейшее слово Рубина, и он может быть отданным адъютантом под суд.
Воскресенье 21 июня
Завтракал и беседовал долго с [О. Б.] Рихтером. На душе тепло было. Старое вспоминали и задушевно говорили о Государе. У него чудный был возглас сердца, когда он так горячо сказал: эти люди не знают, что один только есть талисман, склоняющий Государя к тому, о чем Его просят – правда! Другого пути к Нему нет!
Я очень обрадовался тому, что на тему, как мал выбор людей для Государя, – Рихтер назвал того прекрасного человека, о котором и я столько думаю и говорил Государю, это [В. Г.] Коробьин. При этом я сказал Рихтеру, что тут опять курьезная и роковая встреча с Победоносцевым. Удивительная вещь. Победоносц[ев] училищный и классный товарищ Коробьина, 40 лет дружбы, Коробьин чтит эту дружбу, а Победон[осцев] не только не чтит ее, но, зная отлично, какой высокой пробы человек – Коробьин, он сторонится от него, он против его назначения в Госуд[арственный] совет, он вооружился бы всем арсеналом своих криков и рукоподыманий, если бы Государю вздумалось назначить на какой-либо пост Коробьина.
– Почему же это? – спросил Рихтер.
– Потому, увы, что Коробьин гора, утес нравственности и веры, а Побед[оносцев] только холмик, и холмик утесов не любит. Это единственная причина. Мало этого, в хоре с нашими умными государственными либералами, я вам ручаюсь, что Побед[оносцев] будет называть Коробьина ограниченным; car lui, comme tous ces fils du siècle ne supporte pas le spectacle d’un homme de bien, entier et vierge[699]… Это курьезная психическая черта у Побед[оносцева]. Он далеко не дурного сердца человек, он хороший человек, он бесспорно предан Государю, он большого ума человек; но я знаю его 30 почти лет, ну верите ли, ни разу не слышал от него теплого слова о человеке, когда этот человек стоял на пути к возвышению своими качествами; заговоришь с огнем о мысли, о деле каком-нибудь, о человеке, – моментально у Победоносцева набирается ушат холодной воды в душе, и он вас обливает!
И не из злобы, не из дурного чувства, но по какому-то роковому закону его характера. Мало того, случалось так, Побед[оносцев] похвалит или выделит какого-нибудь темного человечка, хорошего; через год прийдешь к нему и начнешь его хвалить, этого человечка, им же выдвинутого, что бы вы думали, Победон[осцев] начинает уже его побранивать, потому что другие его хвалят. Верх характеристики Победоносцева это эпизод с [Т. И.] Филипповым. Года два назад ему пришла в голову злополучная мысль взять себе в товарищи [Н. А.] Сергиевского, попечителя Виленского учебного округа, человека известного своею мизерабельною нравственною личностью. Делянов сообщает это известие Филиппову. Филиппов в ужасе, бежит к Побед[оносцеву].
– Правда ли, что вы собираетесь взять Сергиевского?
– А что?
– Да ведь он подлец.
– А кто нонче не подлец, – восклицает Победоносцев![700]
Это возглас Мефистофеля!
Филиппов рассказывает об этом Делянову.
– Ну зачем же подлец, – отвечает Делянов.
– Да как не подлец, – возражает Филиппов, – именно подлец.
– Подлец не подлец, а двоедушный и ненадежный, – отвечает Делянов…
Нет, – заключил я, – я об одном молю Бога: да возьмет в министры народного просвещения Государь Коробьина! У нас сложилось уродливое мнение, что для этого поста нужен какой-то ремесленник под названием педагог. Делянов под этим флагом специалиста сколько лет педагозирует. А вышло что? Он из учебного мира сделал, или попустил сделать, очаг революции и анархии. Вот! Именно для учебного мира нужен человек, как Коробьин: молодой сердцем, высоко чистый и честный, толковый и здравый умом, вне всякой партии, глубоко преданный Государю и обожающий правду. И к тому же любящее сердце и верящий в Бога! Бог благословит такой выбор Царя и благословит Коробьина в его деле и в его труде.
[Конец июня[701] ]
Недавно была в «Гражданине» статья об ужасном убийстве в Пскове, в котором какой-то ученик[702] Псковского землемерного училища, Баранович, осужденный к каторжной работе за убийство и ограбление одной купчихи, в сообществе с несколькими другими представителями учащейся молодежи.
В этом процессе, тянувшемся на суде довольно долго, происходило нечто замечательное и весьма достойное внимания, как я после узнал от одного из бывших на суде присяжных заседателей: это удивительная ревность и заботливость суда и прокуратуры, приложенные к тому, чтобы показания свидетелей и, вообще, все следствие на суде держались строго в рамке обстоятельств дела об убийстве несчастной купчихи и не переступали в область политического дела!
Защитникам благородных этих грабителей и убийц предоставлена была полная свобода доказывать присяжным заседателям, что их почтенные клиенты заслуживают не наказания, а сочувствия всего общества, так как все их прошедшее есть доблестный ряд подвигов борьбы за существование; но как только один или другой свидетель, на основании того, что он знал, приступал к пояснению несомненной связи обвиняемого с целою ассоциациею политических коноводов на разных фабриках и заводах в России и т. д., то прокурор и суд немедленно надевали на себя шоры, затыкали себе ватою уши и приказывали свидетелям возвращаться к делу, а не увлекать сторонними, к делу не идущими подробностями!
Странная заботливость, надо признаться!
Когда тому же суду нужно обвинить какого-нибудь дворянина только потому, что он дворянин; когда нужно тому же суду обвинить какого-нибудь правительственного чиновника или полицейского только потому, что он полицейский; когда тому же суду нужно обвинить какого-нибудь священника только потому, что он служитель Божьего алтаря: тогда и обвинитель, и суд, и гражданская сторона соединяются с трогательным единомыслием в одного человека, чтобы для обвинения подсудимого добыть всеми правдами и неправдами и нарисовать ужасную картину какого-то мрачнейшего прошедшего этого привилегированного обвиняемого, и, в силу этого заговора, чуть ли не всякий с улицы приглашается вводить в дело какие угодно сторонние обстоятельства, лишь бы они имели то достоинство, что марают и позорят имя подсудимого дворянина, чиновника или священника.
Но как только подсудимым явится интересный убийца, и интересность его заключается в очевидной для всех принадлежности к политической шайке разрушителей власти и порядка в государстве, – тогда немедленно его превосходительство суд и его превосходительство прокурор надевают на себя шоры и не хотят ведать иное, чем расследуемый факт, без связи с прошедшим или с другими делами политическо-уголовного свойства этого же времени. Было, например, знаменитое дело о беспорядках и буйствах и грабежах между рабочими толпами на громадной Ореховской фабрике в Московской губернии[703]; было крупное и сложное дело о бесчинствах толпы рабочих на одной из фабрик Тверской губернии; были такие же беспорядки между рабочими на одной из фабрик в Петербургском уезде, – по всем этим делам предварительное следствие обнаруживало несомненно то же, что было обнаружено в псковском деле об убийстве купчихи: связь между заграничными политическими анархистами и отдельными движениями рабочих то здесь, то там на фабрике в каком-либо промышленном центре России или, вернее, с подстрекателями, зачинщиками и устроителями этих беспорядков, а между тем по всем этим делам знаменитые шоры суда и прокуратуры производят чудесное превращение дела о рабочих беспорядках по заговору и почину политических преступников в простые отдельные эпизоды уличных случайных беспорядков чуть ли не мировому суду подведомственных!
Спрашиваю: отчего это так? Спрашиваю: отчего же высшее судебное начальство не обратит внимания на эти заведшиеся в его ведомстве шоры для целого ряда уголовных дел, имеющих связь и общение с политическими партиями пропаганды беспорядков за границею и у нас?
В псковском деле об убийстве богатой купчихи эти волшебные шоры и их магическое действие особенно бросались в глаза и особенно деятельную играли роль для отвода от дела всякого подозрения, что оно в связи с другими политическими кружками. Ведь в этом деле обнаружено действие целой шайки, любезно названной судом кружком; обнаружена связь с несколькими кружками в главных городах России; обнаружено, что, вернувшийся с почетным дипломом политического эмигранта из-за границы, убийца Баранович обворовывал и ограблял свою жертву для какого-то общего дела.
Да, обнаружено, и все до единого, наполнявшие залу суда по этому делу русские люди, кроме суда, прокуратуры и защитников, вынесли убеждение, что это дело должно быть рассмотрено в связи с другими фактами, кроме отдельного факта убийства купчихи; но благодатные шоры сыграли свою роль… и, благодаря им, все участники в этом преступлении разделены на три группы: одна группа – убийца-solo – отправляется заниматься садоводством на каторге… вторая группа – несколько соучастников – отправляется на поселение учить порядку и повиновению власти рабочих того отдаленного захолустья, где надзора и полиции мало; а третья группа участников – признана по суду оправданною, и… и… возвращена со скамьи подсудимых на скамью учащихся.
Отчего же это так странно?
Отчего эти шоры?
Для интереса прилагается статья «Гражданина» о псковском уголовном деле, на обороте[704].
«Интересное» дело, о котором я хочу говорить, мрачное убийство псковской купчихи Боговской, а «интересный» преступник – сперва эмигрант, а потом ученик землемерного училища во Пскове – Баранович. Обстоятельства дела, как они выяснились на суде, весьма характерны.
Молодой преступник поражал своею наглостью и дерзким цинизмом. Сын какого-то петербургского дельца, он покинул родительский кров и шатался за границей по фабрикам, получая что-то в роде 6–7 руб. в месяц: «Ему случалось есть один сухой хлеб», – с пафосом говорил его адвокат, как будто это сколько-нибудь относилось к делу. Затем он вдруг приезжает в Россию и поступает в Псковское землемерное училище. Но, будучи уже далеко не юношей, он по-видимому, кроме работ на фабриках, заводил для чего-то повсеместные связи в среде учащейся молодежи – в Петербурге, Москве, Варшаве и за границей.
Затем он вступает в ужасное, поражающее в молодом человеке, соглашение с несколькими юношами. Трудно представить себе, сколько в ином из нынешних, помалчивающих и ухмыляющихся юношей холодной беспринципности, жестокости и отсутствия нравственной сдержки. Этот таинственный Баранович вступает в соглашение с тремя инженер-технологами, чтобы, не разбирая никаких средств, добывать деньги в пользу шайки (ибо это «шайка», как бы суд деликатно не называл это скромным именем «кружка»), и которая по-видимому состояла не из одних этих лиц и добываемые самым низким образом деньги требовала от Барановича под какими-нибудь угрозами.
Баранович, по назначению кружка, как более для этого подходящее из шайки лицо, вступает в интимные отношения с молодой купеческой вдовой, купчихой Боговской, староверкой, которая видит в потерявшем образ человеческий юноше будущего мужа и увлекается им. Он же обирает ее самым наглым образом и уже располагает весьма большими деньгами. Куда шли эти деньги? – этого вполне из дела видеть нельзя. Он посылал и деньги, и бриллианты несчастной членам шайки, которые, конечно, за ним шпионили и требовали денег, обменивали бриллианты, спускали добытые бумаги и векселя. Он посылал их также и другим членам в Петербург и Варшаву, где он был близок с студенческими кружками. Неужели же (если эти «кружки» не были с ним в заговоре), неужели же, при виде стольких денег, появляющихся из рук товарища, у которого ничего своего не было, неужели им не приходил естественный вопрос: откуда брались они? В Петербурге есть студенческий кружок, который силился провести свой устав к утверждению, но правительство этот устав не разрешило. Баранович дает этому противозаконному кружку 3000 руб. И никто не поинтересовался и не знал, откуда! Будто бы? – странно!
Видя какую-то странную таинственность в поведении своего предполагаемого жениха, женская ревность заподозрила его верность, и Боговская, чтобы попугать его, пустила слух, что выходит замуж. Не питая в своей звериной душе никакого чувства к несчастной, он не мог понять и в ней ее сердечных движений. Он испугался, что она, как денежный мешок, уже пропала навсегда для его презренной шайки, и зверь этот убил несчастную топором, ограбив ее дочиста, обобрав все ее векселя и драгоценности, которые у него и найдены при обыске.
Шесть дней тянулось это дело. Более тягостного впечатления как этой учащейся молодежи эмигрантов, инженер-технологов, студентов – убивающих и грабящих, меняющих бриллианты и предъявляющих краденые векселя к протесту – более тягостного впечатления трудно себе представить, и мы говорить об этом далее не будем, пощадим чувства наших читателей. Обвинен один убийца Баранович и сослан в (несуществующие у нас) каторжные работы, да на житье в Тобольскую губернию один инженер-технолог, мошенничавший краденными бумагами. Остальные, пользовавшиеся ворованными деньгами, заведомые члены шайки или, по крайней мере, получавшие и пересылавшие деньги и не могшие не знать или не спрашивать себя, откуда они, – все эти лица оправданы и гуляют между нами и, быть может, подыскивают себе новую жертву…
Комментарии ко всему этому излишни.
Н. Б-в
[Июнь 1887[705] ]
Видел жительницу земли, обращенную в обитательницу небес от счастья, после свидания в Петергофе с Государем и с Государынею. Бедная старушка помолодела на 20 лет! Приезд ее в Петербург вызван драмою в деревне, где она живет столько лет. Драма эта, увы, удел немалого количества помещиков, которым теперь жутко приходится от бессилия в борьбе с безначалием и распущенностью крестьян, с одной стороны, и бездействием местных властей, с другой стороны. Старуха Шатова с женским персоналом родни живет уже годы в деревне в Харьковской губернии в Лебединском уезде и за последние годы стала терпеть ужасы от одного крепкого умом мошенника крестьянина, бывшего старшины, который наглостью держит весь околоток в страхе и, вступив в борьбу с бедною Шатовою, грозит теперь не только ее, но и весь дом ее уничтожить. Жаловалась она губернатору; послал он чиновника, ничего не вышло; местное земство как будто поддержало местного мошенника кулака. Теперь бедная старуха приехала в Петербург просить защиты у Царя. Я ей советовал написать краткую записку о ее невзгодах, на имя Царя.
Засим про себя думаю так: если бы по получении этой записки и просьбы Государь благоизволил бы то и другое переслать [Н. И.] Шебеке, дело бы получило желаемое для успеха направление. Если оно попадет к [В. К.] Плеве, то явилась бы опасность слишком медленного и мягкого производства. Смею полагать, что на записке Шатовой решительную роль сыграла бы Царская резолюция, указывающая исход. Например, такая: «Предписать губернатору строжайше расследовать, если нужно, удалить виновника смуты и донести Мне». Такого характера резолюция не только имела бы спасительное действие для бедной старухи Шатовой, но она имела бы громадное руководительное значение для губернатора, и произвела бы сильное действие на умы в целой губернии. В этом нет ни малейшего сомнения.
[Конец июня[706] ]
Не могу удержаться, чтобы не побеседовать с Вами о нынешней минуте – относительно переживаемого теперь кризиса в управлении Вышнеградского. Мне кажется, судя по всему, что слышишь и читаешь, особливо в германской печати, что мы переживаем теперь важную историческую минуту, от исхода которой зависит во многом наше: быть или не быть… Когда я увидел, как сильна ненависть к Вышнеградскому во всех руководящих сферах Берлина, политических и экономических, когда стало ясным, что, забыв всякое приличие, германская биржа и германская печать с каким-то небывалым бесчинством накинулись ронять наш курс и просто объявили экономической России войну, тогда для меня стало ясно, что Вышнеградский не с улицы первый взятый финансист, а весьма крупная личность, стоющая чести ненависти и ополчения всей Германии.
Такое открытие не может не радовать глубоко всякого, кто хоть словом одним советовал Вам обратить особенное внимание на необыкновенные финансовые способности Вышнеградского.
Будь он мало-мальски дюжинный, будь он чуть-чуть слаб и ненадежен, можно смело было бы предсказать, что подобно своему предшественнику, его нашли бы в Германии если не вкусным, то все же сносным, и примирились бы с ним.
Но из Берлина идет шторм ненависти на Вышнеградского. С наглостью, объясняемою только критическою минутою, переживаемою Германиею – Берлин прямо говорит, что курс наш падает и будет падать только потому, что во главе русских финансов стоит такой человек, как Вышнеградский. Не пожалели красок, чтобы из него нарисовать чуть ли не Стеньку Разина, а вывод из этого похода один, и он прямо обращен к Вам: завтра, не будь Вышнеградского, курс поднимется, и опять Берлин к услугам России.
К услугам России!
Вот это ужасное и зловещее по своей иронии слово! Вот 35 лет – как эти услуги России, Берлинскою биржею оказываемые, длятся! Их смысл и цель их мы поняли только теперь. Мы поняли, что Берлинская биржа была одним из главных орудий политики объединения и усиления Германии на счет России. Еще в 1865 году один умный банкир в Гааге мне объяснял поразительно ясно этот Бисмарковский грандиозный план: связать нервами и мускулами политику Берлинского кабинета с политикою рубля Берлинской биржи, изолировать Россию от всей Европы в экономическом отношении и получить монополию услуг в пользу России с целью за эти услуги вести ее на привязи Берлина и поставить в крепостную зависимость от Берлинской биржи, вот что казалось планом Бисмарка уже в 1865 году в глазах Гаагского и Амстердамского банкиров. Увы, с тех пор предсказания сбылись слишком поразительно. Берлинский Бисмарк в союзе с Берлинским жидом на бирже купили себе нейтралитет и безмолвие России для разбоя и грабежа, совершенных над Даниею, купили безмолвие России для поражения раз навсегда Австрии, как старой Германской Империи и династии Габсбургов, купили, наконец, в 1870 году для разгрома Франции, и затем уже подчинили полной опеке Россию в Восточном вопросе[707]. Берлинский конгресс имел свою [1 слово нрзб.] на Берлинской бирже… Покойный Государь был слишком сердечно и близко к семейным преданиям прусского дома[708], чтобы допустить даже мысль, что помимо этих преданий и этой дружбы и наперекор ей Бисмарк мог из германского монарха делать врага России в экономическом ее быту, не посягая ничем на целость и святость заветов дружбы. Увы, бедному Мученику Монарху пришлось дорого заплатить за Свое доверие к честности Бисмарка к концу Своего царствования. Берлин представлял уже адскую машину, где тысячами невидимых нитей и узлов Россия была так связана и запутана в безвыходной паутине, что не только каждая политическая мера внешняя, но каждая внутренняя политическая мера в России имела в Берлине своих ценовщиков и своих факторов и затем свой отголосок немедленный на бирже. Каждое слово, каждая мысль, каждое содрогание в Петербурге – отдавались и имели свое эхо в Берлине, и с нашею экономическою жизнью поступали как с ребенком: когда он был пай, ему давали бонбошки[709], поднимали на грош рубль, когда он был не пай, поднимали у себя в Берлине нос, а курс наш на 2 гроша роняли. А так как розог нам давали всегда вдвое больше, чем бонбошек, то выходило, что курс наш постепенно все падал в своей норме, поднимаясь на 1 копейку, а затем падая всегда на две!
Теперь, благодаря милости Божией, маски сорваны с лиц, играющих роковую для России игру в дружбу и в гибель. Как вулкан, взорвало всю подземельную кипевшую против России работу, и посмотрите, что за страшное бешенство, что за ненависть в каждой строке германской печати против России, против Вышнеградского, что за подлые, но постоянные инсинуации против Вас – прикрытые наивностью, и в то же самое время рядом с этим, что за гнет против нашего рубля и что за лукавство в уверениях поддержки, оказываемой Берлином Петербургскому кабинету в делах внешней политики.
И тут же, как я сказал, ураган злобы и заговор нанести смертельный удар Вышнеградскому, перенесенный уже на дипломатическую и официальную почву в Петербург из Берлина!
В этом и заключается историческая важность минуты, переживаемой нами теперь. Ребенок поймет, что если бы Вышнеградский хоть на йоту угрожал вредом России и предпринимал что-либо глупое или ошибочное, он нашел бы, как находил Бунге, в Берлине сочувствие и содействие и платоническую поддержку; но по силе внезапно охватившей все официозную Германию злобы и ненависти к Вышнеградскому ясно как день, что он приближается к больному месту Германии, и она чует, что он собирается вступить с Берлинскими царями биржи на смертный бой, бой Руслана с Черномором для освобождения Людмилы – то есть русской экономической жизни от обольщений и проклятых чар Черномора.
Сила этого шторма, прилетевшего из Берлина на Вышнеградского, в первую минуту была так велика и страшна, что Вышнеградский в первую минуту был ею ошеломлен; я в первый раз увидел его с удлиненным лицом; но продолжалось это минута. Он понял, что и мы все поняли, – что чем сильнее шторм, тем сильнее, значит, опасность, угрожающая Германии, тем несокрушимее должна быть энергия в отпоре и в продолжении начатого дела, и через два дня я вижу того же Вышнеградского уже с горящими умом глазами, с спокойным духом и с энергиею во всей личности, идущим на смертный бой.
Замысл его прост: пережить два, три, четыре месяца кризиса, пока будет длиться бой, а потом идти к цели: развязать Россию от Берлина и дать могучему русскому государству быть столь же свободным в своей экономической жизни, как делает ее свободною в политическом отношении и независимою от Европы Русский Государь!
Это не случайность, верьте, Государь, что Вам пришлось взять Вышнеградского.
Он именно Вам нужный финансовый человек, то есть тот человек, который может в экономическом отношении помогать Вам делать Ваше главное историческое дело: осторожно и исподволь порвать все путы, связывающие политическую самостоятельность России в Европе, и поставить ее свободною и независимою посреди нуждающейся в ней Европы.
Задача эта, громадная по своей важности и трудности, была бы недосягаема, если пришлось бы мириться с невозможностью ту же самостоятельность достичь для экономической жизни России. Громадный ум, светлая прозорливость, ловкость Вышнеградского и его энергия являются как раз в пору в ту минуту, когда Вам предстоит свершать Свою историческую миссию!
Но бой будет жаркий. Нет пределов ухищрениям и интригам, которые пустят в ход, чтобы поколебать Ваше доверие к Вышнеградскому – в самом начале. Но слишком видна ненависть к нему наших исторических врагов, чтобы можно было опасаться малейшего успеха интриги. Заметьте, Государь, что всего 6 месяцев Вышнеградский у дел, а какая уже ненависть к нему из Берлина: что же она означает? Очевидно, она означает замысл с самого начала сковырнуть Вышнеградского, чтобы не дать ему свершить то, что немцы предвидят и предчувствуют, чтобы не дать ему поправить финансы России; а так как одно из первых условий улучшения экономического быта России это развязать ее узы, связывающие ее с Берлином, то легко понять, почему так силен шторм, идущий из Берлина на Вышнеградского.
Там не хотят дать даже два года, чтобы выждать и посмотреть: что такое Вышнеградский, способный или не способный человек, там прямо кричат: скорее вон его, вон!
Все это интересно, драматично и поучительно!
Не менее интересно узнать, какую глухую ненависть в Финансовом комитете встречает Вышнеградский в лице Бунге. [М. Х.] Рейтерн, как высокочестный человек, говорит, что приходится сознавать горькие ошибки прошедшего, и нравственно поддерживает Вышнеградского, но Бунге втихомолку и науськиваемый теми, которые прежде его вели по дороге в Берлин за чарами и советами, не упускает случая вредить Вышнеградскому.
Повторяю, минута наступила историческая и критическая!
Дай Бог нам ее пережить благополучно. А что Вы все видите ясно, в том я с фанатическим убеждением не сомневаюсь ни на секунду.
Дело не в курсе теперь, хотя даже низкий курс нам выгоден, как условие, при котором сильно увеличивается наш сбыт за границу хлеба и сахара; но дело в смертном бое между Петербургом и Берлином на биржах. Германии грозит банкрот и революция с минуты, как наша экономическая политика станет независимою от Берлина и серьезно народною. Удивительно ли, если вследствие этого пойдут не то что на дискредитование рубля, на доносы против Вышнеградского, но прямо на замыслы стереть его с лица земли…
И только притерпевый до конца – спасен будет.
[Начало августа[710] ]
Смерть Каткова вызвала наружу много такого, с чем надо разобраться. И фальши много, и серьезного много.
Долгая беседа с Победоносцевым меня убедила, что и он не ушел от действия этой фальши. Удивительный он человек, К[онстантин] П[етрович], то умный и ясный, то в противоречии сам с собою; то добрый, то злее тигра; то самостоятельный, то в полном рабстве у кого-нибудь.
Начал он мне говорить против мысли об ежедневной газете.
Какой же главный аргумент? Трудно мол, не справиться, столько условий, столько людей нужно найти…
Хорошо. Но затем вот что он говорит:
– Я ведь когда-то и Каткову и [П. М.] Леонтьеву говорил: не беритесь за ежедневную газету, Боже вас сохрани, оставайтесь при вашей еженедельной «Современной летописи»[711].
Я невольно улыбнулся.
– Хорошо, что они вас не послушали.
– Да кто же мог тогда предвидеть, – как ни в чем не бывало отвечает К[онстантин] П[етрович].
– А я думал, – говорю я ему, – что вы, наоборот, могли бы на пример Каткова сослаться, чтобы доказать, как нужна ежедневная газета и как благодарно это дело, когда вкладываешь в него свою душу.
Вместо ответа К[онстантин] П[етрович] что-то промычал и поднял руки к небесам.
И в самом деле, как согласить такое противоречие: сказать, что не советую издавать ежедневную газету, самому Каткову я советовал не браться за это дело, и затем признавать того же Каткова за его газету незаменимым по своей пользе человеком! Я не претендую на ум Каткова, но раз ум Каткова сумел такое сильное влияние произвести печатным словом на Россию, то, ссылаясь на это, можно с уверенностью сказать, что всякое сильное слово может еще сильнее теперь влиять. Не имея ни дарований, ни сил Каткова, я имею то, что не имел Катков, теплоту и искренность в своем существе, с которыми не мало можно сделать. Я добрее Каткова и гораздо менее личен и пристрастен, чем он был, в особенности в последние годы.
Но возвращаюсь к К[онстантину] П[етрови]чу.
С какою-то дурною злобою напал он на Т. И. Филиппова, и косвенно на меня, за его статью о Каткове, напечатанную в «Гражданине». И опять-таки странность: он обвинял Филиппова именно в том, в чем сам грешен. Филиппов, по его словам, нехорошо поступил, что дал своей статье отразить злобные личные чувства против Каткова, зародившиеся в нем год лишь назад, вследствие личного спора между Катковым и им, по полит[ическим] вопросам возгоревшего[ся]. Я соглашаюсь, что это возможно и что это нехорошо!
Но что же проявляет сам Победон[осцев] относительно Филиппова, как не самое сильное личное озлобление, не знающее ни меры, ни жалости: он все ему ставит в вину, он и ум его отрицает, и знания, и замечательные способности по контролю, и монополию его знания греко-болгарского вопроса и церковной истории, он даже его честность и мужество, подчас явленные им в государств[енных] вопросах, – и то отрицает, и [Д. М.] Сольского возбуждает против него, и злую статью вдохновляет против Филиппова в «Моск[овских] ведомостях», словом, извести Филиппова готов, и все это par jalousie de métier[712], должно быть!
Что у Филиппова недостатки, слабые стороны и смешные даже слабости есть, кто их не имеет, но забывать, что это из ряда вон светлый ум, что это человек, который в своем деле мастер бесподобный, что это крайне нужный Государю и ценный для Него человек, при общей скудости в людях, и всегда и везде быть против Филиппова потому, что тот несколько раз лично схватывался с Победон[осцевым] за убеждения и корил его малодушие в делах церкви – это совсем, по-моему, отнимает у него, Поб[едоносце]ва, право обвинять Филиппова за его статью о Каткове в личном пристрастии.
По этому поводу мы перешли на жгучий и щекотливый вопрос.
Я говорил К[онстантину] П[етрови]чу, что если я не одобряю двух, трех строк в статье Филиппова, я не могу не признать и его и себя не только [не] виноватыми в чем-либо дурном, но, напротив, сделавшими доброе дело, пойдя против этого опять-таки бараньего без меры и без такта проявленного поклоненья Каткову в день его смерти. Тут именно мера была превзойдена. Каткову воздавать начали не только царские, но и Божеские почести… Это было и глупо, и пошло, и весьма неполитично, тем более, что другая партия людей воспользовалась этим обожанием и поклонением, чтобы из них делать как бы в умаление и в пику Государевой политике какую-то национальную демонстрацию.
Во-первых, Катков зашел слишком далеко в своих статьях о внешней политике и нарушил долг уважения к Государю, как к вождю этой политики[713], во-вторых, Катков был, по-моему, на ложном пути, а в-третьих вы лучше всякого знаете, какая нужна осторожность в обращении с такими вопросами, где своим печатным словом можешь производить скандал и смущение и где есть опасность, что это разногласие с правительством враги его начнут эксплуатировать против престижа правительства. Именно это и случилось. Каткова начали ставить рядом с Государем; начали судить того и другого; и в конце концов пустили нелепую молву, что Государь разошелся с Россиею относительно Каткова и отвернулся от него в ту минуту, когда к нему было всеобщее доверие. А «Новое время», так пошло далее, и в инсинуациях дает понять, что самая болезнь Каткова была вызвана тем, что Берлин будто бы взял над ним верх и склонил Государя объявить Свою опалу Каткову…[714] Согласитесь, что все это вместе обязывало и должно было обязывать именно в минуту всеобщего поклонения Каткову у его гроба попытаться отрезвить общественное настроение умов и поставить в вину Каткову его политические ошибки последнего времени.
– Тут я вам скажу, – возразил К[онстантин] П[етрови]ч, – надо тоже разобраться. Каткову нечего ставить в вину, что он был единственный живой человек, а вокруг него все скопцы. Понятно, что он мог, как живой человек, увлекаться, а тут еще на него клевету взвели, какую-то телеграмму подложную от [А. П.] Моренгейма достали[715]; разумеется, все это потрясло Каткова, что и говорить.
Тут у нас разговор перешел на политическую почву. Я безусловно отвергал и отвергаю правоту катковских увлечений и убеждений последнего времени, как отвергаю и то, что Каткову должно быть поставлено в заслугу, что он будто был единственный живой человек. Все это преувеличение и фальшь. [Н. К.] Гирс, на которого Победон[осцев] указывал, как на противника Каткова, тут ни при чем. Я согласен, что он мертвый человек в смысле антипода горячему и увлекающемуся человеку, но Гирс тут ни при чем. Катков лучше всякого знал, что он не с Гирсом имел дело, а непосредственно с Государем, и тут он кругом виноват. Он не мог публично выступить с мнением, противным мнению правительства, потому что он знал, что это правительственное мнение было не Гирса мнение, а взгляд самого Государя.
Зная свое влияние на умы, зная свои отношения к Государю, зная, чем он связан с Ним, какими духовными связями, Катков должен был ни единым звуком не отделять себя от Государя, а мог все свое несогласное с правительственною политикою излагать перед Государем лично – словесно или письменно.
В этом была его значительная вина: он этого не сделал; его увлекла роль газетного трибуна, и он дурную услугу оказал правительству, погнавшись за популярностью.
Это надо ясно и твердо сознавать, и я при всем моем уважении и к памяти Каткова за его прошлое, и к Победоносцеву, должен отметить здесь как впечатление и как факт, что последний, то есть Победоносцев, в данном случае тоже не стоял твердо на строго правительственной почве и пошатнулся в сторону погони за популярностью, которую как будто нашел в Москве с ее обычными национальными преувеличениями и увлечениями.
Совсем этого не надо было, ибо у Каткова довольно материалу в прошедшем, чтобы сберечь свое историческое имя надолго в памяти России, и муссирование и подогревание его славы совсем не было нужно. Катков по самой понятной и простительной человечеству слабости – испытал на себе за последнее время все последствия его судьбы; а судьба его сделала своим баловнем. Избалованный ею, он под старость лет дал себя увлечь обольщениями исторической славы и не устоял на почве, где требовались строгая осторожность и огромный такт.
И того и другого в данную минуту не хватило. Причина – прошедшее. Распущенность, в которой мы все жили последние годы, жили и тонули в ней – проявилась между прочим и в том, что Каткову дали отвоевать себе слишком много от власти в свою пользу. Это была большая политическая ошибка правительства несколько лет назад. Заслуги заслугами, а все-таки уважение к закону и к правительственному авторитету никак не могли в виде привилегии быть предоставлены Каткову на послабление их. Выходила нелепость: в награду за преданность порядку и государственным идеалам предоставить публицисту право менее уважать эти самые идеалы, воплощенные в правительственные лица и формы, и поступать с ними бесцеремоннее других подданных русского государства!
Как раз незадолго до кончины бедному Каткову пришлось понести наказание за то, что он дал себя избаловать привилегиями своего положения и обольщениями популярности.
В уме Государя могло родиться сомнение: не слишком ли Он строго отнесся к Каткову в это последнее время?
Ответ прост и ясен: ни в каком случае. Тут, как и во многих других явлениях распущенности прежнего времени, нужно было твердое и ясное указание сверху, что никому не дозволяется переступать пределы положения верноподданного Самодержавного Государя и никому не дозволяется фамильярничать или шутить или, что еще хуже, пренебрегать властью. Вот что сделал Государь с свойственным ему чутьем достоинства Самодержавия, и этим показал, что Государь, подписавший рескрипт Каткову[716], все же остается его Государем, как для всех подданных русского государства.
Это все честные люди почувствовали и сознали.
При этом следует в виду того, что Каткова личность имеет по отношениям к России историческое значение, оставляя в стороне его частную личность, поставить ее перед тем же Государем в надлежащий свет, дабы не ускользали от Царского взгляда те особенности, которые нужно Государю знать, как отношения к нынешней общественной жизни, как признаки времени и как характеристика его.
Я говорил об обольщениях и искушениях популярностью. Покойный чистый и честный [И. С.] Аксаков обольстился популярностью в 1876 году[717]: с того времени его деятельность публициста отуманилась; он стал писать и жить в облаках фимиамного дыма, который сам себе курил. Явилось фальшивое положение, и таким оно осталось. Исчезла прелесть скромности, которая есть тоже сила, и отношения его к власти страдали отсутствием искренности.
То же случилось гораздо позже с Катковым. Он возомнил продолжать быть одновременно и Катковым, и Аксаковым, и тут-то явилась неизбежная фальшь.
Но, увы, у такого великого публициста, как Катков, должно было явиться другое искушение.
Это искушение – жид!
Это явление неизбежное, это почти закон нынешней политической природы!
Жиды должны везде мешать упрочению силы государственной власти. Для них Катков был немилым изображением таланта такого публициста, который мог иметь влияние, как это и было, на весь ход государственной жизни. Самыми блестящими проявлениями силы Каткова были те годы, когда он боролся против польщизны сперва, а потом против нигилизма и анархизма. Нигилизм и анархизм это любимые элементы жидов; в них они себя чувствуют как в воде – рыбы: они прячутся в них, но зато двигаются и расхаживаются на полной свободе, зная, что только эти элементы служат помощью для дела усиления и распространения евреизма.
При Николае Павловиче жиды были придавлены, зато рядом с этим придавлены были и деятели революции.
В следующее царствование свобода дала разгул всем элементам разрушения государства, начиная с нигилизма и кончая самым ужасным анархизмом, а рядом с этим достойно внимания, как быстро и незаметно пошли в гору жиды и до какого они достигли могущества.
Эти жиды поняли, что Катков, как представитель силы порядка и борьбы с нигилизмом, для них опасный столп государства и что, следовательно, надо этого Каткова как-нибудь завлечь в свои сети.
Заговор был мастерски составлен.
Осуществление его принял на себя знаменитый [С. С.] Поляков.
Он прямо взял и пожертвовал 300 тысяч на Катковский лицей[718]. Этим он получал близкий и постоянный доступ к Каткову. Я живо помню, как честные друзья Каткова говорили ему: «Не берите, Мих[аил] Никиф[орович], этих денег, жиды вас запутают; жид как крыса на судне: если одна явится, через год будут мириады, и судну грозит опасность».
Но Катков не послушался, и что же случилось?
Нечто интересное и замечательное как знамение времени и исторический курьез. Не прошло нескольких лет, как брат С. Полякова, Лазарь Поляков, умнейший плут, втирается в дом Каткова по рекомендации брата и затем мало помалу входит к Каткову в такое доверие, что тот ему отдает в полное заведыванье все свои капиталы и всю хозяйственную часть своих редакций и лицея.
Затем Поляковы ставят на главных местах в редакции «Моск[овских] вед[омостей]» своих жидков и в то же время приглашают Каткова в единственные компаньоны по Моршанской жел[езной] дороге: все акции приобретаются Поляковыми и часть из них отдается Каткову.
Вот паутина, посредством которой жиды так искусно и так ловко окрутили жизнь Каткова в последние годы и подрезали крылья этому орлу-гиганту, парившему так высоко и так свободно в те годы, когда он не знал сближения с жидами.
Отсюда что получилось для евреев выгодного? Получился весьма важный результат.
Вся Европа знает, что, как в обыкновенном преступленьи надо искать всегда женщину, как причину преступления скрытую, но главную, так во всех нынешних заговорах социалистов и анархистов надо искать жида, скрытого, но важного двигателя интриги.
Катков, как только явились еврейские беспорядки, заговорил в последние годы необыкновенно сильно за евреев[719].
Говоря о крамоле и об анархистах, ни разу он не упомянул о проклятой связи между ними и евреями. Вот что в высшей степени характерно как знамение времени, доказывающее всю силу денежного могущества еврея и всю ловкость, с которою он проводит свою антигосударственную пропаганду, запутывая в свои сети незаметно самых честных и самостоятельных людей. Ведь в сущности, если разобраться, на что Каткову в его блестящем положении могла быть нужна связь с жидами? Ясно, что ему и во сне не могло прийти дать себя подкупить жидам, и тот жид, который пришел бы прямо к нему с 300 тысяч рублей и сказал бы: «Я пришел вас подкупить, вот вам 300 тысяч, будьте за нас», он прогнал бы его вон. Но тут вместо этого самая ловкая подстроенная штука, посредством которой Катков совершенно для себя незаметно дал себя впутать в жидовские руки и явился как бы их защитником. Все это доказывает, как полно со всех сторон опасностями и искушениями для строгой честности нынешнее время; маленько только вздремнешь в строгом надзоре за собою, а уж смотришь, сети подставлены, и дремавший в них попадает.
Теперь, например, оказывается, что бóльшая половина личного состава редакции и хозяйства «Московских ведомостей» составлена из жидов. Пока был Катков, эти жиды пребывали у него в безмолвном повиновении, но теперь изменяется их положение; теперь нет хозяина, и, разумеется, отсутствием его воспользуются евреи, чтобы мало помалу забрать «Московские ведомости» в свои руки, под прикрытием русского имени.
До сих пор на устах Ив[ана] Давыд[овича] Делянова имя [И. Ф.] Циона, как умнейшего человека, всякий раз, что рождается вопрос: кому вести дело после Каткова? А Цион действительно умнейший и даровитый человек, но Цион жид. В день, когда он взойдет на трон «Московских ведомостей», прийдется проститься с мечтою видеть этот орган добросовестным охранителем русских государственных интересов; незаметно главные русские идеалы отойдут на второй план, редакция заполнится евреями, и через год или через два консервативная газета превратится в мнимо русский орган еврейского вероучения.
Вот почему нельзя не признавать в высшей степени серьезным вопрос: что станет с «Московскими ведомостями» после 1 января?
Я очень боюсь жидовской интриги, ибо она ловка и вкрадчива тем, что прикрывается какими угодно ярлыками и всегда является под окраскою консервативного знамени.
По-моему, следовало бы просто предоставить университету решать этот вопрос, так как эта газета его газета[720], с тем, чтобы министру[721] оставалось произносить свое veto в том случае, если кандидат университета оказался бы ненадежным, или же избрать лицо прямо и безусловно независящее от еврейских комбинаций, как например – [Д. И.] Иловайский. Вот все, что хотелось сказать по поводу смерти Каткова.
Что это была крупная личность, как публицист, и что смерть его оставляет за собою пробел невосполнимый, это несомненно. Но по врожденному русскому обычаю, коли молиться, так лоб расшибать, во все было внесено и преувеличение, и фальшь. Заслуги его превознесены были до каких-то мифических небес, и никому в голову не пришло находить обидным для России признание ее чуть ни не без ума и разума со дня смерти Каткова.
Это одна была фальшивая сторона. Но была и другая. Такая дрянь, как «Новое время», начало плакать и хныкать над Катковым с затаенною скверною мыслию: показать кончину Каткова в связи с его будто бы судьбою опального или жертвы своего патриотизма. В нем будто бы пал вождь политики народной – в борьбе с правительственною политикою.
И вот с такою дрянью бороться и парализовать его гадкую силу дай мне Бог поскорее возможность посредством ежедневной газеты.
[Август[722] ]
Долгая беседа с [Н. И.] Шебекою еще раз привела меня к предположению, что бедный Иван Давыдович Делянов не совсем мастерски выпутывается из затруднений, созданных университетскими беспорядками. Он не столько относится к ним государственным человеком, сколько человеком, желающим себя лично оградить от излишней доли хлопот и забот. Его девиз: лишь бы от меня отпихнуть заботу, а там хуже или лучше будет государству, мне все равно. До 80 студентов Петерб[ургского] унив[ерситета] указано было Департаментом госуд[арственной] полиции Делянову как молодые люди, имевшие сношения, то есть видавшиеся, с компрометированными политически лицами, хотя не принимали никакого участия ни в каких действиях предосудительных. Делянов их исключает из университета гуртом, но мало того, он лишает их права поступать в другие университеты и пускает их по миру с волчьим паспортом[723].
Шебеко справедливо говорит Делянову: к чему вы это делаете? Ясно, что это будут 80 человек отчаянных анархистов, озлобленных и опасных. Не лучше ли их перевести в другие университеты; там они будут под двойным надзором, вашим и полицейским, и из них может быть значительный процент останется. А теперь вы пускаете по миру 80 человек, и на нас возлагаете страшную обузу следить за каждым отдельно; тогда как, если бы они были концентрированы в университетах, за ними был бы [в] сто раз легче надзор.
Бился, бился Шебеко, и так ничего не добился.
И выходит ни то ни се: университет Петербургский все-таки переполнен, как бочонок сельдями, а менее надежные студенты пущены по России в виде пропагандистов анархизма.
Такою же неполитичностью отозвался знаменитый циркуляр Делянова насчет гимназий. По-моему, есть меры, которые надо принимать, по указаниям опыта и времени, но не надо, во избежание действия на умы, обнародовать. К числу таких мер принадлежит, по-моему, ограничение по возможности приема в гимназии и затруднение низшим сословиям пускать детей на гимназическую дорогу. Все это безусловно необходимо, но необходима была также политика. Какая нужда была публиковать об этом циркуляр, да еще вставлять туда знаменитые и весьма неполитичные фразы о кухарках и т. д. Разве то же самое нельзя было секретно написать попечителям округов и возложить на каждого из них обязанность устно и секретно передать директорам гимназий или, еще проще, не писать ничего, а вызвать сюда попечителей округов и передать им инструкции словесно и секретно? Тогда бы меры могли приниматься, но никто об инструкциях не знал бы, кухарки не были бы оскорблены, газеты не подняли бы против правительства похода, и общественное мнение не было бы затронуто в своих демократических инстинктах.
А раз напечатать этот циркуляр и обнародовать его решились, и тут был бы способ поступить политично: изложить мотивы этой меры и поручить конфиденциально органам печати объяснять эту меру так, как того желает правительство, и ни в каком случае не допускать критики этой меры в газетах. Она дала тысячи недовольных по адресу Министерства народного просвещения, и разом ослабила его авторитет повсеместно.
Нет, не легко иметь политическую мудрость и быть мудрым яко змия и кротким яко голубица.
Вот почему сам собою наталкиваешься на мысль, что в теперешнее время Министерство нар[одного] просвещения должно быть в руках более молодого и энергичного человека, более твердого и бесстрашного.
Как человек высоко нравственного закала, с тактом – неотвязчиво представляется подходящим [В. Г.] Коробьин.
Затем как кандидат, которого следовало бы готовить к этой должности, мог бы быть намечен нынешний ректор университета в Петербурге[724].
Затем [А. Л.] Апухтин варшавский считается человеком твердым и имеет опыт.
Затем у К. П. Побед[оносцева] есть человек весьма способный, тоже годный для подготовления к этому поприщу – это [В. К.] Саблер, молодой, с огнем, с энергиею… Им пренебрегать не следовало бы. Это, по-моему, крупная личность.
[После 10 августа[725] ]
Со всех сторон слышатся воинственные толки. Говорят, что [А. Н.] Куропаткин[726] послан на юг, чтобы быть наготове для десанта в Болгарию, говорят о какой-то дивизии [А. М.] Лермонтова, получившей приказание мобилизироваться. Полагаю, что все эти слухи мыльные пузыри и что политика Государя, мудрость которой с каждым днем все становится яснее и ярче – политика полного невмешательства, что бы там не происходило, в этой проклятой Болгарии, – останется до конца непоколебимою, назло европейским авгурам и политикам, которые несомненно хотят, чтобы Россия вышла наконец из своего неподвижного состояния и бросилась в погоню за авантюристами вязнуть в болгарском болоте.
Это не фраза, слово: «мудрая», приложимое к нынешней политике Государя. Нет, это много содержательное и отрадное слово для тех, которые понимают, видят и верят, что Государя руководит непосредственно Божественный разум.
События так поразительно это свидетельствуют, что надо быть слепым, чтобы не прозревать чудотворную силу и сущность в этих событиях.
Что совершается в Болгарии самого разительного?
Отсутствие разума в людях – и отсутствие порядка.
То и другое все сильнее и сильнее проявляется со дня, когда русский Государь объявил Свое отсутствие, так сказать, в той же Болгарии. Бог отвел русского Государя от Болгарии, как бы в знак оставления Им этого возмутившегося против Него народа на произвол его страстей и его безрассудства, и все, что там творят и созидают люди, все то идет в разрушение и в усиление беспорядка.
Но смысл Государева ухода из Болгарии, ухода душою, весьма немногим понятен. А между тем в нем, в этом сокровенном смысле, лежит ключ к решению этого вопроса для будущего.
Это все тот же важнейший церковный вопрос. Покойный государь пришел в Болгарию с лаврами громких побед, но его окружавшие дипломаты, и во главе [Н. П.] Игнатьев, пренебрегли главным, Церковью. Они захотели закрыть себе и отвести Государю глаза на невозможность согласовать освобождение Болгарии с покровительством скандалу самовольного отделения Болгарской церкви от Православной Греко-Российской, и решились помимо всего церковного вопроса строить здание без фундамента; и здание поразительно скоро и страшно рушилось. Болгария вместо того, чтобы явиться страною свободы и возрождения, явилась страною проклятия и детской дряхлости. Все, что предпринимало русское правительство в Болгарии и для Болгарии, все то рушилось и оказывалось ошибками.
Нынешний Государь отошел от Болгарии, и неудачи всякой попытки против России указывают на то, что России нечего бояться врагов своих, но следует озаботиться вернуться к началу дела. Бог видимо оставляет событиям в Болгарии тянуться в своем хаосе и всех подвергает бессилию, чтобы дать время России обдумать свое решение.
Решение это не может быть подвергнуто сомнению. Начало дела – это воссоединение Болгарской церкви с Греко-Российскою. Пока этого сделано не будет – немыслим ни один верный шаг России на пути восточного вопроса.
Как это сделать – укажет сам Господь. И укажет Он в тот миг, когда на сие Государь решится. Одно только несомненно, с этой минуты начнется наше торжество в Болгарии и на всем Балканском полуострове. Без войны, без расходов на войну, мы начнем действительное возрождение Востока.
До этого и без этого все нами предпринимаемое будет разрушаться и вести к разрушению.
Труден этот подвиг только одним: почти никто не вдумывается настолько глубоко в смысл Божественного промысла в событиях, и потому никто почти не останавливается даже на мысли о связи между восточным вопросом политическим и церковным. Этим только вопрос труден. Надо будет людей будить от спячки по этому вопросу, а спячка эта крепка. Из государственных людей я встретил только [А. И.] Нелидова, убежденно мыслящего как и я, и [Т. И.] Филиппова, остальные или слегка касаются этого вопроса, или вовсе его не признают. Победоносцев, например, только поверхностно его исповедует и не идет во внутреннюю его глубину.
А между тем в этой глубине – все, наша будущность и сияние нашей славы, прочной и неотъемлемой.
К иллюстрации дел на Балканском полуострове – присоединяю сведения, мною полученные непосредственно из Сербии и о Сербии.
И там хаос полный.
В народе в последнее время ходили характерные толки – по поводу поездки королевы в Россию[727]. Русский Государь будто бы ей велел передать королю Милану приказ прогнать [М.] Гарашанина и посадить [Й.] Ристича, и кроме того в течение 14 дней разрешил будто бы убивать всякого гарашанинца[728]. Положение края критическое. Действительно, убийства производятся везде, войско совсем дезорганизовано. Везде партия демократо-радикалов берет верх и, сломив Гарашанина, готовит удар Ристичу. Ристич на нее оперся, чтобы выплыть и стать во главе власти, но теперь они его предают, так как он не может за ними идти. Король совсем без головы. Демократия требует выдачи народу оружия. Министр [С.] Груич в Совете министров сказал королю: надо согласиться, охранять вас жандармами я не могу, пускай вас охраняет вооруженный народ.
Если король согласится, то его дни сочтены, демократы только для того и добиваются вооружения народа, чтобы прогнать Ристича и короля.
[После 18 августа[729] ]
Вышнеградский вернулся из Нижнего Новгорода с ярмарки наэлектризованный прекрасными впечатлениями. Впечатления эти двояки. Одни вынесенные им; другие – вынесенные многими из деловых людей, бывших на ярмарке и впервые лицом к лицу свидевшихся с Вышнеградским.
Впечатления Вышнеградского таковы: торговый и промышленный люд на ярмарке показался и сказался ему верящим в лучшее будущее относительно нашего экономического положения. Он не нашел уныния, не нашел озлобления, но нашел настроение, полное надежд и уверенности, что финансы наши могут быть исправлены, если со стороны финансового управления приложены будут усилия идти рука об руку с ними, а не с берлинскими биржевиками.
Нынешний год для народонаселения тоже был тяжелый, хотя чуточка легче прошлогоднего. Никакого нет сомнения, что застою торговли, а следовательно, и промышленности в России, сказывающемуся слабыми оборотами Нижегородской ярмарки, способствует всего более сильное обеднение народа; это общий голос. У мужика и мещанина в последнее время заметно стало безденежье, и он значительно сократил свои покупные расходы. На всех ярмарках в течение года, начиная с самых маленьких и кончая Нижегородской, заметно уменьшились покупки крестьянские, а это само собою отражается в громадных цифрах недочета в торговых оборотах России.
Затем земледелие и сельское хозяйство с одной стороны, и заводская промышленность с другой стороны – предъявляют те же жалобы на застой. Заводы, преимущественно металлические, поют все ту же песнь о недостаточном ограждении их от заграничного производства, а сельское хозяйство плачет над страшным понижением цен на хлеб, в нынешнем году особенно чувствительным при обилии урожаев, громадных затратах на хлебное производство и полной невозможности сбывать этот хлеб.
Все эти печальные явления действительности были налицо, так сказать, на Нижегородской ярмарке, но, как я сказал, все они сказывались без уныния и без отчаяния.
Как я слышал с нескольких сторон, Вышнеградский произвел на ярмарке хорошее впечатление на всех тем, что он на всех подействовал не болтовнею, а ясною и общепонятною речью про дело, которое ему знакомо и в котором он проявил себя в высшей степени заинтересованным.
Все увидели государственного человека, всецело охваченного заботою улучшить экономическое состояние государства не на словах, а на деле; он говорил о деле, вот что все поняли и почувствовали, без хвастовства, без самоуверенности, без презрения к какой бы то ни было малейшей нужде, и внушил к себе доверие. Он поднял дух общего настроения, и сам ощутил подъем духа, это в высшей степени важно.
Все по-видимому разделили с ним его мнение, что прежде всего надо приложить все усилия к тому, чтобы свести смету или бюджет сметных расходов и прихода без дефицита. К этому направлены теперь все гигантские силы его ума и энергии. Ряд проектов, к этой цели направленных, немедленно по открытии Госуд[арственного] совета будет представлен Вышнеградским. В разговоре об этом он высказал мысль, как помогло бы ему в этом деле, если [бы] Государь на каком-нибудь представлении или докладе Вышнеградского высказал в двух, трех строках Свое желание, чтобы усилия заключить год без дефицита увенчались успехом. Тогда Вышнеградский имел бы в этих строках Государя огромную силу поддержки в Государственном совете, где он может и должен иметь в виду своих антагонистов, из коих первый, разумеется, будет Бунге.
Вышнеградский надеется тоже в течение известного времени улучшить и курс. Но для этого нужна доза терпения, и средство, которое обдумывает его голова – пока секрет для всех.
Вообще, если чему-нибудь радоваться в наше невеселое время, так это той энергии и кипящей работе, которые проявляет Вышнеградский.
Боже мой, подумаешь, сколько лучших лет жизни у этого замечательного делового человека пропало без пользы для государства, на частные дела, а что бы было, если уже лет 10 этот изобретательный и светлый ум работал над финансовым делом в России!
Но затем я возвращаюсь все к старой песне: хорошо было бы, если Государь при первом случае напомнил Вышнеградскому о [А. А.] Рихтере и [Е. Е.] Картавцеве в особенности. Эти два человека попортят дело Вышнеградскому. Углубленный в свою лихорадочную работу, он не имеет минуты обдумывать вопрос о новых лицах в М[инистерст]ве финансов, но наплачется он после. Если же ему Государь напомнит, он немедленно приймется за дело. А люди эти безусловно вредные.
[Конец августа[730] ]
Сегодня у [Н. И.] Шебеки беседовал с вернувшимся из деревни Саратовской губ. помещиком, директором Деп[артамен]та полиции [П. Н.] Дурново.
Он привез оттуда, из глуши Саратовской губернии, поразительно печальные сведения, а недавно вернувшийся из Пензенской губернии А. А. Татищев, увы, подтверждает эти сведения.
В обеих губерниях урожай был хороший. Хлеба и овса много. Но цены на них такие, какие не бывали никогда; никто не покупает, все продают. Все хозяева плачут и стонут, потому что результат годовой кампании – отрицательная величина; пришлось занимать деньги для уплаты рабочим, а теперь надежда получить деньги за хлеб и расплатиться с долгами исчезает. Картина всеобщего разорения там, где у помещика нет сбереженного на черный день капитала. С этим соединяется и другое печальное явление, как последствие. Цены на землю свалились разом на 50 %, с 90 и 100 рублей, на 40, 48 рублей, и то никто не покупает.
Я спрашиваю собеседников о причинах этих явлений.
Увы, причины все те же – невозможность возить хлеб при таких ценах на отдаленные рынки вследствие двух причин: отсутствия подвозных путей к железным дорогам и 2) нежелания железных дорог понижать временно тарифы для провоза хлеба.
И выходит в цифрах так: в Москве и в Петербурге куль овса 4 р. 50 – 5 р.; в Саратовской губернии 70 копеек!
Но выходит другая крупная несообразность. Дворянский банк и Взаимный поземельный банк оценивают доселе землю в Сарат[овской] губ. по 80 руб. десятина, а в Пензенской по 100 рублей, и дают в первой 40 р., а во второй 60 рублей за десятину в ссуду. Вследствие же падения цен на землю выходит, что банки выдают в ссуду столько же, сколько предлагают при покупке земли. Значит, всякому выгодно получить ссуду из банка, ничего не платить год, а затем пускай описывают и продают имение; по крайней мере, расходов на купчую крепость не имеется.
Но зато при таких условиях должны лопнуть все земельные кредитные учреждения.
Но как горю помочь?
В этом весь вопрос.
Подвозные пути! Ужасно подумать, что если бы например в эти 20 лет существования земства – те миллионы кровных русских денег, которые ухлопались так непроизводительно на одни, например, скверные школы, были за 20 лет употреблены на устройство шоссейных подвозных путей, то теперь не только не было [бы] таких страшных падений цен на землю и на хлеб, но сельское хозяйство, поставленное в правильные условия, могло бы быть выгодно; явилась [бы] возможность подвозить сельские товары, хлеб, спирт и т. д. вовремя и не зависеть от погоды и состояния дорог. Но дело в том, что одного этого условия недостаточно. Необходимо, чтобы правительство имело право требовать от железных дорог понижения тарифов временно для провоза хлебных продуктов.
Наши железные дороги слишком самодержавны.
Необходимо так сделать, чтобы они были приведены в большое подчинение правительству там, где правительству нужно урегулировать цены на хлеб в государстве и облегчать сбыт хлеба на местах производства и вывоз хлеба за границу.
Мне кажется, что пришла пора этому вопросу стать на очереди важнейших государственных вопросов.
Мне кажется тоже, что если бы инициативу по этому вопросу принял на себя Государь, было бы основание надеяться, что разработка столь важного экономического вопроса привела бы непременно к каким-нибудь результатам.
Во всяком случае, выяснился бы вопрос. Уже и то хорошо было бы.
Но как Государю взять на себя инициативу. Мне сдается, что эту инициативу всего проще было бы выразить в форме запроса или заметки.
Представлялось бы возможным выразить ее письменно так:
«Как объяснить несоответствие полное между низкими ценами на хлеб на местах производства и мало изменяющимися ценами в Петербурге и Москве?
Какие тому причины?
Исследовать, нельзя ли принять меры к удешевлению провоза хлеба в осеннее время? Не пора ли приняться повсеместно за улучшение подвозных путей».
Такие вопросы, Государем заданные на имя министров: финансов, внутренних дел и путей сообщений[731], неизбежно привели бы к каким-нибудь практическим благим результатам.
Затем в разговоре с Шебекою и с Дурново высказана была одна мысль, заслуживающая, кажется мне, внимания: мысль эта относится к устройству подвозных или шоссейных путей в России. По расчету, сделанному когда-то, если бы 2 дня в году по правильному распределению были обязательно возложены на каждого совершеннолетнего жителя в России для шоссирования своей местности – трудом, то есть работою, или в замену деньгами по оценке, то в три года все шоссейные пути были бы устроены.
[Конец августа[732] ]
Ох, неловко ведут дело, невольно хочется сказать, приглядываясь к событиям в университете.
Кое-как успокоились, слава Богу, назначили энергичного ректора в лице [М. И.] Владиславлева, хотя увы, – оставили над ним попечителем совсем непригодного генерала [И. П.] Новикова, но как бы то ни было, успокоились умы, начало университетского курса, акт[733] и т. д.
Во-первых, к чему акт? Точно без него нельзя было начать университетского курса? К чему он, когда знаешь, что почва, на которой стоишь в университете, еще не новая, а старая, и следовательно ненадежная. К чему гусей дразнить, хотелось сказать. Раз положили сделать торжественный акт, понадобились предохранительные меры; раз понадобились предохранительные меры, надо было прибегнуть к полиции; последняя должна была на время акта заарестовать всех ненадежных из бывших и настоящих старых студентов, во избежание беспорядков. Вот уж мера, которая сразу вносила фальшь в студентский мир нового года, ибо очевидно молва о том прошла между студентами и горячие головы не могла не раздражить. Проще и разумнее было бы не делать акта, а прямо молебен, и начинать лекции.
Затем Владиславлев сказал речь.
Опять, по моему крайнему разумению, бестактность. К чему речь? Для надежных студентов она не нужна, для ненадежных она бесполезна, для средних – нужны не речи, а действия…
И действительно, выбор ректора оказался очень удачным; но именно потому не нужно было с первого дня его вступления его, так сказать, израсходовывать на ненужную вещь, на речь, которая сразу подняла против него горячие молодые головы, а нужно было энергию и ум ректора употреблять в дело, то есть на ведение ректорства, на действия, на политику, а никак не на речи.
Речь сказана хорошая, дельная, энергичная… Сказано так сказано.
Но тут опять вслед за тем неловкость. Речь была выслушана, и затем после нее наступило молчание.
И конец.
Нет, ее немедленно напечатали в «Правит[ельственном] вестнике». Для чего, спрашивается? Чтобы все газеты ее перепечатали, и читали ее те, до которых она коснется только тем, что они начнут над нею глумиться в разных концах России, пока другие будут из-за этой речи сердиться и друг друга возбуждать снова к искусственной злобе против правительства.
Зачем же было печатать эту речь; ведь она домашнее и семейное дело в тесном кругу университетских стен. Она касалась исключительно студентов Петербургского университета.
Но и тут даже вышло еще хуже. В заключение речи в «Правит[ельственном] вестнике» прибавлено, что «речь ректора была выслушана со вниманием» и затем точка, и ничего.
К чему эти заключительные слова. Они всех привели в смущение. Ведь если так сказано в официальном изложении, то всякий из этого заключает, что гробовое молчание было ответом 2000 студентов на речь нового ректора. А затем на это гробовое молчание идут бесконечные комментарии, и все в невыгоду нового ректора и в ослабление первого им произведенного впечатления[734]. Точно не разумнее, проще и естественнее было ни одного слова не прибавлять; напечатать речь, и конец; к чему прибавлять слова, дающие повод к толкованию против интересов правительства.
Но событие кончилось, слава Богу, благополучно, это главное.
Все же еще раз оно доказало, как непрочна почва, на которой стоит университетское и вообще учебное дело, относительно мудрости и такта в руководящих этим делом.
К несчастию, у Делянова ни одного нет советника мудрого. Все эти Георгиевские, Любимовы, Аничковы люди именно без всякого педагогического такта; они только чиновники и живых отношений к трудному делу ведения молодежи не имеют и атома.
У них все время всякое отношение к учащимся группам является в виде опасности для интересов порядка, неумело отстаиваемых…
Опубликование циркуляра к попечителям округов на счет ограничения приема в гимназии[735] – эту неумелость, это отсутствие чутья и такта доказало слишком явно.
Как нарочно сегодня в подтверждение слышал от А. Татищева, что в Белеве директор гимназии[736] по глупости понял циркуляр так, что объявляет всем, что дети купцов, мещан и крестьян вовсе не будут допускаемы в гимназию; вследствие чего купцы обратились в Думу и заявили, что они не желают платить на содержание гимназии (а гимназия содержится на счет города отчасти), и выходит скандал, при чем Белевская дума подает на министра нар[одного] пр[освещения] жалобу будто в Сенат.
[4 сентября]
Господи, как я ожидал в эти дни весточки от Вас с пометкою 30 августа, как светлой минуты освобождения меня из темницы, в которой живу уже столько недель, томясь и мучась ощущением, что Вы сердитесь на меня, но за что, не знаю. С 15 июля[737] как обрадовался, так доселе все грущу и испытываю падение духа, как раз тогда, когда мне столь нужны силы духа для подъема трудного дела.
Вы себе представить не можете, что это за муки. Как я писал Вам, в этом вдруг наступившем молчании, пройдя и пережив за это лето целый ад мучений от людской злобы и клеветы[738], я не могу не предчувствовать, что она коснулась и моей святыни, доверия Вашего ко мне, и затем что же? Стоишь перед Вами в бессилии, говоришь Вам, пощадите неповинного, сжальтесь над его страданиями, но кто же сказал, что и на это не последует то же молчание и то же недоверие?
А затем что же? Скажут мне завтра: готовься умирать, я отвечу: готов! Скажут мне завтра: готовься страдать от болезни, от нищеты, от голода, от самых грубых насилий, клеветы, и гонений – я готов…
Но скажут мне: живи, работай, служи своему идеалу, но мирись с поколебленным к тебе доверием того, чья вера в тебя твой культ, я скажу: Боже праведный, сжалься надо мной, я не готов к такой пытке, она свыше моих сил; я годен только поколику есть доверие ко мне, а если его недостает в малом, то откуда же ему взяться в большом? Ничего не значит, отвечает мне светский голос из жизни, работай все-таки. Я и буду работать, работать изо всех сил, работать до конца, но, увы, не та будет душевная сила, с гнетом бессилия на душе, можно ли дать слову ту силу, которая нужна, когда сам ею не владеешь вполне. Вот что меня смущает, глядя на близкое будущее, и через пространства вызывая Ваш дорогой образ, и глядя на него, и вопрошая его. Когда он с чудною улыбкою глядит на меня, Боже, как легко на душе; когда улыбки этой нет, когда тень пробегает по челу, и я вижу зловещую складку, – тогда я уже не свой, в душу вторгается грусть, и с болезненным ощущением я спрашиваю: зачем?
Вот почему, горя желанием работать изо всех сил моих, умоляю Вас, если что имеете против меня, простите мне, простите добрым сердцем, простите в уверенности, что я это прощение если не заслужил, то заслужу трудом.
Близок час начала труда. Не думайте, что я легкомысленно за него принимаюсь. Есть и головная, есть и душевная работа! Имевши столько дела с врагами разного рода, проходивши так часто сквозь строй разных пристрастных и лицеприятных судей и палачей, я поневоле должен более других быть строгим к самому себе и не давать себя в обман иллюзиям и самообольщениям. Приступая к работе над ежедневною газетою, я очень внимательно и, думаю, добросовестно спрашивал себя, наедине и в беседе с друзьями, сделал ли я в моем прошедшем что-либо толкового из печатного моего слова, если ли результаты моего прошедшего, дающие мне право ожидать от будущего какой-либо пригодности.
В этом отношении отрадно свидетельствовать, что мое смиренное суждение о своей деятельности не расходится с мнениями моих друзей и даже моих беспристрастных врагов: толк минувшей моей деятельности заключается в том, что смелостью борьбы за известные идеалы я не дал в печати замирать известным мыслям прошедшего и помешал везде лжелиберализму праздновать полную победу. О многих предметах, о которых никто не смел говорить, страха ради иудейского, я дерзал говорить, и этим отстоял возможность уже потом и другим говорить; почти все реакционные мысли против либерального бреда прежнего времени – впервые были сказаны «Гражданином»; его осмеивали, его обругивали, позорили, но исторический ход мысли совершал свое дело: «Гражданин» все-таки читали, и для многих рассеянных по разным углам России он был так сказать сигналом или вестником, что консервативный элемент не погиб, а жив, а раз он жив, есть уверенность в более светлое будущее.
Чего-либо большего себе в заслугу не приходит в голову приписывать. Называю эту заслугу отрицательною; но все же с благодарностью к Богу могу признать труд минувшего не пропавшим и с упованием на Бога могу мечтать о толке и об известной пользе труда будущего. Труд застрельщика – тот же доблестный труд, и если он смел и бесстрашен, он уже этим полезен.
Все эти дни, беседуя то с одним, то с другим о вопросах злобы дня, вынес впечатления, которыми позволяю себе с Вами поделиться.
На днях вечером сидели мы с [П. А.] Грессером, и по поводу хода внутренней политики еще раз наткнулись на вопрос: кто может заменить [Д. А.] Толстого на случай его ухода? Вопрос этот вызван был рассказом Грессера о том, как он беседовал в этот день с [В. К.] Плеве, и тот, дойдя до минуты откровенности, стал говорить ему о пугающем его страшном застое и омертвении в Министерстве внутренних дел, где есть исполнители, но нет того, кто должен указывать: что исполнять?
Вот и явился вопрос: ну, а если гр. Толстой уйдет, и тень даже министра исчезнет, что тогда будет?
Грессер сказал мне: я боюсь гуляющего слуха по городу, что Победоносцев спит и видит на месте Толстого [Н. А.] Манасеина. Оба вместе мы сказали: не дай этого Бог! И если я это сказал, то потому, что твердо убежден в том, что Манасеин при всем своем уме ничего не знает о тех разнообразных сферах жизни, государственной и общественной, которые обставляют со всех сторон область министра внутренних дел, и еще меньше знает инстинкты и нужды России, не говоря уже о том, что он еще вчера был заклятым врагом дворянства и всего консервативного строя нашей старой жизни.
Манасеин прежде всего не живой человек, а кабинетный умный человек. Он совсем вне живой правды. А живая правда теперь та, что если не восстановятся в внутренней жизни России – устои власти, образы власти, видимые и осязательные, если не вернется строгость в проявлении власти и в исполнении власти, тогда последние надежды на восстановление порядка пропадут, и дурные стихии в народе возьмут верх окончательный.
Перебрав в разговоре того или другого из кандидатов, мы все-таки пришли к одному и тому же лицу, то есть к И. Н. Дурново, у которого опыт есть, большой такт и знание России живое, а не теоретическое.
Но И[ван] Ник[олаеви]ч, увы, полумертвый: он года не вынесет. Ему нужно подготовлять себе преемника. А преемник его кто будет? Я назвал сибирского [А. П.] Игнатьева. Грессер крикнул: он лжет хуже брата! [И. В.] Гурко? Боже избави, он во-первых не умен, а во-вторых он окружен и заеден будет красными. [М. Н.] Островский? Это образ и символ петербургского чиновника. Так и не нашли неизвестное… И оба подумали и сказали: вот мы в простой беседе гадаем и разговариваем на счет такого вопроса, а каково Государю?
Уходя, я испытывал уныние от разговора, но затем пришла в голову мысль, на которой я безусловно успокоился, ибо она исходит все из того же чистого источника, где ничто не мутно, из веры в Бога и из твердого как камень убеждения, что в данную минуту, когда Вам понадобится человек на такой трудной должности, как министра внутренних дел, Бог Вам его укажет и пошлет!
А наши людские гаданья – что они могут сделать? Вносить только смущение.
Пока, как говорил мне Плеве, граф Толстой будто бы до того оправился, что требует себе бóльшую порцию дел и катается каждый день на тройках.
В начале октября его ждут сюда. А по возвращении, как говорят в министерстве, сразу поставится вопрос ребром: быть или не быть, так как загорается вопрос о провинциальной реформе[739]. Я разговаривал долго об этом проекте с Плеве. По его мнению, самая существенная оппозиция проекту есть записка Манасеина, как известно, составленная по вдохновению Победоносцева. В этой записке есть две отдельные части; одна чисто теоретическая, которая не заслуживает серьезного внимания и есть скорее уступка или поблажка нашим бумажным либералам Государственного совета: такова, например, мысль, проводимая Манасеиным, о том, что проект гр. Толстого будто бы недостаточно приноровлен к общему строю губернских и уездных учреждений и т. д. Здесь оппозиция слаба, потому что дело идет не о реформе всего строя губернской жизни, а исключительно об установлении какой-либо действительной власти для будничной сельской жизни, которая страдает от отсутствия этой власти.
Другая часть протеста Манасеина заслуживает настолько внимания, что даже и он, Плеве, сказал графу Толстому, что он скорее на стороне Манасеина, чем на стороне министра внутренних дел. В этой второй части речь идет о судебных обязанностях новых земских участковых начальников; по мнению Манасеина, на них возложено столько судебных дел, что они не будут в состоянии с ними справиться. Плеве находит, что тут графу Толстому следовало бы не упрямиться и уступить, исходя из мысли, что чем меньше будет у новых начальников судебных дел, тем более у них будет досуга для справления своих чисто полицейско-судебных обязанностей посредника между крестьянами и между помещиками.
В этом смысле и я полагаю писать. Плеве мне говорил о компромиссе, который предлагает Манасеин гр. Толстому: пусть он откажется от своего проекта, а он, Манасеин, немедленно внесет проект о назначении мировых судей от правительства. Но надо надеяться, что компромисс этот не состоится, и проект гр. Толстого в его главном пройдет, невзирая на сильную оппозицию. У Манасеина к тому же проглядывает и его затаенная ненависть к дворянству; так, в одном месте своей записки он высказывает опасение, как бы учреждение новых участковых начальников, набираемых по проекту из рекомендованных губернатору предводителями дворянства дворян, не показалось крестьянам чем-то в роде восстановления крепостного права. Эта натяжка, лишенная серьезного смысла, свидетельствовать может только о тенденциозном либерализме Манасеина в данном случае.
Третьего дня виделся с [П. И.] Чайковским, приехавшим с Кавказа, который он изъездил вдоль и поперек. Неутешительны его рассказы о [А. М.] Дондукове[-Корсакове]. Он говорит, что ненависть к нему во всех слоях общества и во всех народностях растет не по дням, а по часам, и причина тому та бесцеремонность, с которою Дондуков обращается с преданиями, традициями и чувствительными струнами людей. Он не администрирует, а так сказать бесчинствует, предаваясь самому неограниченному и бестактному произволу. По словам Чайковского, там во многих местах скоро ждут резни и анархии.
Видел [Т. И.] Филиппова, который мне показывал скорбное послание к нему бедного Патриарха Иерусалимского[740] по поводу гонений на него по инициативе Палестинского общества[741].
Раньше я говорил об этом с [А. И.] Нелидовым. Он того же мнения, что и я, и осуждает безусловно Победоносцева за то, что он не постигает или, вернее, не хочет постигнуть, как велик соблазн на Востоке, да и пред целым миром, от зрелища молодого Палестинского общества с братом Государя во главе, которое, слушаясь разных сплетней и интриг против греческого духовенства в Иерусалиме, открыто ведет войну и распри с нами же поставленным Патриархом Никодимом. По мнению Нелидова, совершенств и смыслов искать нечего, у греков недостатков много; но какие бы они не были, из-за них ссориться с греками и с Патриархом Иерусалимским у Святого Гроба Господня весьма неполитично, весьма некрасиво, оскорбительно для Церкви Православной и вредно в конце концов русским интересам на Востоке. Можно ли в этом сомневаться, и я твердо убежден про себя, что если бы Вы, Государь, как Старший Сын Православной Церкви явились защитником Патриарха и сказали бы Побед[онос]цеву о Вашем желании, чтобы прекратились все дрязги и интриги против Иерусал[имского] Патриарха, как в Палестинском обществе, так в печати, Вы бы оказали великую услугу общему делу умиротворения там, где эта рознь доходит до оскорбления самой святыни Гроба Господня.
В Петербурге затишье, но все спокойно, слава Богу. Зато не скрою от Вас, что ежедневно приезжают ко мне из провинции люди, которые с прискорбием говорят о сильно дурном впечатлении, произведенном на всех знаменитым Деляновским циркуляром о кухарках. Досада и злость берут, потому что знаешь, что не Делянова бранят, а на Вас падают эти толки. Я умоляю Делянова написать разъяснительный циркуляр, чтобы смягчить и изгладить впечатление, но что голос мой?
Убежден теперь более чем когда-либо, что опубликование этого циркуляра есть гнусное дело [Н. М.] Аничкова, директора департамента у Делянова, подленького и гаденького человечка, про которого если мне скажут, что он просто враг правительства, я нисколько не удивлюсь!
Да, все это грустно. Но если Вы думаете, что это грустное дает уныние, нисколько: вера в лучшее несокрушима.
Веруйте в Бога и в Себя веруйте, и тучи понемногу рассеются, и люди зла утратят свою силу.
Ваш старый и верный слуга.
4 сент[ября] 1887 года
Понедельник 12 октября [18]87
Начинаю письмо сие с глубочайшей благодарности! Вы спросите: за что? За то, что Вы дали мне возможность свершать нынешний труд и вести нынешнюю жизнь! Теперь об одном молю Бога, чтоб в этом деле пробыть до смерти! Его хватает на целый день, и 6 часов остается для сна, а на то, чтобы думать о себе, унывать или горевать от клеветы, от злобы, от сплетней – вообще жить для себя не хватает времени, и я счастлив. Пусть меня ругают какими хотят названиями и измышлениями – я одно знаю: другого дела у меня нет, как то, которому я отдался; а все остальное да не существует для меня!
Вот за это, если только сие возможно, еще сильнее благодаря Бога, и к Вам воссылаю ежечасно глубочайшую благодарность.
Не знаю, удостоили ли Вы взглянуть на посылаемые Вам с 1 октября №омера газеты, но сколько кажется, и если верить общим отзывам, началось издание удовлетворительно и подает надежды на постепенное улучшение. Многие обратили внимание на умеренность и полное хладнокровие тона каждой статьи, на отсутствие безусловное брани и всего пошлого, и на живость в составлении каждого №ра. И если к этому прибавить, что уличная продажа идет сравнительно для начала бойко (до 1000 №ров в день) и тот факт, что большие газеты удостоили встретить «Гражданин» как соперника и самым наглым образом его замалчивают и обворовывают его известия, не называя источника, то есть «Гражданин», то по этим данным можно заключить, что с Божьею помощью дело началось не совсем дурно и способно совершенствоваться. Кружок сотрудников подобрался очень хороший, и чувствуешь, что дело кипит. Словом, Бог дает мне ощущение, что я попал в свой элемент и в свою колею, а это ощущение есть, кажется мне, важное условие для благого ведения дела. А там, что Бог даст!
А за сим, не желая Вам надоедать подробностями, прошу милостивого дозволения сказать несколько слов о том, что здесь делается.
Увы, немного приходится говорить утешительного. Уже и то дает невеселую окраску каждому дню, что Вы поставлены в необходимость так долго быть далеко отсюда. К заботам без числа Государевым присоединились и заботы каждого дня отсутствия. Молю Бога, чтобы они все становились легче и разрешились возможностью скорого и благополучного возвращения. Вы не можете понять это чувство, ибо не испытывали его: тоска по Царе! Мы ее испытываем, трудно сказать определенно, в чем именно, но она чувствуется и как будто вдыхается в воздухе.
Здесь в дипломатических сферах la grande question du jour et du moment[742] это вопрос: будет ли Ваше свиданье с императором Германским или нет?[743] С одной стороны оно желательно, как событие в политике внешней; ca sera, как говорит старик [А. Г.] Жомини, une grande joie pour le vieux Empereur et un grand événement pour la cause de la paix et pour calmer les esprits en France[744], а с другой стороны, как событие внутренней политики, это свидание в России отзовется вероятно неблагоприятно, ибо, к сожалению, работа газет в духе галломании и германофобии сделала свое дело и очень подлила маслу в оба течения. Отсюда мечта о том, что вероятно Вы изберете что-то среднее, то есть свидание по дороге, без придания этому событию характера подготовленного свидания, и оно будет встречею, а не свиданием в политическом смысле. Тогда и волки сыты будут, и овцы – целы. Так здесь говорят между людьми, Вам преданными серьезно и добросовестно, и мне кажется, что это мнение или, вернее, это чутье в Ваших интересах верное.
Тут к слову дозвольте одну вставку. Политика внешняя всегда наводит на мысль о войне, да кстати здесь всякие авгуры и политикане пророчат ее между Франциею и Германиею к концу зимы будущего года – а мысль о войне приводит к вопросу о том, готовы ли мы? Есть вопрос, который вот уже три месяца меня мучит. Кажется, я не говорил с Вами о нем. Случайно мне пришлось из трех источников узнать, не лишенных серьезности, что в случае войны для нас, нам следует опасаться интендантской части, которая будто бы таит в себе большие беспорядки и в минуту войны, когда уже поздно будет, может нам сыграть скверную штуку. Может быть, все это неосновательно, но тот факт, что я слышал об этом из трех источников, вынуждает меня думать, что pas de fumée sans feu[745], и я мучусь этим, не зная, что мне с этою мукою сердца, думая о Вас, делать. Мука эта усилилась еще тем, что я сообщил о том, что слышал, Вышнеградскому, а он мне в ответ сказал: «А вы думаете, что я не слыхал, но меня мучит то, что я не знаю, к кому мне обратиться с этими опасениями – военному министру сказать, он прямо скажет, что я вмешиваюсь в его дело; другому кому-нибудь, оно будет иметь характер сплетни». Тогда Вышнеградский советовал мне сказать [П. С.] Ванновскому об этих слухах. Я думал, думал, мучился, мучился, и решил, что толку от моих слов не будет; могу даже повредить делу… и решил про себя, что скажу только Вам, Государь. Верно ли это или неверно, я не могу проверить, но долг верноподданного меня обязывает Вам об этом слухе сказать, и я смею полагать, что разъяснение этого вопроса могло бы последовать весьма легко, если бы просто в разговоре с Ванновским Вы бы между прочим сказали ему, что до Вас за границею дошли разные толки и сплетни про какие-то будто бы беспорядки и злоупотребления в интендантстве, что Вы не верите в эти сплетни, но что все-таки для успокоения Себя и его, Ванновского, не мешало бы, по Вашему мнению, ему, Ванновскому, поручить нескольким толковым и честным лицам сделать внезапные ревизии интендантских частей. Тогда и Ванновский не обидится, и выяснится, верны ли эти слухи или неверны.
Что сказать о политике внутренней? Увы, ничего утешительного. Впрочем, нет: начну с утешительного. Вышнеградский начал представлять свои проекты дополнительных налогов для покрытия дефицита в Департам[ент] госуд[арственной] экономии. Как только Абаза приехал, он к нему очень кстати поехал, и просил его протекции. Абаза по-видимому остался очень доволен этим шагом, и действительно, с первого же дня самым полным и решительным образом проявил себя в Госуд[арственном] совете защитником Вышнеградского, и по-видимому благодаря этому проекты Вышнеградского пройдут, надо надеяться, скоро и беспрепятственно. Кстати и курьезный факт. Вышнеградский просил [П. А.] Грессера издать приказ, чтобы законные постановления о взимании гербовых марок за разные контракты, счеты[746], исполнялись в точности, и предупредил о штрафах и о внезапных поверках через полицию и податную инспекцию. Что же оказалось? Смешно сказать! Оказалось, что Грессера приказ как ангельский трубный звук последнего пришествия разбудил всех спящих испокон века: все заорали, закричали, ибо никто никогда и не думал исполнять закон о гербовых марках, и вот в субботу марок этих потребовалось столько, что не хватило их в казначействе. Вот что значит энергия! Но за то криков на Вышнеградского не оберешься.
Но затем перехожу к неутешительному. Ужасное состояние, опасное состояние в делах Министерства внутренних дел: буквально все погружено в спячку, и увы, опять-таки я прав был, говоря о том, что я предчувствую всеми фибрами своего существа, что [В. К.] Плеве ненадежный человек для правительства. Он все время говорит направо и налево, что министерство заснуло, а сам он в своем положении первенствующего в м[инистерст]ве не только ничего не делает, чтобы пробуждать м[инистерст]во и [Д. А.] Толстого хоть бы заочно, но он все делает, чтобы тормозить всякого в министерстве, кто желает действовать энергично и серьезно. Что другое, а я, увы, в чуянии взглядов, улыбок, физиономий ни разу не ошибался; я с первого свидания с Плеве почуял к нему недоверие и убедился чутьем, что это ненадежный и даже опасный человек, ибо он умен и ловок как Вельзевул; никто меня не слушал, и вот теперь уже он добрался до руководительства Минист[ерств]ом внутренних дел, то есть всею провинциальною жизнью, ибо Толстой теперь почти что как игрушка в руках или вернее в уме Плеве, и не дай Бог, чтобы это долго продолжалось.
В России начинает сказываться зловещее последствие такой спячки в Министерстве внутрен[них] дел: чуть ли не ежедневно начинают приходить донесения о восстаниях крестьян массами и о побитии чинов полиции. Передпоследнее Херсонское дело – ужасное дело: всю полицию избили до полицеймейстера включительно, и затем – ни одного энергичного слова и действия власти. А теперь Рязанское дело, под носом у рязанского помещика графа Дм[итрия] Андр[еевича] Толстого, министра внутр[енних] дел. Губернатор приехал в село; крестьяне на колени. Он требует выдачи учителя, поджегшего крестьян к бунту.
Тогда они встают, надевают шапки и говорят: «А если так, то прежде нас бери, а мы его не выдадим!» И губернатор должен был уехать и вытребовать войска. А до приезда губернатора они выпороли всех урядников по наущению этого мерзавца учителя. Все это скверные признаки. По всем толкам, которые я слышу, в виду всех этих фактов, проявляющих, увы, несомненное усиление в крестьянском мире безначалия, явление строгой кары становится государственною необходимостью. Пензенское дело 14 приговоренных военным судом к повешению дает возможность этой каре проявиться[747]. Разумеется, из 14 достаточно одного или двух предать казни. Лишь бы только кто-нибудь был наказан устрашающе, а не все были помилованы. Я слышал от очевидца, как в Пензе в день объявления приговора военного суда толпы стояли по улицам, в ожидании приговора: было торжественное молчание, чувствовался страх, но затем вдруг настроение изменилось; явились в толпе злоумышленники в виде местных адвокатов, и они начали проповедовать, что правительство не посмеет никого казнить, и умы заволновались… Многие подняли головы.
Одно мне сдается неладно. Зачем на Высочайшее усмотрение представлять такое дело, где начальник округа сообща с министром внутр[енних] дел и юстиции могли бы решить своею властью сами? Что за системы все на Вас взваливать. И если бы Вам благоугодно было бы сие внушить кому о том ведать надлежит, это было бы раз навсегда принято к сведению и к руководству.
Но возвращаюсь к мин[истру] вн[утренних] дел. Толстой поспешил отложить свой возврат до ноября, вследствие Вашей отсрочки в приезде, и затем, вернувшись в ноябре, он намерен ввиду протестов против проекта своего[748] – начать переговоры, и дело, я предвижу, оттянется на всю зиму. А между тем нужда в этом проекте растет по минутам, каждый час промедления наносит страшный вред правительственным интересам.
Ввиду этого, прислушиваясь к общему, так сказать, говору, смеешь громко в Вашем невидимом, но сердцем чуемом присутствии, сказать Вам, что чем скорее Вы примете в этом деле инициативу, тем лучше. Инициатива может быть двойная или двоякая. Первая могла бы заключаться в том, чтобы поручить Толстому немедленно переговорить с Манасеиным и Победоносцевым и, достигнув соглашения, немедленно же внести в Госуд[арственный] совет записку. Тогда и Толстой проснется, и его два противника сделаются уступчивее, причем я позволил бы себе заметить, что если бы Вы написали Манасеину и Победоносцеву, что желаете, чтобы главные основы проекта гр. Толстого немедленно представлены были в Госуд[арственный] совет, после соглашения с Толстым на счет некоторых подробностей, по которым между ними разногласие, то дело пошло бы, как по маслу. А Толстому Вы бы могли написать, что желаете немедленного хода проекта его, после предварительного соглашения с Манасеиным и Победон[осцевым] на счет подробностей, возбуждающих разногласие.
Но есть и второй способ проявить инициативу. Он заключается в вопросе: не становится ли существенною необходимостью в интересах государственных думать и очень думать о заместителе графа Толстого. Он очевидно как министр давно перестал существовать; он остался как тень чего-то, означающего порядок; но эта тень так слабеет и бледнеет, что ее уже совсем не замечают, и в Министерстве внутр[енних] дел по текущим делам директор департамента делает, что хочет, а в важных делах Толстой делает то, что ему ловко подсказывает Плеве, а Плеве имеет своею политикою противоположное тому, что нужно, что Вы ожидаете, и для чего назначен был гр. Толстой – его девиз abstention de pouvoir[749], а требуется проявление и усиление власти. Нет сомнения, что здоровье гр. Толстого настолько плохо, что он неизбежно [через] две недели после прибытия сюда заболеет, и опять все затормозится…
Ввиду всех этих соображений неволей наталкиваешься на вопрос: кому же быть преемником гр. Толстого? Ответ, как я писал Вам, лежит в Вашей мысли, если верно то, что Вам ее приписывают – в мысли назначить И. Н. Дурново! Другого не приищешь! А что он при Вашей инициативе может энергично действовать, это доказало то лето, когда он, будучи управляющим министерством, провел так скоро и решительно вопрос о языке в Остзейском крае[750].
Лучше выбора нельзя сделать, ибо кроме знания и опыта у И. Н. Дурново есть то, от чего давно, увы, с грустью отвыкли в России, уменье выслушать, принимать и, что важнее всего, ладить со всеми, и к тому же он пользуется всеобщею любовью и уважением.
И смел бы чутьем сказать – чем скорее это будет, тем лучше для порядка и для Ваших интересов спокойствия. И еще выгода: с вступлением И. Н. Дурново улетучится Плеве, этот чарующий, но страшный умный человек!
В заключение два слова о варящейся теперь каше отдачи «Московск[их] ведомостей»[751]. Дозвольте с Вами совсем откровенно поговорить. Тут творится что-то неладное, и долг преданности велит Вас предупредить, а за верность того, что я говорю, ручаюсь.
Делянов совсем, а Победоносц[ев] отчасти совсем одурачены и обойдены в этом деле гаденькою денежною интригою. Они стоят горою за отдачу «Моск[овских] вед[омостей]» [С. А.] Петровскому, бывшему у Каткова смиренным прислужником. Но барин умер, и холоп возомнил, и стал и нагл и нахален в своих замыслах. Вдова Каткова начала с ним продолжать дело, но теперь Петровский уже выкинул ее за борт.
Как человек это дрянь в полном смысле слова, как писатель – он бездарен, но затем как публицист он Побед[оносцеву] говорит о своей преданности Государю, а своим говорит: вот, дайте мне только забрать в руки газету, я тогда покажу им (Победон[осцеву], Делянов[у] и Кии) что я ни в чьей опеке ни нуждаюсь!
Почему же за него стоят?
Увы, по простой причине: его выдвигает [Е. М.] Феоктистов, начальник печати, а Феоктистов получал от Каткова содержание как корреспондент из Петербурга «Московских ведомостей»[752], а Петровск[ий] обязан ему платить втрое больше. Вот и все. А так как [М. Н.] Островский живет с мадам [С. А.] Феоктистовой, то и Островский горою за Петровского…
И вот на совещании у Делянова они забраковали шутка сказать – кого, – графа [А. А. Голенищева-]Кутузова, идеал чести и таланта, [Д. И.] Иловайского, а Петровского – выбрали, Победоносцева не было на совещании, но Феоктистов заговаривать зубы Победоносцеву умел не раз.
[Д. М.] Сольский и Вышнеградск[ий] против этой агитации и интриги, но она их не касается с нравственной стороны, а касается только с денежной.
Вероятно она и до Вас дойдет, эта интрига. Если дойдет, то смею полагать, что с Вашей стороны, чтобы никого не обижать, есть прекрасный выход: ввиду неизвестности – кто такое Петровский, дать ему в заведыванье «Моск[овские] вед[омости]» еще на год или на два года, но не больше, и тогда посмотреть, как он поведет дело.
А другой исход еще проще: почему же Петровскому, спросить Вы бы могли, а не талантливым людям!
Тут их ответ будет очень слаб! И Вы бы смело могли настоять на желании видеть «Моск[овские] вед[омости]» в руках более известного и талантливого издателя.
Но главное в этом деле – было бы, если Вы не допустили бы на 6 лет отдавать Петровскому «Моск[овские] вед[омости]» без этого опыта 1 или 2 лет.
Тогда вся интрига рухнет, и совет нечестивых не удастся!
Ваш старый слуга В.
От себя, со дна души, что могу сказать…
Вы знаете что я чувствую…
Скажу только что молюсь и молюсь о Вас с верою, укрепленною сознанием и чувством, что достоин сметь молиться за Вас!
Да хранит Вас Бог и Ангел Его да осеняет выздоровлением постели Ваших детей[753], и Вам да пошлет радости!
Вам Отцу, Вам Мужу, Вам Государю.
[Середина ноября[754] ]
Сегодня кончил мое послание Дневника[755] на Ваше имя и чувствовал на душе что-то хорошее, когда с час назад опять все во мне забушевало и перевернулось. В антракте между роббером винта [Т. И.] Филиппов мне сообщил наедине вот что, для моего сведения:
– Одно лицо, – сказал мне Филиппов, – обратился ко мне с такими словами: «Хорошо ли Вы делаете, Тертий Иванович, что участвуете в “Гражданине”»; «А что?» – спрашиваю я; «Да разве вы не знаете, что Победоносцев на другой день по приезде Государя из-за границы был у Него и до такой степени очернил Мещерского, что стер его совсем и уничтожил в глазах Государя». «Вам кто же это говорил», – спрашивает Филиппов. «А говорило мне одно из самых близких лиц к Победоносцеву».
– Боже мой, Боже мой, – вырвалось у меня со дна души, когда гости ушли, и я в тишине ночи остался один, разум, сердце, все лучшие струны души говорят мне, что это невозможно, но факты после Вашего возвращения теперь, когда я узнаю, что это не было со стороны Победоносцева, – как я полагал и пишу в письме от пятницы, – мимоходом высказанные нападки, а целый так сказать обвинительный акт, факты, увы, говорят, что на этот раз удар, направленный на меня так, что я не знаю даже, в чем меня обвиняют, и лишен возможности оправдываться – имел свои печальные последствия.
Но, как это иногда бывает, укол или царапина подчас угнетают человека и расстроивают человека, а сильный удар на его нравственное существо наоборот поднимает разом весь его дух и дает ему силы. Жесткость поступка Победоносцева слишком велика, чтобы я мог ее бояться, и если что-либо во мне произвела, Государь, то только укрепила во мне сознание глядеть Вам прямо в глаза еще бесстрашнее, еще спокойнее.
Это уже не интрига, это страшное знамение времени, клевета как оружие, ложь как право Вас остерегать и отдалять от человека, который ни единым помыслом, ни единым мгновением не посягнул на святыню Вашего к нему доверия и не нарушил его. Здесь слишком видна цель, цель невообразимо печальная, чтобы можно было колебаться в выборе названия подобающего средства к достижению этой цели.
Я ужасаюсь такой сатанинской ненависти, потому что она предвещает, что ожидает всякого от уст Победоносцева, который, не боясь его, будет стремиться, как я стремился, к общению с Вами во имя безусловной правды, но я не удивляюсь ей, я ее понимаю, я ее мог и должен был ожидать. Я спокоен духом, как никогда не был, именно потому, что так ужасен поступок Победоносцева, и вследствие этого могу с Божьею помощью призвать и разум себе в союзники, и прямо говорить от сердца моего с Вашим сердцем.
Разум прямо говорит, что дело Победоносцева, предпринятое против меня, нечистое дело. Тут цель не Вы, Государь, а он сам; это слишком очевидно; я не вчера родился, не вчера в отношениях к Вам, основанных на доверии; не вчера я живу настолько открыто, что даю всякому право и сочинять на меня, и клеветать на меня; если я негодяй, не со вчерашнего же дня я им стал; если я честный человек, не теперь же я стал негодяем, потому что, идя напролом в летней истории[756], дал недругам своим полное право сочинить самый монстрюозный против меня скандал; не вчера наконец я живу под дождем самых невообразимых клевет и сплетен, а ровно 25 лет… Все это не мешало нисколько Победоносцеву водить со мною дружбу, приходить ко мне, писать в «Гражданин» до декабря 1886 года…
Но разом, как ножом отрезанное, все кончилось в декабре прошлого года. С минуты выбора, павшего на Вышнеградского, его ноги у меня уже не было, его участие в «Гражданине» прекратилось, и его злоба дошла до того против меня, что однажды он забылся до такой степени, что одному предводителю дворянства, приехавшему к нему и оттуда ко мне, сказал такую фразу, глубоко его смутившую: «Что ноньче я могу, я ничего не могу, ноньче по “Гражданину” людей назначают!» Эта сильная бестактность в его положении дала мне указание: чего мне ожидать от Побед[оносце]ва в будущем. Но до лета фактов не было… Он, как и все мои благожелатели, были в том же положении: вот 25 лет, как на меня клевещут всякими способами и не приводят ни одного достоверного факта, хотя легко себе представить, с какою бы жадностью накинулись на меня, если бы один факт был; ведь меня и в утайке денег обвиняли в 1877 году[757], не говоря уже о гадостях другого рода. Но факт явился. Я сам его создал. Побед[оносце]в за него ухватился, и притом с оттенками опять-таки гадкими. Когда я ему объяснил, в чем дело, он сделал вид, что поверил мне, и даже выразил мне сочувствие, а затем в тот же день и на другой день еще с большим пафосом стал мне в обличение рассказывать другим мою историю, прибавляя от себя возглас: «И такие люди хотят издавать ежедневную газету». И везде, где только был случай, он язвил меня за спиною с какою-то затаенною злобою, так что даже некоторые, не зная причины, удивлялись тому, что в 1887 году он обо мне говорит совсем противоположное 1886-му.
Но затем наступил роковой день, когда Побед[оносцев] узнал или догадался, что я Вас умолял не утверждать решения на счет 6-летней отдачи [С. А.] Петровскому «Мос[ковских] вед[омостей]». [И. Н.] Дурново мне говорил тогда, что он редко видел Победоносцева в таком озлоблении против кого-нибудь, как тогда против меня. А так как на мою беду это совпало с непредвиденным успехом «Гражданина», с слухом о данной мне субсидии[758], и Побед[оносце]в увидел в то же время, что гнусная клевета против меня не помешала успеху начала газеты и что с другой стороны газета такая – есть сила, и все порядочные люди перешли в «Гражданин» писать, тогда-то, всем этим охваченный и подожженный, он решился разом нанести мне удар так сказать смертельный. До каких размеров дошла его злоба и его клевета в разговоре с Вами – не знаю; думаю, что она была беспредельна, но знаю и повторяю, как я сказал: одно, не Ваши интересы его к этому побудили, а его страх моего влияния на Вас, вот что решило его на такой неслыханный поступок: клеветы и очернения на человека, с которым 27 лет тесных отношений он называл дружбою. Доказательства, что Ваши интересы тут были ни при чем, налицо: привожу их без злорадства, но с глубокою грустью. Если бы в деле передачи «Моск[овских] вед[омостей]» в новые руки я бы позволил себе назвать кого-либо недостойного, то в интересах Ваших, то есть правительства, Победоносцев имел бы основание вооружиться против меня; но я писал в «Гражданине» только о том, что в интересах правительства была бы желательна осторожность, ввиду того, что Петровский неизвестный человек. И что же? Этого-то неизвестного человека во что бы то ни стало Победоносцев хочет признать настолько достойным доверия правительства, чтобы отдать ему на 6 лет издание, которое служит органом государственной правды, и на 6 лет лишить правительство возможности исправить свою ошибку, если окажется, что Петровский обманул доверие правительства и уронит издание. Где же тут Ваши интересы?
Но этого мало: кто бы я не был, я все таки человек порядочный; он не только становится горою за неизвестного ему Петровского, но за то, что я советовал в интересах правительства осторожность и указывал на печальный опыт с «Петербургскими ведом[остями]»[759], он с яростью накидывается на меня. Где же тут охрана Ваших интересов? Затем, как я уже говорил, он с негодованием привязывается к слуху о данной мне субсидии, и опять-таки в интересах будто Ваших восклицает: это хищение, помилуйте, казну грабят, а сам в угоду [М. Н.] Островскому и [Е. М.] Феоктистову и [И. Д.] Делянову устраивает до 400 тысяч субсидии Петровскому посредством объявлений. Где же искренность в охране Ваших интересов? Еще дальше: в интересах Ваших все, что можно было собрать в летней истории скверного и гадкого против меня, он несомненно говорил Вам, что такой скандал безнравственности, связанный с моим именем, компрометирует Ваши отношения ко мне. Но, Боже правосудный, допустив даже, что все взводимые на меня клеветы правдоподобны, что они значат сравнительно с тою мерзостью, про которую Поб[едоносце]в отлично знает, продажи Феоктистовым Островскому жены и сожития втроем при условии, что за это Феокт[истов] пользуется милостями Островского. По-моему, нет на свете мерзости мерзостнее этой, и что же? Тот же Поб[едоносце]в, который отлично знает, что летняя история моя – это клевета и ложь, будто бы в Ваших интересах – этою клеветою усиленно снова чернит меня и смущает Вас, и тут же все зная про Феоктистова, находит согласуемым с Вашими интересами поддерживать сделку Феоктистова с Петровским и вводит его, Феоктистова, в свой тесный кружок ближайших собеседников!
Наконец – в Ваших будто бы интересах он становится между Вами и мною, чтобы меня уничтожить перед Вами… Где же сущность обвинений против меня? Не знаю. Чем я осквернил Ваше доверие ко мне? Не знаю. Какие факты могли бы доказать, что я хоть искру принес Вам вреда? Их нет, этих фактов. Был ли я Вам полезен, не знаю. Но что вреда я Вам не сделал, это я знаю, это он знает, это Вы знаете, это Бог знает…
Но в это же самое время, когда он так страшно зло во имя будто бы Ваших интересов становится между Вами и мною, есть нечто [в] сто миллионов раз серьезнее, происходящее в России, с опасностями для Ваших интересов действительно серьезными: это полная анархия, являющаяся результатом деляновского laissez faire, laissez passer[760] в области школы вообще и университетов в особенности. И что же? Тот же Поб[едоносце]в не только не находит нужным в Ваших интересах сказать Вам, что добродушие Делянова угрожает серьезными опасностями и бедами России, но, усмехаясь, он все за него, он везде за него! Ему сподручен Дел[янов], он молчит; ему неудобен я, он меня топит. Но где же Ваши интересы?
Затем, прислушиваясь к толкам на вопрос, что мог сказать против меня Вам такого ужасного, чтобы, как выразился Победоносцев, оттереть меня от Вас, я мог по догадке узнать следующее:
1) Что будто бы я всем говорю о субсидии, мне данной, что будто бы я всем говорю о моих отношениях к Вам, что будто я всем говорю о моем значении в Ваших глазах в вопросах назначения, говорю: я назначил Вышнеградского, мало того, предлагаю портфели, вхожу в сделки с Филипповым, обещаю ему какие-то посты, и так далее.
Что я на это могу сказать? Как бы сильна ни была злоба в человеке, я, признаюсь, не могу допустить, чтобы она доводила до таких нелепостей и до такой лжи. Вы меня давно знаете. Похоже ли не то что это, но даже подобное этому на меня? Я всегда был известен как человек, на которого можно положиться и которому все можно поверить. Я не только никому никогда похожего ничего не говорил, но когда назначен был, например, Вышнеградский, я почти перестал к нему ездить при гостях, и всего был у него поздно вечером раз 6 в году и 1 раз обедал у него на даче, с Филипповым я в течение года, например, очень тщательно изворачивался и избегал вопросов, которые могли бы дать повод ему или кому бы то ни было меня заподозривать в сделках. А что тридцать раз, когда в разговорах заходила речь по поводу болезни [Д. М.] Сольского о его преемнике, и я и многие говорили [о] Филиппове как об единственном знатоке этого дела, и как о государственном уме, выходящем из ряда, и как о высоко честном человеке, – то что же тут не то что дурного, но неестественного; и мне кажется, что когда молва указывает на достойного человека, то это только услуга преданности престолу. Но отсюда сметь говорить, что я будто выдаю себя за влияющего лица и по вопросу о назначениях или вообще по какому бы то ни было вопросу говорю о своих отношениях к Вам, – надо для этого отрешиться от всякой совести и решиться, невзирая на все, лгать Вам прямо в глаза.
Вообще, Государь, все эти обвинения до того невообразимы, до того безобразны, в особенности, если принять во внимание, что Поб[едоносце]в меня в нынешнем году видел не более 3, 4 раз, что я чувствую даже для себя унизительным оправдываться. Но так как Вы – Государь, – то считаю себя обязанным честью своею и Святынею Вашего имени засвидетельствовать, что все это от начала до конца ложь, за которую пусть ответит Богу тот, кто ее сочинил и смел Вам ее сказать, ложь в каждой подробности, ложь в каждом слове, ложь во всех видах!
Затем мне передавали со слов опять-таки Поб[едоносце]ва, весьма, по-моему, некрасиво разглашенных им же между своими приближенными, о том, что все его против меня обвинения он усугубил странным поручением будто бы от моего брата и сестры или жены брата[761], уполномочивших его перед Вами наложить на меня приговор осуждения и отчуждения от них. Если это правда, то я очень рад, что я узнал о ней, если это неправда, то хотя я еще летом писал Вам, что из-за этой истории поссорился с семьею, с сестрою и с братом (с ним ссора началась по поводу ст[атьи] Филиппова о Каткове[762]), но тем не менее я рад поводу и об этом эпизоде передать Вам подробно, дабы никогда не могло быть вопроса о том, что я что-либо от Вас утаиваю.
Оставляя в стороне, насколько хорошо брату или сестре без уверенности в правоте даже своего убеждения делать такие заявления и чужому человеку передавать их Вам, вмешиваясь в семейные чужие дела, я только считаю нужным пояснить, что тут я кругом виноват в том отношении, что вооружил против себя семью. Но думаю, что всякий на моем месте сделал бы то же самое. Сознание невинности в каком-либо деле, где на Вас обрушивается клевета всею своею силою, дает человеку и гордость, и решимость идти на все, ничего не боясь. Поступок моей семьи, то есть двух ее членов, был подготовлен мною еще летом. В понятном негодовании и настроении, когда сестра моя приехала на 4 дня сюда гостить у Озеровых в Царском, я, разумеется, сказал ей, что считаю семью Озеровых поступившею со мною подло, и Давида Озерова признавая мерзавцем и подлецом, я ей предоставляю выбрать между семьею Озеровых и мною, и если она останется у Озеровых, то буду считать наши отношения навсегда порванными. А оправдываться в чем бы то ни было считаю ненужным и для себя оскорбительным. Я знал очень хорошо, что сестра уже столько лет в руках Озеровых, не решится порвать с ними, и, разумеется, ее не выпустили из Царского, усугубив ложь против меня; она мне написала письмо, на которое я ей ответил рассказом факта и затем, высказав ей всю правду в лицо, может быть слишком резко, заключил письмо последним «прости» навсегда! Чтобы все это понять, надо, чтобы Вы знали, Государь, что, увы, эта сцена была только последняя капля, пролившая вазу. Между нами со смерти [В. П.] Клейнмихеля, то есть между сестрою и мною, и отчасти между старшим братом, взявшим сторону сестры – все усиливается глухая война, и выдавались у меня минуты негодования из-за семьи Озеровых. Это целая[763] семейная тайна, о которой говорить слишком долго, но я упоминаю только о ней, чтобы Вы знали, что не будь этой тайны, вероятно никогда бы Озеровы не решились бы с такою ненавистью выступить против меня и вооружать на свою сторону и мою семью. Ненависть моя к Озеровым – это тайна моего сердца уже сколько лет именно из-за сестры и из-за моей тетушки Е. Н. Карамзиной; несколько раз она вырывалась у меня наружу, и мои слова, про них сказанные: Карамзинские и Клейнмихельские нахлебники[764], никогда, разумеется не были мне прощены теми, которые завладели моею сестрою, ее детьми, ее делами и моею больною тетушкою.
Затем что касается брата моего, то и тут, увы, я разгорячился, вышел из себя, и когда получил от его жены от его имени письмо с самыми сильными упреками мне за статью Филиппова о Каткове (страсть к Каткову у брата была обожание совсем слепое и фанатичное, два раза из-за нее мы были по году в ссоре), то я им ответил дерзким письмом и прибавил: «Ваше беспристрастие теперь так несомненно для меня, что я спешу вас уведомить о новой гадости, изобретенной, чтобы позорить меня, милою семейкою Озеровых, и убежден, что вы и тут будете оба верить не мне, а противникам моим. Подробности можете узнать от Озеровых».
То, что я писал, случилось. Озеровы, пока я молчал, все передали с подробностями, и, разумеется, я их действию противодействовать не буду. Бог даст, время залечит и успокоит все, а теперь надо покориться.
Вот почему так нехорошо было со стороны Поб[едоносце]ва Вас смущать семейными отношениями к этому летнему эпизоду, когда он не мог знать сущности этих отношений и меня ни о чем не спрашивал. И если бы Вы могли знать хоть десятую часть того, что я после смерти отца и Клейнмихеля переистерзался душою из-за семейных тайн, то Вы бы убедились, что этот летний эпизод отношений семьи и Озеровых к моему делу, это цветочки сравнительно с тем, что нас в эти годы друг против друга влекло к вражде.
Вот что я счел святым для себя долгом высказать Вам, не для оправдания себя, ибо, вероятно, Вы помните, что я именем Бога и честью Вашего имени принес пред Вами клятву в том, что в деле, из-за которого столько было шума и страстной лжи пущено в ход, я честен и чист от всякого оттенка грязи, но для того, чтобы Вас успокоить, ибо невозможно, чтобы, видя и слыша столько упорных и настойчивых и даже правдоподобных обвинений против меня, которого Вы не можете считать себе совсем чужим, – обвинений, подкрепляемых еще ссылкою на семью, – невозможно, говорю я, чтобы Вы не испытали известное нравственное колебание и не близки были бы к вопросу: да в кого же верить, наконец*.
Это ужасный возглас, когда он вызван наговорами на человека, которого 26 лет Вы считаете честным, и еще ужаснее потому, что этот наговор сделан человеком, который 27 лет уважал меня и выдает себя за Вашего вернейшего советника!
Вот почему я с убеждением говорю, П[обедоносце]в нехорошее дело делает, и я его отсылаю к Божьему суду за это! Ваше дело само по себе тяжелая деятельность; время чревато затруднениями, и если к этому под предлогом преданности прибавлять наговоры на людей, честно преданных Вам, то неужели это облегчает Вам Ваши тяготы… Ненавистью человека запятнать не трудно, а кого он с любовью к Вам приблизил, пусть скажет. Я по крайней мере держался долга не возбуждать в Вас подозрения или недоверия к преданным Вам, потому что считаю это подлостью, и неужели тот же Поб[едоносце]в может быть уверен, что в его действиях нет многого, что такую же ненависть, как его ко мне, могло бы вызвать на наговоры против него еще более злые.
Но зачем их делать? Пусть лучше польза от каждого будет полная, а то, против чего в Ваших интересах надо возвышать голос, не проще ли без наговоров на личность высказывать как мнение и отдавать на Ваш суд. У каждого человека есть грехи и слабые стороны, но раз он честен, зачем ему мешать быть посильно полезным Тому, Кому он святит все свое существо?
Мне кажется, что я прав.
Если бы мое дело касалось кого-либо другого, и Вы меня спросили бы совета, как поступить, я был [бы] смел дать такой совет: даже Поб[едоносце]ву на все его наговоры ответить: «Оставьте все эти дрязги, сплетни и наговоры, какое мне до них дело, кто мне предан, тому я верю, а безгрешных людей на свете нет, а очернить и оклеветать можно всякого».
Но так как дело до меня касается, то могу только отдаться на Ваш справедливый суд. При этом в свою защиту сошлюсь на одно рассуждение одного господина в мою пользу, переданное мне в виде эхо из гостиной графини [Е. Н.] Адлерберг. Сидело там несколько дам и мужчин, в том числе графиня [М. Э.] Клейнмихель – урожд[енная] Келлер. Зашел разговор об моей летней истории. Одни верили в нее, другие – нет. При этом один господин – мне не сказали, кто – сказал в мою пользу аргумент, коего сущность я приведу. Если допустить, что я имел низость прикрыть Вашим именем гадость, то значит я подлец, а если я подлец, то я не был бы настолько глуп, чтобы идти на скандал и на риск себя свалить в какую-то пропасть из-за какого-то музыканта, а будучи подлецом, я бы деньгами развратил кого нужно, никто бы не знал, все было бы шито и крыто, и те же Озеровы оставались бы моими soi-disant[765] друзьями. А если я пошел на скандал и сам его создал, то именно это доказывает, что я ничего не боялся и не имел повода бояться; эту безумную, можно сказать, решимость идти напролом может только иметь человек, у которого рыло не в пуху. Вот приблизительно реальный аргумент этого господина, который был настолько реален, что двое из сидевших тут будто бы сказали: «C’est vrai!»[766] И действительно, что другое, а развратничать можно во всех видах сколько угодно втихомолку, и хлопотать о переводе из части в часть музыканта для того, чтобы легче было его портить, право, не нужно. Но тем не менее вред мне сделан. Клевета достигла своей цели. То, что я предсказывал, случилось: тот же П[обедоносце]в, я готов поклясться, не верит внутри себя в эту клевету на меня, но тем не менее он ею воспользовался, чтобы Вас смутить. А так как я прежде всего о себе не думаю, когда речь идет о Вас, и ничего не ищу для себя в моих отношениях к Вам, то понятно, что, любя Вас, как я люблю, я найду в этой любви силу подчиниться всему, что может хоть сколько-нибудь Вас избавить от затруднений щекотливого свойства из-за меня…
Если Вы уважаете меня, то думаю, что Вы эти мысли мои одобрите.
А мысли эти такие. Лучше во всех отношениях, если Вы допускаете известную пользу себе от моих к Вам сообщений, быть более осторожным и скрытым, чем менее. Заговору зла против отношений моих к Вам следовало бы противопоставить заговор добра. Способ сообщения с Вами, хотя и теперь секретный, но все же еще больше следовало бы ему быть таинственным, дабы никто об них не мог знать, и пусть думает Поб[едоносце]в и другие, что они успели в своей цели и прервали наши сношения. Мне кажется, что это было бы очень полезно. И затем я бы предложил остановиться на самом строгом и надежном лице относительно хранения тайн, это на Ив[ане] Ник[олаевиче] Дурново. Не было бы ни лакея, носящего пакет, как теперь, к Ант[ону] Ст[епанови]чу [Васильковскому], ни распечатывания и переложения в другой пакет и т. д.; а просто я бы лично передавал И[вану] Н[иколаеви]чу в руки пакет, а он, как посылающий по должности Вам пакеты, мог бы пересылать пакеты от себя или передавать при случае. И если бы суждена была мне радость от Вас получать два слова – то опять-таки через И[вана] Н[иколаеви]ча путь был бы вернейший, чтобы никто в мире не знал.
Таким образом, само собою успокоилось бы море около наших отношений, перестали бы говорить об них, а маленькая доля пользы, которую я бы мог приносить Вам постоянным сообщением Вам правды из жизни, осталась бы.
А затем, что же касается «Гражданина», то я смел бы просить и умолять удостоивать его внимания. Наверное, из-за многих причин выписки в царстве Феоктистова из «Гражданина» для Вас не делаются; а между тем положительно в «Гражданине» теперь лучший подбор умных и преданных людей; многие из столпов «Моск[овских] вед[омостей]» перешли в «Гражданин», и затем, как я пишу отдельно, в виду неизбежных против «Гражданина» придирок и преследований – так было бы важно Ваше слово поддержки честному и начинающему изданию.
Вот все, что счел долгом сообщить Вам с грустью в сердце, но с спокойною совестью и без малейшего уныния.
Все дурное в виде репутации устроила против меня годами клевета.
Все хорошее отняла у меня та же клевета. Будьте справедливы, и во имя 26-летнего прошлого, не верьте дурному, когда оно – клевета, и приймите к сердцу доброе.
[Отдельные дневниковые записи. Конец 1887 г.[767] ]
[Не ранее 23 и не позднее 30 ноября[768] ]
Предполагая, что Вы не знакомы, Государь, с некоторыми данными из недавнего прошлого касательно связи студентских беспорядков с политическими заговорами, я позволяю себе Вам сообщить вкратце очерк этих данных, присовокупляя, что они почерпнуты из официальной переписки, в архиве Депар[тамен]та полиции хранящейся. Сообщил же мне их бывший при [М. Т.] Лорис[-Меликов]е вице-директором этого департ[амент]а [В. М.] Юзефович.
С 1861 года начались студентские беспорядки. После их прекращения главнейшие участники были разосланы по разным губерниям России под надзор полиции с запрещением поступать в какое-нибудь учебное заведение и куда бы то ни было на службу ни штатную, ни по найму.
Два года после этого вследствие возбужденного министром юстиции[769] ходатайства состоялось Высочайшее повеление о разделении сосланных студентов по поведению и по степени благонадежности на разряды, с тем, чтобы исправившиеся и благонадежные могли быть определяемы на службу, сперва по найму в виде опыта, а потом на службу штатную. Высочайшее это повеление было передано министру внутренних дел, в то время [П. А.] Валуеву, к исполнению. Что же оказывается? На бумаге министра юстиции министру внутр[енних] дел значится пометка: «министр внутренних дел приказал оставить без последствий», и Высочайшее повеление очутилось под сукном.
Затем с одной стороны стали прибавляться после разных беспорядков ссылаемые в губернии студенты, с другой стороны на всякое представление губернатора министру внутренних дел о необходимости из политической предосторожности и человеколюбия исправившихся сосланных определять на службу, дабы не готовились из них раздраженные политические преступники, и хорошим и честным из них дать возможность в новой жизни загладить увлечения молодости, Валуев в течение ряда лет систематически отказывал… смеясь над человеколюбием и над Высочайшею волею!
Что же произошло? Из дел того же Департамента полиции оказывается, что во всех политических делах, начиная с Каракозовского[770] – участниками являются в разных видах и степенях студенты, за университ[етские] беспорядки разосланные по России, а в знаменитом Жихаревском[771] деле 193 схваченных более половины были те самые студенты ссыльные.
Это в высшей степени поучительное историческое явление, доказывающее еще раз, как одновременно с самым широким и бессмысленным либерализмом людей а ла Валуев бессердечие их готовило систематически и развивало цареубийц.
Этот исторический факт, смею думать, мог бы иметь свое практически полезное применение к нынешнему времени, как предостережение от таких мер, которые могли бы усилить зло вместо его исправления.
Сегодня, простите мне, Государь, мое вольное, быть может, суждение, есть грустная аналогия с тем, что я привел выше, а именно вот в чем. Теперь несомненно выяснилось, что в московской истории студентов безусловно виновато начальство. [П. А.] Капнист своею бестактностью, своею неумелостью обойтись с молодежью, а в особенности Делянов, не захотевший убрать из Москвы [А. А.] Брызгалова, когда ему со всех сторон говорили о невозможности этого инспектора, про которого общий был голос, что он прежде всего хам. Чтобы судить о том, что это за личность этот Брызгалов, вот свежий эпизод, за несколько дней до истории случившийся с графом [В. А.] Бобринским и рассказанный им самим. С телеграммою о болезни отца[772] он приходит к Брызгалову и просится в Петербург на 3 дня.
Брызгалов принимает его очень грубо.
– Все вздор, – говорит он, – нечего Вам таскаться в Петербург, – и все в этом тоне.
Бобринский почтительно настаивает.
– Вздор, – повторяет Брызгалов, – да и есть ли у вас билет о благонадежности.
Бобринский вынимает билет и отдает Брызгалову.
Брызгалов начинает читать, и вдруг картина.
– Граф, – говорит он самым вкрадчивым тоном, – ваше сиятельство, извините, я вас не узнал, поезжайте, голубчик, на 5, на 10 дней, сколько хотите, простите, обознался…
Бобринский повернулся и ушел, ничего не ответив, подумав про себя, что если бы он не был студентом, он сказал бы ему подлеца…
Затем тот же Бобринский очутился в день пощечины в концерте и был довольно сильно побит в схватке товарищами, бросившись по принципу на защиту инспектора. Но как он, так и вся масса студентов порядочных говорит, что в душе они все были за студента, давшего пощечину, ибо презирали Брызгалова.
Теперь весь вопрос в последствиях, а последствия все в зависимости от вопроса: будет ли строгость душевная, сердечная, отеческая, с мыслию, что это детские шалости, или будет строгость формальная, бездушная, которая не только не поправит дело, но испортит и зло вгонит внутрь. Увы, пока последнее вероятнее. Вопрос сводится к Делянову, а что теперь ясно, что в этом человеке под добренькою улыбочкою нет теплоты душевной ни искры, это несомненно… Он все свое сердце израсходовал на ненависть к Лорису и теперь готовит беды России хуже Лорисовских. Вот этот Делянов с одной стороны советуется с [Д. А.] Толстым и Побед[оносцев]ым: оба умные, но души и любви от них не проси; а снизу его вдохновляют такие бездушные и злые существа, как [А. И.] Георгиевский, [Н. А.] Любимов и [Н. М.] Аничков. Что же выходит…
– Да уберите скорее Брызгалова, – говорят ему.
– Ни за что, это будет потачка мальчишкам, сохрани Бог.
– Да он мерзавец.
– Ну вот, мерзавец, просто себе крутенек маленько.
– Он хам.
– Правда, немного есть, – шутит Делянов, – но Боже сохрани его убирать.
– Ну так все будут беспорядки у вас.
– Пускай, а мы будем закрывать университет.
– Да ведь там 3500 человек, вы их сознательно поджигаете, раздражаете.
– Ничего, пошумят и успокоятся…
Вот речь Делянова, вот речь Аничкова, вот речь всех, от кого зависят меры к успокоению университетов.
И меры-то хороши: все они только раздражают молодежь. Например, в Петербургском университете сочинена такая мера: швейцару велено считать пальто и шинели студентов и записывать, чтобы следить за бывающими на лекции и не бывающими. Где же иной смысл такой меры, кроме смысла придирки? Ведь богатому ничего не стоит заплатить швейцару, а бедный будет всегда попадаться, даже когда он не был по уважительной причине.
Что же делать? Боже мой, разве не первый долг министра был самому поехать в Москву, говорить со студентами, от души, тепло, задушевно, бесстрашно: засвистят, скажут, эка беда, тут-то и показать бесстрашие, говорить раз, говорить два, говорить три, четыре раза; молодежь всегда будет побеждена в конце концов проявлением к ней доверия и любви…
Но Делянову мыслимо ли говорить от души? В этом все горе… И я дерзаю повторять, все спасение в скорейшем удалении всех этих бичей и развратителей молодежи – в виде официальных бездушных педагогов, и в назначении человека нового, с прекрасным сердцем и здравым смыслом. За умом меньше всего следовало бы гнаться. И [А. В.] Головнин был умен, и Толстой был умен, и [А. П.] Николаи был умен, а что они сделали вредного, страшно подумать, благодаря тому, что сердца не было… Главное не ум, а такт, а такт дает здравый смысл – с сердцем!
Затем еще слово. Виновных в пощечинах ссылают в исправительные баталионы. Смею остановиться на вопросе: обещает ли эта строгая казнь результатов желательных для исправления?
Ведь эти баталионы представляют по строгости своей наказание более тяжкое, чем даже ссылка в Сибирь, а в иных случаях даже строже, чем каторга… Об этом можно судить по результатам заключения в баталионе; нрав молодых людей меняется, но как-то странно; одни впадают понемногу в меланхолическую апатию, другие озлобляются, но скрыто, третьи делаются комедиантами и притворяются самыми благонадежными, и так далее. Для исправления недостает двух главных элементов: общения с душою заключенного и действия новой, облагораживающей среды…
Ведь, например, в московском случае пощечина явилась не предумышленною, а действием горячего порыва: в порыве может ее дать самый порядочный молодой человек; да и вообще порывы бывают у натур более порядочных, чем у дурных!
Проступок совершен, карай, но сердце подсказывает, что казнь за этот порыв страшная и подчас не только может не исправить, но может из натуры горячей, впечатлительной, но доброй, сделать характер озлобленный, скрытый… При Николае I еще строже были воззрения на все виды нарушения дисциплины, но в отношении всяких проступков молодежи, где не было ничего позорящего, ничего гадкого – всегда применялось наказанием отдача в солдаты, и это наказание творило чудеса как исправление и как перерождение, и в солдаты на Кавказ, где дух был силен, где дышалось особенным воздухом военной доблести.
Кавказ остался тою же хорошею школою, Туркестан прибавился, там чудные войска, есть, наконец, целые дивизии у нас с прекрасным боевым духом, например 40-я в Саратове.
Казалось бы, за такие проступки, в которых каждый может в минуту порыва оказаться виновным, самый благородный малый, отданный в солдаты в хороший полк, не марает честное звание солдата, но зато в один год в общении с солдатскою средою и под руководством ротного командира он может сделаться прекрасным слугою престола и отечества, и жизнь его спасена.
А в этих баталионах и позор, и мертвое недоверие, и отсутствие облагораживающей среды, и физическая невозможность командиру руководить молодым человеком, – все вместе является причиною гибели наказуемого, если натура его слишком нервна и слабодушна!
Пятница 11 дек[абря]
Сегодня видел несколько лиц, Всемилостивейший Государь, с вестями из Москвы насчет универс[итетских] беспорядков. Один очень порядочной семьи студент Катковского пансиона говорит прямо, что всему виновата нераспорядительность и бестактность [П. А.] Капниста. Сумей он в первый день не раздразнить, а успокоить ласковым обращением студентские массы, все бы успокоилось. Мало того, раз он не сумел в первое свое прибытие в унив[ерсите]т успокоить молодежь, следовало бы немедленно закрыть на несколько дней университет, и опять-таки все успокоилось бы, и не дали бы в 3 дня школьной шалости разрастись с помощью Петровской академии[773], курсисток и агитаторов в громадные беспорядки.
Решительно ни одного голоса во всей Москве нет за [А. А.] Брызгалова. Рассказы про него рисуют его самодуром, бестактным и бессердечным. Вот в том-то и беда и горе, что обнаруживается вредное влияние личности на 3500 студентов только тогда, когда целый пожар – обнаруживает, до каких размеров дошло ожесточение против одной личности!
Делянов и его соумышленники говорят: теперь нельзя сменять инспектора Брызгалова, скажут: побоялись мальчишек. Признаюсь, рассуждение это я не понимаю. Если бы оказалось, что Брызгалов честнейшая и прекрасная личность, то было бы долгом для правительства его отстоять. Но оказывается, что его все ненавидят, оказывается, что его давно следовало бы убрать, оказывается, что он главная и единственная причина беспорядков, так как же его оставлять? Ведь ясно, что его сменяют не по требованию студентов, а потому, что обнаружилась его неспособность быть инспектором.
Тут нельзя не обращать внимания на общее настроение; все порядочные студенты ожесточены против Брызгалова, и отзывы, со всех сторон приходящие из Москвы, таковы, что его убьют, если он останется, а не убьют, так все-таки откроют университет, и опять начнутся беспорядки из-за Брызгалова.
Люди самые степенные так рассуждают: смени Брызгалова, но объясни, за что: за то, что он не сумел своим обращением со студентами и своим авторитетом и своими распоряжениями предотвратить беспорядки – дабы студенты не могли подумать, что сменяется инспектор по их требованию: правительство, исследовав дело, сменяет, а не студенты сменяют своими криками. И я бы в сообщении так бы и формулировал: «Не допуская мысли, чтобы студенты могли шумными толпами и криками требовать удаления какого бы то ни было должностного лица и беспорядками достигать чего бы то ни было, учебное начальство только тогда признало нужным назначение нового инспектора, когда всестороннее исследование обстоятельств дела обнаружило недостаток распорядительности и авторитетности в отправлении бывшим инспектором своей должности». Но затем – что это все – сравнительно с главным? Источник и корень не только зла, но и опасности государственной – это Делянов. Какое он смущение и негодование возбуждает везде и во всех, трудно описать. Теперь, и только теперь, увы, когда поздно стало, когда все разгорелось в пожар в учебном мире, поняли все и повторяют то, что я говорил так упрямо и так долго один; что без любви нельзя вести дело воспитания и что исход деляновской политики – это революция и потоки крови. Нельзя давать университетским беспорядкам разрастаться, потому что сегодня это беспорядок в университете, а завтра, если его не затушат в стенах университета, он делается делом революции и анархии, и печальный опыт прошлых 30 лет кроваво доказал эту страшную правду; все началось и все развивалось в смысле революционной пропаганды посредством университетских беспорядков.
Молодежь – это обоюдоострый меч. Умеешь затрагивать ее хорошие струны, ее сердце, – она становится благотворною силою; начнешь с нею поступать недоверчиво, придирчиво, трусливо и жестко, нерешительно, дашь вид, что боишься ее, кончено – молодежь делается разрушительною силою. И что же? Разве этот Делянов министр Русского Государя? Разве он проявляет ум и сердце и храбрость? Где же преданность, наконец, его? Все меры, которые он сам должен принимать, он навязывает инициативе Государя, а сам, за ними прячась, говорит: это не я, это Государь! А все проявления любви, участия и доверия к молодежи он тщательно отстраняет от Государевой инициативы. Русский Государь должен быть, по милости Делянова, только карателем беспорядков, а Отцом молодежи, добрым ее Гением, не должен быть. Вот что все в возмущении говорят… Ведь кто должен был быть первым на месте беспорядков в Москве? Разумеется, министр, ибо первая его забота должна была быть затушить дело, дабы не огорчить Государя и избавить Государя от необходимости утверждать карательные и строгие меры на случай усиления беспорядков. И одна, две речи с сердцем министра к молодежи в стенах университета все бы спасли и все бы затушили.
Ведь теперь несомненно, что когда Капнист приехал в университет в первый раз, то буря была благодаря ректору[774] совсем успокоена; Капнист приехал, заговорил бестактно, раздались свистки, и пошло…
Но министр сидит взаперти, и одна полиция действует…
Ну и что же дальше? Дальше, увы, что от каждого закрытого университета – по несколько человек будет отряжено в Россию быть ожесточенными деятелями анархии, и увы: больше ничего!
И что за деморализирующий страх. Печати запрещают говорить о студентских беспорядках. Все в секрете шепчутся; жандармы носятся по городу, наводя панику и страх, за границу летят известия о революции, точно вся Россия в опасности и в осаде… И все это из-за студентских беспорядков, разгорающихся потому, что министру не угодно или страшно payer de sa personne[775] и твердым, ясным, но теплым словом говорить с молодежью лицом к лицу… Нет, это страшно!
И Бог да положит на душу Вам, Государь, не медля ни минуты отстранить такого незлобного, но опасного человека от школы… Он окружен аспидами и василисками, а сам без сердца; он думает, что Вам предан, он добросовестен, но так как у него нет сердца, он не чувствует, что поступает как враг Ваш в эту критическую минуту, ибо слушается не голоса сердца, не голоса Ваших интересов, а проклятых уст Георгиевских, Любимовых и Аничковых…
И еще раз смею повторить: послушайтесь Вашего старого верного слуги; даже у преданной собаки есть чутье на верного и неверного человека; чутьем души и сердца я твердо верю, что не даром и не напрасно, а ко благу называю Вам такое имя, как [В. Г.] Коробьин, например… Предчувствую, что оно не обманет.
Суббота 12 дек[абря]
Сегодня прибыл из Москвы мой помощник по военному отделу подп[олковник] Генер[ального] шт[аба] Теряков. Он рассказывал мне про Москву следующее. Был он во многих домах в Москве и в самых различных сферах, начиная с аристократических. Везде голос один: безусловное осуждение Капниста за бестактную речь, бывшую главною причиною пожара, и за нераспорядительность; причем эту бестактную речь приписывают тому обстоятельству, что он приехал в университет прямо с завтрака и был чересчур навеселе. О Брызгалове он слышал от студентов самых лучших семейств и самых мирных отзывы, полные ненависти и неуважения к нему. Между ними ходит молва, что одною из причин последних к возбуждению умов против Брызгалова было убеждение, что Брызгалов написал аптекарский счет на кассу студентов за угощение чаем и закусками во время репетиций к концерту, делавшихся у него в концерте.
Затем ненависть и неуважение к Брызгалову всех студентов происходило от его возмутительного по безнравственности и цинизму дуализма в обращении с студентами; с знатными и богатыми он не только был любезен, он заискивал в них, он пресмыкался пред ними, с бедными он был груб, дерзок, а иногда жесток и всегда бестактен. Эту разницу в обращении с студентами он всегда проявлял публично, и нередко доводил студентов до исступления, так что надо удивляться тому, как долго студенты могли терпеть Брызгалова, не бунтуясь, и в особенности тому, как мог его держать Капнист, к которому не раз тот или другой студент обращался с жалобою на Брызгалова.
Вот, например, два недавние эпизоды!
– Вы должны 65 рублей за книги, взятые из библиотеки, – говорит Брызгалов одному студенту.
– Я все книги до одной вернул, и в книге есть расписка.
– Книга потеряна, я вам не верю, извольте заплатить.
Студент в негодовании пошел к Капнисту с жалобою, Капнист ограничился только приказанием не требовать денег.
Другой эпизод.
– Вы не внесли денег за слушание лекций, извольте убираться, – говорит Брызгалов одному бедному студенту.
– Будьте так добры, подождите; мне мать пишет, что высылает деньги, у нас несчастье случилось.
– Мне никакого нет дела до ваших несчастий; деньги не внесены и убирайтесь; голь и нищих нам не нужно. Идите в сапожники, а не в студенты, коли нечем платить.
Вот исторически верные образчики обращения Брызгалова со студентами. Да при таких условиях кто бы не был бунтующим студентом!
Лет 15 назад был в Моск[овском] университете инспектором Ив[ан] Иванов[ич] Красовский. Это был простенький умом человек. Но у него было теплое сердце, и что же? Студенты подшучивали над ним, но зато любили и уважали его… Красовский попросит и скажет: «Ну, для меня сделайте, для меня не делайте этого», и студенты слушались[776].
14 дек[абря]
Под впечатлением разговоров с несколькими лицами, мне преданными, я решаюсь высказать письменно вот какую мысль.
Я прошу Государя в интересах издания и дела, предпринятого «Гражданином», сказать несколько сочувственных слов кому-либо из влиятельных лиц про новый вид «Гражданина».
Быть может, я слишком многого прошу. Если многого, то я смел бы все-таки просить Государя вот о чем: в четверг Государь увидит [Д. А.] Толстого, быть может, Он удостоит ему сказать, чтобы Толстой своим словом [Е. М.] Феоктистову дал совет умерить неприличные нападки на «Гражданин» и на меня. Несомненно, что тут ни причем личности моя, другая, а тут два важные стимула: один – повредить подписке в начале года, а второй, еще более важный, наносить как можно более урона тем принципам, коих «Гражданин» есть выражение и поборник. Посредством скандальных нападков на личности, враги направления «Гражданина», разумеется, хотят вредить, в начале его распространения, направлению. Это политика не новая. Пока были «Москов[ские] вед[омости]» у Каткова, «Гражданин» не смел просить оградить в нем пишущие личности от скандальных нападков; и Главное управление по делам печати внушило всем редакциям не позволять себе относительно «Моск[овских] вед[омостей]» никаких неприличных и личных выходок, так как оно знало, что тут нападают не на Каткова, а на его знамя. И вся печать подчинилась. Несколько лет назад в «Figaro»[777] появилась огромными буквами телеграмма из Лондона, начинавшаяся так: «Aujourd’hui a été surpris en flagrant délit avec un horse-garde de la Russie la liaisson scandaleuse le Comte H. de Bismarck, Conseiller d’ambassade»[778] (если я не ошибаюсь). Это был вид патриотической мести, достойный «Фигаро». Знаете ли, что сделал Бисмарк отец? В тот же день все посольства в мире получили приказание передать через местные правительства запретить перепечатать это известие, и ни в одной газете оно не появилось. По-моему, с печатью надо быть бесцеремонным, когда она доходит до цинизма в умысле вредить посредством скандала делу консерватизма. А тем паче, казалось бы, я смел до известной степени просить об этой защите, так как меня бьют ложью и клеветою… Тут не я, очевидно, а дело, принципы партии. Каткова уже нет; из известных по своей преданности правительству и консервативным принципам – остался я один. Их расчет, значит, верен. Но политично ли отдавать меня на оплевание и лишать защиты, – не думаю, ибо дает право говорить, что своих правительство не поддерживает. Мне кажется, что для дела надо поддерживать, тем более, что и просил бы я немногого, чтобы сказали от Главн[ого] управления по делам печати нападающим на «Гражданин» редакторам, чтобы они не позволяли себе личности и не выходили из пределов полемического приличия, то есть то же, что было внушено относительно «Моск[овских] вед[омостей]».
Мне кажется, что мысль эта верная.
14 дек[абря]
Еще мысль
Сегодня мне пришла в голову мысль, которую считаю счастливою. Она в связи с постоянною моею мыслию о [В. Г.] Коробьине.
Положим, Вы были бы не прочь на нем остановиться. Но естественно является вопрос: как испытать его, как проверить предположение, годен ли он или нет?
На этот вопрос ответом является следующая мысль. Узнать правду на счет студентских беспорядков казалось бы для Вас первою необходимостью. От Делянова и его союзников Вы ее никогда не узнаете. Уже вчера от Шебеки я узнал, что для того, чтобы скрыть следы своей собственной вины во всех студентских беспорядках, Делянов и его союзники сочиняют легенду о какой-то политической подкладке. Между тем у Шебеки даже намека нет сведения об этой подкладке. Я предполагаю, что вследствие этого Вам было бы очень важно узнать правду, а для того, чтобы ее узнать, Вам безусловно необходимо выбрать и послать лицо, которое ничего бы не имело общего с М[инистерств]ом народного просвещения.
Вот и является вопрос: отчего бы не послать Коробьина? Он бы объехал университеты Московский, Казанский, Харьковский и Одесский и разузнал бы правду. Тогда достиглись бы две цели: он ознакомился бы разом и на месте с университетами, и 2) это самое главное, он показал бы себя в Ваших глазах способным или неспособным. Если способен, Вы имеете преемника Делянову, порвавшего все связи с миром мертвых форм Мин[истерст]ва нар[одного] просв[ещения]. Если неспособен, Вы ничем себя не связали, дали поручение, и конец… Но мысль, Государь, кажется мне весьма счастливою. Что Вы правду узнаете, это несомненно.
[Конец 1887]
Наконец вот еще в чем Бог помог нашему делу. Невзирая на краткий период времени около «Гражданина» успел устроиться кружок таких сильных дарованиями и прекрасного направления сил, что это одно уже есть глубоко отрадное явление. Кн. [Н. Н.] Голицын, бывший редактор «Варшавск[ого] дневника»[779], [К. Н.] Леонтьев, который из Оптины Пустыни пишет замечательные статьи и проснулся во всей силе своего оригинального и громадного таланта, граф [А. А. Голенищев-]Кутузов, молодой князь [Д. П.] Голицын, талант, обещающий крупного развития, и большой умница, князь [М. Н.] Волконский, талантливый беллетрист, и несколько других единомышленников из хороших фамилий, и все это работает в одну мысль и проникнуто одним чувством.
Вот при каких условиях необыкновенно благоприятных дал Бог начать дело. Сомнительной личности нет у нас ни одной в семье сотрудников. Все люди с семейными преданиями. И вот почему было бы так желательно, чтобы два, три Ваших слова одобрения, кому-нибудь сказанные, произвели свое волшебное действие и убедили недоброжелателей нашего прямого и твердого направления, что их подпольные интриги и усилия вредить молодому органу служения Царя бесцельны и бессильны. Эти слова Ваши были бы лучом весеннего солнца для молодого растения, который помог бы ему расцвесть, окрепнуть и распуститься.
Университетские беспорядки, увы, наводят на грустные размышления. В них сильнее и прежде всего сказывается то, про что так усиленно говорит «Гражданин» – последствия системы, где все основано на форме и где нет общения с душою молодежи. От попечителей и от инспекторов в университетах не требуют души, благородной и любящей; требуют только внешних проявлений власти; отсюда постоянный разлад межу учащимися и учащими, который никогда не уймется и будет все идти crescendo, выпуская в образованную среду контингент – недовольных, озлобленных и скрытых людей, материал для отрицания и разрушения – но ничего не дают те же университеты для созидания и для деятельности во имя душевной любви.
Так идти дело вряд ли может. Не действия университетов опасны, а дух их; а против духа полицейские меры бессильны, а нужна душевная работа; дух зла должен быть поборен духом добра; дух зла есть ненависть, дух добра есть любовь. Теперь сверху донизу вся школа в России это вечная борьба двух стихий: учащих и воспитателей – не умеющих любить и учащихся и воспитываемых, в свою очередь, не любящих своих учителей и воспитателей. А надо, чтобы воспитатели любили своих учеников, а ученики любили свою школу. Для этого надо, чтобы школа граждански воспитывала; а чтобы воспитывать, надо, чтобы все наши гимназии были интернатами; школа-интернат вызовет воспитателей и создаст из них отцов для детей, а не полицейских. Их будет меньше, этих гимназий; тем лучше; тогда и в университетах сократится число студентов, и студенты будут воспитанниками гимназий, и дух у них будет школьный, товарищеский, а не уличный, как теперь, и новая эра водворится в нашей воспитательной области.
Но для осуществления этого, скажу прямо, Государь, нужны новые люди во главе школы. Нынешние люди – дети мертвых преданий буквы и формы, и один бездушнее другого. Затем, такой добродушный на вид старичок, как Делянов, он слишком стар, чтобы воспринимать что-либо новое, и слишком окружен и связан бездушными и сухими людьми формы, чтобы быть в состоянии улучшать школу. Мало того, что он не умеет понять нужд юношества, он всегда под влиянием его окружающих противодействует всякому Вашему прямо высказанному взгляду. Это все замечают. Ваш взгляд выразился ясно, но в ответ на него все, что делается у Делянова, или полумера, или смутно, или попадает около, или, как знаменитый циркуляр его о кухарках, прямо возбуждает умы против Вас и Вашего правительства вместо того, чтобы успокаивать.
Да, нужны новые люди… Но где его взять, этого нового человека. В городе называют Победоносцева! Боже сохрани, дерзнул бы я сказать и на коленях стал бы умолять Вас о неназначении его. Он человек ума, и то ума критического и отрицательного. Он не человек ни сердца, ни души. Он усилит всюду ненависть к школе, и сам он слишком нелюбим глухо и скрыто везде, чтобы иметь авторитет и влияние успокоительные и мирительные. Он не умеет говорить с молодежью, и жалкое, угнетенное состояние его духовных школ слишком красноречиво показывает, как велико отсутствие душевного общения между начальником ведомства и школою в этом ведомстве.
Странная в этом отношении рознь между мною и Петербургом. Бывают минуты, когда я точно вижу глазами, и ярко вижу, вдали картину революции в будущем, исходящею из школы; озлобленные, обманутые, разочарованные, очерствелые, ненавидящие и ни во что не верующие тысячи юношей расходятся по русской земле учить ненависти… Мне слышатся тогда смех Делянова, смех надо мной: «Что он с своею душою, что за душа, учение нужно, дисциплина», слова Победоносцева: «Кому за душою молодежи ухаживать, некому», и тогда мне страшно становится, а потом я спрашиваю себя: да не сумасшедший ли я с своими статьями о душе молодежи, оставляемой школою без ухода… Но когда затем почта приносит мне два, три письма из провинции, в которых мне пишут: боритесь, не унывайте, кричите про душу наших детей, убиваемую школою, Бог Вас услышит, и тому подобные слова, тогда я опять говорю себе: нет, я не сумасшедший, я говорю живую и святую правду.
Вот почему в такие минуты, переносясь к Вам мысленно, я опять в беседе с Вами говорю Вам: верьте предчувствию моему, не назначайте во главу школы в России так называемых педагогов; они все не годны, они все сухи и мертвы сердцем, а возьмите человека со здравым смыслом и с теплым сердцем, и только… И опять тогда я дерзаю называть Коробьина. Я знаю что Победоносцев, Делянов и Кия засмеялись или крикнули бы от ужаса при этом имени, но я знаю тоже, что возьмись такой человек, как Коробьин, за такое трудное дело, как М[инистерст]во народного просвещения, Бог бы его благословил Своею помощью, и все трудности были бы преодолены любовью и верою. Да и то сказать, люди с теплым сердцем, Вам преданные, более Вас, Государь, щадили бы, чем люди с одним холодным разумом, которые на себя ничего не берут, а все к Вам идут, чтобы Вашим именем прикрываться.
Мне подчас ужасно грустно бывает, что Вы как будто не имеете досуга вдумываться глубже в значение и силу Вашей веры в Бога в Вашем трудном Царском деле. Вас вынуждают люди прислушиваться более к их холодным, всегда тенденциозным, всегда подозрительным проявлениям своего разума, и часто, думается мне, Вам приходится им верить против Своего внутреннего чутья, верить больше, чем Себе… А если бы Вам удавалось более глубоко вдумываться в Вашу веру как живой связующий Вас с благодатью Божьего Разума путь, о, как тогда Вы бы ясно видели, что из мыслей, в которых Вы уступаете свое мнение в пользу мнения будто премудрого в деловом смысле, большая часть есть живая правда, верою в Бога Вам вдохновенная, которой должны подчиняться и перед которой должны безмолвствовать холодные и часто бездушные соображения внутренней деловой политики. В такие минуты и назначение такого, например, непредусмотренного в бездушных программах петербургских назначений и кандидатур человека, как Коробьин, представилось бы естественным от мысли, что он глубоко верующий с теплым сердцем человек. Тогда сам собою изменяется весь склад, так сказать, ведения учебного дела; является человек свежий и новый и живой, без всяких связей с мертвыми и сухими преданиями, предвзятыми идеями и рутиною старого управления, и прямо приступает к деланию того, что ему ясно подсказывают здравый смысл, освещенный и согретый сердцем, а главное, к деланию того, что Вы желаете и что Вы, вдохновляемые Богом, признаете нужным.
В этом-то и будет существенное изменение и залог перерождения нашей несчастной школы в России, ибо ни для кого, увы, не тайна, что нынешнее управление Министерства народного просвещения, благодаря изумительной слабости и бесхарактерности Делянова, ведется людьми, которые, прикрытые официальными обложками, изо всех сил стараются прежде всего мешать осуществлению Ваших мыслей и Ваших желаний, и если бы я Вам имел возможность в деталях и с натуры все это описать, то Вы бы немедленно признали бы опасным такое положение ведомства, где души, сердца, любви к юношеству нет и атома.
Делянов в иных отношениях даже не постижим, и à force de ne rien comprendre[780] невольно приходит в голову заподозривать в нем прежде всего хитрого армяшку. Никакой меры он не берет на себя ответственность: или он у Вас выпрашивает соизволение на то, что должен был бы сам от себя делать, и потом Вашею волею себя прикрывает, или же, как теперь, по 3 раза в день бегает то к графу [Д. А.] Толстому, то к Побед[оносце]ву, и ни на что сам не решается. А затем всем говорит: это не я, это граф Толстой, это Конс[тантин] Пет[ров]ич…
Но в одном он берет на себя ответственность: в упрямом отстаивании лиц ничего не стоящих. Этого Брызгалова, известного в Москве своею бестактностью, своею придирчивостью, считал Делянов идеалом педагогии. Еще год назад [Вл. А.] Долгоруков писал о нем сюда, что пока Брызгалов в университете, нельзя ручаться за спокойствие в его стенах, и просил его убрать. Но Делянов и не думал убирать его и пел ему оды…
Теперь Делянов опять-таки с чисто армянскою наивностью, напоминающею мне Лорис[-Меликов]а под Карсом, спрашивает у всех: что делать с университетами?
Какая комедия! Давно ли была Киевская история[781]. Все говорили ему тогда: не пускайте туда больше, чем могут учиться, maximum 800 человек. Нет, точно ничего его не проучивает, опять университет переполняется так, что 600 студентам нет места учиться…
В Петербурге университетские истории. Ему все говорят:
– Да выгоните же половину профессоров, они же бунтуют студентов…
– Да, правда, – говорит Делянов, – они, точно они, но что прикажете делать, некем их заместить.
– Господи, – говорят ему, – да вы повторяете их слова, этих негодяев профессоров, вы в их дудку играете, они потому и дерзки и нахальны, что они никого не впускают в свою среду профессоров, кто не их лагеря; выгоните разом десять, и вы увидите, что 1) сейчас же остальные станут шелковые, а 2) явятся заместители на каждую кафедру: они есть, но профессора их не подпускают. Да и допустим, что не явятся заместители на некоторые предметы сразу: что же из этого? В Киеве и в Одессе по 10 кафедр в факультете пустыми стоят годами. А что лучше, спросите: чтобы у вас были замещены кафедры профессорами, которые мутят студентов и им мешают учиться, или чтобы иные кафедры были не заняты, но за то студенты без негодяев профессоров стали бы спокойно учиться, и кончились бы беспорядки?
– Оно конечно, – отвечает Делянов, – но все-таки как выгнать 10 человек, неловко.
Орест Миллер осенью кончил тем, что написал дерзости Делянову. Верите ли, что он с этим письмом носился и не знал, что делать, и я ручаюсь, что не огласи этот факт возмутительной лекции Миллера «Гражданин»[782], Орест Миллер до сих пор сидел бы на своем месте.
И вот все профессора в Петербурге сидят благополучно, Делянов не смеет их трогать, они теперь нарочно режут на экзаменах студентов, чтобы их раздражить, и сам Делянов говорит, что ждет скандала и в Петерб[ургском] университете!
Затем ему говорят: помилуйте, разве можно в Москве 3500 студентов сбирать, когда места и на 2000 не хватает, разве можно 2500 студентов сбирать в Петербурге, когда места на 1500 не хватает; ведь вы нарочно это делаете, чтобы тысячи студентов, лишенные возможности учиться, шли бы в анархисты.
– Да, правда, много их, слишком много, – добродушно отвечает Делянов, – надо поубавить.
И что же? Он 60 человек удаляет из университета в Петербурге, а в Москве оставляет все 3500…
И теперь удивляется беспорядкам, прикидываясь непонимающим причины беспорядков. Нет, кровь вскипает от негодования, когда говоришь об этом, от мысли, как непростительно легкомысленно обращаются эти люди с святынею своей ответственности перед Своим Государем и своею совестью.
О, Государь Всемилостивейший, простите речи, быть может, непрошенной Вашего старого слуги; но нет мочи терпеть и молчать: они тысячами губят молодежь в России, губят мертвою рутиною и точно сговариваются обманывать и все обманывать Вас с одной стороны, и на Вас возводить ответственность за те меры, которые они принимают и косо, и бездушно.
Будь один человек с душою с властью в этом злополучном министерстве, не было бы никаких студентских беспорядков. Ведь недавно же в той же Москве Вы были в этом университете – душа молодежи горела от благоговейной радости при виде Вашего доверия к ней…[783] И что же? Они ухитрились из-за какого-нибудь дрянного Брызгалова взволновать весь университет, испакостить то место, где с такою любовью Вас встретили, растлить эти святые воспоминания, погубить сотни молодых жизней, зажечь все университетские головы в России и Вас огорчить и затруднить новыми заботами!
И Вы поймете, почему со дна души еще и еще раз вырывается крик, называющий с убеждением такого человека, как Коробьина! Пусть Побед[оносце]в ахает, коли услышит его имя; он перед Богом не имеет и не может иметь голоса в этом вопросе, ибо вот два года, как он смеется, произнося имя Делянова, но сердце его молчит, и он не идет к Вам во имя Ваше, во имя несчастной сгубляемой молодежи сказать: Государь, слишком велика опасность от такого странного добродушия Делянова, обратившего все университеты в России в очаги революции.
Из школы она идет быстрыми шагами, эта революция!
Затем на всякий случай долгом считаю Вам сказать, что никогда никому и нигде имя Коробьина не было мною произнесено, что весьма важно, кажется, Вам знать. Только летом раз, как я писал Вам, имя это было произнесено О[ттоном] Бор[исовичем] Рихтером в разговоре со мною, без свидетелей.
Во всяком случае, сердце подсказывает мне, что попытку эту Бог благословит. В следующем Дневнике имею много интересного, собранного по М[инистерст]ву внутр[енних] дел и по М[инистерст]ву финансов.
За сим простите, Государь, за длинные строки. Пишу, как душа велит, как старая, глубокая, беспредельная и святая преданность мне диктует. Я одержим одною главною мыслью более, чем когда-либо, чтобы, веря в Бога, как Вы веруете, Вы в себя больше верили, чем в людей. Всегда Ваша мысль вернее той, которую Вам противопоставляют, рассчитывая на Ваше чудное и прекрасное смирение.
[Декабрь[785] ]
Укрепившись и обеспечив себя на 6 лет, новые «Московские ведомости», разумеется, начали свою карьеру с ругательной и возмутившей всех порядочных людей статьи против «Гражданина»[786].
В этой статье неприличные выходки против [Т. И.] Филиппова, против [К. Н.] Леонтьева и, разумеется, против меня; но кроме того две гнусные черты сразу поразили всех: это глумление над близостью будто бы моею ко двору, которое не позволила бы себе ни одна самая последняя газетка, рассчитанное на приобретение себе подписчиков из лагеря любителей газетных скандалов, и не менее гнусное обращение с моими словами о том, что служение России я полагаю в душевном отгадываньи и чуяньи мыслей моего Государя. Эти слова с гнусным фарисейством «Моск[овские] вед[омости]» позволили себе назвать кощунством.
Насколько верно мое предположение о расчете на скандал со стороны «Моск[овских] вед[омостей]», доказывается тем, что ни одна газета не воспроизвела этой неприличной статьи, кроме «Нового времени»[787]. Грязь пристала к грязи. На грустные размышления наводит эта статья.
Если уже в начале так бесцеремонно обходятся господа Петровские и жидки (их два), составляющие редакцию «Моск[овских] вед[омостей]», с наследием Каткова, то что же будет через 2, 3 месяца?
И затем, неужели для того так усердно правительственные лица хлопотали о передаче «Моск[овских] вед[омостей]» [С. А.] Петровскому, чтобы первою и главною заботою его было выступать против «Гражданина», который, как бы то ни было, но считается единственным честным органом консерватизма и преданности Царственным преданиям.
Рано сбывается мое пророчество!
Считаю долгом привести те строки, которые назвал Петровский кощунством в то время, как я более 50 получил заявлений сочувствия этой именно статье от людей, коих мнением я дорожу.
Вот мои строки[788]:
Вот вся характеристика «Гражданина». Он не может иначе думать, как в полном единении в главных мотивах с главною задачею правительства, потому что в этом единении сложилось исповедыванье его преданности Престолу и Отечеству; а раз он иначе думать не может, – он не может иначе говорить; и затем раз он не иначе говорит, как то, что думает, – само собою разумеется, его речь должна носить тот характер искренности и теплоты, который иные называют привилегированною и только «Гражданину», будто бы, дозволенною смелостью…
И вот на вопрос: чей мы орган? – ответ очень прост: мы орган служения идее силы и славы России в историческом их понимании, орган самостоятельный и случайный, который не может не знать, как мыслит и чувствует наш Государь, потому что в этом – долг его службы, смысл его преданности, совершенно одинаковые как у всякого слуги Престола, и чем ближе он подходит к уразумению чутьем Царских мыслей, тем он честнее служит своему Отечеству. И тем эта служба честна, что он не по чьему-либо приказанию и не по выгоде старается понимать мысли Главы правительства, а по стремлению души и по чуянью в этом патриотической правды…
Но для высшего правительства «Гражданин» такой же орган печати, как и все другие. Он имеет их свободу, подчинен их законам и ничего собою не выражает, кроме своих собственных мыслей.
А если берлинская газета удостоверяет, что «Гражданину» приказано цензурою относиться дружественно к Германии, то значит, для них должно быть ясно, что все вышеизложенное верно, ибо будь «Гражданин» правительственный орган – ему бы не пришлось приказывать говорить иначе, чем он говорит.
Затем вот что я ответил «Моск[овским]ведомостям»[789]:
Затем, в заключение, два слова органу лицемерия, – касающихся слова кощунства, которое позволил он себе употребить относительно моих слов о том, что я служение словом моему государству полагаю в отгадываньи душевным чутьем мыслей моего Государя и Его мысли считаю заветами и образами мысли русского народа…
«Московское Новое время» не даром назвало эти слова кощунством… Ему понадобилось ими воспользоваться как орудием, схожим с клеветою против меня… Как, вопиют господа Петровские, нам одним предоставлено ведение Царевых мыслей, мы одни служим правительству, мы одни смеем говорить от имени правительства, и в кощунстве да будет обличен какой-нибудь князь Мещерский, если он осмелится говорить, что угадывает и читает духовно Царевы мысли…
Нет, господа Петровские, вы не правы… Довольно лицемерия, довольно лжи по такому священному и дорогому вопросу… Слишком дорого поплатились Россия и царственные интересы за ту монополию чиновничьей преданности, в силу которой всем говорившим: «Я угадываю мысли Герцена, Огрицки, Лассаля и других социалистов и руководствуюсь ими», – считалось дозволенным и приличным, а говорить: «Я угадываю и чую мысли моего Государя, и ими только вдохновляюсь как правдою, как голосом народа», – считалось кощунством…
Довольно этой лжи, довольно потому, что ей мы обязаны тем, что первым дали свободу перевернуть в 32 года весь умственный и духовный строй России и довести ее до пропасти, а вторых – заставляли молчать как врагов правительства и нарушителей общественного спокойствия…
Благодарение Богу, это время минуло безвозвратно… Теперь нет места недоразумениям… Теперь, кто служит Царю – служит России, может это говорить громко, и должен это говорить, дабы не могло быть ни обмана, ни сомнения, и разбросанные по России единомышленники не могли думать, что он эту службу Царя за тридесять сребреников продаст книжникам фарисеям-лицемерам для служения узким и мутным интересам того или другого политического кружка или подпольной чиновничьей интриги.
Вот все, что имею сказать лже-«Московским ведомостям».
[После 26 декабря[790] ]
Виделся сегодня с [П. А.] Грессером. Он рассказывал мне про совещание, бывшее у гр. [Д. А.] Толстого по вопросу о Петерб[ургском] университете. По мысли и предложению Вышнеградского постановлено закрыть университет до поста и затем нагнать это время летом[791]. Тут, по общему решению, достигается двойная цель: обеспечивается спокойствие на время Царского пребывания в столице и наказываются профессора!
Решение это повергло меня в глубокое смущение, и многих опечалило! О, если еще не поздно, дал бы Господь Царю мысль не утвердить этого решения! Это произведет страшное усиление дурных чувств против Государя, и больше ни к чему не приведет… Это дурное решение, а главное – полумера, а с другой стороны, покажет, что студентов боятся…
Из расспросов Грессера я понял, в чем будет заключаться это закрытие университета. Всех неблагонадежных вышлют на это время из Петербурга… Затем профессоров ожесточат…
Что же выйдет? Увы, как показывает беспощадно опыт, все высылаемые из Петербурга это будут в два, три месяца анархисты; профессора же, ожесточенные отнятыми у них полканикулами, станут еще злее и скрытнее врагами правительства в стенах университета[792], и не сегодня, так завтра опять будут беспорядки…
А дальше что?
Сердце чует и разум подсказывает много горя впереди. На фальшивой дороге стоят те, которые теперь этот университетский вопрос решают… Они замазывают щели и трещины, но не исправляют их, а спадет замазка, трещины могут так усилиться, что зданию станут угрожать. Мне кажется, что надо, наоборот, дать университету продолжать занятия, пусть студенты учатся, а 3 месяца бездействия тысячи студентов в Петербурге – это скверная вещь.
Затем, когда экзамены весною окончатся, следовало бы немедленно после начала каникул прогнать всех ненадежных профессоров и к осени заместить их доцентами.
Затем следовало бы летом уволить инспектора в Моск[овском] университете[793], дав ему другое назначение, а в Петербурге назначить нового ректора. Нет ничего хуже и опаснее, как оставлять ненавидимого начальника[794] между молодежью: это портит нрав молодых людей, раздражает умы и дает скверное направление молодежи. Теперь было бы ошибкою сменять кого-нибудь как бы в угоду молодежи бушующей; но еще большею было бы ошибкою оставлять этих лиц долго; они могут воспитать анархистов искусственно. Делянов благодаря злым гениям, окружающим его, [А. И.] Георгиевскому, [Н. А.] Любимову, [Е. М.] Феоктистову и [Н. М.] Аничкову, ведет дело к страшной и кровавой развязке, это чуют все, решительно все. Он не виноват, будь он окружен честными людьми с сердцем, он бы повел дело иначе; но теперь он слепой исполнитель роковых замыслов.
Нет сил молчать: везде слышишь зловещую тишину перед бурею; везде слышишь слова опасения и страха и осуждения правительства.
О, дай Господь – Царю узреть правду и постановить бесстрашно решение наперекор желающим блага, но творящим опасное и злое. Нельзя шутить с этою молодежью, ибо с 1861 года по 1-е марта 1881 года все политические враги государства исходили из этой молодежи, и исходили потому, что принимались эти самые полумеры, и ее, этой молодежи, боялись.
Отчего не дать теперь учиться, а затем летом приступить к обсуждению всех вопросов, до университета относящихся, когда не будет в университетах студентов и не будет опасений волновать умы. И людей тогда подыскать можно.
Осмеливаюсь еще мысль Вам подать.
Верьте мне, Государь, исследование университетских дел лицом – не принадлежащим к Мин[истерст]ву нар[одного] просвещ[ения] и облеченным Вашим личным доверием и посланным от Вас, имело бы громадное нравственное значение.
Верьте мне, Государь, это нужно, страшно нужно. Это было бы лучом, который с высоты престола блеснул бы во мраке, лучом света и тепла!
На коленях умоляю Вас, сделайте это… Вы не одобряете то мнение, которое я смел высказать о [В. Г.] К[оробь]ине.
Но есть другие лица.
Например из военных: [Ф. Ф.] Трепов, это умный и проницательный человек. Это была бы посылка генерал-адъютанта… Например, бар[он] Бор[ис] Павл[ович] Мансуров, из членов Госуд[арственного] совета. Это честный, благородный и умный человек… Грешный человек, я бы на нем остановился в вопросе: кому быть преемником Делянова, когда он уйдет.
Затем есть сенаторы: есть, например, честнейший из сенаторов [В. А.] Цеэ, есть сенатор бывший пензенский губернатор [А. А.] Татищев. Во всяком случае я верю, что правду говорю – дерзаю Вам советовать отправку доверенного от Вас лица. Это было бы бесконечно великим событием в хорошем смысле.
[Конец 1887[795] ]
Следуя обычаю все Вам рассказывать, что держится под спудом, считаю долгом передать рассказ о бедах бедного Рокассовского, приключившихся с ним, увы, только потому, что он честен и честно исполнил свой долг.
Эпизод этот характерен и, увы, неутешителен, как доказывающий, насколько трудно быть честным человеком.
– Что вы наделали, вы себе испортили всю карьеру, только что удалось было так устроить, что гр. [Д. А.] Толстой согласен был дать вам губернаторское место, а теперь и думать нечего, вы сломали себе шею, гр. Толстой на вас негодует…
Таковы были слова, которыми встретили здесь прибывшего из Екатеринославля Рокассовского, где он был вице-губернатором.
– Что, что я сделал, что с вами? – отвечает Рокассовский. – Я ничего не сделал.
– Как ничего, на вас губернатор[796] черт знает что написал графу Толстому.
– Губернатор мог написать, что ему угодно, – отвечает Рокассовский, – но из этого не следует, чтобы я был в чем-нибудь виноват.
Что же случилось?
Случилось вот что. Есть в Ростове-на-Дону знаменитый делец, мошенник en grand[797]; потому, что он мошенник en grand, пожалованный в финансовые и административные гении: зовут его [А. М.] Байков. Он ростовский гор[одской] голова. Все честные люди от него подальше; все плуты составляют громадную байковскую партию и подкупами, угрозами, уговорами, всеми, словом, правдами и неправдами поддерживают и проводят в головы Байкова. Его девиз: давать красть другим, чтобы самому красть было безопаснее; его принцип колоссальная наглость. На его долю выпало, между прочим, устройство минеральных вод на Кавказе[798]. Этим он воспользовался двояко: 1) он нажил деньги, 2) он нажил себе покровителей. Как туз какой-нибудь едет на Кавк[азские] воды, Байков его принимает и из себя лезет, чтобы благоугождать. Этим он достигает того, что когда, например, при каком-нибудь тузе, бывавшем на Кавказск[их] водах, шельмуют Байкова, туз говорит: «Ну нет, он не то что мошенник, он ловкий и умный афферист». Итак, воры и мошенники сила Байкова снизу, а тузы петербургские его протекторы сверху – и в этом его баснословный успех[799].
И все шло прекрасно, тем более, что губернатор Екатеринославский [Д. Н.] Батюшков был его приятелем. Но как раз в то время, когда за болезнью Батюшкова управлял губерниею Рокассовский, последний узнает по слухам и ревизиею лично на месте удостоверяет, что знаменитый Байков бесцеремонно хватает тысячи из городских сумм Ростова, и затем в отчетности городской управы тоже бесцеремонно показывает подложные цифры. Рокассовский делает постановление о предании Байкова ответственности и передает дело судебному ведомству. Судебный следователь и прокурор производят следствие и обнаруживают ряд подлогов и похищений Байкова. Казалось бы, ему не уйти на этот раз от Фемиды; но нет, является первая попытка его спасти в лице прокурора Харьковск[ой] суд[ебной] палаты, который, вытребовав от прокурора Екатеринославского дело[800], нашел, что преступления эти не суть в строгом смысле подлоги, и хотел затушить дело из дружбы к Байкову. Но прокурор Екатеринославский не сдался своему начальнику, и пришлось волею неволею дело продолжать. Следствие окончено, и вот месяца два назад оно возвращается в Екатеринославль к губернатору для постановления о предании Байкова суду. Батюшков тогда был уже здоров и в должности.
И вот в прекрасный день вот что происходит одновременно в Екатеринославе. Утром получается на почте дело о Байкове и немедленно вытребовывается губернатором; в то же утро приезжает Байков и прямо едет в губернаторский дом, губернатора не застает, велит доложить о себе жене губернатора[801]; входит и торжественно вручает пакет губернаторше, говоря: это приношение в пользу ваших бедных. Сколько тут было денег, никто не знает; свидетель заметил только, что пачка была толстая и что губернаторша сконфузилась.
Затем происходит нечто невероятное. В тот же вечер губернатор назначает заседание Городского присутствия – под своим председательством. Рокассовскому приносят повестку. Он едет к губернатору и говорит ему, что 1) прокурор болен и не может быть сегодня, а без него, производившего следствие, вряд ли удобно обсуждать это дело, а 2) никто с этим делом не успел ознакомиться, и просит отложить заседание. Губернатор наотрез отказывает. Заседание присутствия по городским делам начинается. Является Рокассовский и после вступительного слова губернатора заявляет, что он в точное исполнение закона должен протестовать, так как закон требует, чтобы всякое дело, предварительно его обсуждения, было подробно рассмотрено каждым из членов, а между тем ни записка не была составлена по этому делу, ни самое дело не было предъявлено членам, а потому он покорнейше просит отложить рассмотрение Байковского дела.
Члены начинают колебаться и переходить на сторону Рокассовского, робко говоря: отчего бы не отложить.
Но губернатор заявляет, что он ни в коем случае не может допустить отлагательства дела, что в качестве председателя он отвечает за законность своих требований и будет считать личным против себя заявленьем недоверия сочувствие протесту барона Рокассовского. Тогда всякое разногласие страха ради иудейского смолкает, и решается приступить к докладу дела. Ввиду этого Рокассовский встает и просит внести в протокол, что, не признавая за собою право участвовать в обсуждении дела, которое ему вовсе не знакомо, он отказывается от участия в заседании, и, поклонившись губернатору, вышел… Дело решилось полным торжеством Байкова. Рокассовский потребовал дело к себе и ввиду собранных в деле несомненных данных о виновности Байкова составил особое мнение о предании суду Байкова. Байков когда об этом узнал, нагло сказал: «Поздравляю вашего барона, он подписал свой приговор!»
И что же? Ужасно сказать. Байков убеляется и становится невиннее чистого ребенка. Рокассовского протест – побоку, и губернатор пишет секретно Толстому, что Рокассовский самым дерзким образом его оскорбил, что он роняет авторитет губернаторской власти и что при нем он, губернатор, отвечать за порядок не может.
Рокассовский приезжает теперь сюда, и что же он узнает? Что слова Байкова сбылись. Ему говорят:
– Вы были на очереди губернаторского назначения, теперь граф на вас сердит, и думать нечего, в Екатеринославль вернуться вам нельзя, и хорошо, если вас переведут куда-нибудь вице-губернатором.
– За что?
– За то, что вы беспокойный человек.
– Да ведь я 6 лет был вице-губернатором, мною были довольны, я месяцами управлял губерниею, меня награждали как достойного, что же я сделал, если я виноват в чем, судите меня, но за что же обижать человека… Ведь [А. Г.] Булыгин моложе меня, чуть ли не всего два года вице-губернатор, и 32 лет назначается губернатором[802], а меня, как провинившегося – переводят из губернии в губернию в той же должности. И конец!
Бедный Рокассовский с слезами на глазах говорит, что единственное, что его утешило в этом тяжелом горе – это ласковый прием Царя… А затем он, бедняга, совсем как ошельмованный, упал духом и спрашивает себя: где же правда, неужели быть честным – преступленье?
Очень понятно, что я, ни звука никому не проронив про мое намерение, а еще менее Рокассовскому, подумал сейчас о Вас, помолился Богу, и написал Вам, Государь, эти строки, зная, что у Вас они найдут теплый отзыв, но написал не прежде, как проверив обстоятельства и личность Байкова разговором с бывшим екатеринославским губ[ернским] предводителем дворянства [Г. П.] Алексеевым.
Может быть, Вы спросите: что же делать?
Смел бы думать, что sans briser les vitres[803] и никого не задевая, если бы Вы изволили Толстому сказать или написать просто, что желали бы, чтобы Рокассовский был назначен исправл[яющим] должность губернатора, бедный и честный Рокассовский был бы спасен, и Толстой, который, в сущности, ничего не имеет серьезного против Рокассовского и принял его даже любезно, сейчас бы его назначил. Против Рокассовского не столько Толстой, сколько некоторые из директоров деп[артамен]та, которые возбуждают Толстого против него!
Во всяком случае я Вам изобразил всю правду: это чудный случай поддержать честного человека, ободрить его в глазах нашего растленного общества и явить Царево правосудие и Цареву Милость в новом еще виде… а там, что и как Богу угодно.
30 дек[абря[804] ]
Кончается год. Позвольте старому слуге Вашему прийти к Вам мысленно и сказать Вам от глубины верующей в Бога и любящей Вас души: да благословит Ваш год грядущий Бог милостей и щедрот; да пошлет он Спутнице Вашей и детям Вашим светлые дни, и да будут их радости Вашими радостями; да мимо идут для Вас печали и смущения, да приидет от людей меньше зла и неправды и больше добра и правды, да пошлет Вам Бог все сильнее веру в Самого Себя, и да будут все яснее Его Вам указания посреди сумерек и туманов, окружающих людские помыслы. Да будет каждый час будущего года благословляем Богом и благословляем Россиею и каждым ее верным сыном, и везде и всегда да будет сердцу Вашему отрадно и душе Вашей легко! О, Государь, милостивый, дозвольте моей молитве к Богу за Вас быть принятой Вашим сердцем.
За сим о себе дозвольте сказать два слова. С тех пор, что живу, не запомню такого утонченно мучительного и тяжелого года! Как человек, я бы проклял этот год с ненавистью к людям за все, чем измучили меня так зло и так несправедливо, если бы как христианин я не чувствовал, что Бог в этот год не оставил меня Своим милосердием и Своею помощью. Я измучился так, как Вы даже приблизительно не можете себе представить, но я не пошатнулся в вере своей, не упал духом, не пришел в отчаяние, не усомнился в себе и, прощаясь с годом, где усиленный труд во имя идеалов соединился с неслыханным бременем нравственных надо мною пыток, могу сказать Вам без страха найти в совести опровержение: я рабочий, Государь, достойный Своего Господина, я слуга, не солгавший своему Государю, клевета меня хуже не сделает, похвала не сделает меня хуже, я все тот же, каким 26 лет назад Вы мне впервые протянули руку юноши, но только люди стали теперь злее, и причины меня отдалить и оттолкнуть от Вас совсем стали тысячу раз нелепее. Верьте в душу мою, в преданность мою, в слово мое и в честь мою; верьте, что имей я в чем винить себя, давно сказал бы Вам, и не давайте, Государь Всемилостивейший, торжествовать людям в зле надо мною только потому, что я бессилен против них и ничего не имею в свою защиту, кроме веры в Вас и уважения к самому себе. Не исполняйте цели их торжества надо мною; не закрывайте двери Вашей для меня одного; у этой двери стоит человек, для которого жизнь и труд имеют цену только потому, что он всякий час своей жизни думает о Вас и просит у Бога разума, чтобы в правде и в чести говорить Вам то, из-за чего могли бы, по его мнению, усиливаться благословения над Вами и ослабляться укоры, злословия и облегчаться затруднения.
Я беспокоен в этой жизни, фанатически и религиозно всецело отданной Вам, я все порываю связи, могущие мне облегчить мое собственное житье, я не торгуюсь ни с кем, не рассчитываю ничего, не измеряю шагов своих, не считаю врагов своих, я безрассуден, с точки зрения человеческого практического разума, в моей любви к Вам, не признающей земных преград – вот мои вины, и вот она, эта печальная и роковая правда!
Но в этом смысле, пока я жив, я не изменю своему неразумию, ибо я верю, что Вы, невзирая ни на что, Вы одни не считаете меня неразумным и знаете и верите, что я потому смею говорить с Вами, что себе ничего не желаю, кроме частички Вашего доверия и внимания к словам моим, и что от правдивой беседы моей с Вами может иногда быть для Вас польза.
А если к этому прибавить все, что ежедневно я слышу от людей об угрожающих опасностях там, где Вы желаете блага, о торжестве лжи и обмана там, где Вы влагаете Ваше сердце и требуете и ждете правды, там, где Вы подчас не можете узнать, какие личные или скрытые причины влекут людей наперекор Вашему благожеланию, тогда Вы поймете, что как бы мал, ничтожен и без значения я ни был, я все-таки могу быть с Божьею помощью не совсем бесполезен.
Цена моя грош, но иногда и крупинка соли может пригодиться, и грош – деньги, и бросать его не для чего.
Да и то правда, что не раз говорилось в сем грешном мире: когда на человека слишком клевещут, когда у него избыток врагов, когда его слишком ненавидят, когда его слишком осыпают мусором и грязью, то надо усомниться в правде этой ненависти и искать, не найдется ли под мусором, которым его осыпают, что-либо ценное?
Да, все это философические размышления. Они легко сказываются, но, Боже праведный, прежде чем их выскажешь, сколько перестрадаешь, сколько перемучишься, сколько раз мука доведет до минуты, когда с отчаянием крикнешь наедине: Боже, неужели нет правды, нет силы ее отстоять, неужели Государь, Которому я ни разу не солгал ни в мыслях, ни [в] словах, поверил лжи против меня?
И если бы только Вы могли на один миг приостановить вокруг Себя тот шум жизни, где столько скрещивается волнений и течений, и в этот миг мира и тишины могли бы, отрешившись от всего Вашего мира, прислушаться и приглядеться к моему миру и постичь и прозреть все, что я незаслуженно перестрадал в этот год, о, я не сомневаюсь в том, что, не дождавшись моей мольбы, моих слез, моих слов, Вы бы протянули мне руку и сказали бы от всего сердца: «Пусть говорят, что хотят против вас, я верю, что одними страданиями вы купили себе право на Мое участие и на Мое уважение, не смущайтесь, работайте и верьте, что никакая честная преданность, как бы она мала ни была, не может быть бесполезною!»
Вот все, что имею сказать. Но смею ли я этого просить? Я даже не смел прийти, как ежегодно, просить у Вас денег для моей елки для бедных детей, боясь того же беспощадного молчания, которое приемлю с покорностью как наказание за что-то уже седьмой месяц, и теперь могу ли сметь чего-нибудь просить.
Стою за дверью, как отброшенный и париа, я размышляю печально: о чем мне просить Вас, Государь!
О милостыне Вашей веры в меня из жалости ко мне? О нет, Бог дал мне святое право и святое утешение глядеть, поднявши голову, Вам прямо в глаза, не страшась опустить взор от Вашего [ис]пытующего взгляда; следовательно, просить верить мне из жалости было бы обиду наносить самому себе, и Вы бы первый осудили бы меня!
Нет, Государь, вот чего бы смел просить Вас: движения доброго Вашего сердца во имя 26-летних незапятнанных отношений к Вам, к старому много пострадавшему напрасно слуге, и на рубеже ужасного для меня года и будущего неизвестного четырех слов утешения, ободрения и благословения… вложенных в конверт и пересланных через такого лица, которое Вы сами изберете с мыслию, чтобы никто не мог о них узнать: «Да поможет вам Бог». Вот все, что я смею просить, как счастья, как отрады, как радости, как конца моим невыносимым страданьям.
Мне работать так тяжело, так безотрадно жить; и больше ничего не прошу.
Да хранит Вас Бог и да пошлет Он Вам год светлый и легкий.
А мне, да даст моей молитве быть услышанной Им, и моей мольбе быть услышанной Вами!
1888
14 января[805]
Сегодня день моего рождения, про который я бы опять сказал, как в прошлое время, злосчастный, если в эти несколько месяцев не постиг, страдая, и больно страдая, что – говоря словами Филарета, перефразировавшего стихи [А. С.] Пушкина –
И если бы Бог не помог мне разделиться на две половины так, чтобы одна половина моего существа могла не мешать жить и действовать другой. Сегодня мне 49 лет. Не солгу, если скажу, что не встречал второго человека, как я, то есть с судьбою, похожею на мою судьбу. Именно эти две жизни, происходящие в одном человеке – столь резко отделенные и столь тесно слитые в то же время и составляют мою обособленность от других людей. Помните 60-е годы, лет двадцать назад. Кто не говорил про меня: вот будет министром, вот будет тем-то, и чего, чего не пророчили, строя воздушные замки по моему адресу на наших дружеских отношениях. Прошло 20 лет. Посмотрите-ка, кто я? Какая-то мишень, увы, живая для самой невообразимой клеветы, для самой искренней ненависти, и больше ничего. И никто кроме меня не имел этой странной судьбы. Я был не глупее многих, был я честен, гадостей никаких не делал, а между тем мне одному достался удел совсем непонятный, точно я прокрадываться должен был, точно прятаться я должен был. Чего? Сам не знал, и не знаю доселе. Моя бестактность всему виновата, можно мне ответить; согласен, скажу я, но ведь не я один бывал бестактен, за что же та бестактность, которая другим не мешала двигаться в жизни обычным и нормальным путем, мне в отличие от всех такую беспощадную устроила участь? Значит, есть что-то другое. Это другое и есть та двойственная жизнь, которая так отлично от других во мне вместилась и дана мне Богом в удел столь замечательным образом, и которой смысл во всей ясности и полноте открылся мне в эти последние месяцы под ударами таких пыток, таких истязаний, которые вряд ли кто не то что испытать, но представить себе может.
Тут что-то глубже и разумнее случайности, тут что-то серьезнее простого человеческого устроения. И в самом деле. Остановитесь на эпизоде, измучившем меня и продолжающем мучить меня до сего дня – этих 6 месяцев. Вытащили человека на позор, клевете и лжи нет нигде конца: точно море грязи без края. И никто не защищает, все обвиняют, и посреди всего этого только я, говорящий Вам: они лгут, не верьте, и Вы – верящий мне. Пришла минута, я ее не забуду, когда я упал на колени перед Богом и сказал Ему: я теряюсь, может быть, люди правы, а я лгу, Боже милосердый, если я лгу, яви мне мое бессилие, если я не лгу, помоги мне, но успокой меня. В душу вернулся покой, Бог мне помог, но ураган злобы и лжи еще сильнее стал бушевать: явились самые страшные виды людской злобы; семья восстала против меня; мучения мои не описать! Маленький кружок честных друзей меня поддерживал, и я чуял, что Вы не бросаете меня, и там, где следовало бы человеку как паршивой собаке от бьющих ее пасть, там, где от невыносимых мук, и душе, и сердцу, и гордости, и чести, и самолюбию причиняемых, можно было бы не то что лишиться всякой энергии, но прийти в безумное отчаяние, пасть духом совсем, бежать от стыда и от людей, тот же Бог, который дал врагам моим надо мною силу неимоверную, чтобы пытать и терзать меня, дает мне Свою помощь, и в самую эту пору обрушившегося на меня урагана Бог не лишает меня сил и не шлет мне уныние для работы. И на работу эту приходят работать и помогать честные и хорошие люди, опять-таки под ураганом и не боясь этого урагана. И работа идет, благодаря Бога! Друзья говорят мне: какие у вас здоровые нервы, сколько энергии – нет, говорю я себе, тут ни в нервах, ни в энергии дело, а исключительно в том, что от людских рук Бог шлет мне казнь, а для дела и труда дает Свою помощь. И в этой двойной судьбе, преклоняя голову перед нею, видишь глубокое назиданье, которое вряд ли можно назвать фантазиею… что бы было, если [бы] иначе сложилась моя судьба; если то, на что я как будто жаловался, на свою людскую, так сказать, или карьерную неудачу, – не случилось, и я бы попал не в свою узенькую тропинку, а на широкий путь всех? Вероятно, не избег бы я участи многих; зависть, честолюбие и все другие страсти отвлекли бы от правды, от труда, от прямого пути, и бессилие и бесполезность были бы моим уделом. И стал бы я Вас любить с расчетливостью, то есть с мыслию, как бы себе не повредить или как бы Вам представить дело так, чтобы другого выдать, а себя сберечь. В начале семидесятых годов, помните, так и было; я попал на этот опасный путь, но будучи на нем уж очень неумелым, я сразу себя подставил под казнь, и она надо мною свершилась, но и тут свершилась своеобразно. Двойственность судьбы моей и тут рельефно выделилась: в людском смысле все обрушилось на меня и порвало все к Вам отношения; но вера в честность мою осталась в Вас, как во мне осталось мое чувство любви к Вам во всей ее силе; опять явление Божией помощи; по людскому должно было бы быть иначе. Вы бы могли просто махнуть на меня рукою, а я бы или мог приняться интриговать, чтобы что-либо себе вернуть из утраченной милости, или испортиться характером и т. д. Но Бог помог мне просто быть спокойным и работать и все вынести, а это «все» было много, и Вы не знали тогда и все узнали после, через какие я обиды и нравственные пытки прошел, и что за обвинения на меня взвели вплоть до самой вершины, то есть до покойной Императрицы. Нынешние пытки гаже, мерзее, но и те были ужасны. И все же Бог помог вынести их и не дал ни пасть духом, ни ослабеть в работе.
И мой узкий путь обозначился, и пришел день, когда вне всяких людских отношений Вы сами от Себя вернули мне то, что на этом моем узком пути нужно было и ценно было – доверие, – но все людское, все, что люди считают главным и блестящим, все то осталось отнятым. В темноте вернулось мне самое светлое – общение в мыслях с Вами, и смысл наших отношений обозначился ясно, по воле Божией. И теперь я понимаю, что случись иначе, изменись мое положение в людском смысле, в смысле блестящем, главное, вероятно, утратилось бы, общение в мыслях, которое возможно только при условии быть спрятанным от людей. Летом прошлого года поразительно опять таки Судьба меня ударила изо всех сил, чтобы вернуть на узкую темную тропинку: совершенно непредвиденно я столкнулся с такими гигантскими и ужасными размерами людской мерзости только потому, что вышел, так сказать, из своей раковины на Божий свет, и, как я говорил, Бог делу помог, но меня, страшно больно наказав, вернул опять в свою темную тропинку.
Таков внутренний смысл всего составляющего мой маленький мир и всего, что случалось со мною странного и как будто рокового. Для меня он стал ясен, хотя со стороны глядя и по людскому рассуждая можно понять все сие иначе, и в людском смысле оно будет верно: просто я не умею творить себе други от мамоны[807], говорю, что думаю, ни за кем не ухаживаю, ни к кому не предъявляю нужды, и как дождь рождает грибы, так я распложаю себе врагов. Вот людское толкование, и верное, и оттого где другой находил бы себе защитников и друзей, я нахожу врагов… Да, все это так.
Но отчего все это так, вот чего люди не знают и не говорят. Не помню, говорил ли я Вам когда-либо о том моменте в наших отношениях, который решил, так сказать, мою участь и был причиною этого двойного моего существования, для света негодного, а внутри себя годного и достойного Вашего уважения и призываемого мною ежедневно вот уже 23 года благословения Божия. В нынешней беседе с Вами, по случаю дня моего рождения, я расскажу Вам этот эпизод, и Вы, вероятно, поймете меня, Вы одни поймете, ибо Вы одни меня судите беспристрастно.
Это было очень давно назад, в ту зиму 1864 года, когда судьба привела мне сблизиться с Вами и полюбить Вас от всей полноты души. Ваш покойный брат был тогда за границею. О болезни его тогда еще не было тревог. Сцена происходила в последней угловой комнате Вашего помещения на площади. Вас тогда не было дома; стояли [А. И.] Чивилев покойный, покойный [Г. Т.] Бок и я. Разговор зашел о Вас, и к величайшему моему изумлению и, разумеется, негодованию, Чивилев весьма развязно говорил о Вас с каким-то озлоблением, и говорил дурно. Я ему возражал под влиянием охватившего меня чувства, и по своему характеру, а тогда еще молодому, я, разумеется, вышел из себя, рассердил Чивилева, шокировал Бока, и с той поры попал к обоим в немилость. Но затем пришли другие события. Когда Вы стали цесаревичем, я однажды слышал от того же Чивилева и в присутствии того же Бока совсем противоположное тому, что он говорил о Вас несколько месяцев раньше, какие-то напыщенные хвалы, и эти-то два эпизода вместе произвели во мне какое-то необычайное внутреннее потрясение на всю мою жизнь. Потрясение это выразилось двумя сильными впечатлениями; впечатления эти стали чувствами, а чувства эти стали главными, так сказать, двигателями моей жизни последующей. Помню, точно вчера это было, до малейшей подробности каждый миг того дня, когда произошел первый эпизод: как я вернулся к себе, как загорелось точно охваченное пожаром мое сердце к Вам, помню сближение через даль Вашего друга брата с Вами, сделанное мною тогда в мыслях, мне показалось, что его голос мне говорит: «Я далек, а вы близко к нему, берегите его, любите как я люблю его». Мысли и впечатления незаметно сливались с молитвенным настроением, и Ваш образ выделялся для меня все ярче и светлее, и я помню, как в этот день сделаться другом Вашим стало моим идеалом, и как с этого дня я начал эту наивную молитву произносить ежедневно: благослови мою дружбу к Алекс[анд]ру Алекс[андрови]чу и дай мне быть ему полезным.
Молитва эта – моя молитва до сего дня, а чувство, создавшее ее, как святой огонь, принятый от Бога, мне [в] сто раз дороже моей жизни. В ту пору все это могло казаться наивным, сентиментальным, и самый порыв, охвативший меня тогда, когда я услыхал впервые злое слово против Вас, порыв всей души мог быть назван фанатическим, преувеличенным; да, может быть, но тем не менее я за него по час смерти осмыслил, освятил и наполнил мою жизнь, а главное – сделал[ся] равнодушным ко всяким другим интересам.
Но затем пришла вторая историческая минута. Вы делаетесь наследником, и мне приходится от тех самых лиц, которые год перед тем так жестко и некрасиво махнули на Вас рукою и бранили Вас, слышать хвалебные оды, панегирики в Вашу честь, точно став первым Вы изменились умственно и душевно. Увы, опять-таки не забуду этого дня; он мне был тяжелее того ужасного дня, когда я узнал о внезапной опасности жизни Вашего брата. Так стало гадко, так стало безотрадно на душе, точно умерло что-то еще более дорогое, чем Ваш брат. Умерла, увы, на весенней поре жизни последняя иллюзия, последняя искра веры в людей. И опять-таки, сознаюсь, что все это могло быть и казаться смешным, наивным, преувеличенным; но что делать; я чувствовал и понимал, что я урод, какой-то пришлец из чужого мира, что не следует отдаваться всей полнотой души такому разочарованию на счет людей; что и любить Вас с таким фанатизмом не следует, а благоразумнее было бы и себя немного полюбить, как благоразумнее было бы не показывать, что в этом дворце любишь только Вас, а от других отдаляешься. Но что же было делать! Таков был и есть мой характер. Бог благословил меня на дружбу с Вами, но Он же судил мне в будущем тяжелые дни испытаний. Я радость свою приял, но и крест свой уготовил: радость и счастье, любя Вас превыше всех идеалов жизни, и крест – разлюбивши слишком страстно людей.
Люди жестоко мне за это отплатили и были правы, – и такова стала моя судьба до сего дня: судьба странная, но в магической и психической связи и последовательности с ее исходными причинами. Я был ее причиною, и я не жалуюсь на нее; иногда жутко и больно бывает, но, Вы видите, Бог не дает мне падать духом, и я работаю не меньше других, сегодня под грозою, вчера под ураганом грязнейшей ненависти, ибо все осталось по-прежнему, как в начале: Вы мне верите и любите меня, я живу только Вами и для Вас, а кругом – если исключить маленький круг друзей – все не верят мне, потому что я им не верю, и ненавидят меня, потому что я не служу им. Я не сотворил себе друзей от мамоны, и ничто мне не прощается. Но зато, если горьки минуты, когда люди мне отплачивают за то, что везде и всегда, и в жизни, и в свете, и в печати, и при дворе, и в семье даже говорил, что думал и что чувствовал, и ни разу в жизни не солгал, как искупались эти горькие минуты теми сладкими мгновениями, когда Бог позволял мне уверить Вас в чем-либо хорошем и видеть, что Вы мне верите… Не много их было, этих мгновений, сравнительно с теми, которые меня мучили и побивали, Вы не баловали меня в последние дни проявлениями Вашей дружбы, но тем ценнее они были, тем святее они для души, и ничего себе не прошу бóльшего!
Вот краткая история моего двойного существования. Одна сторона – свет веры и любви – это Вы и весь тот мир людей, который от Вас зависит, от Вас получает впечатления и, руководясь ими, молится за Вас, благословляет Вас и все сводит к Вам.
Другая сторона – это тот мир людей, где столько лжи, потому что так сильно на человека действие личных интересов, где деньги играют свою роковую роль и где после известного количества лет приходишь к убеждению, что прежде «я», прежде «мои интересы», а потом идеалы, Государь и государство!
Боже, как я счастлив, что с этим миром я развязан на весь конец моей жизни; наивны, неправда ли, были причины, в молодости внушившие мне к нему отвращение, но как я за них теперь благодарю Бога!
Наивно и то обожание, которое питаю к Вам – неправда ли, любя Вас как личность и как Государя больше всего на свете и куда больше самого себя, но и тут, скажу, Боже, как я благодарен Его милостивой судьбе за это чувство, ибо только оно дает мне счастье ничего не просить от Вас, кроме доверия и возможности трудиться…
И в результате Вам, сколько кажется, польза от меня двоякая: первая – Вы всегда услышите правду от меня, ибо положительно не найду и не нахожу в себе причин ее искривлять или не договаривать, а вторая – Вы можете со мною не стесняться, что бы Вы не делали со мною, как бы не поступали, я все то же существо, которое ни Вас не может обидеть, ни Вами не может быть обижено.
Все это пишу сегодня под влиянием дня моего рождения, чтобы еще раз напомнить и уяснить перед Вами главную причину, отделяющую свет от меня и меня от света; относительно Вас и в служении Вам я от этого разобщения не только ничего не проиграл, но много выиграл, ибо сохранил то чутье к хорошим людям и к честным людям, которого наверное лишился бы, если [бы] увлекся светом, почестями и друзьями от мамоны, и могу смело после 27 лет сношений с Вами сослаться на них и бесстрашно спросить Вас: подсунул ли я когда-либо Вам обманувшего Вас человека из людей, которых я Вам рекомендовал, обвинили ли Вы хоть одного в том, что он обманул Вас? Нет, имею я святое право сказать за Вас и с Вами! И есть за что благодарить Бога.
При одном воспоминании тускнеет чело, и сжимается сердце. Я Вам особенно рекомендовал [Н. А.] Качалова… Тяжел будет ответ перед Богом и за это дело у [К. П.] Поб[едоносце]ва. В мрачном Таганрогском деле – чтобы спасти своего недостойного тестя он сгубил Качалова[808]; честным я его назвал Вам когда-то, честным он был отнят от государства и удалился от дел.
С другой стороны, позволил ли я себе хоть тень на кого-нибудь честного набросить в беседе с Вами из-за личных каких-нибудь интересов? Нет, слава Богу. И тут в прошлом моем сколько назидания! Помните ли, в начале Вашей самостоятельной жизни, в конце шестидесятых годов, когда я был моложе и, следовательно, страстнее в своих чувствах и впечатлениях, и наши отношения были ближе, чем теперь, с виду, как Вы меня цукнули за то, что я, охваченный так сказать порывом преобладания над всеми Вам близкими относительно доверия Вашего, начал злословить то на одного, то на другого… Потом пришла опала. Я, увы, слишком поздно постиг, как Вы были правы, и как я был виноват, но сознайтесь, что искупленный дорогою ценою урок не пропал даром. А тут еще жизненный опыт и разум доделали дело, и пришло время, когда то же чувство обожания к Вам, которое во дни оны меня влекло к безрассудному порыву наговаривать Вам на других с целью хотя и хорошею, но все же себялюбивою, то же самое чувство потом стало меня побуждать размышлять глубже и шире и смотреть на Вас и понимать Ваше положение выше и безличнее. Я понял, что наоборот, ввиду Вашего без того трудного положения, ввиду тех без того уже многочисленных подступов к Вам и интриг, имеющих целью Вас восстановлять недоверчиво против одного или против другого, кто любит Вас искренно и бескорыстно, должен напротив все свои душевные заботы направлять к тому, чтобы как можно более людей к Вам приближать с хорошей стороны, чтобы как можно меньше Вас возбуждать против людей, разочаровывать, дабы на душе Вашей, без того озабоченной, без того огорчаемой, накипь дурных чувств не могла мешать действию хороших чувств и впечатлений. Дурное узнать про человека Вы всегда успеете, но хорошему, к несчастью, так часто не дают люди в своей заботе о злобе дня в полноте доходить до Вас и утешать Вас и ободрять Вас.
Но для любящего Вас совесть ясно указывает в то же время долг делать различие между тем, что люди называют: intriguer contre quelqu’un[809], злословить, разочаровывать, вооружать вообще против людей – и тем, что совесть честно преданного Вам человека безусловно велит ему делать: это изобличение попыток Вас обманывать, изобличение интриги, изобличение поступка прямо вредного Вашим интересам и государственному делу. Тут долг любящего Вас призвать Бога на помощь и не бояться Вас огорчать, ибо что может значить минутное огорчение сравнительно с святою и светлою возможностью Вас предостеречь вовремя, Вас уведомить о том, что иные хотят из личных интересов от Вас скрыть, и вообще отдалять от Вас повод, чтобы Вас осудили, и приближать напротив повод к тому, чтобы Вас лишний раз благословляли. Вот мои мысли.
Я чувствую, что они верны, и высказываю их потому Вам, что за последнее время много, много передумал и по поводу того, что со мною делали, и по поводу того, что в мире государственном делалось, пришел к непреложному убеждению, Всемилостивейший Государь, что наш тайный союз с Вами с Божиею помощью имеет глубокое значение и может быть в известной степени Вашим интересам пригодным, и надо все делать, чтобы его скреплять взаимно, я буду скреплять его своею безграничною привязанностью и честностью в мысли, чувствах и действиях, Вы, Государь, умоляю Вас, скрепляйте его доверием Вашим… Я стою его!
Да благословит же Бог мои мысли дойти до глубины Вашей души!
Это был бы ценнейший подарок в день моих 49 лет!
Среда 20 янв[аря][810]
Всемилостивейший Государь!
Получил, как, вероятно, уже Вам известно, деньги от Вышнеградского на издание «Гражданина». С благоговением их принял и с благоговением благодарю за этот знак доверия к моей посильной работе. Но так как благодарность на словах ничего не доказывает, то могу только с горячею молитвою к Богу сказать, что надеюсь благодарность доказать на деле.
Немножко ее дает мне Бог доказывать на деле уже теперь, теми усилиями, которые я делаю, и не без успеха, совсем переработывать себя и язык свой в печати, строго обязываясь не увлекаться, передумывать каждый порыв и каждое слово, сдерживать себя даже в минуты сильных чувств и никогда не браниться.
В то же время имею возможность благодаря Бога сказать, что «Гражданин» идет вперед, и цифра подписчиков теперь, в январе, равняется той, которая была в прошлом году в конце его, так что, судя по результатам четырех месяцев издания, можно думать, что на второй год издания понадобится вдвое менее субсидии против первого года, а это мне кажется блестящий результат, которым я обязан кругу сотрудников.
Вторник 19 янв[аря][811]
Сегодня по делу об опеке фон Дервиза[812] узнаю вещь, которая сильно раздражила и возмутила умы в министерских сферах против [К. П.] Побед[оносце]ва и еще раз доказывает, что этот человек сбивается с пути и перестает понимать то, что так красно проповедует другим и по поводу чего так зло обвиняет других, это сознание обязанностей, налагаемых на него его высоким положением. Мне рассказывали, что ввиду сильного возбуждения умов по поводу этого дела об опеке и того, что сам Манасеин говорит громко, что дело это нехорошее, Поб[едоносц]ев поехал к Бунге и просил его доложить Государю, что лучше было бы это дело не рассматривать в Комитете министров, а просить Государя поручить рассмотрение его двум, трем доверенным лицам. Бунге, при всем своем добродушии, был очень смущен этим обращением к нему Поб[едоносце]ва и отказался исполнить желание его, предвидя, с одной стороны, причинение таким ходатайством обиды всему Комитету министров, а с другой стороны, неудобство ставить Государя в неловкое положение, и рассказал другим про этот новый фальшивый шаг Поб[едоносце]ва.
Если верен этот рассказ, то он еще раз доказывает, что как только люди сходят с прямого пути в каком-нибудь деле и попадают на кривой, то немедленно интересы личные, самолюбия и другие берут верх над теми, которым они служат, и человек становится уже источником дурных и вредных советов, желая себя выгородить.
В деле Дервиза, увы, не может быть двух мнений. Поб[едоносце]в своим влиянием воспользовался, чтобы провести родственную и денежную интригу дяди против племянника до конца и помочь окольным путем достичь того, что законным путем (через дворянское собрание и Сенат) он осуществить не мог. Пришлось волею-неволею криво повлиять на министров и ввести в заблуждение Государя.
Обман обнаружился. Какая была цель у Поб[едоносце]ва – то знает его совесть и Бог, его Судья. Но я допускаю самое невинное, он просто увлекся и сам был обманут дядею Дервизом. Но тогда – имей великодушие и благородство сознаться в том, что ошибся, исповедуй публично свою вину, предстань перед Государем и скажи ему: «Государь, виноват, я ввел Вас в заблуждение, – простите!» Но нет, вместо этого он решается еще раз делать попытку для помощи себе в явно дурном деле, или вернее в кривом, смущать других и карабкаться на топкой почве.
20 января. Среда
Сегодня на моем собрании по вечерам в среду был между прочим полковник [А. А.] Вендрих, практический знаток железнодорожного вопроса. Он произвел на нас всех глубокое и потрясающее впечатление, когда изложил с изумительною ясностью то безвыходное положение, в котором в случае войны очутится военное ведомство для передвижения войск, благодаря тому, что доселе, что он не делал, никакое ведомство не хочет заняться вопросом: как сосредоточить в одних руках заведыванье и распоряжение эксплуатациею всех железных дорог в России на случай военных действий. Уже во всех государствах Европы эта концентрация военно-железнодорожная устроена; даже в Италии она недавно введена. В Австрии она устроена в течение последних 2 лет. У нас, к сожалению, не сделано еще первого шага. Вот уже более 10 лет, как Вендрих всюду суется со своими представлениями о безусловной необходимости в мирное время устроить центральное бюро, которое могло бы постоянно следить за эксплуатациею всех железных дорог, знать все перевозочные средства каждой дороги и затем по крайней мере раз в год делать примерные передвижения войск на разные театры войн, хотя бы с карандашом в руках и на бумаге.
Сунулся он к [Н. Н.] Обручеву: Обручев его выслушал, затем усмехнулся и сказал:
– Это не наше дело, это дело Министерства путей сообщений.
– А если война будет.
– Тогда мы потребуем, чтобы войска были перевозимы.
– А если окажутся невозможности и затруднения на разных линиях, если в пункте сосредоточения войск пустые вагоны нельзя будет отсылать обратно, если разъездных путей окажется мало, если вследствие той или другой случайности войска опоздают и так далее?
– Ну это все гадания; войны нет, что тут тревожиться, – отвечает Обручев.
Суется Вендрих к [К. Н.] Посьету.
– Когда будет война, мы отдаем все линии военному ведомству.
– Да что толку, когда вы в мирное время не можете управлять движением линий и требовать от железных дорог исполнения законов эксплуатации: вы ведь в случае войны сдадите железные дороги в том хаосе, в каком они в мирное время.
– Ну уж это их дело!
Читал он лекцию в [Генеральном] Штабе о железнодорожной эксплуатации для военных нужд. Все слушали с трепетом. И что же? Никто пальцем не шевелит. Главный штаб между тем, делая свои расчисления по передвижению войск, приходит к расчету, что ему 8000 вагонов недостает, и просит кредита на заказ 8000 вагонов. Вышнеградский отказывает, говоря, что не только нет недостатка в вагонах, но их излишек, а весь вопрос в том, чтобы уметь в военное время маневрировать вагонами и из центра распоряжаться всеми подвижными составами. Военный министр[813] призывает Вендриха и, показывая ему ответ Вышнеградского, спрашивает: что ему отвечать.
– Ничего, – отвечает Вендрих.
– Как ничего?
– Ничего, потому что Вышнеградский прав, ни одного вагона не нужно; их слишком много, а нужно центральное эксплуатационное бюро, и на это Вышнеградский сказал мне, что на это учреждение он за деньгами не постоит.
Ну и что же? Учредил военный министр комиссию; вошли в нее члены всех министерств; толковали, говорили и затем разошлись. Дело замерло.
– И страшно становится от одной мысли, что может произойти в случае не дай Бог войны, – говорит Вендрих, – целые отряды могут засесть на пунктах, где ни пуда хлеба нельзя будет достать; артиллерия может засесть где-нибудь за недостатком открытых вагонов-платформ; провиант, снаряды могут двумя, тремя сутками запаздывать за отрядами. Словом, все, что происходило невообразимо безобразного в 1877 году на румынских жел[езных] дорогах, то в десять, в двадцать раз в больших размерах будет происходить у нас в случае войны с Австриею или Германиею.
Затем Вендрих указал на другую слабую сторону нашего военного железнодорожного вопроса, это полное неустройство железнодорожных баталионов и запасов. За границею для того, чтобы мобилизовать все железнодорожные запасы на случай войны, нужно maximum трое суток; все запасные железнодорожные нижние чины до машинистов включительно находятся при линиях; у нас дай Бог в 20 дней управиться. Мало того, все линии от Варшавы к австрийской границе и к прусской границе переполнены поляками, не знающими даже русского языка настолько, чтобы понимать его; ни одного нет русского даже стрелочника: в случае войны прийдется в один день всех без исключения служащих на этих линиях уволить за ненадежностью; что тогда делать? Брать русских, но откуда, и как эти русские успеют примениться к новым линиям впопыхах открытия военных действий?
А между тем ни [И. В.] Гурко, ни военное ведомство, ни Министерство путей сообщений не возбуждают доселе об этом ни малейшего намека даже на вопрос. Когда я остался один, увы, я опять вернулся под влиянием разговоров, только что слышанных, к мысли, которая не меня одного, но многих, и в особенности военных, мучит как кошмар: мысль эта – два брата Обручевы… Ведь оба были уличены в измене – в 1863 году! Один обвинен и приговорен к казни[814], а другой выгнан из службы и спасенный [Д. А.] Милютиным… Теперь первый – орудует Штабом, то есть назначениями в Морском министерстве, а второй – ужасно сказать – держит в руках судьбу России, армии, Царя в случае войны… Ужасно, страшно думать об этом. Ведь нет ни единого военного, ни единого служащего в Главном штабе, который бы не считал [Н. Н.] Обручева опасным. Боже, Боже милосердый, дай Царю страх этого человека!
При разговоре об Обручеве адъютант [Л. М.] Чичагов рассказывал, что ему пришлось видеть телеграммы покойного Государя к Вел. Кн. Николаю Никол[аевичу] во время войны и ответ Вел[икого] Князя. Покойный Государь ему телеграфирует о Своем намерении назначить Обручева начальником штаба при Цесаревиче, в случае назначения Его вместо Гурки, начальником отряда для Балканского похода. Вел[икий] Князь отвечает покойному Государю, что с 1863 года он Обручеву не дает руки!
[20-е числа января]
Осмеливаюсь обратить Ваше внимание, Государь Всемилостивейший, на прилагаемый циркуляр [А. К.] Анастасьева, черниговского губернатора[815].
Это глубоко отрадное явление.
Смею думать, что если бы Вы отметили бы на нем – ведь № «Гражданина» мог бы быть в Ваших руках, – или же на Вашем веленевом №ре, если бы велели разыскать его, простые слова: «благодарить черниг[овского] губернатора за этот прекрасный циркуляр» или: «благодарю черниговского губернатора за его верное понимание долга» или же: «благодарю черниг[овского] губернат[ора] за его заботливость о Нашем доблестном (или: о нашем дорогом) войске», и переслали гр. [Д. А.] Толстому, то опубликование Ваших слов благодарности имело бы тройное громадное значение: 1) награды и одобрения губернатору неоцененных, 2) поощрения другим губернаторам и 3) слов отрадных для всего войска.
Мне кажется, что Вы бы могли проще еще, не посылая «Гражданина» к Толстому, прямо написать ему: «Прочитал циркуляр черниговского губернатора. Поблагодарите его (или: благодарю его) за то-то».
Это тем более имело бы значение, что все газеты нарочно ни звуком не отозвались на этот прекрасный циркуляр.
«Г. Начальник 5-й пехотной дивизии[816] 5 января за № 33 препроводил мне переписку, возбужденную командиром 2 бригады вверенной ему дивизии. Из этой переписки видно, что командир бригады, озабочиваясь оздоровлением местности, в которой квартируют вверенные ему войска, обратился об этом к глуховскому исправнику[817], который, в свою очередь, отнесся непростительно к этому делу лишь с формальной стороны, передав отношение бригадного командира в Глуховскую городскую управу. Управа эта, вместо того, чтобы исполнить законное требование генерал-майора Гец, направленное к глуховскому исправнику, – позволила себе грубо и дерзко отнестись к справедливой и сердечной заботливости военноначальника о здравии вверенных ему нижних воинских чинов.
Грубость и дерзость городского головы купца Букатина и члена управы, титулярного советника Домбровского, заключается в том, что на требование, предъявленное им начальником уездной полиции, они позволили себе отнестись к генерал-майору Гец, – и в своем сообщении к его превосходительству излагают: “Так как в городовом положении, которым городская управа руководствуется при исполнении возложенных на нее обязанностей, нигде не указано, чтобы в хозяйственные дела города вмешивались военные власти (?!) квартирующих в городе частей, просить ваше превосходительство указать управе тот закон, на основании которого управа обязана, по требованию военных властей, временно квартирующих в городе, очищать улицы и площади от нечистот”.
Иронизируя в своем сообщении к бригадному командиру, купец Букатин и титулярный советник Домбровский, хотя и выбранные один – городским головой, а другой – членом городской управы, вероятно забыли ту разницу, которая существует между генералом Императорских войск и купцом, а также и титулярным советником; кроме того, они также упустили из виду, – желая, вероятно, пощеголять перед бригадным командиром своею «самостоятельностью», что ответ свой на требования глуховского исправника за № 6315 они должны были бы направить к нему же, а не к генералу Гец, а затем, указывая генералу на городовое положение, купец Букатин с титулярным советником Домбровским вероятно забыли, что для всех русских подданных обязательно знать не одно только городовое положение, но и все 15 томов Свода Законов Российской Империи, тогда может быть Глуховская городская управа узнала бы, что на начальников воинских частей возлагается неусыпная заботливость о сохранении здоровья вверенных им чинов, и тогда может быть купец Букатин с титулярным советником Домбровским постигли бы, что, согласуя общий закон Российской Империи с 2 ст. и п. п. 1, 4, 5, 6, 7 и 11 ст. 103 городового положение, изд. 1886 г., они обязаны были оказать свое содействие чинам полиции в деле очищения города от нечистот, так вредно отражающихся на народном здравии. Кроме сего, прежде чем отправить ответ бригадному командиру, городской голова, – если он сам по малограмотности не мог сделать справок в делах управы, – должен был бы поручить секретарю ознакомить его с специальными правительственными распоряжениями, хотя бы с циркуляром г. министра внутренних дел от 19 января 1879 г. за № 325, возлагающим на особую обязанность городского общественного управления в видах охранения народного здравия, озабочиваться оздоровлением городов, ввиду того, что закон предоставил широкое право городским общественным управлениям на изыскание средств для устранения всех условий, вредно влияющих на народное здравие. Из этого циркуляра городской голова увидел бы, что своевременным дознанием констатировано, что развитию заразы в 1878 г. в Астраханской губернии наиболее способствовала нечистота и вообще дурные санитарные условия.
В заключение считаю нужным еще сказать, что, указывая г. бригадному командиру на городовое положение, которым руководствуется городская управа, купцу Букатину, с титулярным советником Домбровским, уж нужно было бы ознакомиться и с 10 ст. город[ового] полож[ения], из которой они узнали бы, что, несмотря на самостоятельность действий, предоставленных городскому общественному управлению по 5 ст. город. полож., эти самые управления подвергаются также и ответственности за неисполнение законных требований местных властей.
О вышеизложенном давая знать гг. городским головам, я надеюсь, что городские общественные управления, состоящие под их председательством, будут относиться с полным вниманием и сочувствием к справедливым требованиям военных начальников, квартирующих во вверенной мне губернии войск, и употреблять все зависящие от них меры к доставлению им возможного удобства, не говоря уже о таком святом деле – как охранение их здоровья в мирное время; помня то, что самим Богом они призваны жизнью своею защищать неприкосновенность, спокойствие и честь святой Руси».
Кстати об иронизировании.
Кто бы поверил, что мой Дневник на счет избрания Ростовского гор[одского] головы[818] иные читатели признали за панегирик. «Одесский листок»[819] самым наивным и серьезным образом выражает удивление, что я так восхваляю человека, который натворил столько безобразного!..
В дополнение к посланному мною Вам, Всемилостивейший Государь, циркуляру черниговского губернатора, считаю нужным сообщить, что [Ф. Ф.] Трепов и [А. Р.] Дрентельн, одобряя его во всех отношениях, находят, что он напрасно будто бы придал оттенок шутливый тем строкам, где он повторяет: городской голова, купец такой-то и титулярный советник такой-то.
Смею не разделять этого мнения, ибо это повторение двух имен не есть шутка, а намеренное повторение с целью сопоставления с бригадным генералом этих двух жалких личностей.
Но все же долг добросовестности велит Вам сообщить это мнение двух почтенных стариков, на тот случай, что быть может Вы разделите скорее их мнение, чем мое, безусловно восторженное в смысле одобрения.
Во всяком случае, Вы вероятно одобрите мое намерение отныне всегда сообщать Вам, в случае, если я буду сметь представлять Вам мое мнение, также и противоположные или не вполне согласные мнения.
Этим путем установится полнейшая добросовестность в сообщении Вам фактов и мыслей по поводу их.
[Конец января]
В «Гражданине» появилась очень серьезная и дельная статья одного знатока по лесной части, в которой неопровержимыми фактами доказывается неустройство лесного казенного управления и злоупотребления в этом ведомстве[820]. Статья эта доказывает, между прочим, что хорошо бы сделало Минист[ерст]во госуд[арственных] имуществ, если прежде чем заботиться о введении порядка в частных лесах, оно озаботилось привести в порядок свое лесное хозяйство, и тогда уже принялось за осуществление своего проекта введения правильного хозяйства в лесах частных владельцев.
В опровержение статьи «Гражданина» [М. Н.] Островский велит напечатать в «Правительственном вестнике» длинную статью, в которой Лесной департамент силится доказать, что аргументы «Гражданина» не верны.
Что же оказывается? Оказывается, что все, что статья М[инистерст]ва госуд[арственных] имущ[еств] опровергает в статье «Гражданина», все то взято целиком из официальных данных, заимствованных из всеподданнейшего отчета государственного контролера.
Халатность Лесного ведомства до того дошла, что они даже не дали себе труда, составляя опровержение, справиться у себя с официальными цифрами!
Второй курьез:
В «Новом времени» пишут из Одессы, что генер[ал]-губ[ернатор Х. Х.] Рооп предложил Одесской городской управе на счет города заказать ему в ложу в театре письменный стол для экстренных занятий, в 600 рублей, и самодвижущийся веер в 200 рублей, на что городская управа ему ответила отказом, прибавляя, что он, Рооп, может такие расходы делать из своих собственных сумм[821].
Грешный человек, будь я на месте [Д. А.] Толстого, я бы немедленно узнал, правда ли это, и если правда, просил бы Государя такого генерал-губернатора немедленно уволить, и притом с мотивировкою, за что увольняется. Это произвело бы сильное нравственное действие во всей России в пользу престижа и обаяния царской власти.
Наоборот – оставить такой факт без последствий – наносить ущерб авторитету и нравственному значению власти.
[Январь[822] ]
Две длинные беседы с Анастасьевым, черниговским губернатором, ободрили меня и подняли дух.
На вопрос мой: в эти два года, что мы не видались – как сказывается в провинции дело, лучше или хуже, Анастасьев сказал приблизительно следующее.
В отношении политического состояния – несомненно лучше; в экономическом отношении плохо, и если не хуже стало, то во всяком случае дело стоит плохо. В политическом отношении улучшение стало несомненно потому, что вся антиправительственная партия, которая в Черниговской губернии очень была сильна своею сплоченностью, теперь разбилась на кучки и кружки, и значительно вследствие этого ослабела, тогда как консервативная партия, наоборот, приобрела более смелости и кое-где действует дружнее.
Но сказать, что партия красных совсем обессилена, нельзя. У них два союзника: первый – их неразборчивость средств. Нет пакости, нет штуки, на которые бы они не пошли, а так как в лагере противоположном консерваторы почти все порядочные люди, и не только на штуки не пойдут, но не подозревают, на что способны их противники, то шансы в борьбе все еще неравны, и красные подчас берут наглостью.
Недавно, например, в один из уездов прибыл сосланный в Сибирь за политические подвиги молодец, высидевший там свой срок, а потом помилованный относительно прав; прибыл он, и тотчас же целая земская партия решила его избрать в мировые судьи. Предводитель приезжает к Анастасьеву и с ужасом показывает ему, что этот молодец внесен в список избираемых мировых судей, и при этом сообщает, что красные так устроили, чтобы провести этого кандидата посредством крестьянских гласных и путем подпоек и подкупа. Что делать? Губернатор не имеет права вмешиваться в выборы, предводитель тоже! Тогда Анастасьев придумывает такую двойную комбинацию. Во-первых, зная, с кем он имеет дело, он велит исследовать: верны ли те сведения и данные, которые представлены в земское собрание о личности этого кандидата. Что же оказывается? В списке сказано, что он окончил курс в Технологич[еском] институте. Оказывается, что он из первого же курса исключен. Сказано, что он единственный сын, оказывается, что у него два брата. Дом, сказано, оценен в столько-то рублей, оказывается вдвое меньше.
Это раз, а затем он призывает гласных из крестьян и напоминает им слова Государя: слушайтесь ваших предводителей, а предводителю дает совет поговорить с крестьянами и предупредить их насчет их долга выбирать людей в мировые судьи по совести.
И вот только этими настойчивыми усилиями удалось отпарировать угрозу выбора в мировые судьи – анархиста. Но все это не легко, говорит Анастасьев, потому что ежедневно надо быть настороже.
Второй союзник красных в губернии – это Петербург. В каждом министерстве у самых красных есть союзники в том или в другом виде, затем есть у них Сенат, куда они обращаются с жалобами на губернатора и где находят часто и очень часто поддержку, а затем такие газеты, как «Новости», и такие журналы, как «Вестник Европы». Все это вместе дает красным еще много силы.
А затем ко всему этому надо прибавить, что главная причина их живучести заключается в безобразной апатии Петербурга.
– Верите ли, – говорит Анастасьев, – я здесь всего неделю, приехал я полный жизни, энергии, а теперь, даю вам слово, руки опускаются, я бегу вон отсюда. Как будто Россия не существует: у каждого свои заботишки, свои делишки, свои интрижки, слушают на одно ухо, а затем вас встречают сплетнями; в два дня я узнал про себя больше небылиц, грязных скандалов, нелепых, без тени даже правдоподобия, больше, чем за три года в Чернигове. За циркуляр о земских врачах меня буквально благословляют в губернии, потому что теперь ни один врач, как только его зовешь, не откладывает приезда на минуту, а здесь прочитали против меня статью «Вестника Европы»[823] и говорят: да, разумеется, хорошо, но все-таки угрожать земским врачам смещением с должности, это уж того… чересчур…
По второму циркуляру[824], верите ли, от военных получаю и письма, и телеграммы, и здесь самые искренние приветствия словесные с сочувствием; а в Петербурге все сановники смотрят на вопрос иначе: как, выборное начало, городской голова…
– Да он негодяй, – говорю я, – он это нарочно сделал, наученный красными, чтобы публично посмеяться над военным начальством…
– Ничего не значит, – говорят мне, – все-таки надо уважать выборное начало.
– Больше чем военное, сорвалось у меня в досаде, да?
– А что ж, – отвечает сенатор в Англ[ийском] клубе, – хоть бы и больше, а не больше, то все же не меньше.
По моему вопросу Анастасьев мне рассказывал интересную подробность. Когда «Правительственный вестник» напечатал в опровержение статьи «Гражданина» о беспорядках в Лесном управлении казенном статью, присланную [М. Н.] Островским, и № «Правит[ельственного] вестника» был получен в Чернигове, он, Анастасьев, обратился к главному лесному чиновнику в Чернигове[825], очень сведущему и умному человеку, с вопросом: «Ну, кто прав, по-вашему?» Чиновник этот, оказалось, в бытность свою прежде в северных губерниях, все это дело знал в мельчайших подробностях, и говорит Анастасьеву про статью «Правит[ельственного] вестника»:
– Удивляюсь, и только!
– А что? – спрашивает Анастасьев.
– Да все наврано, и факты, и цифры… Как это они себя не боятся компрометировать, ведь уличить можно.
В том-то и горе «Гражданина», что он затем с цифрами из Контрольного отчета уличил Министерство государств[енных] имуществ в неправде и в искажении фактов, и вместо того, чтобы благородно сознаться в ошибке, министр госуд[арственных] имуществ обращается к [Д. А.] Толстому и требует наказания над «Гражданином» за сообщение будто бы правительственных данных, не подлежащих оглашению.
Это возмутительно, потому что 1) «Гражданин» сообщал данные не из секретных и из краденых источников, а из официальных, а во-вторых, ведь суть дела не в этом, а в том, что если они к неправде прибегают в ответах официальных в «Правительств[енном] вестнике», то значит в конце концов: кого же обманывают?
Опять-таки – только Государя!
Вот почему так трудна борьба с ними. Какой я ни на есть, для меня солгать Государю было бы все равно, что убить отца, мать: я бы не мог переносить мучений совести. Для них солгать нипочем. Дутая цифра, ответ: «это неправда, не верьте», или: «ему верить нельзя» – подобранные ловко факты, и так далее, все это нипочем…
Ведь вот университетские истории, это посерьезнее лесного вопроса, тут кроются опасности большие. Кто не знает из преданных честно России людей, что главное зло и главная причина всех беспорядков, главная опасность в том ужасном персонале, который сверху около Делянова до самого низа раскинут зловредною сетью по всей России, и молодежь портится и гибнет в школах благодаря своим учащим и воспитывающим. А между тем эту-то ужасную правду тщательно велят скрывать от Престола, грозят карами, когда говоришь о ней даже с осторожностью, и говорят: неправда, все это ложь, все это глупости, все прекрасные педагоги, все порядочные люди.
Отчего же это так? Говоря, что мне непонятно, как можно лгать Государю, а что те лгут, что я хвастаться хочу, или себя считаю лучше их, нет, Боже сохрани меня от такой мысли. Тут, увы, вся беда в официальном мире… И зная это, нет дня, чтобы я не благодарил Бога за то, что я ноль в этом официальном мире! Тут не они лгут, те высшие люди, которые подходят к Государю, а их подчиненные лгут, потому что нуждаются в лжи, и подводят своих начальников, а те подводят уже неумышленно, а часто из ложного понимания своего положения и достоинства. Они думают, что сказать Государю: «Виноват, Государь, я ошибся, я Вас ввел в заблуждение», – хуже, чем поддерживать мнение, в правоте коего у них нет уверенности, будто бы чтобы не ронять достоинство и авторитет и обаяние правительства. Отсюда и выходит ложь.
Ведь отлично знали те, которые стояли за [С. А.] Петровского, что это за сомнительная личность, но раз они подсунули его, они признали, что их достоинство будто бы велит его отстаивать, и тогда понадобилось уже лгать, принимая ручательство за этого сомнительного человека.
Если бы Государь мог увидеть фигуру Делянова в его кабинете и послушать тон его речи, когда говорят ему, что [А. И.] Георгиевский, [Н. М.] Аничков и вся компания – негодяи, Он непременно убедился бы, что никто не убежден в этом больше Делянова, а перенесенный на почву Всеподданнейшего доклада тот же Делянов стоит за этих мерзавцев горою.
Если бы Государь мог видеть, что за сцена произошла в Лесном департаменте у Островского, когда получилось приказание ответить «Гражданину» по вопросу о лесном казенном управлении, когда призванные составлять ответ должны были сказать директору, что отвечать неловко и неудобно, а на вопрос: «Почему?» ответили: потому что нас могут забить цифрами, от которых не отобьешься, – тогда бы, разумеется, обвинительный и торжествующий тон Островского показался бы Царю менее убедительным.
Оттого, в виду невозможности придраться к сущности, они с такою злобою придрались к мелочи и казнят «Гражданин» за то, что он где-то достал официальные цифры, записку Мансурова, представленную в Госуд[арственный] совет, и не хочет отвечать, где он эти цифры достал. Затем что же? Затем, испытавши с успехом первый опыт успешной борьбы на таком неравном поле, они скажут: «Что ж? Il n’y a que le premier pas qui coute[826], можно и совсем при случае закрыть “Гражданин”. Тогда Петровский – наша креатура, и ни одной больше газеты в России – самостоятельной и неподкупной, которая бы смела помимо нас стоять за Государя и Его власть так, как ей бы вздумалось, а не так, как мы этого хотим…»
Это не мелочь, как последствие официальной неправды… Это, напротив, важная, по-моему, вещь, если ее связать с таким же последствием – официальной неправды, например, в учебном ведомстве. Там неправедно стоят за неприкосновенность таких людей, как Георгиевский и Кия. А ведь какое же последствие? Ни единого человека с душою и с любовью не впускают в этот учебный мир; всякий самый бездушный, самый гнусный проходимец чех[827] крепко сидит на своем месте директора гимназии и развращает юношество.
А что такое развращать юношество? Увы, кроме ответа перед Богом, есть еще ответ в архиве бывшего III Отделения: все политические преступники суть по своему происхождению первоначальные питомцы учебного ведомства; там началась их гангрена. А начало этой гангрены всегда такой факт, где мальчик натыкается на грубое бессердечие и бездушие в своем начальнике.
Из этого вывод один, все тот же: людей и порядки не суйся переделывать, но делай, что делал, ежедневно молись Богу все теми же словами: Господи, укрепи и благослови ко мне доверие Государя, Господи, притупи злобу врагов моих, и больше ничего.
Это я и делаю!
[Январь]
В беседе на последнем собрании в среду вечером у меня, по инициативе [А. К.] Анастасьева возбужден был интересный вопрос: о влиянии запасных солдат[828] в деревне на крестьянский духовный и материальный быт.
Что влияние это скверно, все на этом сошлись, но весь вопрос в том, неисцелимое зло ли это или исцелимое? По мнению Анастасьева, зло это исцелимо, но временем, а теперь пока оно поправимо.
Опыт жизни за эти 10 лет показал,
что гвардейские запасные несравненно более избалованы для крестьянского быта, чем армейские, и более вредны как распространители в народе растления в нравственном, религиозном и даже в политическом смысле;
что запасные тем, в особенности, пользуются в деревнях, что они в сущности никому не подчинены и никого не боятся, а крестьянские и полицейские власти не могут запасного сечь;
что теперь сравнительно с временем 10 лет назад запасным тяжелее жить: прежде они везде находили себе возможность пристраиваться, лишь бы в деревне не жить. Теперь мест для них стало меньше, и спрос на них уменьшается, потому что репутация их больно испорчена и поколеблена.
Вследствие всего этого, надо полагать, говорит Анастасьев, что с течением времени запасные волею неволею должны будут искать куска хлеба в деревне и рано или поздно привыкнут к крестьянскому быту снова.
Но пока, по мнению Анастасьева, есть мера, которая могла бы помочь беде и привести запасных в порядок, это подчинение их в дисциплинарном отношении воинскому уездному начальнику во всех отношениях, то есть предоставление права каждому жаловаться на запасного воинскому начальнику, а воинскому начальнику предоставить право принимать жалобы на запасного, не только по военным, но по всем обвинениям в неповиновении, в бесчинствах, в дурном поведении, и подвергать запасного ответственности и наказанию самолично или предавать его судебной ответственности.
Тогда явится страх у запасного.
Мысль простая, но никому она доселе в голову не пришла.
[Начало февраля[829] ]
Итак, первая кара постигла «Гражданин» – запрещение розничной продажи. Кара незначительная, но дело не в этом, а, увы, в признаке времени. Недаром все спрашивают, даже в официальных сферах, как [И. А.] Зиновьев, [Н. И.] Шебеко, [И. Н.] Дурново, Вышнеградский: «За что?» – прибавляя: «Вы никого грубым языком не задели». Один шутник меня останавливает на Невском и спрашивает: не за хвалебную ли статью в честь гр. [Д. А.] Толстого, как нарочно появившуюся накануне объявления кары. Мой музыкальный критик, генерал Кюи говорит мне: «Послушайте, если они вас начинают преследовать, то это прямо значит себя бить».
Мне очень грустно глядеть на это маленькое событие, именно мне, потому, что мне пришлось говорить об нем с [В. К.] Плеве и понять подкладку дела. Она некрасива.
Поехал я к Плеве.
– Не знаете ли вы, – говорю я, – за что меня постигла кара?
– Знаю, – отвечает Плеве, – за ваши статьи по лесному вопросу.
– Да что же в них было даже в оттенках преступного, все они написаны языком вежливым, деловым.
– Да и не в языке дело, а в том, что вы вступаете в единоборство с министром и опровергаете его официальными данными и не хотите сказать, откуда их берете. [М. Н.] Островский, разумеется, рвет и мечет и пристает к гр. Толстому; гр. Толстой, чтобы не иметь вид лицеприятного судьи относительно вас, и не желая в то же время вас слишком обижать, придумал этот вид кары, не особенно тяжкий и непродолжительный.
– Да ведь я ничем не нарушил ни законов о печати, ни правил вежливости и приличия, тут и самая маленькая кара является несправедливостью и произволом.
– Может быть, но дело вот в чем; я с вами буду откровенно говорить. Вы и ваша газета в совершенно исключительном положении. Вы создаете щекотливое положение и имеете дело с болезненною струною наших государственных людей. Вы очень хорошо знаете, как не мил им был Катков именно тем, что он по всякому вопросу вступал в единоборство с самим министром. Катков умер. Министры успокоились. Являетесь вы и ваша газета, и начинается именно то, из-за чего министры так не терпели Каткова. Затем не скрою от вас и того, что вы их не разубедите в том, что ваш газетный дневник читается там, где они очень желали бы, чтобы он не читался, потому что в этом дневнике вы говорите домашним языком очень часто о таких вопросах, о которых они говорят официальным языком, и подчас выходит между обоими языками разноречие. А из этого разноречия выходит, что министры говорят про вас, что вы на них сплетничаете в дневнике «Гражданина». Все это вместе очень понятно делает их крайне чувствительными к вашей газете, и мысль, что вы хотите воскресить предания Каткова – очень понятно им не дает покоя. Они и пристают к графу, и требуют, чтобы вы не имели привилегированного положения. Граф не отрицает ваши заслуги и ваше направление, но ведь ему нужно и министрам не делать неприятности отказом.
– Да, – перебил я, – но позвольте, тут большие неверности: я именно никакого привилегированного положения не ищу, и именно потому то, чтобы отнять право меня винить в том, я радикально изменил свой язык и ни разу не позволил себе ни одного увлечения. Мало того, как только является сомнение, напр. в вопросах иностранной политики, или я обращаюсь к Зиновьеву, или к самому [Н. К.] Гирсу, чтобы именно не подражать Каткову. Но требовать от меня, чтобы я говорил языком тех газет, которым все равно, сегодня говорить за правительство, а завтра за анархистов – если бы могли – это немыслимо. Ведь какими бы ушатами помоев меня не обливали, я все-таки остаюсь чем был и всегда буду, князем Мещерским, пишущим по убеждению, а не по заказу.
– Совершенно верно; но все-таки я бы на вашем месте писал более объективно и старался гусей не дразнить.
– Вот это так, – говорю я, – я и буду стараться гусей не дразнить, но откровенно скажу вам, вряд ли они этим удовольствуются. Им не язык «Гражданина» ненавистен; им ненавистен факт существования «Гражданина», органа, которого не купишь и не испугаешь, орган[а], который за ними не ухаживает и говорит правду не против правительства, а за правительство!
В этом, увы, все! Наши сановники а ла Островский, Победоносцев и Кия предпочитают газеты, говорящие против правительства, потому что тогда, обличая их, они могут дешевым образом свидетельствовать о своей преданности. А когда газета говорит за правительство, по убеждению, они ее не терпят, потому что иногда случается, что эта газета доказывает, что они не честно преданы правительству, обманывают правительство и так далее. Тут уже приходится защищаться от обвинений, а не хвастаться преданностью, и понятно, что лучшим оружием тогда является или такую газету преследовать, или такого редактора топить всеми средствами.
Во всяком случае, вынес из свидания с Плеве тяжелое нравственное впечатление. Сам по себе он мне всегда претит, так и пахнет он него кривдою и нечистотою Молчалина[830] и иезуитизма в одно и то же время, а с другой стороны пришлось припомнить [А. А.] Татищева, бывшего пенз[енского] губ[ернатора], а теперь сенатора, который после вечера, вчера проведенного en famille[831] у графини [С. Д.] Толстой, вынес убеждение, разговаривая с Толстым, что его уже нет, он повторяет со слов последнего говорившего ему о деле, а так как всего более говорит ему Плеве, то всего чаще он говорит словами или, вернее, мыслями Плеве.
Будь другой на месте Толстого, неужели он убоялся бы Островского или другого? Не хочу, мол, подвергать наказанию газету, которая стоит твердо и честно за те принципы, которым вы и я служим одинаково… Ну, не нравится вам его поединок с вами, сами как-нибудь с ним переговорите, но мне налагать кару на газету, когда я знаю, что она единственная теперь в России неподкупная и преданная, – только потому, что вам не нравятся ее статьи по лесному вопросу – неприлично. Это значит ронять достоинство правительства и бить себя самого.
И ответь так министр внутрен[них] дел Островскому вместо того, чтобы издавать кару на «Гражданин», когда все знают, что газета эта вот 14 лет ратует за Самодержавие и за Церковь, это по-моему – именно подрывает правительство. Это придает вид, что правительство само не знает, кто за него, кто против него, бьет всех, сегодня одного, завтра другого, и все смущаются. А смущения и уныния без того в России довольно. В провинции когда прочтут о каре, постигшей «Гражданин», без объявления, почему, непременно все преданные люди будут глубоко смущены, ибо там верят твердо, что «Гражданин» есть орган, стоящий за правительство в самом искреннем, высоком и священном значении этого слова. А, право, теперь смущать не надо. Уже без того со всех сторон пишут и говорят об упадке духа и о бездействии правительственного авторитета. И когда в минуты ожидания мер от Минист[ерст]ва внутр[енних] дел для восстановления порядка и для поднятия духа, является вдруг мера того же министра внутренних дел против единственной газеты, которая без дипломатики и без иезуитизма, а прямо и твердо отстаивает и меры этого министра, и обаяние Власти, тогда, легко понять, что всякий должен спросить себя и других: да что же это значит, министр внутренних дел бьет по своему органу и терпит всякие косвенные подкопы под себя и порядок в других изданиях?
[Август[832] ]
Радуюсь за Государя. Посреди множества тяжелых забот и невеселых минут, переживаемых Им изо дня в день, Его сердцу не могло не быть большою отрадою – узнать, какое глубокое и прекрасное впечатление произвел Его Первенец на окружавший его в лагерной обстановке мир. Это был первый шаг Его собственной жизни, первая поверка полученного им воспитания. Этот первый шаг делался на почве, правда, не трудной, на почве лучшего по составу гвардейского полка, но дело в том, что и на этой легкой почве были обычные жизненные трудности и своя доля искушений, посреди которых приходилось молодому Цесаревичу проявлять свою собственную личность, и подчас и инициативу.
Самые подробные впечатления я вынес из долгого рассказа одного из близких мне полковников Преображенского полка, необыкновенно честной личности и детища всех старых преданий. Он говорил мне, что следил все время за проявлениями личности Цесаревича между ними, и с особенным чувством радости и с особенным удовлетворением, так сказать, всех ожиданий, он должен сказать, что Великий Князь не только царапины не оставил где-нибудь или в ком-нибудь, но был все время для них прекрасным изображением чистоты, высокой честности, правдивой простоты и простой правды и удивительного такта.
– Он не то что обворожил всех, – говорил мне мой собеседник, – это будет пошлое слово и слишком куртизанское, а вот что я про него скажу: он ответил нам в течение одного месяца на вопрос: кто он? И ответил так, что все мы, от мала до велика, были удовлетворены этим ответом. Мы увидели, что он и свое положение понимает, и долг свой отлично знает, и обязанности свои ясно сознает, и кое-что из науки о людях узнал, чему мы и приписывали это изумившее нас уменье обращаться с людьми разных возрастов и положений.
И знаете что, – продолжал мой собеседник, – тут вот что интересно. Мы имели полную возможность потому собственно ценить Великого Князя, что теперь у нас на глазах в гвардейском корпусе несколько примеров товарищеских отношений Великих Князей к офицерам; и должен тебе сказать, что отношения эти не особенно гладки и заставляют желать лучшего. Вот тебе, чтобы не далеко идти, характерный, хотя крошечный эпизод для сравнения и для пояснения, как важен и ценен такт. Сидим мы в компании. Приходит баба и предлагает купить малину. Цесаревич хочет ее купить. Я беру малину, прошу у Вел[икого] Князя позволения ее сперва вымыть, и затем, так как у него не было мелочи, то кто-то отдает бабе то, что она просила, безделицу, в долг за Вел[иким] Князем. Тут же сидел один из Михайловичей[833]. Что же ты думаешь? Приходит другая баба и тоже предлагает малину. Он ее покупает и затем на вопрос одного из офицеров: «Может быть, вам нужна мелочь, Ваше Вы[сочес]тво», он отвечает: «Нет», и с какою-то помпою вынимает три рубля и дает бабе, точно хотел всех нас поразить этою щедростью. Мы все переглянулись и нашли такой поступок бестактным. Но он сам этого не понял.
А вот Цесаревич, например, хотя Он прямо так сказать с ученической скамьи к нам перешел в полк почти на самостоятельную жизнь, все время на нас производил такое впечатление, что будто он долго с нами жил, всегда жил в условиях офицерской жизни, и такт свой будто взял из знания среды, тогда как другие молодые Великие Князья, хотя они сравнительно гораздо более жили с простыми людьми и в общей обстановке, но все-таки нет, нет, и прорвется у них какая-нибудь ошеломляющая бестактность.
При этом в разговоре мой собеседник высказал мысль, не лишенную, мне кажется, правдивого значения.
– А теперь, знаешь что, – сказал он мне, – будь я на месте Его воспитателя[834], я бы выпросил у Государя позволение на будущее лето один месяц дать Цесаревичу провести в лагерной точно такой же обстановке в каком-нибудь хорошем полку глубокой армии, и я уверен, что это сравнение двух бытов произвело бы непременно на Великого Князя очень интересные впечатления. Это была бы великолепная школа для ознакомления не только с общим военным бытом, но и со всеми сторонами провинциальной жизни, так как каждый офицер в армейском полку имеет свои связи с провинциальным бытом, и о них говорил бы.
[20 октября][835]
Вы поймете, с каким чувством я пишу Вам эти строки, и поверите этому чувству! У меня на душе вот какое чувство: 17 октября Вы пережили необъятно великую историческую минуту, Бог как бы низошел на тот клочок земли, где Вы были. Он коснулся Вас, Ангелы Его были Ваши дети, окружавшие Вас обоих, и если всю душу истерзывает мысль, что Вы должны были испытать в первый миг несчастия, то вслед за тем вливается в душу радость и свет, ибо Вы пережили этот мучительный миг очевидно для того, чтобы восприять во всей славе и силе чудо Божьего явления достойно! И это чудо совершает теперь свое действие на каждой пяди Земли Русской.
Кабы Вы могли услыхать, как в этом вчера равнодушном и тщедушном Петербурге теперь говорят о Вас люди, и говорят потому, что чувствуют, о, как бы Ваши сердца были бы отрадно впечатлены, ибо по этим речам и по этим чувствам Вы бы могли судить о том, что в России теперь говорят и как чувствуют!
Крушение поезда сокрушило много врагов; крушение поезда одним ударом укрепило прочнее, чем когда-либо Ваш престол в духовном смысле; крушение поезда всех тронуло, пробудило и вознесло к Вам: все стены дворца и придворной обстановки на поле упали, и Вас под открытым небом Бог показал России как Вы есть, каким Он Вас благословляет быть, и тут на месте крови и печали и скорбей из земли забил ключ новой сильнейшей к Вам любви всех и каждого.
Радуйтесь, радуйтесь, Государь, этому, как будто со всех сторон Вам кричат тронутые чудом русские сердца!
О, Государь, неужели с этой минуты Вы не уверуете больше в Себя, в Свою духовную мощь! Это не будет ни гордость, ни самовозвеличение, это будет воздание Богу – божеского; Он слишком явил Вам Свою помощь чудесно, чтобы Вы могли людям больше верить, чем Себе: в Вас Бог, Вас Он близко озаряет трепетом огненно верующих и пораженных сердец. Мы это чувствуем, понимаем, видим, и вера в Бога, спасшая Вас со славою неземною, столь же чудесно нудит Вас в Себя, в Свое Сердце, в Свою Душу, как в жилище Божьей благодати, Божьего разума сильнее уверовать.
О, Государь возлюбленный, да будет благословенно Ваше возвращение, как было благословенно Ваше путешествие, целую Вашу Монаршую и человеческую руку с благоговением и радостью, и руку Вашего доброго гения, Супруги Вашей, да пройдет в Ее чудном сердце ужас воспоминаний, да исчезнут они в Ваших сердцах в море любви к Вам и в мирных радостях, да будут дети Ваши всегда такими, какими их явил Бог, Вашими Ангелами Хранителями; и солнце, светившее и гревшее Вас на Кавказе, да будет солнцем Вашим и России долго и всегда!
Ваш старый слуга
Очень хотелось, чтобы Вы прочитали излившиеся от души строки приветствия Вашему возвращению, и оттого смею приложить эти строки нынешнего №[836].
Четверг 20 октября
Четверг 27 октября
Чудо, совершившееся 17 октября над Государем, расширяется в своем духовно-государственном значении, если вдуматься в то, что теперь во всех углах России происходит относительно проснувшейся у всех на душе мысли, что настал час, когда все мерзости и беззакония, творившиеся годы в этом злокачественном ведомстве путей сообщений, откроются, и Царю ясна будет эта долго от него скрывавшаяся печальная и грустная правда.
Да, это целое историческое откровение. Все заговорили, все просят и жаждут правосудия, казни и новой эры в этом государстве лжи, образовавшемся в русском государстве. Посьет жалок бесспорно; но ведь нет меры его ответственности перед Россиею и Царем. Ведь то, что летом происходило на разных концах России, где не хватало вагонов для перевозки хлеба, пока он говорил нелепые речи на банкете в Самаре о стальном поясе от Варшавы до Сибири – скрыто было от Государя. Ведь это были тысячи голосов проклятия, плача, озлобления, которые придавали в разных пунктах беспорядкам и настроению зловещий характер революции, и именно злой революции. Все это косвенно падало на Государя. Это было серьезное и опасное явление!
Безусловно честный в денежном отношении, был ли Посьет честен в государственном смысле, вот вопрос роковой, на который: да, никто не решится сказать, ибо он так отождествился со всеми мошенниками своего ведомства, что только им верил, только за них стоял горою, только им давал волю! Но этого мало: он делал нечто гораздо худшее; он беспощадно, зло, даже бешено гнал и преследовал всякого за правду и за самостоятельное и честное служение государству. Эпизод нынешнего лета с вагонами Рыбинской дороги невероятный, но исторически верный. Посьет объявляет, что вагонов нет для облегчения хлебного провоза. Директор Рыб[инско]-Болог[овской] ж[елезной] дороги дает знать, что у него 1000 вагонов свободных, и предлагает их. Его требуют в министерство и публично шельмуют и угрожают казнью, то есть перспективою быть прогнанным за то, что он смел показать 1000 вагонов свободных, когда министерство объявило, что нет свободных вагонов! Но и этот характерный эпизод бледнеет сравнительно с тем, что за эти два года сделал Посьет относительно печати. Никто никогда не унизил ее и не оскорбил правды так цинично, как он, и в этом печальное и роковое объяснение того ряда обманов, которые вдруг после 17 октября открылись и открываются по всем углам этого злополучного ведомства. Посьет принял за правило не допускать в печати никаких по своему ведомству обвинений и обличений. Как только что-нибудь появлялось в печати, он писал [Д. А.] Толстому просьбу воспретить газетам об этом предмете говорить, и мы завалены были циркулярами цензуры, на основании которых не только запрещалось говорить о том или другом вопросе ведомства Посьета, но объявлялась угроза – прекращения на срок газеты в случае нарушения запрещения. Мало того, Главное общество росс[ийских] жел[езных] дорог было взято под протекцию Посьета и об нем было запрещено по его требованию писать иначе, как одобрительно. И были издания, пострадавшие за это нарушение! Понятно, что вследствие этого за 2 последние года ни один звук правды о безобразиях в ведомстве путей сообщений не мог проникнуть в печать. Все редакции избегали этих вопросов, как чумы, и инженеры смеялись над общественным мнением и совестью самым бесстыдным образом. Но всего мрачнее, с характером бироновской эпохи, Посьет проявил себя относительно человека, который своею услугою государству и правде заслуживал награды и спасибо, но вместо этого приговорен был к политической смерти, клеймен позором и доведен до нищеты, так что недавно я должен был спасти его от заклада последнего перстня для куска хлеба в своей семье.
Не знаю, знал ли Государь об этом человеке, имя его [К. О.] Скроховский; а если знал, то вероятно и Государю он был представлен извергом. Он представил на Высочайшее имя записку с указанием, что Главное общество должно заплатить казне утаенных 25 миллионов. Государь передал эту записку на рассмотрение, и после нескольких комиссий оказалось, что весь расчет Скроховского был верен, и кончилось это тем, что казна дала себя все-таки обидеть на 10 миллионов и уступила их Гл[авному] обществу из страха суда и судебных хлопот, а 15 миллионов получила.
Что же за это получил Скроховский? Ужасно вспомнить и выговорить: позор, нищету и самое беспощадное преследование от Посьета[838] и – увы, – должен сознаться, от Вышнеградского (это было первое сильное разочарование в нем как в человеке). Посьет, подвинутый [В. В.] Саловым, который, в свою очередь, несомненно есть агент Главного общества, после мелких преследований Скроховского принял страшную меру против него. Он поехал к Толстому и потребовал от него, чтобы все редакции газет были обязаны подпискою ничего не печатать и не принимать от Скроховского под угрозою прекращения издания; хотели было его выслать из Петербурга, но еще слава Богу, узнали, что [И. И.] Воронцов[-Дашков] Скроховского немного поддерживает, и не решились. Салов приезжает ко мне и показывает мне какие-то бумаги, из которых будто бы усматривается, что Скроховский требовал шантажом деньги от Гл[авного] общества… [В. К.] Плеве тоже вооружается против Скроховского и верит на слово Салову. [Д. М.] Сольский хочет ему дать место, но Вышнеградский ретиво набрасывается на Скроховского за то, что в «Гражданине» появляются статьи Скроховского против пограничной стражи, и в конце концов, травимый всеми, Скроховский буквально лишается куска хлеба! Я публично покаялся в своем малодушии; я тоже было поверил клевете и инсинуациям, не сообразив двух вещей, что если бы Скроховский был шантажист, то ему, с его умом, ровно ничего не стоило бы, прежде чем писать Государю, предложить Гл[авному] обществу ловко и скрыто сделку. Гл[авное] общество, несомненно, и миллиончик дало бы, чтобы не платить 25 миллионов, а вместо этого Скроховский дошел до нищеты. А во-вторых, не сообразил и того, что если бы в самом деле были серьезные обвинения против Скроховского, то давно бы все его враги успели его предать законной и открытой ответственности, а вместо этого они его травят и позорят из-за угла и исподтишка[839].
Сольский, как честнее их всех, усовестился и сказал, что он дает Скроховскому место, но я и теперь боюсь мстительности Вышнеградского и агентов Салова и Гл[авного] общества. По-моему, это шекспировская история… Целое дело из бумаг создается, чтобы погубить человека за то, что он открыл Государю правду и государству дал 25 миллионов, у него похищенных, и это дело оказывается составленным из дутых обвинений и громких слов, без одного факта.
Как обманутый сам, я имею право об этом говорить с ужасом и содроганием.
Я сказал: с ужасом. Да, другого слова не подберешь, если, разобравши все эти грязные нити лжи, интриги, клеветы и прийдя к их узлу, увидишь, что вся эта работа имела исходною причиною – денежные подкупы разных субалтерн[840] инженеров до Салова включительно, а доверенным их лицом и уполномоченным от них является у Престола Помазанника Божия министр, отдавшийся своим клевретам и в свою очередь озабоченный одним: как бы все представить в ложном свете Царю и как бы скрыть во всем грязные концы лжи и обмана. Вот что наполняет ужасом, потому что вслед за этим рядом обманов является во всей своей отвратительной наготе катастрофа 17 октября! Царем и всею Его Семьею пожертвовали для того, чтобы скрыть и замазать безобразия дороги, ее разрушение, и тот факт, что жидовскими подкупами министерских клеврет – министр был удален от прямого своего долга осмотреть дорогу и потребовать ее ремонта прежде, чем пустить Царский поезд, или же не пускать его вовсе (!) – тот факт случился!!!
Да, именно мозг стынет от ужаса! На Скроховских, открывающих кражи казенных денег, обличающих беззакония, ложь и мошенничества, напускают как на хищных зверей травлю, их готовы казнить, их приговаривают к политической смерти; а с хищниками, как с Поляковыми, Балабановыми, Ганом (директор дороги), заключают денежные и дружеские союзы – коих цена есть жизнь целой Царской семьи!
Какое же слово может выразить то, что я чувствую, то, что все чувствуют; ведь тут даже нет натяжки, нет преувеличения. Азовская дорога в таком состоянии, что она не только царский, но пассажирский поезд с ручательством возить не может. Взятками инженерам она отделывается от ревизий, инспекций и ремонта, и затем, чтобы доказать свою состоятельность – она добивается, чтобы ее включили в Царский маршрут, а с другой стороны деньгами отделывается от нужного перед Царск[им] проездом осмотра. И таким образом, зная, что дорога опасна, инженеры делают из судьбы Царя и Его Семьи гешефт для дороги, и обман Царя доводят до решимости подвергнуть Его и Семью Его смертной опасности – в виде риска.
И орудием этого проклятого дела поручают быть ничего не догадывающемуся Посьету!!! Боже, что за ужас! Можно ли удивляться после этого, что ежедневно из разных мест и от разных лиц поступают ко мне письма и заявления, требующие суда государственного как над политическими преступниками – над министром путей сообщения, над Саловым и над [С. С.] Поляковым и дирекциею дороги?
И действительно. Дальше нельзя идти в пренебрежении к долгу хранить Царя и служить Престолу.
А чтобы это не показалось фразою, вот две статьи о состоянии Азовской дороги, обе характерные. Одна в виде присланного мне письма; а другая из «Виленского вестника».
«Пока гром не грянет – русский человек не перекрестится», – так гласит народная наша пословица, и в ней много реальной правды. Слишком ужасен и грозен был гром, грянувший 17 октября на станции Борки, Курско-Харьково-Азовской линии, чуть не стоивший дорогой для всей России жизни возлюбленного Монарха и Его Августейшей Семьи, гром, прекративший, однако же, 37 жизней, и мы принялись усердно креститься. Вся Россия в один и тот же день благоговейно склоняла колени и горячо воссылала молитвы Всевышнему за чудесное спасение Царя, Царицы и Царственных Детей. Горячи и беспредельны были эти молитвы многомиллионного русского народа, ибо когда читаешь все эти подробности крушения Царского поезда, все описания превращенного в щепки вагона, в котором находились Государь Император и Его Августейшая Семья, то как бы человек ни был маловерующим в предопределение Промысла Божьего, он, этот маловерующий, должен будет признать, что никто иной, как только Господь мог совершить такое чудо над святым Помазанником Его, чтобы сохранить ту дорогую для 90-миллионного народа жизнь, которая ведет Россию по твердому пути развития и национальной славы.
Но вот мы опомнились от ошеломившего нас страшного удара и испуга, и первый вопрос, который является у каждого – это вопрос: кто виновен во всем случившемся. В телеграмме министра двора говорится, что «о злоумышлении и речи быть не может»; в правительственном сообщении сказано, что Сам Государь Император вручил жандармскому офицеру кусок гнилой шпалы, как вещественное доказательство безобразного состояния этой линии. Следствие бесспорно раскроет виновных, и они будут осуждены. Но не искать ли причин поглубже, чем недосмотр и упущения нынешней администрации? Не обратиться ли нам к истории сооружения этой линии и к личности строителя ее? Положим, историческими справками о сооружении этой пресловутой линии дела не поправишь, что сделано, то сделано, «пролитой воды не воротишь» – гласит другая народная поговорка. Но история для того и существует, чтобы назидать человечество и предохранять его от повторения ошибок и промахов.
Строителем этой дороги был, как мы уже знаем, г. Поляков, ныне уже умерший. «Мертвые, положим, срама не имут», но, повторяем, мы решились привести некоторые исторические справки о постройке этой линии не с целью посрамления памяти покойного еврейского креза, а лишь в назидание современным деятелям и дельцам нашего железнодорожного хозяйства; справки эти мы находим в изданной три года тому назад в Киеве, с разрешения предварительной цензуры, книге инженера Н. П. Добролюбова, человека, по всем видимостям, сведущего в железнодорожном деле. Книгу свою г. Добролюбов озаглавил: «Русские железные дороги и их слабые стороны»[842]; вышла она, как сказано выше, три года тому назад, стало быть, при жизни покойного железнодорожника Полякова и, несмотря на то, что она пущена была в продажу и разослана всем редакциям газет, книга была, как говорится, «замолчана», а между тем в ней собрана масса драгоценного материала; книга эта у нас под рукою, и мы берем из нее лишь те страницы, которые относятся к сооружению г. Поляковым ныне приобревшей печальную славу Курско-Харьково-Азовской линии; в данный момент страницы эти будут как нельзя более кстати.
Приводя ряд причин, имевших место при прежней системе ведения железнодорожного хозяйства, причин, которые способствовали злоупотреблениям при сооружении тех железных дорог, которые получили правительственную субсидию в виде приплаты по гарантиям, г. Добролюбов вот как характеризует сооружение Курско-Харьково-Азовской линии и ее строителя:
«Комиссия, составленная в начале под председательством тайн[ого] сов[етника] Журавского, а затем барона Шернваля (того самого, который пострадал первым при крушении 17 октября, какая несправедливость злой судьбы!), констатировала целый ряд злоупотреблений, допущенных при постройке Курско-Харьково-Азовской железной дороги. Сводя к кратким заключениям расследования комиссии, оказывается, что Поляков, получив разрешение строить дорогу от Курска до Харькова, одновременно испросил разрешение приступить к постройке линии от Харькова до Ростова, на свой страх и риск. Обстановка и условия, при которых начаты работы на обеих упомянутых линиях, вынудили строителя чрезмерно спешить с работами и предрешили вопрос о личности будущего концессионера всей Курско-Харьково-Азовской дороги.
При этом договоры, не давая права учредителю приступать к работам до утверждения проектов министром путей сообщения и в то же время не определяя сроков учредителю для представления их, а министерству для утверждения представленного, не достигли своей цели. Причины эти имели последствием, что большая часть работ производилась строителем без предварительного утверждения проектов. Те из проектов, которые представлялись на утверждение Министерства путей сообщения, доставлялись непосредственно в Департамент железных дорог, помимо инспекции, отчего инспекция не имела возможности своевременно следить за тем, соответствовали ли представлявшиеся проекты местным условиям и требованиям.
Договоры и устав, предоставив строителю, независимо от хода и качества работ, весь акционерный капитал в 12 000 000 руб. в полное его распоряжение, тем самым недостаточно обеспечивали осуществление предприятия и своевременное исправление недоделок, замеченных комиссией уже по открытии дороги.
Заявления о готовности дороги к открытию, вследствие какового заявления министерство обязано было безотлагательно выслать особые комиссии для освидетельствования построенного, поступали в департамент прямо от г. Полякова, без удостоверения местной инспекции о готовности сооружений. Делалось это ввиду того, что в интересах строителя было как можно скорее открыть дорогу, так как открытием этим обусловливалась выдача казною гарантии и погашения по акционерному капиталу ежегодно 659 359 р.»
Понятно теперь, что при такой поспешности некогда было думать о прочности сооружения и о добросовестном выполнении договоров с казною. Но идем далее: «Получая заявления строителя о готовности дороги к открытию, говорится в протоколах комиссии, цитируемых дословно г. Добролюбовым, – министерство обязано было выслать комиссию для освидетельствования дороги. Но самое освидетельствование всей линии совершено было в 5 дней, что возбуждает сомнение, чтобы такое важное поручение могло быть так скоро выполнено, тем более, что при самом освидетельствовании комиссия нашла много неоконченного и недоделанного. Для исполнения многих недоделок, оказавшихся на дороге ко времени открытия ее, были назначены точные для каждой из них сроки, соображаясь с которыми самые поздние из недоделок должны были быть окончены к октябрю 1870 года, т. е. к назначенному сроку окончания работ на 2-м участке, на самом же деле исполнение недоделок продолжалось в течение 7 лет и все-таки многое осталось невыполненным.
Открытие правильного пассажирского и товарного движения по дороге разрешено не министром путей сообщения, а самими свидетельствовавшими комиссиями, причем 1-й участок от Курска до Харькова открыт комиссиею даже без уполномочия ее к тому со стороны министра. Между тем открытие движения при тех недоделках и недостатках, которые существовали во время свидетельствования линии комиссиями, представляет во многом отступления от тех указаний, которые были преподаны на этот предмет в договорах на Курско-Харьково-Азовскую железную дорогу и в уставе общества этой дороги. Так, при приеме 2-го участка приемщики совершенно неправильно причислили к наличности поставленного на этот участок подвижного состава то число его, которое было доставлено на 1-й участок».
Г. Добролюбов рассказывает поразительные факты, как одни и те же вагоны целыми десятками сдавались правлением поляковской дороги на разных линиях, для чего они ночью, пока комиссия спала, перевозились с сегодня освидетельствованной линии на линию, предназначенную к освидетельствованию завтра. Далее в протоколах комиссии бар. Шернваля значится, что в числе 1620 вагонов, подлежавших, согласно расценочной ведомости, к поставке для 2-го участка дороги, г. Поляковым были сданы 300 угольных вагонов, которые были построены в мастерских дороги в ущерб своевременному ремонту остального подвижного состава. Тип, принятый для них, не был утвержден и, по своей удешевленной конструкции, уменьшил ценность обязательного к поставке подвижного состава. Кроме того, ни в отчетах общества, ни в делах Министерства путей сообщения не найдено подтверждения тому, что постройка этих вагонов была оплачена из строительного капитала.
Помимо вышеуказанных злоупотреблений, совершавшихся при постройке Курско-Харьково-Азовской железной дороги, комиссия, под председательством барона Шернваля, нашла следующие злоупотребления и беспорядки, практиковавшиеся при эксплуатации дороги.
В числе обязательного к поставке подвижного состава 74 товарных крытых вагонов были доставлены только в 1873 г., в сильно изношенном виде и построенными в главных частях не по образцу, утвержденному Министерством путей сообщения. Вагоны эти были отданы в наем не гарантированной Воронежско-Ростовской дороге того же Полякова за невозможно малую плату.
Все причитающиеся обществу суммы, как в счет дополнительного облигационного капитала и в счет правительственной гарантии, так и по займам в банках и у частных лиц, поступали в одну из контор Полякова, которые брали за это куртаж и комиссионные, в размере даже 9 %, и вносили деньги в кредитные учреждения, в свою очередь получавшие за исполнения поручений.
И несмотря на то, что, имея постоянно чистый доход, дорога не могла нуждаться в крупных позаимствованиях, ее заставляли выплачивать по ним огромные проценты и комиссии; эти комиссии составляли более 168 000 рублей. Но что лучше всего: при возврате другими дорогами уплаченных за них Орловско-Грязскою дорогою сумм, не были ими возвращаемы процентные и комиссионные суммы, насчитанные на эту дорогу конторами Полякова.
Переданные в конторы Полякова суммы из казначейства, вместо немедленной передачи их по назначению, задерживались конторами иногда на значительные промежутки времени и затем, для разграниченных платежей, переводились произвольными суммами в разное время и не по тому курсу, по которому они были засчитаны при выдаче их казною. При этом убытки относились к расходам эксплуатации дороги, а барыши оставались в конторах Полякова.
Содержание дороги, помимо плохой постройки ее, найдено комиссиею в крайнем беспорядке.
Балластный слой по всей линии весьма тонок, местами его вовсе нет. Нижний балласт большею частью дурного качества, верхнего же балласта из щебня нет совсем: его «забыл» рассыпать г. Поляков при постройке. Шпалы лежат вообще неправильно, косо и на различных между собою расстояниях, затесываются они неправильно, вследствие чего головки рельсов наклоняются местами наружу. Заметно много гнилых шпал. Большая часть рельсов, особенно в пределах станций, в дурном состоянии, в таком же виде и скрепления рельсов между собою и со шпалами; не хватает болтов, подкладок, они уложены не на месте, костыли большею частию не добиты и слабо держат рельсы; иногда костылей вовсе нет. Положительно нет ни одной версты, на которой не имелось бы какого-либо из приведенных недостатков, не выключая и верст, вновь уложенных стальными рельсами.
В мостовых сооружениях дороги можно встретить существенные неисправности, требующие неотложного капитального исправления: быки подмываются, фермы провисли и проржавели, в трубах продольные трещины, насыпи размыты, деревянные мосты и деревянные трубы гнилы, в железных не имеется заклепок или они заменены непригодными к делу болтами.
В более удовлетворительном состоянии находятся станционные постройки, но только не все, а специально пассажирские.
Товарные крытые платформы в таком виде: крыши давно не крашены, провисли, дырявы, местами снесены бурею, полы дурны, фундаменты обвалились. Важнейшие паровозные здания и мастерские находятся в жалком состоянии, иные заброшены совсем; водоемные здания все требуют, более или менее, ремонта; водокачки на всех станциях содержатся дурно и требуют исправления; казармы и будки все требуют исправлений; живущие в них жалуются на холод зимою; на переездах доски дурно прибиты; верстовых столбов нет, – их заменяют гнилые шпалы.
Для характеристики подвижного состава вот описание одного из поляковских паровозов, вышедшего за девять месяцев перед тем из капитального ремонта: поршневые кожухи и тормозные тяги лопнули, регулятор сломан и едва действует, золотники неверны, дышло разбито, крейскопфы, мотыли, эксентрики обтерлись и разбились до того, что весь механизм стучит; поршневые обода истерты, трубы и краны текут, один инжектор не действует, колеса не точены и пр. При всем том этот замечательный паровоз считается годным к работе и работает.
Очевидно, что при подобном установившемся взгляде могут находиться в движении, и действительно находятся, паровозы с недействующими манометрами, с громадными, до 60 пудов, накипями в котлах, с негодными прогарными трубами, с большим числом заплат в топках и пр. Неудивительно, что эти паровозы ведут к непроизводительному расходу топлива, к остановкам поездов в пути и ежеминутно угрожают опасностью для жизни. А между тем на дороге существует инспекция, и законы наши грозят уголовными взысканиями за употребление негодных механизмов.
Из рассмотренных комиссиею бесчисленных жалоб на дорогу оказалось, что они все не случайные, а истекают из установившегося в правлении Полякова и управлении Курско-Харьково-Азовской дороги административного строя, что жалобы углепромышленников основаны на ненормальности отношений к железной дороге Общества южно-русской каменно-угольной промышленности, принадлежащего тому же Полякову, и что даже на 9 году эксплуатации дороги сильным для нее конкурентом оказывается гужевой извоз.
«Общественное мнение», – замечает отчет комиссии бар. Шернваля, давно уже метко охарактеризовало эксплуатацию дороги следующим образом: дорогою владеет г. Поляков, правление железнодорожное есть его контора, управление – зависимый местный агент конторы. Из своих многочисленных железнодорожных служащих учредитель составляет номинальных акционеров, именем которых распоряжается и действует по своему усмотрению, согласно личных интересов.
Мы думаем, что ко всем этим официальным документам, рисующим довольно яркими красками историю сооружения Курско-Харьково-Азовской дороги и деятельность ее строителя, прибавлять нечего, комментарии тут совершенно излишни и каждому сделаются понятными причины страшной катастрофы 17 октября. Такая линия не могла вынести быстроты движения при двух паровозах, и то, что случилось, есть плоды грехов прошлого, искупать которые будут не те, которым следовало их искупить…
(Из «Вилен[ского] вестн[ика]»)
Получил я следующее интересное письмо[843]:
Я весьма сожалею, князь, что по своему официальному положению не могу открыто выступить с более пространной статьей по поводу крушения Царского поезда. Я не знаю, как ведется следствие, насколько оно правильно или неправильно поставлено, но знаю только, что дирекцией этой дороги у нас в провинции возмущены страшно, мы ближе ко всем железнодорожным безобразиям, мы лучше знаем все их мошенничества и все их мерзости. Пишущий эти строки не имеет никаких личностей против кого бы то ни было из заправил дороги, а потому и верьте каждому слову; все то, что я пишу, – я знаю от самих же служащих, со многими я хорошо знаком, наконец, не так давно, несколько месяцев жил на Курско-Харьково-Азовской железной дороге, изъездил ее из конца в конец бесчисленное число раз, знаю всю подноготную и ее пишу вам, князь, пишу и даю сырой материал, даю в ваши руки потому, что знаю, вы не откажете сказать правдивое слово. Крушение Царского поезда может составлять неожиданность для кого хотите, но не для самой дороги и не для нас многих, прекрасно знающих эту дорогу. В 1891 году эта дорога должна была перейти в правительство, при чем основанием ее перехода должна служить стоимость акций последних десяти лет. Тогда покойный Поляков выбрал исполнителем своего гешефта хорошего дельца и поручил ему вести дело аккуратно. И дело повелось аккуратно. Дорога была заброшена, ремонт почти совсем перестали делать, паровозы стары и дырявы, подвижного состава далеко не хватает, штат служащих сокращен до минимума, но зато рос дивиденд, росла стоимость акции, росла и надежда нагреть руки на счет правительства. Состояние дороги поразительное: разбился товарный поезд, так тому и быть; наместо разбитых вагонов новых делать никто не будет, из описи они не вычеркиваются, значит, подвижной состав не уменьшается; но если какой-нибудь из не особенно разбитых вагонов ремонтируется, так он становится в опись как вновь приобретенный, увеличивая таким образом количество подвижного состава. Паровозы отвратительны, лишь бы доползли до сдачи в правительство, а там наплевать. На весь товарный поезд, на целый пробег между станциями, дается такое возмутительно малое количество ставки, что ее не хватит даже в несколько вагонов, короче говоря, дорога готовилась деятельно к сдаче в правительство, и дирекция, вместе с бухгалтером правления, жидом Балабановым, были верными и прекрасными исполнителями преподанного завета аккуратности. За свою службу Балабанов получает 12 тысяч в год официальных, кроме неофициальных, а тому, что получает дирекция, и счету нет. А в результате вот что скажу: если при исправности дороги на крушение Царского поезда нет ни одного шанса, то при помощи стало их 90°. Обратите внимание на отчеты Азовской ж[елезной] дороги, посмотрите, он несколько сот тысяч показывает разницы за летний период в пользу этого года: откуда? Главные грузы ее – это хлеб и уголь. Но хлеб уже теперь в Таганрог едет очень мало сравнительно, это мне досконально известно, а уголь, благодаря кризису в этом году, почти совсем не шел. Откуда же эта громадная разница? Она лежит в том куске гнилой шпалы, которую Его Величество отдал жандармскому офицеру. Проезд Царского поезда должен был сильно ударить жидов по карману: надо ремонтировать дорогу – это убыток сейчас же; акции, пожалуй, понизятся – это убыток в будущем; а, между тем, неужели же лишаться русских миллионов, так легко плывущих в жидовские руки? Нет, пусть лучше Царский поезд идет на риск, как-нибудь и без ремонта проскочит! Кровь стынет в жилах, князь, когда все это приходит в голову.
Знаете ли вы, князь, что такое правительственные инспектора на железной дороге? Не знаете, наверное. Это люди, которые получают от казны 1 р., а от железных дорог – 5 р. Кучера, лакеи, горничные, словом вся прислуга, числится в штате какой-нибудь дороги и там получает жалованье: кучер числится запасным кондуктором, лакей еще чем-нибудь и т. д. Вопрос является сам собой: кому служат правительственные инспектора? Знаете ли, князь, что делают на железной дороге, когда случится крушение? Вы думаете, подают помощь раненым? Нет, князь. Оканчивают юридические вопросы с 3-м классом, а если можно, то и с другими.
Вы ранены, изуродованы, не хотите ли получить 100–300 р., не больше для 3-го класса и расписаться, что претензии не имеете, иначе и помощи не дадут; и бывают случаи, что это делается в присутствии жандармов. Результат понятен, крушение стоит в 10 раз меньше, чем должно бы стоить, и т. д.
Да, как бы грустно и позорно все это не было, но по неволе скажешь: «нет худа без добра» – отныне, по крайней мере, Царские поезда не будут пускать по линиям ненадежным; а если будут назначаемы по линиям той или другой, то отныне до проезда Царского поезда линия будет и ремонтироваться и осматриваться!
Воскресенье 30 октября
То и дело, что слышишь фразу: кто не веровал в Бога, и тот уверовать должен – перед чудом Божьим 17 октября!
Да, оно так и есть… Чудо Божие беспредельно – но в то же время оно неизмеримо по своим духовным последствиям.
Спасение Царя, Царицы и Детей Их, это главная радость, это сущность Божьего чуда! Но затем как продолжается таинственное действие этого чуда, вот что наполняет душу благоговейными размышлениями. Я никогда не запомню такого глубокого действия чувства на людей в всегда холодном Петербурге, как после 17 октября. Буквально все точно перебывали духом на месте крушения поезда, были там во время крушения, испытали ужас лишиться всей Царской Семьи разом, перестрадали ад, и затем из ада, измучившего их до глубины души, все вдруг перешли к свету: рай явился в спасении Тех Дорогих существ, которых жизнь повисла в глазах всех над пропастью…
Вот сущность продолжившегося чуда. Это настроение историческое не одних студентов переродило; весь чиновный люд перевернуло; всех, кто никогда не задумывался над Государем и отношениями Его к судьбам России, это чудо чудесно заставило думать и чувствовать целые часы над Государем… Я видел людей буквально неузнаваемых, одних испуганных этим явлением Бога так близко и так непосредственно, других испуганных мыслию – что было бы с нами и с Россиею, если этого чуда не было.
Государь, прибыв в Петербург, очевидно не мог себе составить понятие об этом чудесном явлении, совершившемся в Петербурге. Он несомненно думал, что это повторение не раз проявлявшегося на улицах Петербурга народного восторга после спасения Царя. Но именно этого повторения не было. Чувства и мысли, охватившие Петербург в эти дни, никогда не замечались, а потому не могли быть повторением. В этом я видел, и многие видели, осязательность второго чуда. С Царем сроднила всех масса ощущений; во-первых, пережитый вместе с присутствовавшими на катастрофе ад, потом радость, потом ряд картин, в которых Бог показал душу Царя всем, потом негодование на виновников катастрофы, потом все чувства Отца, Мужа, Детей – пережитые там и повторившиеся в сердцах сотен тысяч отцов, матерей, детей… потом, наконец, размышления всех снизу доверху, что катастрофа эта есть конец эпохе обмана, лжи, халатности и нерадения, мучивших Россию, скрывавшихся тщательно от Царя и доведших Царя и Россию до края гибели.
Все это в тысячах видов говорилось и передумывалось и перечувствывалось все эти дни в Петербурге, и вот почему нельзя не называть эти дни днями историческими.
Все поняли ясно и опасность, и чудо, и радость, и счастье, и страшную ответственность слуг Царя перед Богом, перед Царем и перед Россиею.
Негодование началось с [В. В.] Салова. Надо было видеть в день молебна в Исаакиевском соборе эту улыбавшуюся, жирную фигуру, с лентою на плече, развязно говорящим, точно речь шла о крушении поезда в Канаде – о том, что мало ли какие бывают случайности на железных дорогах, которых нельзя[844] предусмотреть! Ему в голову даже не приходило, что поехать за границу, когда вся Россия стонала от беспорядков по отправлению поездов с хлебными грузами, преступление. Ему в голову не приходило, что еще бóльшее преступление быть за границею, когда знаешь, что Царский поезд должен идти по самой скверной линии железных дорог в России.
Затем, когда разъяснились подробности, все с ужасом постигли и тяжелую ответственность Посьета. Все загорелись злобою и негодованием – каких я еще не видывал в Петербурге.
Оттого ежечасно, так сказать, ждали с пламенным нетерпением его увольнения. Все сходились только с этим вопросом: это была всенародная, историческая потребность. Но часы шли, дни проходили, и нет отставки Посьета! Тогда я понял, что минуты были действительно исторические; я испугался, и многие испугались, пущенного по городу инженерами слуха, что Посьет остается; испугались именно действия этого слуха. Я видел одного чиновника буквально чуть-чуть не сходившего с ума; бледный, дрожащий он говорил: неужели это возможно, что же тогда святого, ведь если Посьет останется, все чудесное настроение России помутится! И это настроение действительно начало мутиться; все стали падать духом. Я не верил в возможность этого слуха, но я испугался его действия. Я написал было Государю, но меня прервало во время писания письма известие, принесенное [Т. И.] Филипповым, что Посьет подает в отставку в пятницу. Я разорвал письмо. В пятницу волнение усиливается; нет известий; вчера в субботу ходят слухи по городу, что прошения Посьет не подавал; они исходят от министерства. Опять испуг! Испуг именно, и только того подавляющего и деморализующего действия, которое эти толки производят на сферы служащих.
В субботу вечером приходит ко мне Филиппов и сообщает за достоверное, что Посьет ездил в Гатчину с прошением об отставке в кармане, но не подал ее потому, что Государь был с ним любезен и не дал в разговоре повода подать самое прошение. Мало того, будто мадам Розалия, то есть мадам Посьет, сказала: «Ну, теперь мы еще поборемся!»
Я впал в уныние, тем более сильное, что обедал у [Н. И.] Шебеки два часа перед этим, ничего не слыхал противоречащего этой злой вести, и тоже их застал в унынии. А час спустя после ухода Филиппова я имел рассказ о том, как накануне, в пятницу вечером, в инженерном путейском клубе[845] группа этих негодяев торжествовала победу и пила за поражение своих супостат, и один из инженеров сказал, полунавеселе: «Ура, наша возьмет!»
В этом ужасном состоянии я помолился Богу, чтобы успокоиться, и затем написал Посьету письмо, почтительное и обращенное к его чувствам моряка и патриота, в котором сказал ему, что всякая минута, на которую он медлит в подаче отставки, вредит интересам Государя, ибо действует на то необыкновенное настроение и подъем духа, которые все эти дни так чудесно всю Россию сочетали с Государем и Государя с Россиею, и что вследствие этого первый долг преданности Царю должен ему внушить решимость бесповоротно уйти, чтобы собою не мешать общему настроению расти и крепнуть.
Послал по городской почте[846]. Утром в воскресенье посылаю Кутузова к одному тузу в инженерн[ом] ведомстве узнавать. Он возвращается, понуря голову. Там ему сказали, что Посьет остается и что вероятно все разрешится уходом Салова, и конец.
Еду как угорелый по городу: Грессер ничего не знает; [И. Н.] Дурново тоже; заезжаю к Делянову, он у жены[847] в гостиной; я туда. Гостей человек 10; сажусь, и что же, рядом со мною толстый Хрущов, а Делянов говорит мне, указывая на Хрущова, а вот, рассказывает, что Посьет подал в отставку, и отставка принята.
Я замер от радости: узнаю от Хрущова, что он вчера был в Гатчине, и там узнал это от [И. И.] Воронцова[-Дашкова] и [П. А.] Черевина, что не только отставка принята, но что даже послана к [С. А.] Танееву для зависящих распоряжений[848]!
В гостиной все дамы и все кавалеры, начиная с Делянова, сказали: «Это нужно было», это «удовлетворение народного правосудия»!
Это еще более поднимет Государя!
Поехал к Шебеке пытаться проверять. Официально он ничего не знает, а знает тоже по слухам. Товар[ищ] министра кн. [К. Д.] Гагарин ему сказал, что бывший в пятницу дежурным в Гатчине [С. И.] Палтов ему сказал, что слышал от Черевина такие слова: «Ну, кончено, Посьет подал наконец в отставку, отставка принята, но при этом ему было сказано, что пока, до окончания следствия и до назначения ему преемника, он должен оставаться». А поздно вечером мой Калугин приезжает от [В. С.] Кривенки и подтверждает, клянется, что все это верно и несомненно, так как Кривенко передал ему все слова Воронцова.
Боже, как я благодарно молился Богу! Слегло бремя с души, ничто теперь не будет холодить и туманить общего высокого и сердечного настроения всех и каждого к Государю! Господи, какая тяжесть спала с души, Господи, слава Тебе, так легко стало.
И как коротко, чутко и метко, если верить словам рассказа Кривенки, формулировал Государь Свое решение: «Это печальная необходимость», и ни слова больше. Сколько деликатности в этих словах!
1 ноября
Нет ни одного дома, и в доме ни одной квартиры, где бы теперь не задавался вопрос: а кто будет министром на место Посьета.
Вопрос этот стал так сказать всенародным по своей важности и по близости к сердцу каждого: каждому как будто до него дело.
В гостиных большого света и сановных к этому вопросу пристегивают всякие имена. В сферах близких к мадам [Е. Н.] Нелидовой, la grande tripoteuse par excellence[849] – разумеется называют [М. Н.] Анненкова. В сферах военных называют [Н. Н.] Обручева; в сферах сановных называют [А. К.] Имеретинского и [Н. О.] Розенбаха. Потом называют двух стариков военных инженеров – [К. Я.] Зверева и [Г. Е.] Паукера.
Последние двое, когда их спрашивают об этом, отвечают: мы слишком стары. Мадам Нелидова, та решила, что никто кроме Анненкова спасти дело не может, и, разумеется, знать не хочет того, что все знают, на сколько это имя уронено и означает шарлатанизм и уменье улизывать от денежных отчетов.
Насчет Обручева каждый честно преданный Государю скажет про себя и громко: день, когда этот человек какими-либо судьбами выйдет из ряда лиц, которых можно назначать на какой-либо влияющий на судьбы России пост – будет счастливый день для бедной России. Пока он может куда-нибудь попасть, есть всегда опасность для России; это мое и многих фанатичное убеждение. Это выдвинутая в блеск звезда темного царства, и молю Бога, чтобы не было скоро причины в этом убедиться, в случае войны. Это страшное имя!
По поводу назначения преемника Посьету генерал Паукер, один из умнейших и честнейших людей военно-инженерного ведомства, сказал в нескольких словах очень метко и умно, в чем заключаться должна личность и программа нового министра путей сообщений.
– Нужен молодой и энергичный инженер, потому что нужно многое сломать и всю Россию изъездить и ввести порядок вместо беспорядка.
Это глубокая истина! Я слышу, что некоторые говорят: совсем не нужно сведущего человека, нужно только энергичного, честного и умного!
Трудно с этим согласиться. [П. А.] Клейнмихеля в наш век не найдешь. А все назначения людей не сведущих в деле на пост министра путей сообщений оказывались именно потому неудачными, что попадали на людей совсем в деле несведущих, до Посьета включительно. Происходит весьма понятное явление, даже с самым энергичным и способным человеком. Новый министр вступает; он никого и ничего не знает. Значит, прежде всего он должен узнать что-нибудь, научиться: у кого? Очевидно, у инженера; значит, начинается с того, что новый министр учится у того инженера, которого он должен проучить. И как всегда бывает, чем плутоватее инженер, тем он даровитее и тем он ловче, и тем он лучше учит, и смотришь, через месяц инженеры уже завладели новым министром вполне. Посьет взял поповича [Ф. П.] Неронова в директоры Департ[амента] общих дел. Этот Неронов сын пензенского диакона, умен, ловок, вор каких мало, плут, негодяй первого сорта, а жена анархистка, и про него Посьет говорит [А. А.] Татищеву: «Вот золотой человек, я век с ним не расстанусь!»
Затем другая мысль. Введено в обычай, что для поста министра путей сообщений нужен генерал… Мне кажется, что для этого поста прежде всего нужен знающий, толковый, энергичный и честный инженер, а генералом он всегда успеет сделаться, если окажется дельным.
У меня в уме сидит такой человек, и если бы Государь мне дозволил, я бы вот что дерзнул Ему сказать.
– Выслушайте меня, Государь; когда я дерзал Вам говорить про Вышнеградского, я фанатично и безусловно был убежден и честью ручался в том, что он Вам окажет в области финансов большие услуги. В данном случае – невзирая на то, что я один в России Вам называю человека, и никто его Вам не указывает, я еще тверже, еще убежденнее ручаюсь в том, что лучшего кандидата нет!
Он безусловно имеет все данные для этого поста, но кроме того он человек с прошедшим по честности хрустальным как чистейший хрусталь.
Человек этот полковник военный инженер, профессор Никол[аевской] инженерн[ой] академии[850] [А. А.] Вендрих!
Повторяю, Государь: словами в такую торжественную минуту не шутят, говоря со Своим Государем. Я с благоговейным убеждением в правде моих слов говорю Вам! Возьмите его, пока он в цвете лет; Вы увидите скоро, как окажется блистателен Ваш выбор. Вот год, как я слежу за этим человеком и разузнаю об нем.
Его история такова: он прошел лично все ступени железнодорожной практики, начиная с начальника станции и кончая начальником эксплуатации. Он был у [С. С.] Полякова, между прочим, и сдал свою должность, сказав ему: «Вы мне недостаточно помогаете душить мошенников и вводить экономию, прощайте!» На Балтийской линии, изучив ее эксплуатацию, он вышел потому, что оказался, по мнению директоров, беспокойным человеком; а беспокойным он оказался потому, что ввел такую систему контроля, что никому красть нельзя было. «Вы слишком педантичны», – сказал ему Пален, царек этой дороги.
Действительно, его аккуратность и педантичность в ведении дела феноменальны; и если принять в соображение размеры, до которых дошла халатность и небрежность в этом ведомстве, то эта аккуратность и педантизм в требовании исполнительности – являются первым условием для нового хозяина в этом развалившемся хозяйстве.
Затем как знание дела, как практическое знакомство с делом, как знание науки этого дела, как знакомство со всеми видами железнодорожного дела, вряд ли в России найдется кто-либо даже близко к нему подходящий. И в заключение честный, даровитый, железно-стойкий и энергичный и знающий все мошенничества этого мира инженеров насквозь и вдоль и поперек.
Словом, смею сказать, Государь, Бог его создал и хранил для Вас, я в этом с фанатизмом убежден. Я уже писал Вам, Государь, о нем, в интриге по поводу его мысли учредить центральное военно-железнодорожное бюро[851]. Интриг было без конца, чтобы затормозить это нужнейшее дело, и его затормозили. В мае должна была по Высочайшему повелению состояться под председательством [В. В.] Салова приготовительная по устройству этого бюро комиссия. Теперь ноябрь, и комиссия ни разу не созывалась. Главными деятелями в интриге против мысли, принятой в Комиссии фельдмаршалов[852], принятой военным министром и признанной Вами – были разумеется Посьет, Салов и… Обручев. Как я писал Вам прежде, Обручев вопреки и тайно от [П. С.] Ванновского отчислил даже от Главного Штаба Вендриха. И я думаю, что при невозможности сказать что-либо против Вендриха в смысле инженера знающего и дельного, Обручев достиг того своим влиянием на военного министра, что если при нем скажут: «Да, но Вендрих беспокойный человек», он промолчит и не скажет слова в его защиту.
Да и зачем спрашивать других, когда Вы бы могли, Государь, получить впечатления непосредственно от человека Сами, призвав к Себе Вендриха и выслушав его. Я убежден, что после получасовой беседы Вы сами увидите, что это за выдающаяся по живости, по знанию, по дельности личность.
И кроме всех заслуг он имеет еще ту весьма важную, что он никаких связей с этим инженерным миром не имеет, что он совсем свежий и новый человек, но зато имеет все сведения об этом мире. И вдобавок консерватор.
И потом – в случае, если бы он Вам понравился, – назначение его управляющим министерством не связывает назначением министром; он назначается в виде опыта на год, на два, управляющим, и результаты все скажут.
Вот что я бы сказал Государю с убеждением – непоколебимым в правде моих слов.
Но скажут мне: это смелая, даже дерзкая мысль. Молодого полковника – никем не названного, мало кем даже известного – выставлять в кандидаты на министерский пост!
Да, это дерзкая мысль, но только дерзкие мысли рождают великие последствия. И не дерзкая только это мысль; это мысль вдохновенная великостью и торжественностью минуты; это мысль, которая может оказать глубокое, потрясающее нравственное значение. Она сказала бы: прочь старые предания инженерного мира; молодой, даровитый, но смиренный инженер возвышается Царем за то, что был честен, за то, что трудился, и это было бы историческим событием!
Впрочем, есть еще мысль, стоящая внимания. Почему нужно министерство путей сообщения? Отчего бы не упразднить его, разделив на два главные управления, самостоятельные – водяных сообщений и железных дорог. На первое место есть созданный кандидат – нижегор[одский Н. М.] Баранов. Вода и энергия – его стихия! А на второе – Вендрих. Когда нужно, они имели бы доклады, заседали бы в Госуд[арственном] сов[ете] и в Комит[ете] министров по своим делам и под собственною ответственностью вели бы дело!
Это практическая мысль. От разделения на два главных управления ведомства путей сообщений – сам собою уничтожился бы дух этого ведомства, и два энергичных начальника могли бы в короткое время создать новое поколение инженеров. Вся сволочь исчезла бы, растаяла. Баранов стал бы брать моряков, Вендрих только честных инженеров[853].
И это опять-таки было бы историческим подвигом мудрости Государя.
[3 ноября]
Смел бы полагать, что если бы моя статья о юбилее Короля Датского была прочитана Императрицею, Она получила приятные впечатления от тех чувств тысячей русских людей, которые в ней выражены, если не искусно, то искренно[854].
Сегодня 3 (15) ноября Его Величество король Датский Христиан IX празднует 25-летний юбилей своего царствования.
Как бы далеко ни были погребены в наш век те простые предания духовно-нравственного мира, которые приобщали к культу принципов и добродетелей правительства в их политике и народы в их взаимных отношениях, и как бы трудно ни было вследствие этого королю Датскому Христиану IX, после 70 лет жизни и 25 лет царствования, ожидать многое в оценку себе от века прозы насилий и поэзии лжи, – но все же, видно, сила честности велика еще на Земле, даже в Европе. 25 лет царствования высоко честного человека, – сумевшего – тотчас после бедственной для Дании годины 1862 года[855] – с замечательным тактом и глубоко патриотическим чувством не только повесть Данию, без ущерба ее достоинства, по тому же пути мирного и умеренного прогресса, но охранить ее своею нравственною личностью, силою своих принципов и своих преданий чести от угрожавшего ей по законам историческим нравственного падения, после поражения материального, – такие 25 лет были нелегким подвигом, и на празднование их юбилея имеет маститый король в семье монархов великое и светлое право.
Это импозантный и поучительный праздник для каждого из монархов, на который и они, и народы их шлют приветствия, проникнутые самым искренним почтением к светлому образу государя, не только 25 лет царствовавшего, но 25 лет дававшего собою на троне пример царствования.
Еще далеко до семейных связей нашего Державного Дома с датскою королевскою династиею – симпатии России к Дании, к этому небольшому, как маяк на европейском море светившему своими народными достоинствами полуострову, были несомненны.
Когда же наш нынешний Государь у смертного одра Своего покойного брата вместе с земною долею – принял от Бога указание, с кем разделить свою жизнь, – Дания, оставаясь России симпатичной, стала ей и родною. Взрывы народного поэтического чувства приветствовали Принцессу Дагмару, дочь Короля Христиана IX, в 1866 году.
Прибыв в Россию, Она принесла с Собою то прекрасное приданое, которым снабдил Ее Ее Родитель, Король – честный человек, – святое благоговение к семейному быту, как к основе счастья на земле, и вот двадцать два года благословляемых Богом семейной жизни Их Императорских Величеств являются и образцом для подражания десятков миллионов верноподданных, и видимою причиною благодати Господней, почивающей на Царских Супругах и на Детях Их…
А благодать Господня, почивающая на Царе и Семье его, хранит и народ Их…
При этой мысли само собою становится понятным то сердечное общение, которое в России влечет многих и многих мысленно на праздник Короля Датского Христиана IX. Этих русских сердечных чувств да будет перед ним истолкователем наш Царский Первенец…
В Царице, давшей себя 17 октября перевязать после всех раненых, в Царице, победившей свои страдания от раны, чтобы помогать другим, в Царице, сказавшей твердым голосом: «Я не уеду отсюда, пока последний раненый не будет уложен», – Россия, сквозь слезы гордости и умиления, приветствовала не только Супругу Русского Царя, но и Дочь Короля Датского Христиана IX.
Да здравствует Король-юбиляр!
3 ноября вечером
Странные люди, печальное недоразумение. Только что вернулся от И. Н. Дурново. Он сегодня, возвращаясь из Гатчины, ехал в вагоне с [Д. А.] Толстым, Победоносцевым и Деляновым. Все три на него накинулись:
– А ваш друг Мещерский опять чорт знает что написал.
– Что? Я не читал.
– Как что? Сегодня в Дневнике он всех инженеров назвал мошенниками, разве это можно, целое ведомство, помилуйте!
– Ну может быть, увлекся.
– И это в монархическом государстве, – говорит Толстой, – помилуйте, сегодня Министерство путей сообщения, завтра что-нибудь случится – мое министерство!
– И охота ему трогать этих инженеров, – говорит Делянов, – ну выругал раз, и довольно; ведь может хорошо писать; как это он намедни про австрийскую печать писал[856], прекрасно, а сегодня чорт знает что!
Итак, вот Петербург: сегодня путейцы, а завтра меня, говорит министр, забывая, что сегодня пишешь под влиянием события, раз в 1000 лет бывающего, и которое, надеюсь, завтра не повторится.
И как пишется история! Я написал письмо Посьету – говорят, что оно ругательное!
Я в Дневнике пишу, что цифры, обнародованные «Журналом М[инистерст]ва путей сообщения» по Азовской дороге неверны, ибо составлены для того, чтобы скрыть мошенничества – а Толстой и другие говорят, что я целое ведомство инженеров называю мошенниками!
– И знаете, что в особенности гадко, – сказал я Дурново, – что Толстой в душе сочувствует мне и этим же словам, а негодует только для того, чтобы в унисон петь с Победоносцевым, который теперь ему нужен для Госуд[арственного] совета по его проектам!
– И наверное, – ответил Дурново, – но все-таки дайте мне слово, что вы больше инженеров ругать не будете.
Я дал слово!
Мы заговорили с Дурново о проекте участковых начальников и об уступке гр. Толстого.
– Проект погиб, – сказал, грустно махнув рукою, Дурново, – я говорил Толстому, но он как будто важности этой уступки не сознает.
– Но нельзя ли спасти дело?
– Как?
– Восстановить вновь то, что было в первоначальном проекте.
– Трудно; как вы это сделаете?
Я сообщил И. Н. Дурново мою мысль и о том, что, по-моему, Государь мог бы специально для этого собрать главных членов Госуд[арственного] совета у Себя и сказать о Своем желании – на счет упразднения мирового судьи в уезде. Тогда бы и Толстой был бы счастлив, и Россия была бы спасена. Ведь Делянов мне говорил когда-то, я помню, будто Государь имел это намерение прежде.
– Да; это было бы отлично; попробуйте, попытка не шутка, напишите об этом Государю, может быть, Бог поможет… Но только ни слова об этой уступке в «Гражданине». Теперь хвалите проект в главных его чертах.
Вот я и вернулся домой, и написал о том в письме Государю. Бог да поможет мне[857].
Вот статья Дневника, вызвавшая строгое осуждение гр. [Д. А.] Толстого, Делянова и Победоносцева[858]:
Среда, 2 ноября.
Сегодня многие, вероятно, подобно мне, читали с горькою усмешкою те цифры, которые «Новое время» поспешило перепечатать из «Журнала Министерства путей сообщения»[859]; цель обнародования этих цифр, очевидно, однородна с тою, которая побуждает разных инженеров-путейцев и их многочисленных друзей в Петербурге (надо отдать справедливость Петербургу: друзей у инженеров-путейцев его почва нарождает много; одних жидов сколько, а если придать к ним все продажные душонки, то наберутся целые полки шампионов[860] путейской чести!) говорить с жаром и увлечением о сальной свече, когда другие говорят о паре калош. Точно такая аналогия существует между опубликованным путейским журналом, очевидно, с целью себя защищать – цифрами, из которых видно, сколько издержано денег и времени на осмотры вагонов Царского поезда и на ремонт Азовской дороги, и обвинениями, на них взводимыми.
Цифры и цифры – вот красноречивые доказательства своей безгрешности и невинности в такую минуту, когда вся Россия убеждается, что Азовская, как и другие многие дороги, платила взятки инженерам всех званий, чтобы иметь право составлять подложные цифровые отчеты на бумаге, а на деле набивать себе самым грабительским образом карманы!
По меньшей мере наивно теперь в такую минуту являться с цифрами, чтобы не сказать цинично. Да ведь эти цифры по Азовской дороге для того и представлены в Министерство путей сообщения, чтобы ими сокрыть обманы и мошенничество; и вот, этими же цифрами пускать в глаза пыль негодующему обществу – это, по моему, повторяю, чересчур…
Да и о цифрах ли говорят теперь русские люди?
Пусть цифры докажут, что мыслимо и возможно где-либо на земном шаре, чтобы поезд со скоростью 65 верст в час мог иметь до 30 тыс. пудов веса.
Пусть цифрами докажут, что такой поезд при таком весе где-либо на земном шаре можно было вести двумя разными паровозами: товарным и скороходным.
Пусть цифрами докажут, что можно быть ответственным за железные дороги в государстве и не считать своим долгом осматривать линии и пробовать паровозы для Царского поезда.
И так далее…
Эти господа инженеры не хотят, или делают вид, что не хотят, понять, что в России дрожат от негодования потому, что они обращались с Царским поездом совершенно так же равнодушно и небрежно, как с любым товарным поездом… И разговаривают о вопросе, точно идет спор о том, кто лучше поет в какой-либо опере… тогда как в России народная злоба и народное правосудие поднимают вопрос: судить ли тех инженеров как преступников по должности или как преступников государственных?
И что день, то эти инженеры и их защитники жидочки с компаниею становятся все развязнее и в иных домах переходят даже в обвинителей… Одни говорят: виновато Министерство финансов, что не давало довольно денег Азовской дороге! Другие говорят: виноват г. Таубе… и никто более, и так далее…
По этому поводу не лишним считаю в pendant[861] к цифрам «Журн[ала] Минист[ерства] путей сообщения», которые никакого интереса не имеют, прибавить справочку, которая par contre[862] и не лишена интереса:
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
учрежд[енные] Министром путей сообщения 19 июня 1883 г.
Он их представил Правит[ельствующему] Сенату от 27 июня 1883 г. за № 5900 (Постановление), на основании ст. 718 т. XII св. закона, устава путей сообщения.
Наибольшая и средняя скорость движения
§ 69. Наибольшая предельная скорость не должна ни в каком случае превышать:
п. а. 2) для паровоза – диаметр[ом] колес 51/2 фут. не более 65 верст в час.
3) для паровоза – диам[етром] кол[ес] 41/2 фута (товарного) – 45 вер[ст] в час.
п. г. Для двух паровозов, только от 85 до 90 % (87 %) скорости, соответствующей меньшему пределу скорости.
Следовательно, для Императорского поезда 40 верст, а не 64 версты.
[Начало ноября[863] ]
Так как Посьет рассказывает по городу, что он получил от меня ругательное письмо, и разумеется, такие друзья мои, как Победоносцев, верят в это и в свою очередь рассказывают еще больше про мои грубости, то считаю себя обязанным приложить к сему письмо мое к Посьету, на тот случай, если бы Вашему Величеству угодно было лично удостовериться, действительно ли я написал ругательное письмо.
При этом не лишним считаю добавить, что Посьет и в этом случае подчас странно неискренен. В справедливом негодовании на меня он по получении моего письма, через день, возвращает его мне – с письмом от кого-то – в котором сообщается, что узнав мой почерк адмирал Посьет возвращает мне письмо, не читавши его…
Значит, не читал…
А между тем от него же исходит весть, что я ему написал дерзкое письмо; значит, он его читал, ибо нельзя же, не читавши письма, найти его дерзким…
Значит, где же правда?
Увы, так пишется история и так обращаются с правдою даже благочестивые люди!
30 октября
Уцелевшим во мне остатком воспоминаний того давно минувшего времени, когда я видел Вас на поприще воспитателя русского Великого Князя и научился уважать в Вас и моряка, и человека, и преданного слугу Престола – я вхожу в Ваше тяжелое положение настолько искренно и честно, что решаюсь писать Вам.
Две цели побуждают меня к тому: опасение, как бы Вы сами не сделали Ваше положение еще более тяжелым, а паче всего дорогие и святые Вам и мне интересы Нашего возлюбленного Государя.
Правильно или неправильно, пристрастно или незаслуженно, это известно одному Богу, но факт тот, что сверху донизу встревоженное и негодующее общественное мнение возлагает всю нравственную ответственность за ужасное и счастливое событие 17 октября на Вас, и с первого же дня ждет от Вас благородного исповеданья своей ответственности и оставления должности.
Никто не должен сметь упреждать суд Царя, – но всем в данном случае понятно, что если бы как Царь, Верховный Судья дел своих подданных, Государь признал бы Своим долгом внять общественному чувству, как в тревожную минуту внял народному чувству Александр I, заменяя Кутузовым Барклая, то как человек с душою необыкновенно прекрасною, Он может быть остановлен мыслию, что инициатива Его в данном случае к успокоению общественного чувства посредством увольнения Вас от должности затруднена фактом, что во главе приближенных крушением к смертной опасности – Сам Государь и Его Семья!
Вот почему каждый час, на который Вы медлите и отлагаете подать свою отставку из любви к Государю, бесповоротно и бесстрашно, усиливает к Вам дурные чувства всех, ибо со всех сторон слышатся обвинения в том, что Вы не только не хотите признать своей нравственной вины и бравируете общественное чувство, но пользуетесь тем, что Государю с Его высоко и тонко нравственною деликатностью неловко Вас увольнять, чтобы оставаться на Вашем месте и не подавать в отставку.
Это предположение слишком ужасно, чтобы привыкшие Вас уважать могли бы хоть на минуту на нем останавливаться, но раз оно высказывается, люди желающие Вам добра должны желать, чтобы Вы с этим ужасным толком считались.
Считаться с ним значит подать прошение об увольнении.
Вы должны не медля ни минуты это сделать, ибо этого требуют священные интересы Государя. Никогда еще настроение сердец и умов к Государю не доходило до такой чистой и всенародной высоты, как теперь: но – вот три дня, как чуется и слышится со всех сторон, что факт, что Вы остаетесь на своей должности, туманит и холодит смущением это чудное и святое настроение.
Бессознательно Вы явились для России виновным – в событии 17 октября, коего ужас никогда не ослабеет в памяти народа…
Но, неправда ли, что немыслимо, чтобы русский моряк Посьет явился уже сознательным виновником умаления и охлаждения народного восторга.
Что место, ведь мы жизнь же, справедливо или несправедливо – должны отдавать с безграничною готовностью за малейшее благо для Нашего возлюбленного Царя. О, дайте верить, что и Вы так думаете!
Вам преданный и Вам желающий блага и светлой, не осененной страшными для конца жизни зложеланиями людей – старости искренно К. В. Мещерский.
[3 ноября][864]
Я слишком был бы счастлив, как русский, так обрадоваться чуду 17 октября, над Вами явленному, и последствиям его, поднятию так высоко Вас на крылах и волнах народной любви, чтобы сказать себе: ну, теперь молчи, убирайся, не волнуйся, – если мог, любя Вас, ограничиться одними радостями и не понимать, что теперешнее время по исторической важности чуть ли не важнейшая минута Вашего царствования по заботе, которую каждый должен иметь не дать настроению к Вам всенародному ослабиться, а с другой стороны по тем откровениям, которые чудо 17 октября в интересах Вашего царствования делает на обломках сокрушенного поезда, сокрушенного вследствие долгой системы обмана в целом ведомстве.
В интересах квиетизма лучше было бы молчать, из опасения, чтобы все слова мои не показались бреднями разгоряченного радостями по Вас и негодованием к людям воображения, но живши 27 лет из-за Вас и с Вами, право, легче было бы умереть, чем молчать.
И вот я пишу, хотя, увы, мало надеюсь на то, что вера Ваша к словам моим будет полная. Злой минувший год с его непостижимым для меня роком свое дело сделал: он совсем отдалил меня от Вас, но отдалил так, что если бы когда-нибудь Вы бы узнали все подробности, и политические, и семейные, и уличные всей этой интриги, монстрюозной по своей сущности, то Вы бы сами, ужаснувшись, протянули бы мне руку. Но раз все это было, и непоправимо, рассуждать об этом нечего, и мои личные скорби – пусть будут пустяками.
Но вот почему я коснулся этого, и что, мне кажется, не пустяки. Чувства мои остались те же, преданность моя к Вам, если только это возможно, усилилась после 17 октября, но на беду именно за этот скверный год подкралось в душу одно новое чувство, которого боюсь, ибо считаю его скверным: мне кажется, что я начинаю Вас бояться не так, как должен, по-Божески, а по-людски; иногда рвешься к Вам, все сказать Вам, что знаешь, чтобы предостеречь Вас, и вдруг затем убоишься Вас и видишь Вас сквозь пространства сердитым. Верите ли, что тогда, рыдая как дитя, бросаешься на колена молиться Богу и просить Его сжалиться надо мною и вырвать из души это чувство. Легче станет, а потом опять затомит страх.
Вот почему я и должен был начать с этого вопроса личных отношений. Тут два исхода: оба предположения; один – предположить, что, забывши все прошлое, Вы мне скажете: убирайтесь, не нуждаюсь Я ни в ваших излияниях, ни в вашей правде! Но думаю, что этот исход не совсем Вам по сердцу, ибо оно и доброе, и правдолюбивое, и верю, что все-таки бывают минуты, когда Вы говорите Себе: как он меня иногда и не сердит, он все-таки меня честно любит.
Второй исход основан на предположении наоборот, что помощью прошедшего можно так сделать, чтобы я перестал Вас по-людски бояться.
Я бы дерзнул назвать это попыткою учредить новый завет в наших отношениях в память и в прославление радости от 17 октября.
Теперь вследствие этого события я испытываю этот новый завет, но без Вашего согласия, без вашего позволения, а следовательно – непрочно! Теперь весь проникнутый и радостью, и чудом, я не знаю никакого к Вам страха, я не боюсь Вас нисколько, я преисполнен многим, с чем жажду поделиться с Вами, мне кажется возможным и не безумным желать Вас видеть, чтобы все сказать Вам; кошмар минувшего года не давит; душе легко; мой злой гений Победоносцев как будто бессилен, пламенно верится в какое-то отрадное будущее, силы вернулись, вера горит, и чувствуешь, как и чем можешь быть Вам полезен. Но… увы… надолго ли это ощущение?
То было летом 1865 года на Елагином. Вы жили там, во дворце на 2 дня. На утро Вам предстояло великое дело присягать как Наследнику Престола. Я провел тогда у Вас час времени; пришел покойный Государь. Минуты были полные душевного волнения. Я ушел от Вас; очутился в безмолвии вечера на Елагином один. Припомнилось все прошлое; Боже, как вчера помню, сколько я передумал и перечувствовал в эти минуты, и вот тогда-то с горячею молитвою к Богу я дал Ему обет, пока жив служить Вам правдою – и всею моею жизнью. Молился я как никогда не молился, и обет был свят и священен. Прошло 23 года. С благодарностью к Богу могу сказать, что сдержал его. И вот теперь настала тоже торжественная минута. Катастрофа и чудо Божие 17 октября открыли целую пропасть около Вас лжи и обмана. Ее опасность, ее злокачественность поняли и прочувствовали все Вам преданные люди. Я и прихожу к Вам и говорю: ради прошлого, ради великой цели служения правде одну сделайте мне милость: верьте мне и установите такой новый завет отношений к Вам, чтобы мог быть обмен живой мыслей…
Такой год, как истекший – когда стена воздвиглась вдруг между мною и Вами, и я говорил с Вами как во тьме и как глухой – кому он мог быть полезен? Меня он медленно мучил, и много, много отнял у меня и светлых мыслей, и энергии, да, вероятно, и здоровья; а Вам, с Вашим добрым сердцем, разве могло быть приятным считать меня за полуживого. Обесчещенные и бесчестные грязнят собою ту святость и тот идеал честности, которые Вы собою изображаете и в Себе носите; но оклеветанный – разве он преступник? Да к тому же я ведь ничего и не дерзаю просить; прошедшее умерло; мое занятие публициста меня отдаляет даже от мысли что-либо искать, а я только того прошу в смысле нового завета, что дало бы мне возможность, не боясь Вас в людском смысле, – остаток дней моих посвящать на ту пользу Вам, которая мне под силу, как три года назад было: вот все, что я дерзаю просить.
Вам сказали, что я гордился как дурак и кичился как хам долею доверия, которое Вы мне оказывали… Нет, Государь, это была возмутительная и беспримерная клевета, в которой ни атома не было правды, даю Вам честное слово. Никогда звука от меня не услыхали похожего на малейшее оглашение моих отношений к Вам. Я никогда ни с кем, кроме И. Н. Дурново, не говорил про что бы то ни было, где могло бы Ваше имя встретиться со мною. А тот, кто мне это приписывал, тот то это и делал, говоря не раз, а сто раз даже приезжим: что прикажете, «нонче “Гражданин” министров рекомендует».
От того, что раза два в год мне давалось счастье с Вами лично обмениваться мыслями, вреда для Вас не произошло.
Но от того, что в иную минуту, важнейшую, нельзя с Вами увидеться и нельзя сказать и объяснить что-нибудь – что письменно никогда не выразишь ясно, только происходит вред Вашим интересам. Доказательство страшно убедительное налицо. Это касательно судьбы проектов гр. [Д. А.] Толстого. По непреложному убеждению всех знающих провинцию и преданных самодержавию людей – в этих проектах зиждется быть или не быть революции в России, революции анархии и опасности, имеющей роковым образом привести к конституции сперва, а к разрушению России потом.
Я писал Вам не раз об них, но, вероятно, не сумел представить письменно всю ту историческую и политическую картину, от уяснения себе которой могла бы в Вас укрепиться решимость проектам этим не дать пострадать от бюрократической и либеральной оппозиции. Я умолял Вас о свидании именно потому, что я был уверен, что сумею Вам все представить ясно и убедительно. В чем не сведущ, в то не суюсь, но в вопросах провинциального быта, без малейшего сомнения скажу, что знаю дело это хорошо, и никто меня не собьет с толку: недаром [за] 8 лет в молодости изъездил 18 губерний. Понятно, что хотелось этими знаниями воспользоваться в Ваших интересах и тихо, скромно поделиться с Вами убеждениями, на этих знаниях основанными. Желание мое не сбылось; я не мог ни видеть Вас, ни быть в общении с Вами хотя бы письменно. А между тем именно в этот год случилось нечто роковое и скверное по своим угрожающим последствиям в будущем. Манасеин и Победон[осцев], оба бюрократа, понятия не имеющие о деревне и о провинции, добились от гр[афа] Толстого, пользуясь его болезнью, такой уступки в проекте участков[ых] начальников, которая оказалась равносильною не только уничтожению проекта, но ухудшению положения в будущем, сравнительно с нынешним. Граф Толстой сам наложил на свое дело руку. Друзей у него, чтобы предостеречь его, не оказалось, предателей много, и вот что случилось. По первоначальному проекту предполагалось мирового судью в уезде, как учреждение ненужное и вредное в иных случаях, совсем упразднить и заменить участковыми начальниками, как было прежде при мировых посредниках. В этом именно заключалась суть проекта, его спасительная сила, ибо кроме духа кляузничества мировой судья представлял собою в уезде главную причину падения правительственной власти, и притом по выбору.
И что же? Победоносцев и Манасеин на предварительном совещании исторгли от гр. Толстого роковую уступку; она заключалась в том, чтобы сохранить мировых судей, а дела их разделить между ними и между новыми участковыми начальниками!
Таким образом получаются:
1) страшная путаница дел в уезде от незнания, когда обращаться к участковому начальнику, когда к мировому судье; 2) смешение и антагонизм властей, хуже чем теперь, мировой судья по выбору и ведомства Минист[ерст]ва юстиции, а участковый начальник правительственный чиновник – вед[ом]ства М[инистерст]ва внутрен[них] дел; 3) увеличение вдвойне земских сборов с землевладельцев на содержание мирового судьи и участковых начальников!
При этих условиях несомненно задуманная реформа вот что произведет: она ухудшит безвластие и хаос в уезде, она парализует силу нового участкового начальника; она вызовет новый антагонизм между ведомствами на месте, в мире мужиков; она вызовет взрыв разочарования в одних и негодование в других вследствие обложения двойными сборами, и все это в руку – кому же? – социалистам и шайке Лориса[865], хотящей посредством безначалия довести до необходимости конституции. И не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что в случае смерти гр. Толстого первое, что его преемник будет вынужден сделать, это поднять вопрос об уничтожении или мирового судьи или участкового начальника; за мирового судью вступится весь синклит с Побед[оносцев]ым во главе, – и скажут ему, благо проект Лориса и [М. С.] Каханова об уездных начальниках и об уничтожении значения предводителя лежит готовый[866] – уничтожайте участкового начальника.
Либералы Госуд[арственного] совета теперь радуются: пусть теперь вводят проект участков[ых] начальников, благо он оскоплен; другие, как Абаза, [И. Н.] Дурново, [Н. И.] Шебеко, [Д. М.] Сольский, в унынии: не знают по совести, чего желать. Борис Мансуров на это намекает в своем проекте. Словом, если бы Вы видели теперь то, что от Вас скрывают, общую картину умов перед рассмотрением проекта – уныние, злорадство и путаницу, Вы бы получили сильное впечатление и смутились бы им. Драма заключается в том, что все молчат: никто ничего не говорит гр. Толстому; никто об опасности Вас не предостерегает!
Я дерзнул прежде умолять Вас выслушать меня; я дерзнул умолять Вас собрать у Себя главных лиц для постановления главных основ; тогда бы уже уступки гр. Толстой не мог быть вынужденным делать, и дело было [бы] спасено.
Теперь еще можно и, говорю во имя данной присяги, – должно спасти [проект] помимо самого гр. Толстого, и он несомненно обрадуется, если его склонят взять назад свою уступку. Минута историческая.
Полчаса на словах достаточны, чтобы все Вам изложить ясно и точно, и затем выяснилось бы немедленно, что Вы могли бы сделать, чтобы до начала рассмотрения проекта в Госуд[арственном] Совете, то есть до 15 ноября, спасти не только дело, но говорю прямо – Россию и порядок.
Я бы с своей стороны, разумеется, ни одного слова Вам не сказал бы иначе, как проверивши его в тайной беседе с И. Н. Д[урново].
И великое Вы совершили бы дело!
Вот для чего так пламенно желаю нового завета для наших отношений. Одним писанием не окажешь Вам желаемой и нужной услуги. Свидание же, когда оно редко, – имеет громадное значение.
Но не будем, Государь, – оставаться при недоговоренном.
Мое внутреннее чутье, никогда не обманывающее, подсказывает мне, что я потому с ужасом начинаю замечать, что боюсь Вас не тем благоговейным страхом, каким должен бояться, а людским страхом малодушия, что и Вы как будто чего-то относительно меня опасаетесь. В этом-то и кроется роковое недоразумение. Есть злое слово, которым играют те, которые боятся стороннего голоса правды не за Вас, а за себя. Слово это: влияние! Отчего не взглянуть на него прямо. Это старое ужасное орудие зла. Я верил всегда, что Вы его не боитесь. Но люди – люди, и они не щадят усилий, чтобы этим словом: влияние, Вас пугать! И посмотрите, что тогда происходит! Как только стараешься повлиять на Вас в смысле честном и благоприятном для Вас, люди не останавливаются ни перед чем – чтобы это влияние парализовать, чтобы этим влиянием испугать! Как только Вас обманывают, все восстающие против доброго на Вас влияния молчат. Когда я пытался предостеречь Вас от передачи единственного в Москве охранительного органа «Моск[овские] вед[омости]» в жидовские руки, прикрытые русским именем, меня уничтожили грязью. Когда Вас вводили в заблуждение по делу [С. П.] Дервиза[867], те же люди молчали. Когда годы самые наглые обманы творились под прикрытием формальностей в мире путейцев, и из опасения, чтобы до Вас не дошла правда, нам под угрозою казней запрещали обличать обман, и все молчали – пока не заговорил сам Бог в стихиях разрушениях и в чуде Вашего спасения.
И теперь готовится страшный обман, посредством исторгнутой у бедного графа Толстого по случаю его слабости и болезни уступки, обман, коего последствия в будущем неизмеримы, обман, благодаря которому мера, которая должна была ввести порядок, введет усиление беспорядка; обман, посредством которого то, что должно вызвать на Главу Вашу благословения и прославить Ваше царствование, вызовет тягости и жалобы!.. И все молчат!
И вот я прихожу просить, вдохновенный страшным указанием 17 октября, испуганный угрожающим fiasco[868] проекта участковых начальников, просить Вас, именем понимаемой мною присяги, именем обета, мною данного Богу в 1865 году на Елагинском острове, просить о праве не бояться Вас, просить о новом завете для наших отношений, просить о честном влиянии на Вас там, где люди молчат, словом, просить Вас о возможности любить Вас не на словах, а на деле!
А затем да будет Ваша воля, да будет Божья воля! Я все сказал, как подсказало и вдохновили меня сердце, совесть и сознание исторической важности нынешних минут! Сказал, как видите, без хныканий, без мысли о себе, без фраз…
Услышите меня – благословлю Бога. Отвергнете, преклонюсь в своем бессилии и буду как могу работать для пользы Вашей, дорогой, возлюбленный, обожаемый мною Государь!
3 ноября
Кончаю следующею мыслию. Положим, я умер бы; верится, что узнав про мою смерть, Вы бы простили мне все мои промахи и ошибки и вспомнили бы про одно хорошее; все хорошее воскресло бы, все дурное умерло бы. Я настаиваю на этом слове: воскресло бы!
В чудесном событии 17 октября есть близкое к Воскресенью, и именно к Светлому Воскресенью, когда все мертвое воскресает, когда всякому всякий прощает!
Отчего бы ради этого дня не сделать для меня, не дожидаясь до смерти моей, то, что сделали бы Вы в случае смерти – воскресить доброе прошлое, мною не запачканное, и на нем основать тот новый завет, о котором я прошу?
Кому он повредил бы?
Но затем, как бы тяжело и скорбно не было остановиться на предположении, что даже ради чуда 17 октября, ради всеобщего, необыкновенного праздника Вы не признаете нужным меня допустить до радости Вас увидеть, то хоть словечко доброе черкните, и я, если то признаете нужным, сделаю все, что могу, чтобы письменно представить Вам с одобрения И. Н. Д[урново] полную и краткую записку по вопросу о спасении проекта гр. Толстого. Бог поможет, хотя, повторяю, нужда Вас увидеть не только сердечная, но нужда разума по многим государственным вопросам.
1891
[28 октября[869] ]
Как бы далеко я не был отброшен волною моей судьбы от того пути, на котором когда-то Бог давал мне радость быть близким к Вам, но простите, Государь, если, чувствуя, что душа осталась все та же, и сердце все так же любит Вас, как 30 лет назад, в дни нашего первого знакомства, я осмеливаюсь просить Вас меня допустить к Вам с поздравлениями по случаю великого Вашего семейного праздника 25 лет Вашего семейного счастья.
Мне кажется, окидывая взглядом эти 25 истекших лет, что ничего гадкого, ничего недостойного Вас, но только мои глупости, мои промахи и недуги моего характера отняли у меня мое былое счастье, и что, следовательно, в такой день Вы не оттолкнете меня с моими пожеланиями и с моими молитвами об Вас, о Супруге Вашей и о детях Ваших!
Кто знает, исстрадавшееся и испытанное горем сердце молится сильнее Богу, зная цену молитве! И вот, окруженный и полный воспоминаниями, как видениями потерянного рая, я только молитвами участвую в Вашем празднике, и крепко молюсь. Ясно понимая, за Кого молюсь, о чем молюсь, за что благодарю, чего прошу. Да, эти празднуемые 25 лет, незаметно и в непрерывной цепи светлых дней для супруга и отца, слившие Вашу молодость с Вашими зрелыми годами, делятся на два периода: 15 лет семейного счастья Бог послал Вам на подготов[л]ение Вам к трудному подвигу, а 10 лет затем это семейное счастье, посылаемое Богом Вам в освящение и в подкрепленье Вами уже свершаемого подвига. И вот у начала 26 года, не только Вы, испытавшие это счастье, но все любящие Вас и наслаждавшиеся зрелищем Вашего счастья, преклонив колена, крепко и горячо молят Бога, да идут за тем годы того же чудного и тихого счастья, и да идут также непрерывно и непоколеблемо, как шли в это 25-летие. В этом счастье мы видели Бога живущим у Вашего очага, благословляющим мать, вдохновляющим Отца, берегущим детей, облегчающим путь забот и труда, освящающим всякую радость и отдаляющим всякого врага. Все это видели и все это понимали любящие Вас, и оттого ничего другого не просят у Бога, как продолжения этого счастья.
Жизнь кругом, увы, ломает идеалы, поругивает святыню заветов старины, осмеивает предания и выдвигает все сильнее подвижников беспринципного реализма, и только наверху, над этими мутными волнами, у Вас в жилище все чисто, все светло, все прибрано и согрето во имя старых заветов и священных преданий, и очаг семейного счастья светится как храм Божей благостыни, и Вы живете, во смирении не подозревая, как много у этого очага семейного счастья – чудотворящей силы для престола Вашего!
Этому очагу да даст же Господь многие подобные истекшим летам! Будьте счастливы и благословенны, как Супруг, как Отец и со временем как Дед!
1893
[Весна][870]
В прошлую субботу в Соединенном присутствии департаментов Госуд[арственного] совета бедный [А. К.] Кривошеин потерпел трепку – по поводу которой, однако, можно сказать, что нет худа без добра.
Он внес свой проект местной реформы по водным и шоссейным сообщениям… [С. Ю.] Витте, предварительно спрошенный, сделал на проект три возражения, а затем между членами Госуд[арственного] совета организовалась сплоченная оппозиция по разным пунктам, и Кривошеину пришлось выдержать 4-часовой штурм, после которого он решился взять обратно свой проект с тем, чтобы к осенней сессии разработать его в связи с остальными частями проекта реформы учреждений М[инистерст]ва путей сообщений. Главными ораторами оппозиции были [К. Н.] Посьет, [А. Я.] Гюббенет, [Э. В.] Фриш и [А. А.] Абаза, но настроение вообще было враждебное. Витте и здесь показал себя тем, что он есть, прежде всего порядочным человеком; зная, что готовится травля и не желая подливать масла в огонь, он не поехал в заседание и поручил [А. П.] Иващенкову[871] не нападать на Кривошеина, а только предложить ему взять свой проект для переработки с другими проектами. Таким образом Витте спас положение Кривошеина, невзирая на то, что Кривошеин грешен против Витте. Но нет худа без добра, как я сказал. Всю зиму я твердил Кривошеину, чтобы он ни один проект не разрабатывал иначе, как сообща с Витте, дабы не иметь Витте оппонентом в Госуд[арственном] совете и не ставить Государя в всегда неприятное положение, но какие-то неизвестные мне влияния настраивали Кривошеина против общения с Витте, и вот не замедлил сказаться результат. Затем Кривошеину пришлось испить чашу горечи за назначение Бухарина во главу инспекции речной и шоссейной. Вся оппозиция в Госуд[арственном] совете главным образом направлена была на Кривошеина из-за Бухарина, и вот теперь пришлось, хотя и поздно, пожалеть ему о том, что он тогда, в начале, не послушался добрых советов и не назначил на место Бухарина человека с положением и с именем известным в серьезном смысле, как он в начале и думал, например, Делагарди, [А. М.] Берх и др.
Теперь Кривошеин все это понял и пришел к уразумению истины. Я с ним долго беседовал, и он пришел к твердой решимости: 1) все проекты разрабатывать сообща с Витте и 2) убрать Бухарина, сократить штат инспекции и сообща с Витте отыскать человека, чтобы поставить его во главе инспекции.
А как было бы проще все это раньше сделать! Но vaut mieux tard que jamais[872].
[Конец 1893[873] ]
Страшно тяжелое впечатление грусти и боязни производит все то, что слышишь об Оржевском за последнее время. Несомненно, за последние месяцы его укусила какая-то муха, и он просто стал проявлять болезненные признаки мании власти с каким-то непомерным приливом самолюбия; в этом состоянии он никого не слушает, против всех возбужден и требует себе – диктаторской власти в припадке какого-то самообожания…
Я говорю о боязни: да, именно это чувство возбуждает в данную минуту Оржевский. Легенда сочинила, что Москва сгорела от сальной свечи, а я, грешный человек, суеверно боюсь, как бы теперь, когда, слава Богу, все стало спокойно в международных отношениях, а наши сношения с Германиею установились прочно и мирно, Оржевский не явился сальною свечою, от которой мог бы зажечься весь наш Запад!
Когда Оржевский уезжал, он был спокоен и вселял в окружавших его и в беседовавших с ним уверенность, что он умом сумеет создать правильное и мирное положение в несчастном Западном крае и сумеет твердую русскую политику отличить от бесцельных придирок и преследований. Так он сам говорил в кругу своих собеседников. Но увы, когда Оржевский прибыл в Вильну[874], с ним сделалась та ужасная болезнь, которая губит подчас государственных людей, заражение ядом власти, и мало помалу, как в крае, так в Петербурге, в М[инистерст]ве внутренних дел стали замечать, что Оржевский из генерал-губернаторства делает культ самообожания и самодержавия, не признающего ни начальства, ни чужого мнения, ни подчинения. Тогда он начал тешиться своею властью и проявлять самые резкие формы деспотизма и даже тирании в ряде мелочей, как это всегда бывает… Из Петербурга попробовали было умерять его пыл и призывать к умеренности и законности, но Оржевский принялся резко и решительно отпарировать петербургское вмешательство, и на все отвечал отказом под предлогом непоколебимости престижа генерал-губернаторской власти.
Потом явились эпизоды более крупные, где самообожание Оржевского стало уже непостижимо. Случился эпизод с киевским [А. П.] Игнатьевым. Он всех смутил и взбудоражил. Игнатьев инкогнито приехал в Виленскую губернию смотреть имение, которое хотел купить; осмотрев имение, Игнатьев собирается уезжать с виленского вокзала; вдруг приезжает Оржевский и разыгрывает совсем неожиданную сцену; к Игнатьеву он обращается с предостережением, что имение это ничего не стоит, что продавцы его мошенники, и советует ему отказаться от имения; а Игнатьев окончил было дело с продавцами, представителями местного банка; а затем Оржевский накидывается публично на продавцов и ругает их так энергично, что в результате Игнатьев уезжает совсем сконфуженный, отказавшись от имения, а Оржевский это же самое имение за более дешевую цену велит продавцам продать своему приятелю [М. Р.] Кантакузину-Сперанскому… Легко себе представить ярость Игнатьева. И тут же почти одновременно разыгрывается Ковенская драма. Она была ужасна, эта драма, ибо пролита была кровь, и произошла она только потому, что Оржевский слышать не хотел никаких представлений ковенского губернатора[875] в умеренном и примирительном духе, и в припадке самообожания признал себя непогрешимым и свое мнение приговором неотменимым.
Когда в Вильне был [И. С.] Каханов, а в Ковне [Е. А.] Куровский, уже тогда история этого монастыря возникла[876]; Каханов дал было приказание закрыть монастырь; но Куровский, опасаясь сопротивления и кровопролития, умолил приостановиться мерою, и Каханов согласился. Оржевский ни на что не согласился, и совершилась драма. Я слышал об ней от одного русского, ковенского помещика и адъютанта военного министра; и теперь холод по душе проходит, и сердце обливается кровью, когда вспоминаю переданные им в рассказе подробности. Увы, это было одним из сильных проявлений заражения ядом власти. И что же получилось в результате? Увы: одно только, что имя нового представителя высшей власти в Западном крае предается ненависти и проклятиям, и не между католиками одними, а между русскими, приведенными в смущение и в панический страх.
Как известно, с Высочайшего соизволения предпринята была всеобщая подписка на памятник [М. Н.] Муравьеву в Вильне. Собралась сумма, превышающая ценность памятника; заказана модель статуи; вдруг Оржевский заявляет, что он не хочет, чтобы поставлен был памятник, а собранные деньги пусть идут на какое-нибудь благотворительное дело в память Муравьева. Любопытно, что на этот раз он мотивирует это непостижимое решение – опасением, что памятник будет раздражать поляков! Он каждый день принимает меры исключительно раздражающие поляков, а тут, когда нужно дать видимый знак утверждения русской власти, – он, чтобы не дать желанию русских осуществиться, и даже вопреки Высочайшему разрешению ссылается на опасение раздражать поляков.
А как мало он этим опасением руководится в других случаях, и как доказательство того, что главная его забота всякому противодействовать, – нельзя не обратить внимание на следующие эпизоды с [А. К.] Кривошеиным. В Гродненской губернии есть приют М[инистерст]ва пут[ей] сообщений для калек и увечных из бывших служителей на жел[езных] дорогах. Между этими несчастными есть католики. За невозможностью ходить в церковь эти призреваемые просили министра о дозволении, чтобы известное количество раз в году приезжал к ним ксендз для исполнения треб и молитв. Министр об этом входит в сношение с м[инист]ром внутренних дел[877]; спрашивают Оржевского, он наотрез отказывает. Тогда министр путей сообщений просит о том, по крайней мере, чтобы ксендз приезжал учить детей этих призреваемых, министр внутренних дел соглашается, но Оржевский объявляет, что ни за что! Наконец недавно тот же министр путей сообщений, озабочиваясь для улучшения материального положения служащих на жел[езных] дорогах – устройством обществ потребителей, между прочим вводит это общество на Полесских ж[елезных] дорогах. Все готово, как вдруг получается бумага от Оржевского, извещающая, что он общество потребителей на Полесских железных дорогах допустить не может.
Рядом с этим Оржевский теперь, как это оказывается за его пребывание в Петербурге, вступает в отчаянный бой с самым справедливым и порядочным человеком в М[инистерст]ве внутр[енних] дел, с [Н. И.] Шебекою, и начинает с ним ту же войну, какую он вел с [П. А.] Грессером в бытность свою на месте Шебеки. [И. Н.] Дурново не знает, что делать с Оржевским, уговаривает его, но тот ничего не хочет слышать и требует беспрекословного исполнения его распоряжений о высылке из края то одного, то другого немца. Таким образом, наведя ужас и страх в польском населении крестьянском, безусловно преданном Русскому Престолу, он принимается теперь за раздражение немецкого элемента!
Все это очень страшно!
И если, как я говорю, принять в соображение, что Оржевский перед отправлением в Вильно был совсем противоположного настроения и при мне у [В. В.] Валя говорил о своем призвании примириться и успокоиться края, то приходится именно вывести из нынешних фактов то печальное заключение, что Оржевский заболел маниею власти и опять одержим тою болезнью, которою страдал, когда был начальником полиции при [Д. А.] Толстом и дошел до исступления в борьбе за власть с Грессером. Он поехал с прекрасными намерениями, но яд властолюбия его заразил, и теперь ум его омрачен этою маниею. Он ничего и никого не признает, кроме своего генерал-губернаторского Я, и создает просто опасное положение в крае, вооружив против себя не только все население, но и всех служащих и всех имеющих с ним дело в Петербурге государственных людей.
В заключение является вопрос: что же делать?
К тому, что проявляет теперь Оржевский, нельзя отнестись иначе, как к болезненному состоянию; как я упомянул выше, между Оржевским, отправлявшимся в Вильну, и между Оржевским нынешним ничего нет общего: мне кажется, его скорее жалеть надо именно как мономана[878] власти, но в то же время, если он будет так продолжать, много может выйти неприятностей и усложнений. Уже теперь отношение к министру внутренних дел и в особенности к Шебеко обострились до крайности.
Но думать об его увольнении вряд ли возможно. Он слишком недавно назначен, чтобы смещение его могло состояться, не возбудив массу толков и слухов, невыгодных для правительственного престижа. Но дерзаю думать, что пришла минута искать выхода в принципиальном, огромной важности вопросе: об упразднении этих двух генерал-губернаторств, киевского и виленского. О, Боже, как этот вопрос назрел. Сегодня метаморфоза, случившаяся с Оржевским, является красноречивым доказательством, как это учреждение теперь, не достигая никаких благих последствий, опасно для интересов правительства! Покойный граф [Д. А.] Толстой с своею мудрою прозорливостью говорил, что пока в этих двух краях будут генерал-губернаторы, до тех пор они спокойны не будут, и русское начало в них не утвердится по той простой причине, что для генерал-губернатора нужны поводы возбуждать беспокойство в крае, как доказательство необходимости этого учреждения; ибо если край спокоен, первый вывод, который правительство сделает – это тот, что генерал-губернатор не нужен. Это поразительно верно.
Назначение в Киев такого несомненно способного генерал-губернатора, как А. П. Игнатьева, могло бы за несколько лет управления краем оправдать результатами полезность генерал-губернаторского учреждения; но, к сожалению, результаты благие оказались весьма незначительными сравнительно с теми самыми дурными последствиями генерал-губернаторского управления, которые существовали при таком великолепном человеке, как [А. Р.] Дрентельн, и продолжаются и теперь при [А. П.] Игнатьеве. Это не фраза и не выдумка: само учреждение генерал-губернаторства мешает своими функциями таким краям, как Западному и Юго-Западному, прийти в нормальное положение. Причина очень ясна: генерал-губернатор хочет все делать сам; вследствие этого губернатор у него невольно стушевывается и парализируется во всем, что он мог бы на месте делать своею инициативою и своим умом; ввиду этой чисто человеческой черты и губернаторы-то в этих краях избираются генерал-губернаторами из пассивных и бесцветных.
Кто же является врагом губернатора, когда он хочет быть активным? Неужели генерал-губернатор? Нисколько. Генерал-губернатор, как я сказал, все хочет сам делать, но так как это невозможно, то выходит, что этот принцип вседелания и вездесущия осуществляет генерал-губернаторская канцелярия. Она во все вмешивается и по всякому делу заводит бесконечную переписку с губернаторами; затем всякий в крае кляузник, – а их тысячи, – строчит свою жалобу на губернатора генерал-губернатору, и тут опять начинается бесконечная переписка канцелярии ген[ерал]-губ[ернатора] с губернаторами, так что, по правде говоря, главная деятельность и главное время у губернатора поглощены отписыванием с генер[ал]-губ[ернаторскою] канцеляриею. Неудивительно после этого, что один губернатор в этих условиях говорил мне, что единственное условие, при котором губернатору возможно быть при генерал-губернаторе, это ничего не делать от себя, а все исполнять по приказаниям генерал-губернаторской канцелярии. А что такое канцелярия генерал-губернатора, это показал грустный опыт при покойном Дрентельне: у него был правителем канцелярии человек из мужиков[879], ненавидевший все дворянское начало, и вот во всем Юго-Западном крае страдать стали от ежедневных притеснений только помещики, и не польские одни, но и русские, установилось полное царство мужика, все местные учреждения вели эту политику, и доселе в всем Ю[го-]З[ападном] крае нельзя убедить мужика, что у помещика есть свои неотъемлемые гражданские права. Разве в Ковенской губернии случилась бы печальная история монастырского побоища, если губернатор был бы самостоятелен и нес прямую ответственность перед министром лично; никогда, а случилось это именно потому, что генерал-губернатор, не имев возможности на месте узнать дело, дал приказание, чтобы показать свою власть и, считая себя не подчиненным министру, не посоветовавшись с ним, принял на себя ответ за необдуманное приказание. Затем он же под страхом высылки и страшных угроз – запретил по всему краю, даже жандармам, об этом событии разглашать подробности, и в результате получилось всеобщее раздражение, которое прежде всего падает тенью на все правительство, до министра включительно, и надолго опять мешает успокоению края. А губернатор ничего подобного не мог бы допустить.
И потом долголетняя практика убеждает в том, что даже когда генерал-губернатор воодушевлен самыми лучшими намерениями и хочет многое сделать, он потому достигает весьма малого, что никогда не находит в губернаторах самого нужного: священного огня и живого усердия, а находит лишь исполнителей по форме, ибо ни один из губернаторов не заинтересован в деле собственным самолюбием: никто ему спасибо не скажет, все припишут генерал-губернатору, и ответственности губернаторской никакой. А когда губернатор хочет злоупотреблять своею властью и быть безответственным, ему стоит только ухаживать за правителем генер[ал]-губ[ернаторской] канцелярии и, прикрытым ею, вести дело благополучно.
Самым красноречивым и неопровержимым доказательством всего вышеизложенного послужили за последние годы те блестящие результаты, которые дали губернии в крае Новороссийском после упразднения генерал-губернаторства и те губернии в Западном крае, которые отошли от виленского генерал-губернаторства. В первых губерниях буквально зажглась жизнь: сразу закипело возрождение всех отраслей промышленности, Херсонская, Екатеринославская и Бессарабская губернии стали неузнаваемы, со всех снялся гнет зависимости и переписки, дела пошли быстро, и между прочим в политическом отношении унив[ерси]тет[880], бывший при одесском генерал-губернаторе гнездом и академиею пропаганды, сразу успокоился по той простой причине, что Министерство внутренних дел стало в полицейском отношении хозяином, и власть жандармов не встречала уже в генерал-губернаторе своего антагониста, как это теперь слишком уже круто и резко проявляется в Вильне.
Метаморфозы, происшедшие в Могилевской и Витебской губерниях, еще более поразительны. Не прошло двух лет после их отделения от виленского генерал-губернатора, как стал исчезать даже разговор о польском политическом элементе; в губернии Могилевской, где губернатором был необыкновенно дельный и хороший человек, [А. С.] Дембовицкий, стали твориться чудеса развития благосостояния, крестьяне стали быстро улучшать свой быт, польские помещики стали шелковые, русские помещики нашли себе действительное покровительство, и Могилевская губерния попала чуть ли [не] в первый разряд по благосостоянию народа и по отсутствию недоимок; причем и след исчез религиозных и национальных вопросов. В Витебской губернии еще было поразительнее. Дембовицкий был выходящий из ряда губернатор; но в Витебске наоборот был [Вас. М.] Долгорукий, губернатор весьма неказистый, с приемами самодура; и что же? Невзирая на это, главное, из-за чего, собственно, генерал-губернаторство существует в Вильне, политическая часть, исчезла в Витебской губернии вполне; явились домашние дрязги, ссоры с ведомствами, благодаря невозможному характеру Долгорукова, но католический и польский вопросы испарились; губерния стало чисто русская; и благосостояние народа до того улучшилось, что уже в нынешнем году, например, на крестьянах не было по платежам в Крестьянский банк за купленные ими земли ни одной копейки недоимки!
Далеко не то можно сказать про три губернии, оставшиеся в виленском генерал-губернаторстве. Без преувеличения можно сказать, что там всем скверно, и русским и полякам, и процветают только евреи: на каждом шагу какая-нибудь чувствительная для каждого частного лица стеснительная мера, принимаемая генерал-губернатором только для того, чтобы показать свою власть и в особенности свою независимость от Петербурга. Нормальными и обиходными вопросами, вызываемыми заботами, чтобы людям лучше жилось, чтобы поднимался экономический уровень края генерал-губернатор и не занимается, а если занимается, то только для того, чтобы мешать губернаторам проявлять свою власть, а занимается генерал-губернатор только политикою, и политику разводит и сует во всем; политика антипольская, политика антикатолическая, политика антинемецкая, политика даже антирусская. Например, в Вильне генерал-губернатор издавна создал класс старообрядцев, то есть раскольников, которым дали огромные земельные права во время мятежа для создания коренного русского населения; при Муравьеве это имело смысл, ибо не было русских помещиков, и старообрядцы, арендуя земли у польских помещиков, получали удостоверение, что цены за аренду земли не будут возвышаемы. Теперь прошло 30 лет; и что же оказывается? Генерал-губернаторы продолжают ту же политику относительно раскольников, и распространяют ее даже на беспоповцев, не молящихся за Царя[881]. И выходит теперь нечто безобразное: русский православный крестьянин в 3 губерниях вил[енского] генерал-губернаторства никаких не имеет земельных льгот; дрянной беспоповец пользуется льготами, когда все знают, что он на Церковь плюет и Царя не признает; а русский помещик, на земле которого селится этот бродяга беспоповец, лишается права возвышать плату за землю и выселять его на веки вечные. Вот до чего довела политика в Западном крае. Всем плохо, кроме евреев и беспоповцев.
Я забыл назвать и третью губернию Западного края, которая представляет собою картину замечательного благосостояния и порядка с тех пор, как она отделилась от виленского генерал-губернаторства, это Минская губерния. Там правит не орел, а хороший и честный человек, князь [Н. Н.] Трубецкой, и что же? И там след даже простыл политических вопросов, и губерния для всех стала безусловно русскою.
Момент, сколько кажется, для упразднения этих двух генерал-губернаторств настал именно в нынешнем году. Игнатьев по семейным обстоятельствам для воспитания детей должен оставить свой пост и переселиться в Петербург, и следовательно совершенно было бы естественно за упразднением виленского генер[ал]-губернаторства – убрать и Оржевского. Он не был бы обижен, ибо мера была бы не личная, а общая, и оба края получили бы возможность развиваться спокойно и свободно, при постепенном уничтожении политических элементов. Это было бы огромное благодеяние для этих губерний и огромное облегчение для Министерства внутренних дел!
[1893][882]
За чашкою чая на вечернем собрании у меня по средам заговаривают подчас о земельном дворянстве. Вчера в среду, например, много говорили об этом вопросе, благо было два предводителя и несколько помещиков. Говорили по поводу ходатайства полтавского дворянства. [С. Ю.] Витте нашел, что оно уважено быть не может в тех пределах, в которых изложено. Действительно, полтавское дворянство просит очень многого, даже слишком многого, но, увы, чем глубже вникаешь в вопрос, тем яснее обнаруживается, что если речь идет о спасении земельного дворянства, то оно обязано просить о всем том, что в данную минуту кажется слишком много! [Н. А.] Новосельский очень верно сказал, что хотя минута не настала, но она близка, когда прийдется поставить вопрос о земельном дворянстве весь как он есть перед глазами, дабы его решить радикально в виде цельной государственной и исторической меры. Теперь этот вопрос в самом его невыгодном для дворянства и несимпатичном для правительства фазисе: чуть ли не ежедневно поступает какое-нибудь ходатайство о дворянстве, правительство кое-что для облегчения его делает, но это кое-что есть только паллиатив, гибель все-таки остается, и поневоле, постоянно делая облегчения то одно, то другое дворянству в его задолженности, правительство должно испытывать состояние человека, которому надоедает все один и тот же проситель. Витте со своей стороны посреди массы вопросов, им разрешаемых, не имеет времени посвятить дворянскому вопросу настолько внимания, чтобы его со всех сторон обнять и со всех сторон осветить и обсудить. К тому же надо признать, что около Витте кроме [А. А. Голенищева-]Кутузова нет ни единого человека, серьезно сочувствующего дворянскому вопросу, и вот этот роковой вопрос как утопающий, то всплывает, то тонет, в предсмертных усилиях, но гибель неизбежна.
С Кутузовым много говорил я об этом вопросе. Он смотрит на него верно и говорит, что близок час, когда дальше нельзя будет идти и прийдется прямо решать вопрос: быть или не быть земельному дворянству; что все сделанные льготы в платежах заемщикам привели их к решительной невозможности дальше платить, ибо земля и хозяйство на ней не дают теперь даже того, что нужно платить в банк, затем нужно жить, улучшать хозяйство, воспитывать детей; в итоге огромный дефицит; в нынешнем году имений, пущенных в продажу, больше, чем когда бы то ни было, так что не сегодня так завтра Сергею Юлиевичу [Витте] предстанет вопрос исторический: что делать чтобы спасти все дворянство? И тогда волею неволею прийдется или всю сумму недоимок превратить в долговой капитал, рассрочив долг еще на 30, 40 лет и понизив процент с 5 на 21/2, или же всех заемщиков обратить в вечных арендаторов казны, признав их земли казенными. Другого исхода быть не может! Кутузов ждет минуты, чтобы представить о том Витте по долгу верноподданной присяги, ибо дальше обманываться нельзя!
Да, в этом отношении для консерваторов, то есть для преданных слуг Царского Самодержавия, несомненно, что настала решительная минута не для дворянства только, но для всего государственного строя. Как результат всего случившегося с 1861 года по нынешний год – она, эта минута, неизбежно должна была явиться, и она явилась.
А раз она явилась, вопрос о земельном дворянстве превращается в государственный роковой вопрос: может ли Русское Самодержавное государство существовать без земельного дворянства? Либералы и чиновники говорят: может; и говорят потому, что отлично знают, что раз две трети России обратится в Архангельскую бездворянскую губернию, и Россия покроется дворянами пролетариями, изгнанными из гнезд своих, в деревне, у народа станут кулак – и чиновник, тогда главная вековая консервативная опора Самодержавия будет разрушена, и Россия пойдет на произвол всех либеральных и беспочвенных стихий.
Консерваторы говорят, что вопрос: может ли Русское Самодержавие держаться без земельного дворянства, – такой же вопрос, как тот: может ли Россия быть без армии и мириться с мыслию, что в случае чего можно будет нанять войска!
Ведь как не говори, а доселе все держится еще преданиями земельного дворянства; из него губернаторы, из него земские начальники, исправники, из него все главные военные и морские личности; но рядом с этим возьмите вырастающие в провинции чиновно-интеллигентные силы полчищ Государственного контроля, податных инспекторов, акцизных, учителей, ведь это все на время притаившиеся – духовные враги старой России, дворянско-Царской, им ненавистен земельный дворянин, как ненавистна им идея Самодержавия, идея религиозная и идея народно-дворянская. Оттого там, в провинции, все эти полчища чиновников как манны небесной ждут конца и гибели земельного дворянства, ибо в ней чуят торжество беспочвенного либерализма.
Вот эти мысли у всех беседующих о дворянстве земельном в голове и на языке и, прислушиваясь к этим многим убежденным голосам приезжающих сюда спасаться помещиков, предводителей, всякий, кто в Самодержавии видит силу и спасение России, должен исповедывать, что настала минута весь дворянский земельный вопрос поднять, не страшась никаких цифр, никаких временных убытков, но страшась только того рока России, который грозит ей, если правительство не решится принять к обсуждению решение всего земельного дворянского вопроса.
Хочется верить, что Витте это поймет скоро. И теперь для этого – минута самая удобная.
И как говорит один из предводителей: все это тем более необходимо, что все равно – в нынешнем положении земельного дворянства казна ничего не может получить с имений; продавать все-таки прийдется, а кому купить тысячи имений? Имения останутся за банком или за казною? Это тот же убыток. Не лучше ли теперь решиться на потери, чтобы в будущем постепенно возвращать потери и постепенно видеть возрождение земельного дворянства?
1894
[Конец января – начало февраля[883] ]
И затем, продолжая пребывать в невинной области мечтаний, если мне дано было бы предложить проект рескрипта, я бы задался мыслию написать такой проект рескрипта, где соблюдены были бы следующие условия:
1) Краткость,
2) Отсутствие того, что могло бы наводить на мысль о том, что мы уж очень обрадовались этому договору,
3) Сила в оценке заслуг министра финансов, для подъема духа, для ободрения его самого и в назидание его врагам, и
4) Упоминание о его сотрудниках и помощниках, что бы в ведомстве имело волшебное по благости действие.
Исходя из таких мыслей, я начертил бы нечто в роде следующего:
С[ергей] Ю[льевич!]
Неутомимые труды и высокая добросовестность, вами проявленные при разработке, во исполнение возложенной Мною на вас задачи, полезного для России торгового договора с Германиею[884], приобрели вам право на особенную признательность Государства и Мою.
Мне приятно в ознаменование сей признательности за ваши заслуги пожаловать вам (орден Св. Владимира 2 степени, например) и назначить вас[885] (Моим статс-секретарем, например).
Вместе с сим предоставляю вам представить Мне к наградам тех из ваших помощников по работе, которых вы признали бы того достойными.
Несомненно, рескрипт в этом роде произвел бы громадное благотворное действие!
А почему оно так нужно, это действие? Потому нужно, что результатом этого действия было бы то, что усторились бы силы работать на славу и пользу Нашего Обожаемого Государя.
Главное, разумеется, в рескрипте. Один он, без всяких наград, имел бы всесильное магическое действие.
[Последняя декада марта[886] ]
С странным чувством пришлось мне писать несколько дневников в «Гражданине» об еврейском вопросе. Странность этого чувства я приписываю тому, что ни по одному вопросу так не выяснился и так [не] несомненен вред, причиняемый России, и в то же время ни по одному вопросу избавление России от этого вреда так не затруднено, как по еврейскому вопросу. Пишешь с убеждением, ясно видишь то прошедшее, в течение которого усиление евреизма наделало столько вреда России, со страхом взираешь на будущее, хочется кричать, предостерегать, но в то же время ощущаешь себя как во сне во время кошмара, – полное бессилие, в каком-то духовном плену, под гнетом которого сознаешь, что кто-то и что-то мешают борьбе с евреизмом.
Сколько раз заставал [И. Н.] Дурново в изнеможении от размышлений над еврейским вопросом.
– Я чувствую, – говорит он, – что его надо решать, Государь, я знаю, ждет от меня этой работы, но чем больше я думаю об еврейском вопросе, тем мне кажется он неразрешимее.
И действительно; прошедшие 40 лет его сделали почти неразрешимым: в этот период евреизм столько выиграл под влиянием либерализма силы, что теперь страшно трудно даже выяснить себе: с чего начать…
Еврейский вопрос – это многоголовая гидра: тронешь его в одном месте, он усиливается в другом; мало того, чем больше принимается антиеврейских мер, тем сильнее и дружнее напор евреизма с целью или обойти или парализовать закон. В этом постоянном процессе обхода и перетолковывания закона евреизм шаг за шагом выигрывает себе почвы. Три года назад была принята радикальная мера в Москве против евреев[887]: криков раздалось на весь мир; но кто уцелел и кого не коснулись эти меры? Лазаря Полякова… то есть того жида, который забрал в свои сети и земельный банк, и московских домохозяев, и «Московские ведомости»[888], и за спиною которого крепнет и растет целая фаланга еврейской молодой интеллигенции. К нему не мог отнесен быть правительственный бич потому, что в прошлом он успел не только пустить глубокие корни, но и оградить свое положение всеми формами законности. А между тем, всякий знает, что Лазарь Поляков вреднее для России и для Москвы всех тех евреев мелких, коих коснулась очистительная мера.
Евреи стали банкирами, евреи стали купцами, евреи стали казенными подрядчиками; евреям запрещено владеть имениями и арендовать заводы; весь Юг, весь Юго-Запад и весь Запад России переполнен евреями, обходящими все эти запретительные законы; недавно я слышал сказ о том, как один государственный человек хлопотал у [С. Ю.] Витте за предоставленье еврею, вопреки закону, права взять его завод в аренду. Но всего хуже то, что делает Мин[истерст]во народного просвещения с евреизмом: установив какой-то процент для приема евреев в высшие учебные заведения[889], оно создало целую жидовскую интеллигенцию в России, враждебно к ней настроенную, а когда это сделалось, то само собою явилось право еврея быть присяжным поверенным, а рядом с этим явились профессора евреи, и в Сенате появились секретари евреи, и т. д. … Легко понять, что при этих условиях вопрос еврейский станет безвыходен; а в то же время всем стало ясно, что весь еврейский элемент, впущенный через университеты в русскую интеллигенцию, стал деятельным проповедником всех антимонархических, антирелигиозных и антипатриотических доктрин. Это яд, распространяющийся в организме общественном с ужасающею силою и быстротою. Катков имел неосторожность довериться Лазарю Полякову, и что же? Жиды затесались в редакции, и теперь «Моск[овские] ведомости», лишившись гения Каткова, стали полною жидовскою лавочкою, и один из сотрудников газеты, вчерашний жид, [В. А.] Грингмут пробрался в директоры Лицея цесаревича Николая. И с этою-то силою еврей-интеллигент в России везде растет.
Не евреи страшны своими грязными массами, а страшен еврей-интеллигент, нами из толпы взятый и нами воспитанный и образованный в вечного врага Русского Самодержавия и Русской церкви.
Что же делать, говорят в ответ, ничего не придумаешь.
Мне кажется, все дело в том, чтобы захотеть придумать, и тогда известной преграды развитию евреизма найти и поставить можно. Надо, сколько мне кажется, все усилия направить к тому, чтобы прекратить распространение еврея-интеллигента.
Для этой цели:
1) Отчего не воспретить вовсе евреям доступ на какую-нибудь педагогическую деятельность?
2) Отчего безусловно не запретить доступ еврея в присяжные поверенные?
3) Отчего не запретить вовсе доступ еврею в факультеты университета юридический, словесности, естественный, словом всюду, кроме медицинского?
4) Отчего не запретить безусловно евреям где бы то ни было быть избираемыми в директоры банков, правление жел[езных] дорог и в какие бы то ни было городские или земские должности?
5) Отчего доступ евреям в гимназии не сократить до 1/2 процента повсеместно?
6) Отчего евреям не запретить всякую государственную гражданскую службу?
7) Отчего евреям в столицах и в губернских городах не воспретить всякие занятия в редакциях газет и журналов?
На все это могут сказать: что же, тогда евреи в сто раз больше начнут обращаться к [В. К.] Саблеру, для принятия православия?
Отчего же?
Казалось бы, что принятием православия еврей никаким образом не может покупать прав и преимуществ, евреям недоступных. Во втором поколении, по удостоверении крещения детей в православие от православных родителей, еврей мог бы получить все права не еврея, но никак не в первом…
Допустить принцип обращения крещенья в православие в еврейский гешефт для приобретения прав это было бы позорно для нашей церкви, и полным торжеством еврейского принципа презрения к Русской Церкви.
А для евреев низших[890] миллионных масс есть только одно средство с ними справиться: это уничтожение кагала – и обучение детей в общерусских, а не в еврейских школах.
Вторник, 15 марта
Часто приходится слышать разговоры о еврейском вопросе.
Что такое еврейский вопрос в России?
Признаюсь, что прежде всего мне представляется необходимым выяснить именно это: что такое еврейский вопрос в России?
Оказывается, прислушиваясь ко всему, что о нем говорится, что трактующие о нем далеко не одинаково понимают его значение. Существенное разноречие является между теми, которые под еврейским вопросом разумеют изыскание способов устроить так или иначе положение евреев в России, и между теми, которые под еврейским вопросом понимают задачу освобождения русской жизни от чрезмерного давления на нее евреев.
То, что я сейчас сказал, не фикция, не фраза, не ораторская фигура, а настоящая действительная правда, вследствие которой, должен откровенно сознаться, мне представляется не только решение еврейского вопроса в России, но и обращение с ним в том или другом направлении существенно затруднительным.
И в самом деле, на какой почве может состояться соглашение между мною, положим, убежденным, что евреизм есть опасная для нашего народа не только заедающая, но и разъедающая сила, которую нужно во что бы то ни стало ограничивать, изолировать, и между моим приятелем, который говорит, что еврей очень полезный элемент в жизни, благодаря которому все в месте поселения его дешевеет, услуги, личный труд (кроме земледелия) становятся дешевле, что еврей даровит и честен, что масса евреев производит между ними конкуренцию, удешевляющую всякий товар, всякий труд, всякое изделие?..
При этих двух воззрениях не угодно ли выяснить: что такое еврейский вопрос?
В новейшее время мы имеем интересный эпизод с еврейским вопросом, который именно красноречиво свидетельствует о том, насколько решение еврейского вопроса трудно, когда не выяснишь себе главного – его практической сущности. Эпизод этот – еврейский вопрос в Америке. В один прекрасный день американцы Соединенных Штатов сказали себе: в сущности евреи те же люди, только трудолюбивее, терпеливее и даровитее других, – и исходя из такого либерального взгляда открыли двери Америки евреям. Они повалили туда тысячами; тысячи эти стали множиться и переходить в миллионы, и что же? Явился другой прекрасный день, именно теперь, когда неминуемо станет на очередь вопрос жизни или смерти, – быть или не быть для Америки, – закрыть доступ евреям или нет? И тогда огромное большинство американцев заставит правительство наложить veto на дальнейший прилив евреев в Америку. Несколько десятков лет было достаточно, чтобы дать евреям возможность поставить такую здоровенную и мощную нацию, как американскую, в положение самообороны против них.
В России, сколько мне кажется, вопрос ставится еще резче и круче. Было время, еще на моей памяти, когда говорилось о 4 миллионах евреев, против 80 миллионов русских, – евреи фигурировали тогда, как 1/20 часть, и верхи общества были для них закрыты. Прошло 30 лет, и мы уже говорим о 12 миллионах евреев против 110 миллионов русских; значит евреи в 30 лет утроились количеством и составляют уже десятую часть русского населения. При таких цифрах позволительно гадать, что через 30 лет эти 12 миллионов превратятся в 36 миллионов евреев, а через шестьдесят лет в 100 миллионов, и так как процесс увеличения населения русского втрое медленнее против еврейского, то через 60 лет при тех же условиях, как теперь, русское население будет составлять 160–180 миллионов, а еврейское 100 миллионов, то есть уже более половины всего населения России.
Я допускаю, что цифры эти могут оказаться преувеличенными, но все же вычтя maximum из этой гадательной цифры, несомненно будешь иметь дело с громадною цифрою еврейского населения, в миллионов 50–60…
Притом это только одна сторона…
А другая сторона еврейства в России, по моему, – еще более опасная и серьезная, – это пропорциональное увеличение интеллигентных сил евреизма, давшее в эти 30 последних лет такую прогрессию, что невольно страх берет от вопроса: что будет после 20–30 лет, если тот же процесс образования из еврейской массы интеллигентов и размещение их по всем поприщам общественной деятельности продолжится…
Уже теперь почти вся печать в России стала еврейскою, уже теперь почти вся банковая область в руках евреев, уже теперь почти все подряды и поставки в Российской Империи перешли к евреям… Уже теперь мы присутствуем на попытках евреев проникать в государственную службу снизу. И вопрос, что же дальше будет, ставится со страхом сам собою…
Откуда же и как все это произошло?
Смею думать, что главная причина в том именно, что мы еще не приступили к выяснению вопроса: что такое еврейский вопрос, – еврейский ли это вопрос или русский?.. Мне сдается, что это прежде всего русский вопрос, и сводится он к заботе: как и что делать, чтобы еврей не мог вредить развитию русской жизни? Если это признать главным вопросом, то мне кажется, что тогда евреизм, как еврейский вопрос, станет второстепенным, и во всяком случае в полной зависимости от первого.
Среда 11 января[892]
Итак, если признать, что еврейский вопрос прежде всего должен быть русским вопросом, то явится возможность дать себе ясный отчет в том, что следует делать для облегчения России от ига еврейства.
У нас, как известно, есть целый ряд мероприятий, созданных законом в разное время для определения и в то же время для ограничения прав евреев. За последние 30–40 лет, как я говорил, судя по результатам, достигнутым евреями в деле улучшения своей участи в России, надо признать, что общий характер мероприятий в начале шестидесятых и в течение 70-х годов был скорее благожелательным для евреев. Затем этот период благожелательства остановился, остановился сам собою по той простой причине, что пришлось убедиться, что либеральные взгляды на еврейский вопрос не только не дают русским интересам что-либо лучшее, но, напротив, значительно вредят русским интересам столько же в области интересов экономических, сколько в области интересов нравственных и политических. Евреизм, получивший доступ в область коммерции и кредита, отплачивает России за эту льготу изгнанием отовсюду русских людей и русских жизненных интересов; евреизм, допущенный в печать, отплачивает России за это доверие растлевающею проповедью демагогии, космополитизма и атеизма; евреизм, допущенный к высшему образованию, отплачивает России за эту уступку огромным процентом людей, идущих прямо в политические враги народа и государства, и так далее…
Все это выразилось фактами, следовательно сомневаться в том, что либеральное обращение с еврейским вопросом кроме вреда России ничего не приносит, было невозможно, и волею-неволею приходится сказать себе: halte là[893]: не довольно ли поблажек евреизму?
В таком случае что же нужно ожидать? Мероприятий репрессивных, с целью ограничения прав евреев?
Я ставлю вопрос прямо, но столь же прямо скажу, что затрудняюсь ответить категорически.
Мне предполагается, что ограничительные мероприятия относительно евреев вообще не должны быть многочисленны, потому что, как опытом доказано, чем больше евреев стесняют ограничительными мерами, тем больше они сочиняют лазеек для обхода закона, а следовательно тем сильнее развивается в конце концов евреизм… Каждая мера против еврея рождает всегда десять способов ее обходить. И потом я смею полагать, что против евреизма мера мере рознь: есть меры, которые только притеснительны, но пользы русским интересам не приносят. Так, например, серьезно говоря, я затрудняюсь представить себе, почему еврей мастеровой или ремесленник менее вреден в Вильне, чем в Смоленске, и почему в городах вообще еврею не предоставляют жить беспрепятственно; но рядом с этим мера, которая не дозволяла бы еврею ни под каким видом жить в деревне той или другой губернии, была бы весьма понятна и целесообразна.
Словом сказать, я бы начал, как я сказал, с главного, с вопроса: в чем евреизм вреден русским интересам, – и тогда получился бы план всего того, что нужно для предупреждения вредного действия евреизма на русскую жизнь.
Еврей-ремесленник или, что то же, еврей не интеллигентный вреден ли интересам русской жизни?
Мне кажется, что нет, если рассматривать его как личность.
Если же рассматривать его как частицу или раба кагала, он вреден для русской жизни, ибо посредством кагала он ставится по отношению к русской жизни исключительно в положение обирающего и эксплуатирующего того, к кому кагал ему запрещает иметь отношения, на нравственности основанные.
Значит, на вопрос: что делать? получается ответ: дайте еврею свободу жить везде в городах, где он найдет себе заработок, но кагала уничтожьте и след…
Затем дальше: вреден ли интеллигент-еврей для русской жизни?
Безусловно вреден…
Вот здесь является главный вопрос, о котором надо думать и думать. Тут надо все иллюзии в сторону. Еврей-интеллигент именно в России есть по своему существу враг русского государства, как строя, как церкви, как образа правления. В Европе еврей является менее врагом и менее опасным для государственного строя, чем в России…
Но об этом до завтрашнего дня.
Четверг, 17 марта
Как не раз приходилось на это обращать внимание, доступ еврею к высшему образованию в России совпадает с эпохою ослабления в нас идеалов и преданий нашей государственной старины и расшатывания той дисциплины, которая зиждилась на одинаковом понимании всеми основ монархизма и церковности. Полагаю, что не нужно ломать себе голову, чтобы доказывать фактами, как горько мы поплатились за то легкомыслие, с которым мы тогда обошлись с вопросом об интеллигентировании еврея. Все они поработали для своего кармана, многие, как я вчера говорил, почерпнули в науке ненависть к нашему государственному строю и ни один не сказал своим собратьям: нам дают высшее образование, покажем себя достойными гражданами великодушной к нам России. И всякий, кто имел возможность близко наблюдать еврея-интеллигента в русском обществе за этот период, не мог не видеть, что везде интеллигентный еврей делался маленьким средоточием для тех, которые отделяли себя политическими убеждениями от масс и замыкались в узкие миры ненависти к старым принципам русского строя и русской жизни…
И надо им отдать справедливость, везде, где тому была малейшая возможность, евреи-интеллигенты свою роль таких разрушительных элементов в русской жизни исполняли искусно и успешно…
Теперь, когда мы живем во имя задачи укреплять и восстановлять все то, что было ослаблено и расшатано прежде, было бы логично, сколько мне кажется, всеми силами внимания и мышления остановиться на вопросе: как сделать, чтобы прекратить доступ евреям в русскую интеллигенцию?
Я искренно убежден, что тогда, и только тогда мы будем иметь дело с решением настоящего еврейского вопроса, как важнейшего русского государственного вопроса. Хоть убейте меня, но я не могу себе представить еврейского вопроса в виде забот о полуграмотном еврее: это физический вопрос, для решения коего Россия имеет и время, и место. Но для решения еврейского вопроса настоящего, то есть нравственного и политического, о закрытии путей еврею в русскую интеллигенцию – времени нет в распоряжении России; еще несколько лет наполнения рядов русской интеллигенции евреями, и Россия будет сверху так же ослаблена духовно, как ослабела духовно интеллигенция Германии и Австрии.
Как говорят французы, c’est à prendre ou à laisser…[894] Но иллюзий делать себе нельзя: ни полумеры, ни компромиссы, ни условные мероприятия не могут помочь делу. Если еврею сохранить доступ посредством высшего образования в интеллигенцию, рано или поздно этот еврей несомненно родит Равашолей. Тут дело не в еврее как отдельной личности, а в евреизме как элементе неизбежно и по существу враждебном Русскому государству, как неразрывному союзу с Церковью. На это ответят мне: да это чудовищно, не допускать ни одного еврея к высшему образованию! Позвольте, – отвечу я, – я не это говорю; я говорю о том, чтобы ни один еврей не был допущен к высшему образованию с целью быть интеллигентом России, разумея под этим все общие или общественные виды деятельности, начиная со службы государственной и общественной и кончая печатью… Высказывая эту мысль, я строго держусь той, которая легла в основу правительственного взгляда издавна на еврея, и вследствие которого еврею закрыта государственная служба и ограничены избирательные права…
В основу этого старинного взгляда легла мысль о недоверии, как я сказал, не столько к еврею, сколько к евреизму как началу, неизбежно враждебному Русскому государству, изображающему объединение с Церковью. Взгляд этот – историческая аксиома, и отступиться от него можно только тогда, когда относишься равнодушно к этому основному принципу силы России, союза Церкви с государством.
Но как этого достигнуть?
Пятница, 18 марта
Вот тут-то, когда имеешь дело с еврейским вопросом, как с русским государственным вопросом, надо в том с грустью сознаться, являются к благополучному его разрешению препятствия бытовые и практические, сокрытые в наших нравах, препятствия, о которые разбиваются подчас самые энергичные и настойчивые усилия государственных людей.
Еврея, оказывается, побеждать трудно не из-за него, а из-за тех русских, таинственных его союзников, которые являются заинтересованными поддерживать еврея там, где ему нужно обойти или нарушить закон.
Вот в этой-то бытовой черте главное затруднение справляться с еврейским вопросом там, где нужно ограждать интересы государства; так что поставленный между тем русским либералом, который равнодушен к соображениям, что евреизм есть стихия, разрушающая русскую государственность, и между тем русским, который имеет интерес личный в пользу того или другого послабления антиеврейского закона, еврей в России все проходил и проходил в русскую интеллигенцию, и уже теперь приобрел довольно прочно занятые им позиции.
И вот, глядя на эти завоеванные позиции, и задаешь себе меланхоличный вопрос: не настал ли день решать еврейский вопрос в его корне и в его сущности, и сражаться с угрожающею нам будущностью постепенного растления нашей интеллигенции?
Повторяю, это не вопрос вкусов и симпатий, – это грозный и роковой вопрос для России. Эти русские новые таланты в литературе из евреев[895], появляющиеся как раз тогда, когда нигде не видно зародыша русского таланта, – это не случайное явление: еврею, чтобы царить, нужно ставить свой трон на кладбище русского духа. Не шутите с этим явлением, оно страшно зловеще. Взгляните на Францию, на Германию, на Австрию: все таланты лежат в могилах, а из их трупных миазмов рождается талант еврея. Посмотрите на европейскую повременную печать: фундаменты редакционных дворцов – это кости христиан, а в дворцах печати сидят все евреи; оттого во всякую эпоху вы слышите умных людей, рассуждающих, но вы нигде не слышите бьющегося сердца… Увы, мы очень близки к этому ужасному состоянию печати: говорят, что печать сила, но очень немногие, высказывающие эту истину, отдают себе отчет в том, что эта сила есть сила евреизма. Разве в России сильна печать сердца, печать чувства, печать патриотиз[м]а, печать русских исторических заветов и преданий? Нет; но зато печать космополитизма, печать искусственных и дутых русских вопросов, печать, скользящая над вопросами политического и религиозного культа и никогда не говорящая прямо за принципы и основы нашего старого государственного строя, как она сильна; а откуда она явилась, как не из евреизма, нами же через гимназии и университеты пропущенного в высшие общественные слои русской интеллигенции. Еврей имеет ли право взойти на кафедру и проповедовать евреизм? Нет, слава Богу. Но величайшая аудитория может вместить 1000 человек, а еврей имеет зато право из любой газеты делать аудитории в десятки тысяч человек и проповедовать шито и крыто все то, что подготовляет умы к восприятию евреизма и прививает русской душе равнодушие к старым русским идеалам и преданиям! Разве это не странно?
В таком случае, скажут мне, – вы хотите, чтобы ни один еврей не мог участвовать ни в одном органе печати?..
Нет, я не этого хотел бы; я хотел бы нечто более простое и радикальное, – чтобы ни один еврей не был в положении писать в журналах и газетах, а для этого средство простое: гимназии и университеты не должны быть открыты для евреев; им делать нечего в области русского права, русской словесности, русской школы, русской государственной жизни.
Жизнь имеет много сторон других, где еврей может быть и терпим, и полезен…
Все дело в том, чтобы это, именно это сознать вовремя.
Суббота, 19 марта
Сегодня я останавливаюсь в своих размышлениях по еврейскому вопросу и ставлю точку. Слишком ли много, слишком ли мало я сказал, не знаю, – знаю, что сказал лишь то, что думаю и в чем убежден, хотя сознаю, что на еврейский вопрос в России не то что пяти дневников, но пяти больших томов компактного издания не хватило бы, чтобы все о нем высказать.
Но всего вернее, говоря откровенно, было бы сказать, что в том, что я писал, – я ничего не сказал. Это не столько мысль, сколько ощущение, пребывающее во мне под впечатлением того, что приходится слышать подчас от людей, тоже желающих многое сделать для обезврежения евреев, но встречающих вокруг себя какую-то глухую и непроницаемую атмосферу мглы, мешающую вопросу и двигаться, и выясняться…
В этой мгле живут невидимые и неосязательные, но могучие добрые гении евреизма…
Эти добрые гении жидовства не орудуют прямо за евреизм, но они сгущают, так сказать, и преувеличивают препятствия, воздвигающиеся на пути разрешения еврейского вопроса, и на одну мысль о дисциплинировании евреизма представляют десять мыслей в виде затруднений к осуществлению этой одной мысли. Эта мгла есть то, что побудило меня сказать, что в сущности я ничего не сказал о еврейском вопросе, ибо я не мог указать средства рассеять эту благоприятствующую евреизму мглу в нашей современной общественной жизни…
Увы, если иной государственный человек с своим арсеналом законных прав и сил бессилен подчас в борьбе с этою мглою, заволакивающею еврейский вопрос, – то что же может несчастный издатель газеты?
Но я все-таки говорю и пишу об этом несчастном вопросе, потому что совесть это велит. И наконец, искреннее убеждение рождает всегда светлую надежду. Сегодня можно допустить, что те, которые находят непреоборимое затруднение справиться с еврейским вопросом в России – в большинстве, а завтра может быть те, которые эти затруднения не считают неустранимыми, возьмут перевес. Моя надежда на это «завтра» истекает из моей веры в будущность России, ибо я не могу допустить, что Россия крепнет и растет только для того, чтобы сделаться данницею еврея и жертвой его растления.
В этом отношении быть может для многих я похож на маньяка или фанатика своего убеждения, но ничто во мне не поколеблет убеждения, что в будущем сила России зависит от крепости и целости государственного строя, а крепость и целость этого строя зависят главным образом от еврейского вопроса, то есть от вопроса – продолжится или не продолжится вербовка евреев в наше образованное общество и в области интеллигентной деятельности.
Миллионы евреев рабочих всех видов не беспокоят меня вовсе, ибо Россия слишком сильна, как народ, чтобы бояться еврейских масс; но совсем иное наше слабое и мало скрепленное образованное общество: здесь надо бояться его порабощения евреизмом в количественном и в качественном отношении. И здесь, повторяю в заключение, единственный способ борьбы – это закрытие высшего общего образования для евреев и недопущение их ни в какую область умственной деятельности не-технической.
[Конец марта[896] ]
Так как нет с моей стороны промаха, по которому добрые люди не спешили делать против меня злые комментарии, то разумеется, в каждом из таких промахов важно для меня не защита от этих желаний мне вреда – она мне не под силу, а быть в ладу со своею совестью.
Как-то раз в одной гостиной одна матрона наговорила мне свои суждения и толки по поводу благотворительных балетов в нашем свете. Под впечатлением этих толков я об них и написал в своем «Дневнике»[897]. Дня два спустя я постиг, что сделал промах, ибо 1) написал с чужих слов и понаслышке, 2) оскорбил несколько дам, и 3) как мне передавали, сделался органом целой интриги против Шуваловых специально, так как безнравственного, как мне сказали достоверные люди, бывшие на спектакле – ничего не было. Да и то сказать, я впопыхах не сообразил, что уже потому все эти моральные толки вздор, что никогда бы Шуваловы, которые прежде всего порядочные люди, не позвали бы Двор, если [бы] боялись оскорбить чью-либо нравственность.
Как бы то ни было, но я сгоряча сделал промах неосмотрительности и необдуманности, так что когда 5 дней спустя приехали ко мне генералы [Г. Р.] Васмунд и Евреинов от имени гр. [Пав. А.] Шувалова заявить о его желании, чтобы я печатно опроверг всякую связь моего Дневника с вечером у гр. Шувалова[898], и передали мне, насколько графиня [М. А.] Шувалова оскорблена, я им сказал, что в полном сознании своей вины я не только сделаю заявление, но я его помещу в Дневнике, который больше читается и, независимо от сего, считаю своим долгом чести просить у графа и у графини извинения в том, что, введенный в заблуждение, мог их невольно оскорбить. Уполномоченные предложили свою редакцию, я свою, мы согласились на одной редакции и, чтобы не могло быть предположения, что я действую только по принуждению, а именно из чувства долга и чести, я напечатал и заявление, и самообвинение!
Так я действовал под влиянием совести. В мои годы выступать Дон-Кихотом было бы только смешно; а сознавать свою вину, и публично притом, мне кажется, первый долг порядочного человека. Вот голая и простая правда.
Судить себя не могу: но внутреннее чувство говорит мне, что я поступил по совести, извинившись перед теми, кого невольно оскорбил, и изгладив впечатления на умы необдуманного и непроверенного Дневника. Лучше себя обвинить в Дон-Кихотизме, чем быть распространителем смущения и обличения ложных против других.
[Апрель[899] ]
Я провел два вечера в беседе с глаза на глаз с Муравьевым, слушал его конфиденциальный циркуляр, выслушал весь план его проектированных реформ и вынес глубоко отрадное впечатление, благословив минуту, побудившую Царя призвать человека такого к работе министра юстиции. В Муравьеве поразительны ясность взгляда и простота в обращении с вопросом. Эту ясность взгляда на предмет, добытую практикою службы, жизни и трения об людей, Муравьев умеет передавать слушателю в своем изложении. И затем его несомненно важное достоинство в том, что ему решительно все равно, что скажут либералы, что скажут наши отцы отечества в Госуд[арственном] совете, что скажет наша балаганная печать: цель намечена, воля Царская, совесть велит, и иди прямо и смело своей дорогой.
Ларчик просто открывался, вот что хочется сказать, прослушав мысли Муравьева о том, что надо сделать для улучшения судебного ведомства. Да, подумал я, с такими двумя умницами, как [С. Ю.] Витте и Муравьев, можно много сделать для счастья России и для славы Государя, не минутной, а настоящей, для славы, выражающейся в постоянном увеличении на Главу Его благословений людей.
План того грандиозного совещания, которое предполагает Муравьев около себя устроить для разработки всех реформ, имеет огромное практическое достоинство. В том или в другом виде все главные деятели и лица судебного мира перебывают в этих комиссиях и пробудут известное время в атмосфере, которой тон и характер даст и будет давать сам Муравьев: значит два, три года будет существовать школа, в которой поучатся все более или менее значащие члены судебного ведомства и так сказать возродятся или переродятся в своих взглядах на судебный мир и на его отношение к государству. А в то же время Муравьев получит возможность познакомиться ближе со всеми представителями суда и прокуратуры и собственным взглядом и чутьем отделить козлищ от овец.
Затем, что весьма мне понравилось в мыслях Муравьева, это его решимость всю реформу произвесть как можно скорее, с определением срока 2 лет и maximum’a трех лет, исходя из сознания, что совершенства достичь нельзя, что в реформе будут недостатки, но что главное, сама реформа будет сделана. Это чисто практический взгляд на вещи, который уже тем хорош, что дело будет несомненно сделано, а затем недостатки, если будут, могут быть исправляемы по мере того, как они будут обнаруживаться на практике.
Весьма важно и ценно и то, что вперед Муравьевым ничего не предрешено; следовательно, работа комиссий будет живое дело, где всякому дано будет высказаться. Этим достигнется то, что всякий с охотою будет вносить свои посильные знания и опытность, и уже после, когда соберутся и выскажутся мнения и взгляды, Муравьев будет себя признавать в праве и в состоянии по каждому предмету составить себе окончательное мнение.
Теперь вся его работа свелась к постановке вопросов, и вот эта-то работа, надо отдать ему справедливость, составлена великолепно.
В заключение остается сослаться на то, что слышишь решительно от всех приезжих и здешних: Министерство юстиции стало неузнаваемо по доступности, по любезности, по простоте обращения, по быстроте работы. Отрадно, отрадно и отрадно!
[1894[900] ]
Протопопов был земский начальник в Харьковской губернии, местный дворянин, хорошей семьи молодой человек, честный и порядочный; на сходе крестьян, выведенный из терпения дерзким упорством крестьян и неуважением их, он по молодости вышел из себя, стал кричать, угрожать, с палкою в руках, схватил одного крестьянина, словом, разгорячился; подстрекатели между крестьянами подали на него жалобу, и, увы, губернатор [А. И.] Петров, вместо того, чтобы щадить престиж звания и должности и личность самого Протопопова и подвергнуть его домашней административной каре, отдал его на позорище судебного производства, все газеты России из ненависти к учреждению земского начальника подхватили это дело и закричали: распни его, и суд приговорил несчастного Протопопова к исключению из службы, словом, опозорил и погубил человека на всю жизнь! Дело это имело ужасное значение, благодаря печати, разнесшей его по всем деревням, на авторитет и престиж нового учреждения!
Теперь прошел третий год. Несчастный Протопопов по совету своего губернского предводителя дворянства [В. А.] Капниста приехал сюда пытаться просить о помиловании! О дай Господь ему успеха! Он искупил свою вину легкомыслия и несдержанности сторицею страшными страданиями! Я ездил к [Н. В.] Муравьеву; он сказал мне, что если [И. Н.] Дурново поддержит ходатайство Протопопова, то и он сделает с своей стороны все, что от него зависит, для облегчения несчастному доступа к Царскому Милосердию!
Тут важно и то, что если блеснет луч Милосердия Царского над головою Протопопова, то событие это будет иметь важное нравственное значение в общественном мнении вообще и в мире земских начальников. А затем несчастный Протопопов получит возможность загладить грех молодости честною и доблестною службою!
[Не ранее 24 и не позднее 29 мая[901] ]
Отъезд [А. С.] Васильковского поставил меня в затруднительное положение неизвестности насчет способа доставлять подчас достойные Вашего внимания Дневники, так как имею невольный страх передавать их на почту, страх перлюстрации.
Кое-что лежит у меня готовым, а как переслать, не знаю; может быть, Вы разрешите посылать через Августейших Детей Контору, то есть через заместителя Васильковского, или через посредство С. Ю. Витте, как человека, который умеет соблюдать тайну и уж никому ничего не скажет. Только он и есть. Но затем как мне узнать: как делать? Думал, что может быть Вы удостоите сказать Витте мне передать Ваше приказание; если через Контору, то достаточно было бы сказать: пусть по-прежнему посылает, а я буду знать, что это значит. Об Витте же я подумал потому, что это лучший способ, чтобы посылание конвертов оставалось в тайне.
Осмеливаюсь также ввиду наступившего срока просить о разрешении получить мне от Витте выдаваемых мне 30 тысяч рублей.
Не могу выразить, как благодарен Богу за ощущение и сознание, что в нынешнем году легче на душе при разговоре об этой денежной помощи. Еще Бог помог подвинуть «Гражданин» за прошлый год, так что приближаюсь к цифре 5000 подписчиков; усилились доказательства сочувствия уездных предводителей дворянства и в особенности земских начальников. К тому же, как мне все говорят, «Гражданин» выиграл много в том отношении, что я совсем перестал быть резким и личным и не позволяю себе никаких отступлений от строго сдержанного образа речи.
Но успех «Гражданина» поглощается огромными затратами на предпринятое в нынешнем году издание ежедневной газеты «Русь», за 3 рубля в год для простого люда. Подписчиков пока 11 тысяч, а нужно, чтобы издание окупалось, 60 тысяч подписчиков. И вот на это-то, по-моему, святое дело и нужны мне просимые 30 тысяч; не хвастаясь, скажу, что от всех слышу самые одобрительные мнения об этой дешевой газете; следовательно, деньги не пропадают. По справкам оказывается, что «Русь» самая дешевая газета во всем мире. Позволяю себе, чтобы дать Вам о ней понятие, приложить один сегодняшний №р[902]. Все пророчат ей громадный успех на второй уже год. Дай то Бог.
Вчера застал Витте весьма встревоженным по поводу инцидента в Госуд[арственном] совете в понедельник на счет представления [Н. В.] Муравьева ходатайства Принца [А. П.] Ольденбургского о правах на пенсии учебного персонала Училища правоведения[903].
Большинство членов Общего собрания, ввиду сочувствия председателя[904] к ходатайству, высказалось за исполнение желания Принца; но гр. Делянов и Витте составили разногласие, и Витте не столько из-за денег, сколько из-за принципа справедливо, по общему отзыву, великолепно говорил против мнения большинства, так что даже Вел. Кн. Михаил Николаевич после заседания сказал [И. Н.] Дурново, что они знают, что Витте прав, но что не стоит из-за этого делать разногласие.
И действительно, нельзя не признать, что меньшинство вполне право, как нельзя сознавать того, что те размеры пенсий, которые требует Принц Ольденбургский для директора, инспектора и воспитателей Училища правоведения – слишком бесцеремонно и несправедливо велики; а разница, предлагаемая Витте – вовсе не столь велика, чтобы из-за нее установить прецедент для всякого рода таких же ходатайств в будущем. Большинство ссылается на Александровский Лицей и требует приравнения к его цифрам новых окладов для Училища правоведения; но 1) надо признать, беспристрастно рассуждая, что эти привилегии Лицея чересчур велики сравнительно со всеми другими учебными заведениями, гражданскими и военными, а 2) если допустить сегодня прецедент увеличения окладов пенсии для Училища правоведения по образцу Лицея, то завтра Госуд[арственному] Совету очень трудно будет отказывать ходатайствам других ведомств, которые будут ссылаться на его рассуждения по ходатайству Училища правоведения.
Тревога же Витте происходит от того, что нашлись добрые люди, которые сейчас же натравили против него Принца Ольденбургского. Последний, как Витте сказали, рвет и мечет и грозит, если меньшинство восторжествует и мнение его санкционируется, выйти в отставку… А рассердился Принц очевидно вследствие какой-нибудь услужливой и скверной сплетни. Витте, например, говорил в Государственном совете о том, что этим не исчерпаются для Училища правоведения мотивы снова прибегать к государственной казне за помощью, потому что спекуляция займа 360 тысяч, им сделанная в кассу дома умалишенных, оказывается для него убыточною, и затянет его в новые долги: а услужливые друзья, как передавали Витте, наговорили Принцу Ольденбургскому, что Витте будто сказал, что ходатайство Училища правоведения похоже на ходатайство сумасшедшего дома! Можно ли такой вздор допустить, а между тем сплетники таким вздором и такою ложью не побрезгали. Одна, например, цифра показывает, как умерен и основателен протест Делянова и Витте; если допустить, что директор Училища будет после 20 лет получать пенсию, оставаясь в должности, он будет получать 9000 руб. с чем-то, по ходатайству Принца Ольденбургского, а с квартирою и другими статьями будет всего около 13 тысяч; а по предложению Витте выходит вместо 9000 р. 7000 р. Разница невелика, но принцип справедливости относительно всех учебных заведений будет нарушен.
Да хранит Бог Вас и любимых Вами в разлуке с Вами – и возле Вас[905], и да радует Их Вами и Вас Ими!
Ваш старый слуга
Примечания
Том содержит 71 письмо и дневник кн. В. П. Мещерского, адресованные Александру III, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 677. Оп. 1) в следующих делах: д. 105. № 14, 46, 59, 60, 68, 69; д. 107. № 15; д. 108. № 8–10, 18-20, 32, 43, 53, 63; д. 109. № 17; д. 110. № 21, 22; д. 112. № 25; д. 113. № 13; д. 114. № 16, 28, 40-42, 45, 49; д. 115. № 34; д. 116. № 48, 52, 56; д. 117. № 23; д. 551. № 3; д. 895. № 2, 7, 30, 33, 38, 44, 57, 58; д. 897. № 1, 4–6, 11, 24, 26, 27, 29, 31, 35-37, 39, 47, 50, 51, 55, 61-62, 64, 66, 67, 70. Кроме того, в ряде случаев в ходе формирования дел некоторые письма и дневники были разделены и попали в разные дела: № 12 (в д. 108, 111), № 34 (д. 115, 897). Наконец, в отдельные блоки выделены разрозненные дневниковые записи: № 54, 66 (д. 116, 117).
АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[906]
Абаза Александр Агеевич (1821–1895) – председатель Департамента государственной экономии Госсовета (1874–1880, 1884–1892), министр финансов (1880–1881); двоюродный брат Н. С. Абазы
Абаза Николай Саввич (1837–1901) – гофмейстер (1878), сенатор (1881), начальник Главного управления по делам печати (1880–1881), председатель Комиссии по вопросу о мерах к поддержанию дворянского землевладения (с 1891 г.), член Госсовета (1890); двоюродный брат А. А. Абазы
Абдул-Хамид II (1842–1918) – султан Османской империи (1876–1909)
Абдулов Николай Филиппович (1833 –?) – полковник (1880), генерал-майор (1895), начальник Московской военно-фельдшерской школы (1878–1894), потом директор Вольской военной школы, с 1900 г. в отставке
Абдуррахман-хан (1844–1901) – эмир Афганистана с 1880 г.
Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) – критик и беллетрист, чиновник особых поручений при министре народного просвещения (1882–1904); издатель «Cанкт-Петербургских ведомостей» (1883–1896)
Адельсон Николай Осипович (1829–1901) – генерал-майор свиты, петербургский комендант (с 1882 г., утвержден в 1888 г.)
Адлерберг Екатерина Николаевна (урожд. Полтавцева; 1822–1910), графиня – статс-дама, жена А. В. Адлерберга
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – общественный деятель, публицист, издатель и редактор газет «Русская беседа», «День», «Москва», «Москвич», «Русь» и др.
Александр, принц Баттенбергский (1857–1893) – князь болгарский с 1879 по 1886 г., племянник императрицы Марии Александровны, двоюродный брат Александра III
Александр I (1777–1825) – российский император с 1801 г.
Александр II (1818–1881) – российский император с 1855 г.
Алексеев Георгий Петрович – камергер, предводитель дворянства Екатеринославской губернии (1874–1886)
Алексеев Николай Александрович (1852–1893) – московский фабрикант и благотворитель, гласный московской городской думы (с 1881 г.), московский городской голова (с 1885 г.)
Алексей Александрович, великий князь (1850–1908) – четвертый cын Александра II, генерал-адъютант, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства (1881 – июнь 1905), член Госсовета (1881)
Алопеус Иван Самойлович (1824–1904) – полковник, тайный советник (1883), инспектор (1855–1877), затем директор (1877–1890) Училища правоведения, сенатор (1890)
Альберт (1828–1902) – король Саксонии с 1873 г.
Альберт-Эдуард (1841–1910), принц Уэльский – старший сын английской королевы Виктории, с 1901 г. – король Великобритании и Ирландии Эдуард VII
Альбрехт Евгений Карлович (1842–1894) – скрипач, музыкальный педагог, инспектор музыки Императорских С.-Петербургских театров (с 1877 г.)
Анастасьев Александр Константинович (1837–1900) – пермский губернатор (1882–1884), черниговский губернатор (1885–1892), член Госсовета (1892)
Андреевский Иван Ефимович (1831–1891) – правовед, профессор Петербургского университета (1855–1887) и Училища правоведения (с 1855 г.); ректор Петербургского университета (1883–1887); брат Н. Е. Андреевского
Андреевский Николай Ефимович (1822–1889) – казанский губернатор (с 1884 г.); брат И. Е. Андреевского
Аничков Николай Милиевич (1844–1916) – директор Департамента народного просвещения Министерства народного просвещения (1884–1896), товарищ министра народного просвещения (1896–1898), сенатор (1898), член Госсовета (1905–1909)
Анненков Михаил Николаевич (1835–1899) – генерал-майор свиты (1869), генерал-лейтенант (1879), член Комитета по передвижению войск железной дорогой и водой, руководитель строительства ряда дорог, член Совета министра путей сообщения от военного ведомства (с 1884 г.), член Военного совета (с 1891 г.)
Анучин Дмитрий Гаврилович (1833–1900) – генерал-лейтенант (1877), генерал от инфантерии (1891), генерал-губернатор Восточной Сибири (1879–1885), сенатор (1885)
Апухтин Александр Львович (1822–1903) – военный топограф, попечитель Варшавского учебного округа (1879–1897), затем сенатор (1897)
Арапов Иван Андреевич (1844–1913) – генерал-майор (1882), пензенский помещик, член Совета Главного управления государственного коннозаводства (1881–1894); муж А. П. Ланской
Аристид (540–467 до н. э.) – афинский полководец и государственный деятель
Арсений (в миру Александр Дмитриевич Брянцев; 1839–1914) – епископ Ладожский (1882–1887)
Арсеньев Дмитрий Сергеевич (1832–1915) – контр-адмирал (1877), вице-адмирал (1887), начальник Николаевской морской академии и директор Морского училища (1882–1896), член Госсовета (1901)
Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893) – юрист и философ, заведующий университетским отделением и преподаватель в Лицее цесаревича Николая (директор М. Н. Катков) (с 1881 г.), цензор Московского цензурного комитета (с 1885 г.)
Байков Андрей Матвеевич (1831–1889) – юрист, городской голова Ростова (1862–1869; 1884–1889)
Бакунин Александр Александрович (1821–1908) – мировой судья в Новоторжском уезде (1864–1889) и гласный Новоторжского уездного и Тверского губернского земств (с 1865 г.); брат П. А. Бакунина
Бакунин Павел Александрович (1820–1900) – предводитель дворянства Новоторжского уезда Тверской губернии, гласный Тверского губернского земства (1865–1889), философ; брат А. А. Бакунина
Балинский Иван Михайлович (1824–1902) – психиатр, профессор Петербургской медико-хирургической (с 1881 г. – Военно-медицинской) академии (1860–1884), затем – совещательный член Военно-медицинского ученого комитета Военного министерства
Баранов Николай Михайлович (1836–1901) – капитан 1-го ранга, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в 1877 г. командовал на Черном море вооруженными пароходами «Веста» и «Россия», ковенский генерал-губернатор (1880–1881), петербургский градоначальник (9 марта – 12 августа 1881), затем архангельский (1881–1882) и нижегородский (1882–1897) губернатор
Баранович Генрих Викентьевич – учащийся Псковского землемерного училища
Баратынская Анна Давыдовна (урожд. княжна Абамелек-Лазарева; 1814–1889) – вдова умершего в 1859 г. И. А. Баратынского (родного брата поэта Е. А. Баратынского)
Барклай де Толли Михаил Богданович (1757–1818), князь (1814) – генерал от инфантерии (1809), военный министр (1810–1812), участник наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.
Батюшков Дмитрий Николаевич (1828–1909) – подольский (1882–1884), екатеринославский (1884–1890) и гродненский (1890–1899) губернатор
Батюшков Помпей Николаевич (1811–1892) – историк и этнограф, член Совета министра народного просвещения, Археографической комиссии Министерства народного просвещения и Опекунского совета учреждений императрицы Марии
Батюшкова Екатерина Федоровна (урожд. Озерова; 1833–1909) – жена Д. Н. Батюшкова
Батюшкова Софья Николаевна (урожд. Кривцова; 1821–1901) – жена П. Н. Батюшкова
Батюшковы – см.: Батюшков П. Н., Батюшкова С. Н.
Безак Николай Александрович (1836–1897) – генерал-лейтенант (1886), начальник Главного управления почт и телеграфов Министерства внутренних дел (1884–1895), член Госсовета (1895)
Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – ботаник, профессор (1863–1897) и ректор (1876–1883) Петербургского университета, член-корреспондент Академии наук (1891), председатель комитета Общества для доставления средств Высшим женским курсам (1879–1885) и председатель Педагогического совета Высших женских курсов (1882–1889)
Беккер Сарра – еврейская девочка, убитая в ночь на 28 августа 1883 г.; судебное разбирательство этого дела широко освещалось в печати
Балабанов – бухгалтер правления Общества Курско-Харьково-Азовской железной дороги
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – литературный критик и публицист
Берг Федор Николаевич (1839–1909) – писатель и публицист, редактор «Нивы» (1878–1887), затем (с 1889 г.) издатель «Русского вестника», который перевел в Петербург
Берх Александр Маврикиевич (1830–1909) – генерал-лейтенант, инженер, участник Севастопольской обороны, член Инженерного комитета Главного инженерного управления Военного министерства (с 1886 г.)
Бехтеев Сергей Сергеевич (1844–1911) – предводитель дворянства Елецкого уезда Орловской губернии (1879–1891), член Кахановской комиссии (1885), член Госсовета по назначению (1909)
Бисмарк Герберт (1849–1904), князь – советник германского посольства в России, сын О. Бисмарка
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898), князь (1871) – канцлер Германской империи (1871–1890)
Блиох Иван Станиславович (1836–1901) – экономист, предприниматель, председатель правления нескольких железнодорожных обществ
Блок Константин Александрович (1833–1897) – генерал-майор (1883), командир лейб-гвардии Конного полка (1884–1890)
Бобриков
Бобринский Алексей Александрович (1852–1927), граф – петербургский губернский предводитель дворянства (1876–1890; 1893–1897), сенатор (1896), член Госсовета по назначению (1912), министр земледелия (1916); вместе с братьями владел, кроме поместий в ряде губерний, сахарными и винокуренными заводами
Бобринский Алексей Павлович (1826–1894), граф – министр путей сообщения (1872–1874), затем в отставке; отец В. А. Бобринского
Бобринский Владимир Алексеевич (1867–1927), граф – сын А. П. Бобринского
Богданов Семен Яковлевич – член Киевского окружного суда (? – 1887)
Богданович Евгений Васильевич (1829–1914) – полковник, чиновник особых поручений при министре внутренних дел, впоследствии генерал-лейтенант, член Совета министра внутренних дел, староста Исаакиевского собора в Петербурге
Богданович (Кобозев) Юрий Николаевич (1850–1888) – революционер, участник «хождения в народ», в 1877 – начале 1879 гг. служил волостным писарем в Самарской и Саратовской губерниях, член «Народной воли» (с 1879 г.)
Боговская Фекла – псковская купчиха
Бок Георгий (Юрий) Тимофеевич фон (1818–1876) – капитан 1-го ранга Гвардейского экипажа, гофмейстер двора вел. кн. Владимира Александровича (с 1872 г.)
Боткин Сергей Петрович (1832–1889) – доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии, почетный лейб-медик (с 1873 г.), гласный Петербургской городской думы (с 1881 г.), член Временной комиссии общественного здравия Петербургской городской думы
Браун Джон (1800–1859) – американский борец за освобождение негров; был повешен по приговору суда
Брызгалов Алексей Алексеевич (? – 1888) – инспектор Московского университета с 1883 г.
Букатин – купец, городской голова г. Глухова Черниговской губернии в 1888 г.
Буланже Жорж Эрнест (1837–1891) – французский генерал и политический деятель, военный министр (1886–1887)
Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) – тамбовский вице-губернатор (декабрь 1886 – декабрь 1887), казанский (1887–1893) и московский (1893–1902) губернатор, впоследствии министр внутренних дел (1905)
Бунге Николай Христианович (1823–1895) – ученый-экономист, товарищ министра финансов (1880), министр финансов (1881–1886), председатель Комитета министров (с 1887 г.)
Бухарин Михаил Николаевич (1845–1910) – чиновник особых поручений при министре путей сообщения (1892), затем главный инспектор шоссейных и водяных сообщений, член Совета министра путей сообщения (1893)
Ваганов Николай Александрович (1837–1899) – чиновник особых поручений при министре императорского двора, член Комиссии по преобразованию местного управления под председательством статс-секретаря Каханова от Министерства императорского двора
Валуев Петр Александрович (1815–1890), граф – министр внутренних дел (1861–1868), министр государственных имуществ (1872–1879), председатель Комитета министров (1879–1881), член Госсовета (1868)
Валь Виктор Владимирович фон (1840–1915) – генерал-майор (1879), флигель-адъютант (1874), гродненский (1878–1879), харьковский (1879–1880), витебский (1880–1884), подольский (1884–1885), волынский (1885–1889) и курский (1889–1892) губернатор, петербургский градоначальник (1892–1895)
Вамбери Арминий (1832–1913) – венгерский востоковед
Ванновский Петр Семенович (1822–1904) – генерал от инфантерии, военный министр (1881–1898), министр народного просвещения (1901–1902)
Варшавский Марк Абрамович (1844–1922) – петербургский купец 1-й гильдии, банкир, сахарозаводчик
Василич Алимпий – министр народного просвещения Сербии
Васильковский Антон Степанович (1824–1895) – генерал-майор (1878), генерал-лейтенант (1886), гофмейстер (1890), шталмейстер и управляющий Конторой двора наследника вел. кн. Александра Александровича (1871–1881), помощник обер-гофмаршала высочайшего двора по хозяйственной части (1881–1891), начальник управления собственных Его Величества дворцов и заведующий делами августейших детей
Васмунт Георгий Робертович (1838–1904) – флигель-адъютант, полковник, командир лейб-гвардии Измайловского полка (1890–1893), затем – 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии (1893–1898)
Васютинский Василий Павлович (1837 –?) – генерал-майор (1879), начальник учебного отделения Главного управления военно-учебных заведений Военного министерства, затем директор московского 4-го кадетского корпуса (1883–1885), генерал-лейтенант (1893)
Вендрих Альфред Альфредович (1845 – после 1917) – полковник, преподаватель железнодорожного дела в Николаевской инженерной академии, старший инспектор железных дорог при министре путей сообщения (с 1889 г.), главный инспектор и заведующий центральной инспекцией железных дорог (с 1892 г.), член Совета министра путей сообщения (с 1893 г.)
Веригин Александр Иванович (1807–1891) – генерал от инфантерии (1868), генерал-адъютант (1864), член Госсовета (1866)
Вилламов Владимир Александрович (1836–1889) – флигель-адъютант (1876), генерал-майор свиты (1878); поэт
Вильгельм I (1797–1888) – король прусский (с 1861 г.), император германский (с 1871 г.), дядя Александра II (по матери)
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – директор Департамента железнодорожных дел Министерства финансов (1889–1892), управляющий Министерством путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903)
Владимир Александрович, великий князь (1847–1909) – третий сын Александра II, генерал-адъютант, командующий (1881–1884), затем главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа (1884–1905), член Госсовета (1872), президент Академии художеств (с 1876 г.)
Владиславлев Михаил Иванович (1840–1890) – профессор философии в Петербургском университете, историко-филологическом институте, на Высших женских курсах; с 1885 г. – декан историко-филологического факультета, с 1887 г. – ректор Петербургского университета
Властов Георгий Константинович (1827–1899) – тифлисский вице-губернатор (1863–1865), ставропольский губернатор (1868–1872); духовный писатель, переводчик
Воейков Дмитрий Иванович (1845–1896) – правитель канцелярии Министерства внутренних дел (1881–1883), затем член Статистического совета при Министерстве внутренних дел, с 1891 г. в отставке; петербургский корреспондент «Московских ведомостей»
Волконский Михаил Николаевич (1860–1917), князь – беллетрист, в 1892–1894 гг. редактор журнала «Нива»
Волконский Михаил Сергеевич (1832–1909), князь – обер-камергер, сын декабриста С. Г. Волконского, попечитель Петербургского учебного округа (1876–1882), товарищ министра народного просвещения (1882–1894), сенатор (с 1885 г.), член Госсовета (1896)
Вольдемар (1858–1939), принц – сын датского короля Христиана IX, младший брат русской императрицы Марии Федоровны
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778) – французский философ и писатель
Воронов – капитан 2-го ранга
Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916), граф – главный начальник охраны императора (1881), один из организаторов «Священной дружины», министр двора (1881–1897); друг Александра III
Воронцова-Дашкова Елизавета Андреевна (урожд. графиня Шувалова; 1845–1924), графиня – жена (с 1867 г.) гр. И. И. Воронцова-Дашкова, сестра П. А. Шувалова
Всеволожский Иван Александрович (1835–1909) – директор Императорских театров (1881–1889)
Вышнеградский Иван Алексеевич (1830–1895) – математик, член правления ряда железнодорожных компаний, член Совета министра народного просвещения (с 1884 г.), управляющий Министерством финансов (1887), затем министр финансов (1888–1892), член Госсовета (1886); брат Н. А. Вышнеградского
Вышнеградский Николай Алексеевич (1821–1872) – педагог, преподавал русскую словесность в разных учебных заведениях, в том числе в старших классах Училища правоведения; брат И. А. Вышнеградского
Габсбурги – династия монархов, правивших в Австро-Венгрии
Гагарин Константин Дмитриевич (1821–1915), князь – член Совета по тюремным делам Министерства внутренних дел, товарищ министра внутренних дел (1886–1889)
Гагарин Леонид Николаевич, князь (? – 1910) – председатель Рязанской губернской земской управы, правовед выпуска 1853 г.
Гай Муций Сцевола – легендарный герой Древнего Рима конца VI – начала V вв. до н. э.
Галкин-Враской Михаил Николаевич (1834–1916) – эстляндский (1868–1870) и саратовский (1870–1879) губернатор, начальник Главного тюремного управления при Министерстве внутренних дел (1879–1896), затем член Госсовета (1896)
Ган Дмитрий Карлович (1830–1907), барон – генерал-лейтенант, инспектор пограничной таможенной стражи (с 1893 г. – Отдельного корпуса пограничной стражи)
Ган Отто (Оскар) Федорович фон, барон – председатель правления Общества Курско-Харьково-Азовской железной дороги
Гарашанин Милутин (1843–1898) – сербский политический деятель, министр внутренних дел (1880–1883), глава кабинета и министр иностранных дел и финансов (октябрь 1884 – июнь 1887)
Гедеонов Иван Михайлович (1816–1907) – генерал от инфантерии (1883), сенатор (1865), помощник попечителя Императорского Человеколюбивого общества (1886–1887)
Гендрикова Софья Петровна (урожд. княжна Гагарина; 1862–1916), графиня – жена В. А. Гендрикова
Генрих IV (1050–1106) – император Священной Римской империи с 1056 г.
Георгиевский Александр Иванович (1829–1911) – председатель Ученого комитета (1873–1898) и член Совета министра народного просвещения (1866–1881), сенатор (1898)
Георгий Михайлович, великий князь (1863–1919) – третий сын вел. кн. Михаила Николаевича, внук Николая I
Герард Николай Николаевич (1838 – после 1917) – товарищ главноуправляющего (1883), затем главноуправляющий Собственной Е. И. В. канцелярией по учреждениям Императрицы Марии (1884–1886); с октября 1886 г. – почетный опекун; член Госсовета (1898)
Гервасий (в миру Генчо Георгиев; 1838–1919) – епископ Левкийский, викарий Пловдивской епархии (с 1873 г.), временно управлял епархией в 1883–1886 гг., митрополит Сливенский (1897); пожизненный член Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества (1884)
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – публицист, писатель, революционер
Гец Дмитрий Николаевич (1833–1900) – генерал-майор (1886), генерал-лейтенант (1896), командир 2-й бригады 5-й пехотной дивизии (1886–1889)
Гинцбург Гораций Осипович (1833–1909), барон – банкир, меценат, старший почетный член Совета Дома призрения и ремесленного образования бедных детей
Гирс Николай Карлович (1820–1895) – дипломат, товарищ министра иностранных дел и управляющий Азиатским департаментом (1875–1882), сенатор (1875), министр иностранных дел (с 1882 г.)
Гладстон Вильям Эварт (1809–1898) – английский премьер-министр (1868–1874, 1880–1885, 1892–1893)
Гогенцоллерны – королевская династия, правившая в Пруссии и Германской империи
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – писатель
Годунов Борис Федорович (1552–1605) – боярин, затем русский царь (с 1598 г.)
Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913), граф – поэт, служил в Государственной канцелярии, в 1876–1887 гг. – в отставке: предводитель дворянства Корчевского уезда (1876–1879), почетный мировой судья (с 1878 г.), председатель Корчевского съезда мировых судей (с 1879 г.); товарищ управляющего Государственным Дворянским земельным банком (1888–1890), управляющий Государственным Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками (1890–1896), затем заведующий Канцелярией вдовствующей императрицы Марии Федоровны и ее личный секретарь (с 1895 г.)
Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) – полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812 г.), главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813 г.
Голенищев-Кутузов-Толстой Павел Павлович (1843–1914) – егермейстер, состоял в ведомстве Министерства иностранных дел, опекун наследников П. П. Демидова кн. Сан-Донато
Голицын Григорий Сергеевич (Гри-Гри; 1839–1907), князь – генерал-адъютант, военный губернатор и командующий войсками Уральской области и наказной атаман Уральского казачьего войска (1876–1884), сенатор (1885), член Госсовета (1893)
Голицын Дмитрий Петрович (псевдоним Муравлин; 1860–1917), князь – чиновник Государственной канцелярии, в 1886–1887 гг. – в отставке, впоследствии председатель Русского Собрания (1901–1906), член Госсовета (1912)
Голицын Николай Николаевич (1836–1893), князь – историк и публицист консервативного направления, редактор «Варшавского дневника» (1879–1883)
Голицын Юрий Дмитриевич (1847–1896), князь – штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского полка
Голицына Софья Николаевна (урожд. Пущина; 1827–1876), княгиня – мать Ю. Д. Голицына
Головачев Петр Николаевич – капитан 2-го ранга, полицеймейстер Кронштадта
Головнин Александр Васильевич (1821–1886) – министр народного просвещения (1861–1866), член Госсовета (1862)
Голохвастов Павел Дмитриевич (1839–1892) – славянофил, публицист, в 1882 г. – помощник Н. П. Игнатьева при разработке идеи созыва Земского собора
Голубцов Сергей Платонович (1815–1888) – тайный советник, попечитель Одесского (1866–1880) и Киевского (1880–1888) учебных округов
Гольтгойер Михаил Федорович (1823–1899) – тайный советник, сенатор (1865), член Госсовета (1885), член (с 1884 г.), председатель (с 1885 г.) Особого присутствия при Госсовете для рассмотрения всеподданнейших жалоб на определения департаментов Сената (1885–1894)
Горбов Николай Михайлович (1859–1921) – деятель в области народного образования, последователь С. А. Рачинского
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), светлейший князь – дипломат, министр иностранных дел (1856–1882), член Госсовета (1856), канцлер (с 1867 г.)
Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) – профессор государственного права С.-Петербургского университета и публицист
Греви Жюль (1807–1891) – президент Французской республики (1879–1887)
Грейг Самуил Алексеевич (1827–1887) – министр финансов (1878–1880), член Комитета по делам Царства Польского (с 1878 г.), член Госсовета (1880)
Грессер Петр Аполлонович (1833–1892) – генерал-лейтенант, петербургский градоначальник (с 1882 г.)
Грессер – жена П. А. Грессера
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – дипломат, писатель, композитор
Григорий VI (в миру Георгий Фуртуниадис; 1798–1881) – патриарх Константинопольский (1835–1840; 1867–1871)
Григорий VII (в миру Гильдебранд; 1020 или 1025 – 1085) – папа римский (с 1073 г.)
Григорий XVI – см.: Григорий VI
Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) – сотрудник, затем редактор (1897–1907) газеты «Московские ведомости»
Грот Константин Карлович (1815–1897) – главноуправляющий Собственной Е. И. В. канцелярией по учреждениям Императрицы Марии (1882–1884), член Госсовета (1870)
Груев Петр Дмитриевич (1857–1942) – артиллерист, участник Русско-турецкой 1877–1878 гг. и Сербско-болгарской 1885 г. войн, затем – главнокомандующий, руководитель прорусского переворота, свергнувшего князя Александра (9.08.1886), затем эмигрировал в Россию и поступил на русскую военную службу
Груич Савва (1840–1913) – глава сербской артиллерии во время войны с Турцией 1876 г., военный министр (1877; 1887), генеральный консул в Болгарии (с 1878 г.), посланник в Афинах (с 1882 г.) и в Петербурге (с 1885 г.), министр-президент (1887, 1889)
Губонин Петр Ионович (1828–1894) – купец 1-й гильдии, железнодорожный предприниматель, гласный Московской городской думы (1873–1876, 1893–1896)
Гумбольт (Гумбольдт) Фридрих Вильгельм фон (1767–1835) – немецкий филолог, философ и государственный деятель
Гурко Иосиф Владимирович (1828–1901) – генерал-фельдмаршал, помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа и одновременно временный петербургский генерал-губернатор (1879–1880), временный одесский генерал-губернатор (1882–1883), варшавский генерал-губернатор (1883–1894), затем в отставке
Гурко Мария Андреевна (урожд. Салиас де Турнемир; 1842–1906) – жена И. В. Гурко
Гюббенет Адольф Яковлевич (1830–1901) – статс-секретарь, товарищ министра путей сообщения (1880–1885), затем министр путей сообщения (1889–1892)
Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель
Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя Иван Николаевич Горелов; 1849–1925) – артист Александринского театра (1880–1885; 1889–1924) и театра Корша (1886–1888)
Дадиани Николай Давидович (1847–1903), светлейший князь Мингрельский (1867) – генерал-майор (1878), в отставке с 1878 г., последний владетельный князь Мингрелии (1853–1866)
Далматов Константин Дмитриевич (1850 –?) – коллекционер старинных и новейших кружев, вышивок, меток и тканей; до 1883 г. служил в Министерстве государственных имуществ; его коллекция приобретена частично Министерством финансов для Строгановского училища технического рисования в Москве (1891), частично – Русским музеем в Петербурге для этнографического отдела (1900)
Данилович Григорий Григорьевич (1825–1906) – генерал-лейтенант, воспитатель сыновей Александра III, великих князей Николая и Георгия Александровичей
Делагарди
Делянов Иван Давыдович (1818–1897) – директор Публичной библиотеки (1861–1882), министр народного просвещения (1882–1897), член Госсовета (1874)
Делянова Анна Христофоровна (урожд. Лазарева; 1830–1895) – жена И. Д. Делянова
Дембовицкий Александр Станиславович (1840–1914) – могилевский губернатор (1872–1893), сенатор (1893)
Демидовы
Демосфен (384–322 до н. э.) – древнегреческий оратор
Дервиз Дмитрий Григорьевич фон (1829–1916) – сенатор (1881), член Госсовета (1884)
Дервиз Сергей Павлович фон (1863–1943) – старший сын железнодорожного коцессионера П. Г. Дервиза
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – литературный критик и публицист Добролюбов Н. П. – см.: Добрынин Н. П.
Добрынин Н. П. – писатель
Добрянский Адольф (1813–1901) – галицийский политический и общественный деятель, русофил
Долгоруков (Долгорукий) Василий Михайлович (1842 –?), князь – витебский губернатор (1884–1894)
Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891), князь – генерал-адъютант, московский генерал-губернатор (1865–1891)
Домбровский – титулярный советник, член городской управы г. Глухова Черниговской губернии в 1888 г.
Домонтович Константин Иванович (1820–1889) – директор Департамента окладных сборов Министерства финансов (1865–1874), сенатор (1874)
Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (1820–1893), князь – киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (1869–1878), русский комиссар в Болгарии (1878–1880), командующий оккупационными войсками в Болгарии (1879–1880); временный харьковский генерал-губернатор (1880–1881), главноначальствующий гражданской частью на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного округа (1882–1890), член Госсовета (1879)
Дондукова-Корсакова Надежда Андреевна (урожд. Кологривова;? – 1884), княгиня – жена А. М. Дондукова-Корсакова, в первом браке графиня Коновницына
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – писатель
Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) – военный писатель и педагог, начальник Академии Генерального штаба (1878–1889), командующий войсками Киевского военного округа (с 1889 г.)
Дрентельн Александр Романович (1820–1888) – шеф жандармов и главный начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1878–1880), временный одесский генерал-губернатор и командующий войсками Одесского военного округа, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор и одновременно временный черниговский и полтавский губернатор (1881–1888), член Госсовета (1878)
Дубасовы – семья Ф. В. Дубасова. Федор Васильевич Дубасов (1845–1912) – моряк, капитан 2-го ранга (1885), капитан 1-го ранга (1887), контр-адмирал (1893), впоследствии адмирал (1906), московский генерал-губернатор (1905–1906), член Госсовета (1906)
Дурново Екатерина Григорьевна (урожд. Акимова; 1852–1927) – жена П. Н. Дурново
Дурново Иван Николаевич (1834–1903) – екатеринославский губернатор (1870–1882), товарищ министра внутренних дел (1882–1886), главноуправляющий Собственной Е. И. В. канцелярией по учреждениям Императрицы Марии (1886–1889), министр внутренних дел (1889–1895), председатель Комитета министров (1895–1903), член Госсовета (1886)
Дурново Петр Николаевич (1842–1915) – вице-директор (1883–1884), затем директор Департамента полиции (1884–1893), сенатор (1893), товарищ министра внутренних дел (1900–1905)
Дурново Петр Павлович (1835–1919) – генерал-лейтенант (1876), управляющий Департаментом уделов (1882–1884), председатель Славянского благотворительного общества (1883–1888), гласный Петербургской городской думы (1881–1917), член Госсовета (1904)
Дьячкова – начальница училища в Софии в 1880-х гг.
Дюваль Жорж (1847–1919) – французский драматург и журналист
Евгения Максимилиановна (1845–1925), принцесса Ольденбургская – дочь герцога Максимилиана Лейхтенбергского и великой княгини Марии Николаевны, жена принца Александра Петровича Ольденбургского (с 1868 г.)
Евреинов Александр Александрович (1843–1905) – генерал-майор (1889), командир лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии батальона (1887–1893), затем лейб-гвардии Измайловского полка (1893–1898)
Екатерина II (урожд. принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербтская; 1729–1796) – жена императора Петра III, мать Павла I, императрица с 1762 г.
Ермаков Николай Андреевич (1823–1897) – директор (1879–1886) Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов
Ермолов Александр Сергеевич (1851 – 1917 или позднее) – вице-директор (1881–1883), затем директор (1883–1892) Департамента неокладных сборов Министерства финансов, товарищ министра финансов (1892–1893), управляющий земледелия (1893) и министр (1894–1905) Министерства земледелия и государственных имуществ, член Госсовета (1905)
Желябов Андрей Иванович (1851–1881) – революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли», один из организаторов покушения на Александра II 1 марта 1881 г., казнен
Жихарев Сергей Степанович (1834–1890) – прокурор Саратовской судебной палаты, затем сенатор (1877)
Жомини Александр Генрихович (1817–1888), барон – старший (первый) советник Министерства иностранных дел (1856–1888)
Жуковский Юлий Галактионович (1833–1907) – писатель и администратор, в начале 1860-х – один из ведущих сотрудников «Современника»; затем – управляющий отделом по делам Царства Польского в Министерстве финансов (1883–1884), с 1885 г. состоял при министре финансов, управляющий Государственным банком (1889–1894)
Журавский Дмитрий Иванович (1821–1891) – инженер, директор Департамента железных дорог (1877–1884), затем председатель Технического отделения Совета Министерства путей сообщения (1885–1889)
Забугин Николай Павлович (1846–1900) – вице-директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов, член Совета министра финансов
Заика Владимир Денисович (1833–1893) – директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел (1880–1886)
Зак – банкир
Замятнин Дмитрий Николаевич (1805–1881) – министр юстиции (1862–1867)
Засулич Вера Ивановна (1849–1910) – революционерка-террористка
Захарьин Григорий Антонович (1829–1897) – врач-терапевт, профессор и директор терапевтической клиники Московского университета (1869–1896), почетный член Петербургской Академии наук (с 1885 г.)
Зверев Константин Яковлевич (1821–1890) – генерал-лейтенант (1873), инженер-генерал (с 1887 г.), товарищ генерал-инспектора по инженерной части вел. кн. Николая Николаевича (с 1882 г.)
Зилотти (Зилоти) Илья Матвеевич – штабс-капитан, предводитель дворянства Старобельского уезда Харьковской губернии
Зиновьев Иван Алексеевич (1835–1917) – дипломат; посланник в Персии (1876–1883), директор Азиатского департамента МИД (1883–1891), затем посланник в Швеции
Иванов Гавриил Афанасьевич (1828–1901) – филолог-классик, профессор Московского университета, декан историко-филологического факультета (1885–1887; 1894–1899), ректор Московского университета (1887–1891)
Иванов Федор Федорович (1841–1914) – юрист, председатель Кишиневского, потом Варшавского (1884–1889) окружного суда, Саратовской судебной палаты (1889–1893), сенатор (1894)
Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849–1916) – революционер, участник «хождения в народ», в 1877 – начале 1879 гг. служил помощником волостного писаря и волостным писарем в Самарской и Саратовской губерниях, член «Народной воли» (с 1879 г.)
Иващенков Анатолий Павлович (1842–1906) – управляющий железнодорожным отделом Государственного контроля (1884–1891), товарищ министра финансов (1892–1897)
Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906), граф – генерал-лейтенант, начальник штаба гвардейского корпуса (с 1881 г.), иркутский (1885–1889) и киевский (1889–1896) генерал-губернатор, член Госсовета (1896); брат Н. П. Игнатьева
Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф – дипломат, министр государственных имуществ (25 марта – 5 мая 1881 г.), затем министр внутренних дел (1881–1882), член Госсовета (1877); брат А. П. Игнатьева
Игнатьева Софья Сергеевна (урожд. княжна Мещерская; 1850–1944), графиня – жена А. П. Игнатьева
Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – историк и консервативный публицист, автор ряда учебников по русской и зарубежной истории
Ильин Алексей Афиногенович (1834–1889) – генерал-майор (1878), картограф и издатель, один из организаторов и владелец «Картографического заведения» – первого специализированного картографического издательства в России; до начала XX в. – монополист в издании карт и атласов
Ильин Николай Павлович (1832–1892) – профессор и директор (1879–1891) Петербургского Технологического института
Имеретинский Александр Константинович (1837–1900), светлейший князь – генерал-адъютант, начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа (1879–1881), главный военный прокурор и начальник главного военно-судного управления (1881–1891), член Госсовета (1892)
Иоанн IV Грозный (1530–1584) – московский великий князь с 1533 г., царь с 1547 г.
Иоанникий (в миру Иоанн Максимович Руднев; 1826–1900) – митрополит Московский и Коломенский (1882–1891), затем Киевский и Галицкий
Исаков Николай Васильевич (1821–1891) – начальник Главного управления военно-учебных заведений (1863–1881), член Госсовета (1881)
Истомин Александр Петрович – инспектор прогимназии в г. Белеве Тульской губернии
Кази Михаил Ильич (1839–1896) – моряк, управляющий Балтийским судостроительным заводом (1877–1892)
Казнаков Николай Иванович (1834–1906) – контр-адмирал (1882), вице-адмирал (1889), адмирал (1901); директор Канцелярии Морского министерства (1880–1882) и Инспекторского департамента Морского министерства (1883–1884), затем начальник отряда судов в Средиземном море, главный инспектор морской артиллерии (1886–1890), командующий эскадрой Балтийского флота (1891–1993), командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта (1893–1899)
Калугин Сергей Федорович (1842–1890) – прозаик, журналист, сотрудник «Гражданина»
Кальноки Густав (1832–1898), граф – австро-венгерский политический деятель, с 1880 г. – посол в Петербурге, в 1881–1895 гг. – министр иностранных дел и председатель австрийского общеимперского совета министров
Канкрин Егор Францевич (1774–1845) – генерал от инфантерии (1828), министр финансов (1823–1844)
Кантакузен Михаил Алексеевич (1840–1896), князь – генерал-майор (1878), военный министр Болгарии (1883–1885), военный атташе в Болгарии (1885), затем в распоряжении военного министра, начальник штаба 13-го армейского корпуса (1887–1891)
Кантакузен Михаил Родионович (1848–1894), князь, с 1872 г. – граф Сперанский – шталмейстер, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел (1882–1894)
Капнист Василий Алексеевич (1838–1910), граф – харьковский губернский предводитель дворянства (1888–1902)
Капнист Павел Александрович (1842–1904), граф – юрист, прокурор Московской судебной палаты, затем попечитель Московского учебного округа (1880–1895), сенатор (1895)
Капустин Михаил Николаевич (1828–1899) – профессор международного права Московского университета (с 1850 г.), затем директор Демидовского лицея в Ярославле (1870–1883), попечитель Дерптского (1883–1890) и Петербургского (1890–1895) учебных округов, читал лекции наследнику Николаю Александровичу, сыну Александра III
Каравелов Петко (1840–1903) – болгарский политический деятель; в 1879–1884 гг. несколько раз занимал пост премьер-министра и министра финансов
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) – революционер, совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на Александра II
Карамзин Александр Николаевич (1816–1888) – сын Н. М. Карамзина, помещик Ардатовского уезда Нижегородской губернии
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – писатель и историк, дед В. П. Мещерского по матери
Карамзина Елизавета Николаевна (1821–1891) – дочь Н. М. Карамзина, фрейлина
Карамзина Наталья Васильевна (урожд. княжна Оболенская; 1827–1882) – жена Ал. Н. Карамзина
Картавцев (Картавцов) Евгений Епафродитович (1850–1932) – экономист, управляющий Акционерным обществом Северо-Западных железных дорог, управляющий Крестьянским и Дворянским земельными банками
Карташевский (Кардашевский) Виктор Игнатьевич (1840–1916) – полковник (1882), генерал-майор (1892), командир эскадрона, потом директор Николаевского кавалерийского училища
Карцев (Карцов) Павел Петрович (1821–1892) – генерал от инфантерии, состоял при Главном штабе (с 1878 г.), с 1885 г. в запасе; военный писатель, сотрудничал в «Русском вестнике» и «Гражданине»
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, профессор Московского университета (1845–1850), редактор газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник»
Каткова Софья Петровна (урожд. княжна Шаликова; 1822 –?) – жена М. Н. Каткова
Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929) – генерал-майор, военный министр Болгарии (1882), затем председатель Совета министров и регент княжества (1883)
Каульбарс Николай Васильевич (1842 –?), барон – генерал от инфантерии, военный агент в Австро-Венгрии (1881–1886); в 1886 г. послан в Болгарию с особым дипломатическим поручением
Каханов Иван Семенович (1825–1909) – генерал от артиллерии, виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор в 1884–1893 гг., член Госсовета (1893)
Каханов Михаил Семенович (1833–1900) – статс-секретарь, псковский губернатор (1868–1872), затем управляющий делами Комитета министров (1872–1880), член Верховной распорядительной комиссии (1880), товарищ министра внутренних дел (1880–1881), член Госсовета (1881), председатель Особой комиссии для составления проектов местного управления (Кахановская комиссия, 1881–1885)
Качалов Николай Александрович (1818–1891) – директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов (1870–1882)
Келлер Федор Эдуардович (1850–1904) – полковник, флигель-адъютант, командир лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии батальона (1882–1890)
Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) – адъютант вел. кн. Константина Николаевича (1862–1892); генерал от кавалерии (1907); публицист
Кладищев Дмитрий Петрович (1838–1903) – генерал-майор (1884), рязанский губернатор (1886–1893)
Клейнмихель Владимир Петрович (1839–1882), граф – генерал-майор (1878), командир лейб-гвардии Семеновского полка (с 1879 г.), сын П. А. Клейнмихеля
Клейнмихель Екатерина Петровна (урожд. княжна Мещерская; 1843–1924), графиня – родная сестра князя В. П. Мещерского, жена гр. В. П. Клейнмихеля
Клейнмихель Мария Эдуардовна (урожд. Келлер; 1846–1931), графиня – жена Н. П. Клейнмихеля и невестка П. А. Клейнмихеля
Клейнмихель Петр Андреевич (1793–1869), граф – военный министр (1842), управляющий путями сообщений и публичными зданиями (1842–1855), член Госсовета (1842)
Климент (в миру Василий Друмев; 1838 или 1841 – 1901) – митрополит Тырновский (с 1884 г.), болгарский писатель и церковный деятель, участник прорусского переворота 1886 г. и председатель совета министров в сформированном правительстве (существовало 9–11 августа), политический противник С. Стамболова
Клингенберг Николай Михайлович – ковенский губернатор (1890–1896)
Ковалевский Владимир Иванович (1848–1934) – вице-директор Департамента окладных сборов Министерства финансов (1882–1886), директор Департамента торговли и мануфактур (1892–1900) Министерства финансов, товарищ министра финансов (1900–1902)
Козлов – юнкер Николаевского кавалерийского училища, сын В. А. Козлова
Козлов В. А.
Колбасин Константин Петрович – прокурор Екатеринославского окружного суда
Колышко Иосиф Иосифович (1861–1938) – писатель и публицист, активный сотрудник изданий Мещерского, чиновник Министерства внутренних дел (1882–1889), Министерства путей сообщения (1889–1894)
Комаров Александр Виссарионович (1830–1904) – генерал от инфантерии; начальник Закаспийской области (1883–1890)
Константин Великий (272–337) – римский император с 306 г.
Константин Николаевич, великий князь (1827–1892) – второй сын Николая I, генерал-адмирал (с 1855 г.), председатель Госсовета (1865–1881), президент Императорского Русского музыкального общества (с января 1873 г.), с 1881 г. – в отставке
Коншин Николай Николаевич (1833–1918) – купец 1-й гильдии
Коробьин Владимир Григорьевич (1826–1895) – сенатор (1874), одноклассник К. П. Победоносцева по Училищу правоведения
Корсаков Павел Асигкритович (1847–1908) – гласный уездного Весьегонского и губернского Тверского земского собраний (с 1874 г.), член Тверской губернской земской управы (1874–1884), управляющий С.-Петербургской казенной палатой (1884–1894)
Корф Андрей Николаевич (1831–1893), барон – генерал-лейтенант (1878), генерал-адъютант (1879), приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского военного округа (с 1884 г.)
Корш Федор Адамович (1852–1923) – театральный предприниматель, антрепренер, создатель частного Русского драматического театра (Москва, 1882)
Костович Огнеслав Стефанович (Игнатий Степанович) (1851–1916) – конструктор-изобретатель управляемого летательного аппарата
Кочетов Евгений Львович (псевдоним Евгений Львов; 1845–1905) – публицист, сотрудник «Нового времени»
Кочубей Елена Павловна (урожд. Бибикова; 1812–1888), княгиня – статс-дама (1882), кавалерственная дама, обер-гофмейстерина императрицы Марии Федоровны (1885)
Кояндер Александр Иванович (1846–1910) – русский дипломатический агент в Болгарии (1884–1886)
Краевский Андрей Александрович (1810–1889) – публицист, издатель и редактор ряда изданий, в том числе журнала «Отечественные записки» (1839–1867) и газеты «Голос» (1863–1883)
Красносельский Исаак Давидович – управляющий Гинцбургов в Сибири
Красовская – жена А. Я. Красовского
Красовский Антон Яковлевич (1821–1898) – доктор медицины, лейб-акушер (1874), директор Петербургского родовспомогательного заведения (с 1871 г.)
Красовский Иван Иванович – инспектор Московского университета
Крестовский Всеволод Владимирович (1840–1895) – писатель, чиновник особых поручений при туркестанском генерал-губернаторе М. Г. Черняеве (1882–1884), затем причислен к Министерству внутренних дел, сотрудник «Гражданина», редактор «Варшавского дневника» (с 1892 г.)
Кривенко Василий Силович (1854–1931) – старший секретарь (1886–1888), затем заведующий (1888–1897) канцелярией Министерства императорского двора и уделов
Кривошеин Аполлон Константинович (1833–1902) – гофмейстер, член Ростовской городской управы (с 1871 г.) и ростовский городской голова (1874–1878), гласный Ростовского окружного земского собрания и Екатеринославского губернского земского собрания (1872–1881); предводитель дворянства Ростовского округа области Войска Донского (1871–1884); в 1884 г. причислен к Министерству внутренних дел, директор Хозяйственного департамента этого министерства (1891–1892), министр путей сообщения (1892–1894)
Кривский Павел Александрович (1827–1905) – камергер, саратовский губернский предводитель дворянства (1876–1887)
Кромвель Оливер (1599–1658) – английский государственный деятель и военачальник, руководитель Английской революции 1640–1660 гг., лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии (1653–1658)
Крыжановский Яков Антонович – исправник г. Глухова Черниговской губернии
Крылов Иван Андреевич (1769–1844) – баснописец
Кузнецов Александр Григорьевич (1855–1895) – чайный торговец, благотворитель
Куломзин Анатолий Николаевич (1838–1924) – гофмейстер, статс-секретарь, управляющий делами Комитета министров (1883–1902)
Курбе (Courbet) Амедей-Анатоль-Проспер (1827–1885) – французский адмирал
Куровский Евгений Александрович (1845–1909) – ковенский губернатор (1887–1890)
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал-майор (1882), генерал-лейтенант (1890), участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., туркестанских походов М. Д. Скобелева 1880–1881 гг., начальник Туркестанской стрелковой бригады (с 1882 г.), командующий войсками Закаспийской области (1890–1898), впоследствии – военный министр (1898–1904)
Кутузов – см.: Голенищев-Кутузов
Кюи Цезарь Антонович (1835–1918) – генерал-майор, профессор фортификации Николаевской инженерной академии (1880), композитор и музыкальный критик
Лавров Г. А. – содержатель увеселительного сада
Лазаревы – потомки адмирала М. П. Лазарева (1788–1851)
Ламанский Евгений Иванович (1825–1902) – экономист, товарищ управляющего, затем управляющий Государственным банком (1862–1883), академик
Ланин Николай Петрович (1832–1895) – московский купец и публицист; издатель и редактор газеты «Русский курьер» (1880–1891)
Ланская Александра Петровна (1845–1919) – дочь Н. Н. Пушкиной (урожд. Гончаровой) от ее второго брака с П. П. Ланским; жена генерал-лейтенанта И. А. Арапова
Лассаль Фердинанд (1825–1864) – немецкий социалист, деятель рабочего движения
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – религиозный мыслитель, писатель, публицист и литературный критик; цензор Московского цензурного комитета (1880–1887), с 1874 г. часто и подолгу жил в Оптиной пустыни, незадолго до смерти постригся в монахи
Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) – профессор классических древностей в Московском университете (с 1847 г.), публицист, соиздатель «Московских ведомостей» (с 1865 г.)
Лермонтов Александр Михайлович (1838–1906) – генерал-майор, командир лейб-гвардии Кирасирского полка, 2-й командир бригады Первой гвардейской кавалерийской дивизии
Лерхе Морис Густавович (1834–1891) – генерал-лейтенант (1881), флигель-адъютант (1869), участник Ташкентского похода М. Г. Черняева (1864), затем служил в Петербурге, с 1881 г. в отставке
Либих Юстус фон (1803–1873) – немецкий химик
Лихачев Владимир Иванович (1837–1906) – гласный Петербургской городской думы (1865–1897), председатель С.-Петербургского мирового съезда (1881–1885), петербургский городской голова (1885–1892)
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888), граф – временный харьковский генерал-губернатор (1879–1880), начальник Верховной распорядительной комиссии (1880), министр внутренних дел (1880–1881)
Луи-Филипп Альбер, герцог Орлеанский, граф Парижский (1838–1894) – внук французского короля (1830–1848) Луи-Филиппа I, претендент на французский престол
Лукошков Василий Викторович – пермский губернатор (1885–1892)
Лутковский Иосиф Васильевич (1814–1891) – петербургский вице-губернатор (1868–1871), в 1872 и 1873 гг. исполняющий должность, а с 1874 по 1889 г. – губернатор Петербурга
Лысогорский Владимир Андреевич – тобольский губернатор в 1878–1886 гг.
Любимов Дмитрий Николаевич (1864–1942) – сын Н. А. Любимова, впоследствии виленский губернатор (1906–1912), сенатор (1914)
Любимов Николай Алексеевич (1830–1897) – профессор физики Московского университета, публицист, сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей», член Совета министра народного просвещения (с 1882 г.)
Людовик XV (1710–1774) – король Франции c 1715 г.
Людовик XVI (1754–1793) – король Франции с 1774 г.; во время Великой французской революции низложен (21 сентября 1792 г.) и казнен (21 января 1793 г.)
Маассум, эмир – см.: Шахмурад
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – поэт, председатель Центрального комитета цензуры иностранной (с 1889 г.), сотрудник ряда консервативных изданий, в том числе «Гражданина»
Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский политический мыслитель, историк, писатель
Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) – английский государственный деятель и писатель, автор «Истории Англии» («History of England from the Revolution of 1688») в 5 т. (1848–1861)
Максимов Александр Яковлевич (1851–1896) – морской офицер, лейтенант (1881), капитан 2-го ранга (1891), служил на Балтийском флоте; прозаик и публицист
Максимович Василий Николаевич (1832 –?) – генерал-лейтенант (1885), генерал от инфантерии (1898) – начальник 5-й пехотной дивизии (1885–1892), затем командир 2-го армейского корпуса; с 1906 г. в отставке
Малафеев Николай Ясонович – кутаисский вице-губернатор (1873–1878), затем губернатор (1878–1883)
Мальцов Иван Сергеевич (1847–1920) – полковник, флигель-адъютант, сын и наследник С. И. Мальцова, глава (в 1884–1885 гг.) Мальцовского промышленно-торгового товарищества
Манасеин Николай Авксентьевич (1834–1895) – юрист, сенатор (1880), министр юстиции (1885–1894), член Госсовета (1885)
Мансуров Борис Павлович (1826–1910) – сенатор (1865), член Госсовета (1872); брат Н. П. Мансурова
Мансуров Николай Павлович (1830–1911) – директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел (1866–1879), управляющий делами Комитета министров (1880–1883), член Госсовета (1883); брат Б. П. Мансурова
Марикс Юлий – французский фабрикант шелковых изделий, русский консул в Лионе
Мария Александровна (урожд. Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская; 1824–1880) – императрица, жена Александра II
Мария Александровна, великая княгиня (1853–1920) – дочь императора Александра II, жена (с 1874 г.) герцога Эдинбургского Альфреда-Эрнеста-Альберта
Мария Николаевна, великая княгиня (1819–1876) – дочь Николая I, замужем за герцогом Максимилианом Лейхтенбергским (с 1839 г.), затем за графом Г. А. Строгановым (с 1854 г.)
Мария Павловна, великая княгиня (урожд. Мария-Александрина-Елизавета-Элеонора, принцесса Мекленбург-Шверинская; 1854–1920) – жена третьего сына Александра II вел. кн. Владимира Александровича (с 1874 г.)
Мария Федоровна (урожд. Дагмар Софья Фредерика, принцесса датская; 1847–1928) – русская императрица (с 1881 г.), жена Александра III
Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) – романист и публицист, чиновник особых поручений при министре народного просвещения (с 1866 г.), затем член Совета министра; с 1875 г. в отставке
Маркевич – сын Б. М. Маркевича
Маркевич – жена Б. М. Маркевича
Маркс Адольф Федорович (1838–1904) – издатель журнала «Нива» с 1869 г.
Маркс Карл (1818–1883) – социолог и экономист, видный деятель международного рабочего движения, основоположник научного коммунизма
Маркус Владимир Михайлович (1826–1901) – сенатор (1879), член Госсовета (1884)
Мартынов Валериан Дмитриевич (1841–1901) – флигель-адъютант и вице-президент Придворной конюшенной конторы (с 1881 г.), управляющий Придворным конюшенным ведомством (1888–1891), сенатор (1891)
Махотин Николай Антонович (1830–1903) – генерал-лейтенант, главный начальник военно-учебных заведений (1881–1889), член Госсовета (1899)
Меркулов Михаил Моисеевич – управляющий канцелярией киевского, подольского и волынского генерал-губернатора (1881–1888)
Мещерская Мария Александровна (урожд. гр. Панина; 1830–1903), княгиня – жена кн. Н. П. Мещерского
Мещерский Николай Николаевич, князь – деятель народного образования в Могилевской губернии
Мещерский Николай Петрович (1829–1894), князь – гофмейстер, попечитель Московского учебного округа (1874–1880); старший брат В. П. Мещерского
Мещерский Петр Иванович (1802–1876), князь – отставной подполковник, отец В. П. Мещерского
Милан Обренович (1854–1901) – сербский князь Милан IV (с 1868 г.), затем король Милан I (с 1882 г.); в 1889 г. отрекся от престола
Миллер Орест Федорович (1833–1889) – профессор (1870) истории русской литературы Петербургского университета
Милль Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ и политический деятель, идеолог социал-реформизма
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф – генерал-адъютант, военный министр (1861–1881)
Мингрельский Н. Д. – см.: Дадиани Н. Д.
Миронович Иван Иванович – отставной подполковник, владелец ссудной кассы в Петербурге, обвинявшийся в убийстве еврейской девочки Сары Беккер
Михаил (в миру Милой Иоаннович; 1826–1898) – митрополит Сербский (1859–1881, 1889–1898)
Михаил Николаевич, великий князь (1832–1909) – сын Николая I, генерал-фельдцейхмейстер, наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской армией (1863–1881), председатель Госсовета (1881–1905)
Молоствов Михаил – офицер, вернувшийся из Болгарии в 1885 г., бывший преображенец
Моренгейм Артур Павлович (1824–1906), барон – посол России во Франции (1884–1894)
Мориц Петр Алексеевич – действительный член совета Императорского Человеколюбивого общества, почетный член С.-Петербургского совета детских приютов, управляющий родильным госпиталем и повивальным институтом, почетный опекун, член С.-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии
Мосолов Александр Николаевич (1844–1904) – директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел (1879–1882; с 1894 г.), вологодский (1882) и новгородский (1882–1894) губернатор, член Госсовета (1904)
Музаффар ад-Дин Бахадур-хан (1821 или 1824 – 1885) – эмир бухарский с 1860 г., сын и преемник эмира Насруллы Бахадур-хана
Муравьев Михаил Николаевич (старший) (1796–1866), граф с 1865 г. – министр государственных имуществ (1856–1861), генерал-губернатор Северо-Западного края (1863–1865); председатель Верховной следственной комиссии по делу Д. В. Каракозова, член Госсовета (1850)
Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) – прокурор Петербургской судебной палаты (1881–1884), обер-прокурор уголовного Кассационного департамента Сената (1891–1892), государственный секретарь (1892–1893), министр юстиции (1894–1905)
Мураневич Александр Иович – предприниматель, владелец фирмы «Русско-балканская торговля», идеолог экономического проникновения России на Балканы
Муткуров Савва (1852–1891) – болгарский генерал, получил образование в России, состоял на русской службе, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; затем служил в Восточной Румелии, командир расположенных в Филиппополе (Пловдиве) частей; участник Филиппопольского переворота (6.12.1885), приведшего к объединению Болгарии, затем член временного правительства; после прорусского переворота (9.08.1886) – главнокомандующий болгарской армией, но вскоре перешел на сторону Стамболова и занял Софию; один из трех регентов (8.09.1885–2.08.1887); при вновь избранном болгарском князе Фердинанде Кобургском – военный министр в правительстве С. Стамболова (20.8.1887–18.5.1894)
Муций Сцевола – см: Гай Муций Сцевола
Набоков Дмитрий Николаевич (1826–1904) – министр юстиции (1878–1885), член Госсовета (1876)
Наполеон I (1769–1821) – консул Французской республики (с 1799 г.), император Франции (1804–1814; 1815)
Наполеон III (1808–1873) – президент Французской республики (1848–1852), затем император Франции (1852–1870); племянник Наполеона I
Нарышкина Елизавета Алексеевна (урожд. княжна Куракина; 1838–1928) – жена А. Д. Нарышкина (1829–1883), гофмейстерина вел. кн. Ольги Федоровны (1884–1891), затем обер-гофмейстерина императрицы Александры Федоровны, председательница ряда благотворительных обществ, в том числе Общества попечения о бедных и больных детях
Насрулла Бахадур-хан (1806–1860) – эмир Бухарский с 1827 г., отец и предшественник эмира Музаффара ад-Дина Бахадур-хана
Наталья Обренович (1859–1941) – принцесса (с 1875), затем королева Сербская (1882–1888), жена Милана I
Нахимов Павел Степанович (1803–1855) – адмирал, герой обороны Севастополя в 1854–1855 гг.
Нелидов Александр Иванович (1835–1910) – дипломат, советник посольства в Константинополе (1874–1877), директор дипломатической канцелярии при штабе действующей армии (1877–1878), посол в Турции (1883–1897)
Нелидова Елена Николаевна (урожд. Анненкова; 1837–1904) – вдова генерал-майора И. А. Нелидова (ум. 1861), сестра М. Н. Анненкова
Неронов Федор Петрович (1832–1906) – в 1882–1889 гг. директор канцелярии министра путей сообщения (в 1870–1880 гг. носила название Департамента общих дел)
Нечаев Александр Афанасьевич (1845–1922) – врач-терапевт, ученик С. П. Боткина, главный врач женского отделения (1885–1890), а затем всей Обуховской больницы
Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (1834–1913) – предприниматель и меценат
Никодим (в миру Николаос Цинцонис; 1828–1910) – настоятель Иерусалимского подворья в Москве (1877–1883), затем патриарх Иерусалимский (1883–1890)
Никола I Петрович-Негош (1841–1921) – князь (с 1860 г.), затем король (1910–1918) Черногории
Николаев Павел Никитич (1837–1895) – товарищ министра финансов (1881–1886), член Госсовета (1887)
Николаи Александр Павлович (1821–1899), барон – статс-секретарь, член Госсовета (1875), министр народного просвещения (1881–1882), председатель Департамента законов Госсовета (1884–1889)
Николай I (1796–1855) – российский император с 1825 г.
Николай Александрович, великий князь (1843–1865) – старший сын Александра II, наследник престола
Николай Александрович, великий князь (1868–1918) – старший сын Александра III, наследник престола, с 1894 по 1917 г. – император Николай II
Николай Николаевич (старший), великий князь (1831–1891) – сын Николая I, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа (1864–1880)
Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919) – моряк, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., командир миноноски «Палица» (с 1878 г.), адъютант вел. кн. Алексея Александровича (1890–1903), командовал разными судами Балтийского флота, с октября 1905 г. – флаг-капитан императора Николая II
Новиков Иван Петрович (1824–1890) – генерал-лейтенант, помощник попечителя Киевского учебного округа, затем попечитель Петербургского учебного округа (1885–1890)
Новосельский Николай Александрович (1818–1898) – экономист, предприниматель, городской голова Одессы (1867–1878), член Совета министра финансов (с 1893 г.)
Ностиц Иван Григорьевич (1824–1905), граф – генерал-лейтенант, в отставке с 1874 г., фотограф, участник многих фотовыставок
Нотович Иосиф Константинович (1849–1914) – редактор и издатель газеты «Новости» и журнала «Петербургская жизнь»
Оболенский Алексей Васильевич (1819–1884), князь – генерал-майор свиты (с 1860 г.), московский губернатор (1861–1866), сенатор (1867)
Оболенский Дмитрий Александрович (1822–1881), князь – юрист, сенатор (1870), член Госсовета (1872)
Оболенский Михаил Александрович (1821–1886), князь – ковенский (1868–1874) и воронежский (1874–1878) губернатор, сенатор (1884)
Обручев Владимир Александрович (1836–1912) – сотрудник «Современника» (1861), арестован за распространение прокламации «Великорусс», в 1884 г. вновь принят на службу в Морское ведомство, старший делопроизводитель Главного морского штаба, вышел в отставку в чине генерал-майора в 1906 г.
Обручев Николай Николаевич (1830–1904) – генерал-лейтенант, начальник Главного штаба Военного министерства (1881–1898)
Огрицко – см.: Огрызко И. П.
Огрызко Иосафат Петрович (1827–1890) – юрист, публицист и издатель, вице-директор Департамента неокладных сборов Министерства финансов (1863–1865)
Озеров Александр Петрович (1817–1900) – посланник в Афинах (1857–1861) и Берне (1861–1869), шталмейстер (1869), обер-гофмейстер (1880), член Совета Императорского Человеколюбивого общества (1874)
Озеров Давид Александрович – адъютант лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии батальона
Озеровы
Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932), принц – генерал-лейтенант, командир Гвардейского корпуса (1885–1889), попечитель Училища правоведения (с 1881 г.)
Ону Михаил Константинович (1835–1901) – дипломат, в 1878–1880 гг. – первый драгоман русского посольства в Константинополе, в 1890–1901 гг. – посланник в Афинах
Оом Федор Адольфович (1826–1898) – секретарь императрицы Марии Федоровны
Оржевский Петр Васильевич (1839–1897) – товарищ министра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жандармов (1882–1887), сенатор (с 1884 г.), виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор (1893–1897)
Орлов Николай Алексеевич (1827–1885), князь – генерал-адъютант, чрезвычайный посланник и полномочный министр в Бельгии (1859–1869), Австро-Венгрии (1869–1870) и Англии (1870–1871), посол во Франции (1871–1884), друг Александра III
Островский Александр Николаевич (1823–1886) – драматург, инициатор и председатель (с 1874 г.) Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, с конца 1885 г. – начальник репертуара Императорского московского театра и директор театрального училища
Островский Михаил Николаевич (1827–1901) – товарищ государственного контролера (1871–1878), сенатор (1872), статс-секретарь (1874), член Госсовета (1878), министр государственных имуществ (1881–1893)
Пазухин Алексей Дмитриевич (1845–1891) – алатырский уездный предводитель дворянства Симбирской губернии, затем правитель канцелярии Министерства внутренних дел (1886–1890)
Пайэн (Пайен) Ансельм (1795–1871) – французский химик
Пален Александр Матвеевич фон (1819–1895), барон – предводитель дворянства Эстляндской губернии (1862–1868), председатель правления (с 1868 г.) Балтийской железной дороги
Пален Константин Иванович фон дер (1830–1912), граф – министр юстиции (1868–1878), член Госсовета (1878)
Палтов Сергей Ильич (1843–1917) – капитан-лейтенант (1879), капитан 2-го ранга (1885), капитан 1-го ранга (1889), контр-адмирал (1895), командир императорской яхты «Марево» (1879–1885), флаг-капитан при начальнике отряда судов в Средиземном море (25.11.1885–1886), впоследствии командовал различными судами, в том числе императорской яхтой «Александрия» (1891–1894), командующий сводным отрядом флотских экипажей в С.-Петербурге (1896–1900)
Паукер Герман Егорович (1822–1889) – инженер, профессор Николаевской Инженерной академии (1868–1882) и Петербургского Практического Технологического института (1872–1879), генерал-лейтенант (1876), почетный член Академии наук (1883), министр путей сообщения (с 1888 г.)
Пенхержевский – поручик Семеновского полка
Петров Александр Иванович (1829–1899) – харьковский губернатор (1886–1895)
Петров Николай Степанович (1838–1913) – главный контролер Контроля Министерства императорского двора и уделов (1883–1888), управляющий Кабинетом Е. И. В. (1888–1893; заведовал с 1884 г.), член Госсовета (1893)
Петровский Сергей Александрович (1846–1917) – юрист, магистр права, публицист, сотрудник (с 1880 г.), затем второй редактор «Московских ведомостей». После смерти М. Н. Каткова – редактор-издатель этой газеты (1887–1896)
Пилат Понтий – римский прокуратор, управлявший Палестиной (Иудеей) в 26–36 гг., ко времени правления которого относятся главные евангельские события, в том числе санкционированная им казнь Иисуса Христа
Писарев Иван Васильевич – чиновник особых поручений при министре внутренних дел
Пихно Дмитрий Иванович (1853–1913) – экономист, профессор (1888), ученик и единомышленник Н. Х. Бунге, редактор и издатель газеты «Киевлянин» (с 1878 г.), преподаватель (с 1877 г.) Киевского университета, чиновник особых поручений Министерства финансов (1885–1886)
Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904) – директор Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел (1881–1884), сенатор (1884), товарищ министра внутренних дел (1885–1894), государственный секретарь (1894–1902), затем министр внутренних дел
Плюцинский Александр Федорович (1844–1900) – полковник, потом генерал-лейтенант, военный инженер, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., военный писатель
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – обер-прокурор Святейшего Синода (1880–1905), член Госсовета (1872)
Победоносцевы
Позен Валериан (? – 1885) – окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию в 1881 г., поручик Семеновского полка, убит на дуэли
Поклевский-Казелло (Кожелл-Поклевский) Альфонс Фомич (1809–1890) – чиновник особых поручений генерал-губернатора Западной Сибири (1839–1850), затем крупный промышленник Западной Сибири
Половцов Александр Александрович (1832–1909) – чиновник Сената, сенатор (1873), государственный секретарь (1883–1892), член Госсовета (1892), секретарь, а с 1878 г. председатель Русского исторического общества
Половцова Надежда Михайловна (урожд. Июнева; 1843–1908) – воспитанница и наследница А. Л. Штиглица, жена А. А. Половцова
Поляков – врач княгини Дондуковой
Поляков Лазарь Соломонович (1842–1914) – крупный московский банкир и промышленник, железнодорожный предприниматель, председатель Земельного и ряда других банков; брат С. С. Полякова
Поляков Самуил Соломонович (1837–1888) – подрядчик-строитель железных дорог; брат Л. С. Полякова
Попов Михаил Андреевич – прокурор Екатеринбургского окружного суда
Посьет Константин Николаевич (1819–1899) – адмирал (1882), министр путей сообщения (1874–1888), член Госсовета (1888)
Посьет Розалия Ипполитовна (урожд. Лан; 1818–1899) – жена К. Н. Посьета
Потехин Алексей Антипович (1829–1908) – драматург, управляющий труппой Александринского театра (1882–1890)
Протопопов Василий (1860 –?) – земский начальник Харьковского уезда
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт
Равашоль Франсуа Клавдий (1859–1892) – французский анархист и террорист; казнен
Радыгин – отставной штабс-капитан 71-го пехотного резервного батальона
Раевский Гавриил Михайлович (1832–1892) – директор общей канцелярии министра финансов (1884–1892)
Разин Степан Тимофеевич (?–1671) – руководитель казацкого восстания 1670–1671 гг.
Раппапорт Маврикий Яковлевич (1827–1884) – музыкальный и театральный критик
Раппапорт – жена М. Я. Раппапорта
Рачинский Сергей Александрович (1836–1902) – доктор естественных наук, профессор Московского университета (до 1867 г.), затем деятель в области народного просвещения
Режан Габриель (наст. имя Габриэлль-Шарлотта Режю; 1856–1920) – французская актриса
Рейтерн Михаил Христофорович (1820–1890), граф с 1890 г. – министр финансов (1862–1878), председатель Комитета министров (1881–1886)
Ристич Йован (1831–1899) – президент Совета министров и министр иностранных дел Сербии (1867), член регентства во время малолетства князя Милана (1868–1872), премьер-министр (1872–1873; 1876–1880; 1887), член регентства (1889–1893), затем в отставке
Рихтер Александр Александрович (1837–1898) – директор Департамента окладных сборов (с 1882 г.), затем член Совета министра финансов
Рихтер Оттон (Дмитрий) Борисович (1830–1908) – генерал-майор, командующий Императорской Главной Квартирой (1881–1898), генерал-адъютант, принимал прошения, подаваемые на Высочайшее имя (1884–1895), член Госсовета (1887)
Родзевич Игнатий Игнатьевич (1849–1903) – социалист, издатель-редактор ежедневной политико-литературной газеты «Московский телеграф» (выходила в 1881–1883 гг.)
Розенбах Николай Оттонович (1836–1901) – генерал-адъютант, начальник штаба Петербургского военного округа (1881–1884), Туркестанский военный губернатор (1884–1889), член Госсовета (1889)
Рокассовский (Рокасовский) Владимир Платонович (1851–1911), барон – флигель-адъютант, екатеринославский вице-губернатор (1881–1888), тамбовский губернатор (1889–1896)
Рооп Христофор Христофорович (1831–1918) – командир 6-го армейского корпуса (1878–1883), временный одесский генерал-губернатор (1883–1889), член Госсовета (1890)
Ротшильды – еврейская семья, владевшая рядом банкирских домов по всей Европе, первый из которых был основан еще в середине XVIII в.
Рощинин Федор Антипович (1841–1905) – лейб-медик, писатель
Рубин Николай Алексеевич – горнист лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии батальона, которому В. П. Мещерский протежировал в 1887 г.
Рубин Алексей – отец Н. А. Рубина
Рудановский Константин Васильевич (1834 – после 1906) – генерал-майор, директор 3-й Петербургской военной гимназии (с 1882 г. – Александровского кадетского корпуса) в 1878–1900 гг., затем помощник Главного начальника военно-учебных заведений, с 1906 г. в отставке
Руссо Жан-Жак (1712–1778) – французский философ и писатель
Рыков Иван Гаврилович (1833 –?) – коммерции советник, директор Скопинского городского общественного банка
Саблер Владимир Карлович (1845–1929) – состоял при великой княгине Екатерине Михайловне (1876–1894), управляющий Синодальной канцелярией (1883–1892), товарищ обер-прокурора Синода (1890–1905), сенатор (1896), член Госсовета (1905)
Сабуров Андрей Александрович (1837–1916) – министр народного просвещения (1880–1881); брат И. А. и П. А. Сабуровых
Сабуров Иван Александрович (1836 – не ранее 1903) – член Общества взаимного поземельного кредита; брат А. А. и П. А. Сабуровых
Сабуров Петр Александрович (1835–1918) – русский посол в Греции (1870–1879) и Германии (1879–1884), сенатор (1884), член Госсовета (1900); брат А. А. и И. А. Сабуровых
Савина Марья Гавриловна (1854–1915) – актриса Александринского театра (с 1874 г.)
Салов Василий Васильевич (1839–1909) – инженер, директор Департамента железных дорог Министерства путей сообщения, затем член Совета министра путей сообщения (1889–1891), председатель инженерного совета Министерства путей сообщения (1892–1901)
Самарин Петр Федорович (1829–1892) – писатель и общественный деятель, славянофил
Сары-бек – правитель Куляба и Бальджуана (ок. 1835 – 1870)
Селифонтов Николай Николаевич (1835–1900) – помощник управляющего делами Комитета министров (1869–1872), товарищ министра путей сообщения (1872–1880; 1885–1889), сенатор (1872), член Госсовета (1896)
Семенова Екатерина Николаевна – свидетельница по делу Сары Беккер (1884)
Сергей Александрович, великий князь (1857–1905) – сын Александра II; московский генерал-губернатор и командующий войсками Московского военного округа (1891–1905)
Сергиевский Николай Александрович (1831–1900) – попечитель виленского учебного округа (1869–1899)
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) – предводитель дворянства Волоколамского уезда Московской губернии (1881–1886), харьковский вице-губернатор (1886–1888), курляндский (1888–1891) и московский (1891–1893) губернатор, товарищ министра государственных имуществ (1893), товарищ министра внутренних дел (1894), управляющий Собственной Его Величества канцелярией по принятию прошений (1894–1895), впоследствии министр внутренних дел (с 1900 г.)
Скальковский Константин Аполлонович (1843–1905) – горный инженер и писатель, директор Горного департамента Министерства государственных имуществ (1891–1896)
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – генерал-адъютант (1878), военный губернатор Ферганской области (1876–1877), участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и Ахалтекинской экспедиции 1880–1881 гг.
Скроховский (де-Скроховский) Константин Осипович (? – 1906) – чиновник Министерства путей сообщения, публицист
Случевский Константин Константинович (1837–1904) – поэт и прозаик, редактор «Правительственного вестника» (1891–1902), член Совета министра внутренних дел
Смирнов – чиновник Министерства народного просвещения
Смирнов Николай Павлович (1824–1905) – товарищ обер-прокурора Синода (1878–1892), сенатор (1892)
Солдатенков Козьма Терентьевич (1818–1901) – московский предприниматель и меценат
Солнцев
Соловьев Александр Константинович (1846–1879) – революционер-террорист, участник «хождения в народ», в 1877 – начале 1879 гг. служил волостным писарем в Самарской и Саратовской губерниях, член «Народной воли» (с 1879 г.)
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ, поэт, публицист
Солодовников Николай Геннадьевич – управляющий казенными имуществами в Черниговской губернии, губернский лесничий
Сольский Дмитрий Мартынович (1833–1910), граф – государственный контролер (1878–1889), председатель Департамента государственной экономии Госсовета (1893–1905), председатель Госсовета (1905–1906)
Сомов Афанасий Николаевич (1823–1899) – тверской губернатор (1868–1890), сенатор (1890)
Сорокоумовские – московские купцы-меховщики
Стааль Егор Егорович фон (1822–1907), барон – дипломат, посол в Лондоне (1884–1903)
Станиславский (? – 1887) – управляющий поместьем Тучковой в Инсарском уезде Пензенской губернии, убитый крестьянами села Долгоруково
Столыпин Аркадий Дмитриевич (1822–1899) – генерал-губернатор Восточной Румелии и Адрианопольского санджака (1878–1879), затем командир IX армейского и Гренадерского корпуса, член Александровского комитета о раненых (1889–1892), комендант Московского Кремля (с 1892 г.)
Страхов Иван Александрович – см.: Иванчин-Писарев А. И.
Струков Александр Петрович (1840–1911) – генерал-лейтенант (1886), участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., начальник 4-й кавалерийской дивизии (1883–1892), затем – 1-й гвардейской кавалерийской дивизии
Сусанин Иван (? – 1613) – крестьянин села Домнина Костромского уезда, спаситель недавно избранного царем Михаила Федоровича Романова (1596–1645)
Сущев (Сущов) Николай Николаевич (1830–1908) – обер-прокурор II департамента Сената, тайный советник (1872), в отставке (с 1872 г.), затем железнодорожный и финансовый предприниматель
Танеев Сергей Александрович (1821–1889) – управляющий I отделением Собственной Е. И. В. канцелярии (с 1865 г.; в 1882 г. преобразовано в Собственную Е. И. В. канцелярию), член Госсовета (1879)
Татаринов Валериан Алексеевич (1816–1871) – государственный контролер (1863–1871)
Татищев Александр Александрович (1823–1895) – пензенский губернатор (1872–1887), сенатор (1888), член Госсовета (1892)
Таубе Александр Фердинандович (1834–1897), барон – инспектор императорских поездов
Тевяшев Николай Николаевич (1841–1905) – генерал-майор, командующий Конно-гренадерского полка (1879–1884), затем командир 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (1884–1886), состоял для особых поручений при военном министре (1886–1890), астраханский губернатор (1890–1895)
Тевяшева Иустиния Александровна (урожд. Козлова; 1843 – после 1910) – жена Н. Н. Тевяшева
Терехов – унтер-офицер 71-го пехотного резервного батальона
Тернер Федор Густавович (1833–1906) – экономист, директор Департамента казначейства Министерства финансов (1880–1887), товарищ министра финансов (1887–1892), сенатор (1892), член Госсовета (1896)
Теряков – подполковник Генерального штаба
Тимашев Александр Егорович (1818–1893) – министр внутренних дел (1868–1878), член Госсовета (1867)
Тимур-шах (1748–1793) – правитель Афганистана с 1772 г.
Толстая Софья Дмитриевна (урожд. Бибикова; 1827–1907) – жена Д. А. Толстого
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф – обер-прокурор Синода (1865–1880), министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (1882–1889), член Госсовета (1865)
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф – писатель
Толстой П. П. – см.: Голенищев-Кутузов-Толстой П. П.
Трепов Федор Федорович (1812–1889) – петербургский градоначальник (1873–1878)
Третьяков – московский купец
Трубецкой Николай Николаевич (1836–1902), князь – генерал-лейтенант, с 1878 г. состоял для поручений при военном министре, минский губернатор (1886–1902)
Трубецкой Павел Петрович (1835–1914), князь – камергер, предводитель дворянства Московского уезда
Тугенгольд Александр Васильевич (1831–1898) – генерал-майор (1884), генерал-лейтенант (1891), инспектор пограничной стражи (до 1886 г.)
Тухолка Лев Федорович (1841–1899) – управляющий канцелярией харьковского генерал-губернатора (с 1880 г.), директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов (1882–1894) сенатор (1894)
Тучкова – помещица Инсарского уезда Пензенской губернии
Урусов, князь
Урусов Лев Павлович (1839–1928), князь – дипломат, русский посланник в Румынии (1880–1886)
Урусов Сергей Николаевич (1816–1883), князь – временный управляющий Министерством юстиции (16 апреля – 15 октября 1867), главноуправляющий II отделением Собственной Е. И. В. канцелярии (1867–1881), председатель Департамента законов Госсовета (1872–1882)
Ухтомский Эспер Алексеевич (1834 или 1832 – 1885), князь – моряк, в молодости – адъютант вел. кн. Константина Николаевича, затем капитан 1-го ранга (1870), помощник морского агента в Австрии и Италии (с 1881 г.); отец Э. Э. Ухтомского
Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921), князь – камер-юнкер, публицист и поэт, редактор-издатель газеты «С.-Петербургские ведомости» (с 1896 г.), друг юности Николая II
Фасмер Георгий Христианович – консул в Гавре и Руане
Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) – публицист, редактор «Журнала Министерства народного просвещения» (1871–1883), начальник Главного управления по делам печати (1883–1896)
Феоктистова Софья Александровна (урожд. Беклемишева) – жена Е. М. Феоктистова
Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1783–1867) – митрополит Московский и Коломенский (с 1826 г.)
Филиппеус Александр Федорович (1828–1889) – дальневосточный предприниматель, купец 1-й гильдии
Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) – товарищ государственного контролера (1878–1889), затем государственный контролер, церковный писатель
Философов Владимир Дмитриевич (1820–1894) – статс-секретарь, главный военный прокурор и начальник Военно-судебного управления (1861–1881), член Госсовета (1881)
Франц-Иосиф (1830–1916) – австрийский император с 1848 г., венгерский король с 1867 г.
Фриш Эдуард Васильевич (1833–1907) – сенатор (1874), товарищ министра юстиции (1876–1883), член Госсовета (1883), главноуправляющий Кодификационным отделом при Госсовете (1883–1893), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1897–1899) и Департамента законов (1900–1906) Госсовета, председатель Госсовета (1906–1907)
Харитоненко Иван Герасимович (1820–1891) – сахарозаводчик, крупный благотворитель
Хитрово Михаил Александрович (1837–1896) – дипломат и поэт, генеральный консул в Салониках (1879–1880), дипломатический агент и генеральный консул в Болгарии и Египте, посланник в Румынии (1886–1891), Португалии и Японии (1892–1896)
Христиан IX (1818–1906) – король Дании с 1863 г., отец императрицы Марии Федоровны
Хрущов
Хэй-Драммонд Джордж Роберт (1849–1886), виконт Дапплин – старший сын и наследник 12-го графа Кинньюла Джорджа Хэй-Драммонда; умер в Монте-Карло, Монако 10 марта 1886 г.
Цанков Драган (1828–1911) – болгарский премьер-министр (1880; 1883–1884), противник Стамболова
Цеэ Василий Андреевич (1820–1906) – сенатор (1863)
Цион Илья Фаддеевич (1842–1912) – физиолог, доктор медицины (1865), профессор Петербургского университета (1870–1874) и Медико-хирургической академии (1872–1874); публицист, сотрудник «Московских ведомостей», член Совета министра финансов
Цитович Петр Павлович (1843–1913) – юрист и публицист, профессор Новороссийского университета (1873–1879), издатель и редактор газеты «Берег» (1880), профессор Киевского университета (1884–1894), член Совета министра финансов (1894–1900), профессор Петербургского университета (1900–1904), сенатор (1911)
Чайковский Петр Ильич (1840–1893) – композитор
Черевин Петр Александрович (1837–1896) – генерал-майор Свиты (1877), генерал-адъютант (1882), товарищ министра внутренних дел (1880–1881), шеф Собственного Е. И. В. конвоя (1881–1896)
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – публицист и критик, один из лидеров революционно-демократического направления в русской литературе
Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) – генерал-майор, редактор-издатель газеты «Русский мир» (1875–1876), участник Сербско-турецкой войны 1876 г., туркестанский генерал-губернатор (1882–1884), член Военного совета (1884–1885), с 1886 г. в отставке
Чивилев Александр Иванович (1808–1867) – профессор Московского университета, преподавал политическую экономию сыновьям Александра II Николаю Александровичу, а затем Александру Александровичу
Чихачев Николай Матвеевич (1830–1917) – вице-адмирал (1880), генерал-адъютант (1893), начальник Главного морского штаба (1884–1888), управляющий Морским министерством (1888–1895), член Госсовета (1896)
Чичагов Леонтий Михайлович – штабс-капитан гвардейской конно-артиллерийской бригады
Шарапов Сергей Федорович (1855–1911) – экономист, публицист, издатель газет «Русское дело» (1886–1890) и «Русский труд» (1897–1899)
Шатова – помещица Лебединского уезда Харьковской губернии
Шахмурад (1749–1800) – эмир Бухары с 1785 г., за праведную жизнь получивший прозвище Маассум (Безгрешный)
Шванебах Петр Христианович (1848–1908) – вице-директор Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов (1883–1888)
Швейниц Ганс Лотарь (1822–1901) – германский посол в России (1876–1893)
Шебеко Варвара Игнатьевна (1840–1931) – сестра Н. И. Шебеко, близкая подруга Е. М. Юрьевской
Шебеко Николай Игнатьевич (1834–1904) – бессарабский губернатор (1871–1879), товарищ министра внутренних дел (1887–1895), сенатор (1890)
Шевич Иван Егорович (1838–1912) – калужский (1871–1882) и лифляндский (1882–1885) губернатор, сенатор (1885), член Госсовета (1903)
Шереметев Василий Алексеевич (1834–1884) – рузский уездный предводитель дворянства (1862–1872), предводитель дворянства Московской губернии (с января 1884 г.); двоюродный брат С. Д. Шереметева
Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918), граф – адъютант вел. кн. наследника престола Александра Александровича (с 1868 г.), затем начальник Придворной певческой капеллы (1883–1894)
Шернваль Канут Генрихович (1819–1899), барон (с 1875 г.) – инженер, председатель Временного управления казенных железных дорог (1881–1885), член Совета Министерства путей сообщения (1877–1889)
Шестаков Иван Алексеевич (1820–1888) – адмирал (1888), управляющий морским министерством (с 1882 г.)
Ширяев
Шнайдер (? – 1884) – учитель в селении Кандель Одесского уезда Херсонской губернии
Шпажинский Ипполит Васильевич (1844–1917) – драматург
Штиглиц Александр Людвигович (1814–1884), барон – председатель Петербургского биржевого комитета, придворный банкир
Шувалов Павел Андреевич (1830–1908), граф – генерал-адъютант, командир Гренадерского (1879–1881), затем Гвардейского (1881–1885) корпуса, посол в Берлине (1885–1894), член Госсовета (1896)
Шувалов Петр Андреевич (1827–1889), граф – шеф жандармов и начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1866–1874), посол в Лондоне (1874–1879), член Особой (Кахановской) комиссии для составления проектов местного управления (1884–1885), член Госсовета (1874)
Шувалова Мария Александровна (урожд. Комарова; 1852–1928), графиня – вторая жена графа Пав. А. Шувалова
Шуваловы
Щербатов, князь – сахарозаводчик
Эйлер Леонтий Леонтьевич (1821–1893) – контр-адмирал (1878), вице-адмирал (1885), уволен от службы по достижении предельного возраста в 1885 г.
Эллис Александр Вениаминович (1825–1907) – генерал-лейтенант (1878), генерал от инфантерии (1892), командир Гвардейской стрелковой бригады (1877–1888), затем 7-го армейского корпуса
Энгельгардт Александр Андреевич (1822–1885) – тесть К. П. Победоносцева, служащий С.-Петербургской сухопутной таможни
Юзефович Владимир Михайлович (1841–1893) – вице-директор Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел (1880–1881), член Совета Главного управления по делам печати (с 1881 г.), уполномоченный Красного Креста в Болгарии во время Сербско-болгарской войны 1885 г.
Юркевич-Пузановский Алексей Иванович – инспектор-руководитель Холмской учительской семинарии Варшавского учебного округа
Юрьевская Екатерина Михайловна (урожд. княжна Долгорукова; 1847–1922) – возлюбленная (с 1865 г.), затем морганатическая супруга (с 1880 г.) императора Александра II, получившая титул светлейшей княгини
Юханцев Константин Николаевич – чиновник по особым поручениям Министерства финансов, кассир Общества взаимного поземельного кредита, который в 1873–1878 гг. растратил денег и процентных бумаг на сумму в два миллиона рублей. Его дело рассматривалось С.-Петербургским окружным судом 22–24 января 1879 г. Юханцев был приговорен к ссылке в Енисейскую губернию
Юханцов – см.: Юханцев К. Н.
Яневич-Яневский Константин Яковлевич (1827–1901) – главный военно-морской прокурор (1867–1889)
Янжул Иван Иванович (1845–1914) – экономист, статистик и публицист, доцент (1874), затем профессор (1876) Московского университета, одновременно фабричный инспектор Московского округа (1882–1887), член Академии наук (1895)
Янковский Евгений Осипович (1837–1892) – генерал-майор, полтавский (1883–1889) и волынский (1889–1892) губернатор
Янышев Иоанн Леонтьевич (1826–1910) – богослов, придворный протоиерей, ректор Петербургской духовной академии (1866–1883), духовник царской семьи (с 1883 г.)
Яфимович Николай Николаевич – саратовский (1882–1883) и тверской (1883–1891) вице-губернатор
Brown John – см.: Браун Дж.
Cromwell – см.: Кромвель О.
Dupplin – см.: Хэй-Драммонд Дж. Р., виконт Дапплин
Duval Georges – см.: Дюваль Ж.
Hugo Victor – см.: Гюго В. М.
Macauley – см.: Маколей Т. Б.
Machiavel – см.: Макиавелли Н.
Mille (англ. Mill) John Stuart – см.: Милль Дж. С.
Réjane – см.: Режан Г.