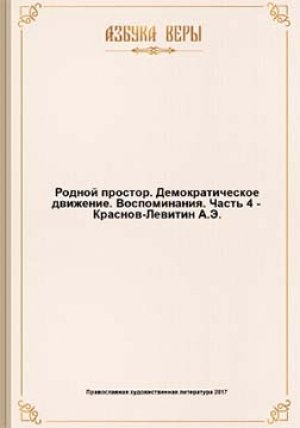
Вступление
В борьбе, и только в борьбе.
Как премудро и прекрасно в этом мире, что все достигается лишь в борьбе. В борьбе с природой, в борьбе с самим собой, в борьбе с силами зла и тьмы, в борьбе за правду.
Помню, сорок восемь лет назад умный и вдумчивый проповедник питерский протоиерей отец Александр Медведский, настоятель Князь-Владимирского собора, рассказывал о том, как крестьяне берегут хлеб, как едят его необыкновенно тщательно, как бы священнодействуя. И как неопрятно и небрежно обращаются с ним горожане. Далее проповедник проводил аналогию с христианством. «Легко нам досталось спасение, легко, — православие мы получили от греков, — и всегда оно шло сверху, от кого-то, кто его насаждал, охранял, толковал; не потому ли так легко русский народ и расстается с ним».
Так оно и есть. И сейчас наступило время борьбы — за христианство, за моральные ценности, за правду, за свет, за свободу.
Глава первая. На широких просторах
Помню, будучи в лагере, я сильно поругался с моим товарищем Шоломом Кривым, убежденным коммунистом-подпольщиком. В разговоре я очень пренебрежительно отозвался о бойцах интернациональной бригады, защищавшей Мадрид от войск генерала Франко. Потом стало стыдно и перед Кривым (для него их память священна) и перед самим собой. Герои, кровь проливали и боролись против фашистов.
Набросал в бараке стихотворение, отнес к Кривому. Он растроганно улыбнулся. Примирение состоялось. Стихотворение было следующее:
Всегда, с детства, мне были милы юноши и девушки — борцы за правду. Самоотверженные и жертвенные. Эти образы стояли у меня перед глазами еще тогда, когда я вместе с Полей (моей нянюшкой и другом детства) читал Жития святых. Юношей Пантелеймона и Георгия Победоносца, Алексия — человека Божия, великомучениц Екатерины и Варвары.
Потом, в юности, меня чаровали образы русских подвижников-революционеров, декабристов и их чудесных жен: Трубецкой, Анненковой, Волконской. Образы страдальцев-народников: Желябова, Софьи Перовской, Веры Фигнер.
Не сочувствуя террору, почитая память царя Александра (единственного царя, который мне симпатичен), самого человечного и гуманного из царей, я не мог не преклоняться перед героизмом народовольцев, перед их нравственной чистотой и самоотверженностью. И что с того, что они, как и я, сплошь и рядом становились жертвами обманщиков, как и мой друг Шолом Кривой, попавший в советский лагерь в награду за жизнь, отданную мировой революции, — от этого не менее свят и высок их подвиг, от этого не менее светлы их образы. Я поэтому никогда не мог замкнуться в церковной скорлупе, — меня всегда влекло на вольный простор.
«Занимайся своим церковным делом. Не лезь туда. Зачем?» — говорил мне в 1956 году мой друг, один из самых талантливых церковных писателей тех лет.
«Пускай себе грызутся. Нам-то что?» — говорил простак-старообрядец, хорошо ко мне относившийся.
«А они нас защищали?» — риторически спрашивал молодой диакон, только что окончивший Академию.
А меня влекло на вольные просторы, и достаточно было небольшого толчка, чтобы я вошел в нарождавшееся демократическое движение.
Впрочем, и раньше я пристально следил за тем, что творится на широких просторах. А творилось там после 1956 года много интересного и необычного.
Как всегда в России, началось с литературы. В предыдущем томе я рассказывал о первых побегах русской вольной мысли: о романе Дудинцева, о его обсуждении в Доме Союза писателей. Я говорил о речи Паустовского, обошедшей Москву, а потом и всю Россию, я рассказывал о церковном самиздате, основоположниками которого были мой друг Вадим Шавров и я. Но это все в границах дозволенного. Если наши произведения и появлялись на Западе, то без нашего ведома, а иногда вопреки нашему желанию. Мы все оставались связанными с советским режимом. Пуповина держалась на одной тоненькой ниточке, еле-еле, но все-таки мы действовали как советские граждане. Стать в открытую оппозицию к советскому обществу и государству у нас не хватало решимости.
И наконец, совершилось. В самом начале шестидесятых годов порвал пуповину Валерий Яковлевич Тарсис.
Я услышал его имя первый раз во Пскове, в крестьянской избе, где гостил у своего друга, старого псковитянина. Он мне сказал:
— Тут одного писателя-самиздатчика, вроде вас, посадили в сумасшедший дом. Это ожидает и вас.
— А что за писатель?
— Некто Тарсис.
Так я узнал о страшной драме, разыгравшейся в это время, и о ее герое Валерии Тарсисе.
И опять мысль обращается к лагерным разговорам. К разговору с тем же самым Кривым. Как-то раз, когда газеты принесли известие, что коммунисты получили во Франции на выборах несколько миллионов голосов, я сказал: «Я бы всех их посадил в сумасшедший дом».
Кривой подхватил: «Ну, конечно, выразить им соболезнование, что они сошли с ума, и заключить в психиатрическую больницу. На такое лицемерие способен церковник».
На такое лицемерие, однако, оказался способен отнюдь не злополучный «церковник», а убежденный атеист, товарищ Кривого по партии — Хрущев.
В конце пятидесятых годов первым писателем, проложившим дорогу в сумасшедший дом, был известный математик и поэт Александр Сергеевич Есенин-Вольпин (сын великого русского поэта), потом пошли верующие христиане (баптисты и адвентисты), некоторые из монахов Почаевской Лавры, и вот теперь писатель Валерий Яковлевич Тарсис[1].
Валерий Яковлевич может считаться основоположником русской вольной литературы, русского демократического движения. С него поэтому начинать повествование о русском «resistance» (сопротивлении).
Он родился в 1906 году в Киеве. Его происхождение пролетарское. Вся среда, в которой прошло его детство, условия, в которых протекала его юность, типичны для человека революционной эпохи, для тех лет, когда звание советского человека еще не имело того нестерпимого налета пошлости, какое оно приобрело в сталинскую эпоху.
Валерий Яковлевич — человек двадцатых годов. Его отец рабочий, обрусевший грек, — один из потомков тех греков, которые пришли на Украину в незапамятные времена, — впоследствии сложивший голову в сталинских лагерях. Его мать — простая украинская женщина, работавшая судомойкой.
Там, на юге, среди вольных украинских степей, проходило детство мальчика Валерия, смышленого, пытливого, одаренного. Далее, юность, типичная для человека двадцатых годов. Университет в Ростове-на-Дону. Историко-филологический факультет. Окончание университета в 1929 году.
Все двери раскрываются перед молодым филологом пролетарского происхождения. Он может стать профессиональным ученым или крупным партийным работником, или направить свой путь к высшим административным должностям, или стать крупным дипломатом.
Однако уже на студенческой скамье проявляются некоторые особенности талантливого юноши. Прежде всего, для получения ученого звания он не пользуется своим пролетарским происхождением, хотя в те годы оно в соединении с партбилетом было первоклассным эрзацем ума, знаний и таланта. И для окончания университета юным пролетариям менее всего нужны были знания. Однако Валерий Яковлевич приобрел серьезные и основательные знания и, что самое необычное — самостоятельно изучил несколько языков.
В советском институте это невероятная редкость.
Затем начинается жизненный путь В. Я. Тарсиса. Для него с малых лет была характерна страсть к литературе. Эта любовь к литературе направила его путь в издательство «Художественная литература», где он стал редактором. Но его цель — быть писателем. Он пишет, исправляет, сжигает черновики. Снова пишет. В эти годы он знакомится с Горьким. Завязывает связи в литературных кругах. Наконец, в 1938 году в девятом номере «Нового мира» появляется его повесть «Дездемона». Повесть лирическая и задушевная. Она привлекла внимание критиков. В те времена, в годы ежовщины, эта повесть представляла собой совершенно особое явление.
Понравиться в официальных кругах она не могла.
Апробированные критики ополчились на нее за аполитичность, за лиризм, хотя сквозь зубы признавали ее литературные достоинства и великолепный стиль. Характерно, что в 1972 году эта повесть вышла в английском переводе в альманахе, составленном из авторов «Нового мира» (из 1200 авторов было выбрано девять). Книга была издана большим тиражом и появилась одновременно в Лондоне и Нью-Йорке.
В тридцатые годы продолжалась переводческая деятельность Валерия Яковлевича. Так было до войны. Наступает война. Валерий Тарсис в армии. В качестве офицера. В качестве военного корреспондента. В качестве переводчика. Но это не тот военный корреспондент, который отсиживается в штабах. Он на боевых позициях. Он под огнем. Несколько тяжелых ранений, травмы на всю жизнь. Он великолепный переводчик, который схватывает мысль на лету, переводит с ходу. Благодаря этому ему в конце войны приходится бывать в высших сферах. Однажды он был приглашен в качестве переводчика на банкет, на котором присутствовал Сталин.
Но это не удовлетворяет человека с беспокойным, сангвиническим темпераментом. Он ищет правду, он доискивается смысла жизни. Девизом своей жизни он мог бы взять пастернаковские слова: «Во всем мне хочется дойти до самой сути».
В послевоенное время у него появляется замысел написать эпопею. Написав первый том, он делает решительный шаг: идет к А. А. Фадееву.
Чтобы оценить всю экстравагантность этого шага, надо уяснить себе не только роль, но и характер Фадеева. С обычной точки зрения, это — безумие: сообщать план эпопеи, цель которой раскрыть всю правду о пережитой эпохе, и обратиться с просьбой о помощи к кому же?.. к Фадееву, к главе советских писателей, к официальному проводнику сталинской политики в области литературы и идеологии. Это почти все равно что обратиться с таким планом к самому Сталину. Но глубокая интуиция Валерия Тарсиса подсказала ему это решение, и, как часто бывало в его жизни, эта интуиция не подвела. В. Я. Тарсис, знавший уже в течение нескольких лет Фадеева, разглядел в его личности другой план, скрытый от людей.
«Фадеев — это глубокая и противоречивая душа», — говорил мне примерно в это же время мой друг Евгений Львович Штейнберг, хорошо знавший Фадеева. Фадеев действительно «душа с двойным дном». Характерный эпизод. В эпоху борьбы против космополитизма Фадеев, выступая на пленарном заседании правления Союза советских писателей, громил «враждебного народу поэта Бориса Пастернака». Все шло как по маслу. Аплодисменты. Прения, в которых официальные блюдолизы соревновались в ругательствах по поводу несчастного поэта. Пленум затянулся до поздней ночи и закончился принятием соответствующей резолюции. А потом избранный круг вершителей судеб советских писателей собрался в придворном кафе. Пили. Поднимали тосты. За советскую литературу. За «вдохновителя всех наших побед товарища Сталина». И в конце ужина со своего места встал Фадеев и предложил свой тост: «Выпьем теперь за нашего единственного поэта Бориса Леонидовича Пастернака».
В другой раз в интимном кругу он назвал лучшим нашим писателем Исаака Бабеля, ходившего тогда во «врагах народа».
И в своем художественном творчестве Фадеев, более чем кто-либо другой, мог применить к себе слова Маяковского: он «смирял себя, становясь на горло собственной песне». Писатель большой изобразительной силы, ему очень удаются лирические отступления (достаточно вспомнить только страницу, посвященную «рукам матери», в «Молодой Гвардии»), — но все это свернуто, измято, скомкано, подчинено навязчивой и лживой тенденции. Однако талант пробивается, и пробивается с трудом. Наряду с иконописным, насквозь фальшивым и надуманным Олегом Кошевым великолепный и дышащий жизнью Сережка Тюленин. Изумительно яркий образ деда из раннего рассказа Фадеева, образы Морозки, Метелицы, Левинсона из «Разгрома» и мумии — коммунисты из «Молодой Гвардии», и сусальные страницы, посвященные предсмертным мгновеньям Олега Кошевого. Гибель творческая, душевная, физическая — расплата за угашение духа. Но душа еще жива. Она пробивается изредка через все мандаты, ордена, премии и титулы.
В. Я. Тарсис почувствовал это интуитивно и не обманулся. Результаты его разговора с Фадеевым в 1952 году превзошли все ожидания, в том числе и самые лучшие. Фадеев распорядился выписать Валерию Яковлевичу из фондов Союза советских писателей 12 тысяч рублей. Это, в общем, не так уж много: 1200 рублей по нынешнему курсу. И тут же дал свои 30 тысяч, шепнув на ухо: «Только по секрету от Ангелины Николаевны» (Ангелина Николаевна Степанова — известная драматическая артистка, жена Фадеева).
Так, В. Я. Тарсис получил высочайшую апробацию, был причислен к высшему слою чиновников от литературы, к тем, кто, по словам Галича, «жрал и ржал над анекдотом», и был обеспечен до конца жизни рентой как член Союза писателей, инвалид Отечественной войны, орденоносец и переводчик.
Но романтику, потомку греков-аргонавтов, сыну киевской судомойки, овеянному ветром украинских степей, было мало. Он искал, тосковал и томился.
А затем пришла пора оттепели, пора возрождения. И он берется за перо. Пишет. Увлекается. Порой его дочь слышит, как по ночам он кричит на своих героев: «Проклятые, что вы со мной делаете?» — а потом стремительно накидывает на себя пальто и идет бродить по Москве.
Но вот написаны две повести. Повести интересные, философские, оригинальные. Как всегда и всюду, судьба этих повестей таится во мгле. Хорошо или плохо? Кто может знать, кто может определить, пока повесть не дойдет до читателя? Одно несомненно: в СССР их печатать нельзя; об этом не может быть и речи. Никто не напечатает, никакие оттепели и хрущевские возрождения здесь не помогут, тем более что в одной из повестей очень прозрачная карикатура на самого Никиту Сергеевича.
И тут В. Я. Тарсис принимает отчаянное решение: передает обе повести за границу для напечатания их там.
Трудно сказать, понимал ли он, что в момент, когда он передавал свои повести в руки иностранных корреспондентов, рухнул железный занавес, который отделял Россию от остального мира в течение сорока с лишним лет.
История русской мысли вступила в новую фазу. Остальное известно. Сумасшедший дом. «Палата № 7». Мировая слава. Его повести были напечатаны на многих языках. Он вошел в историю русской литературы. Это одно уже дает ему право на пристальное внимание современников и потомков.
Постараемся высказать беспристрастное мнение о его творчестве. Предупреждаю: мне это очень трудно. Не легко писать беспристрастно о враге. Еще труднее писать о друге[2].
Я, между тем, все эти годы был в церковной скорлупе: с 1959 года, когда меня выгнали из школы, у меня порвались всякие связи с советскими людьми. В мае 1960 года, когда умер мой друг Евгений Львович Штейнберг, профессор и писатель, порвалась последняя ниточка.
Ни с кем, кроме церковников, священников, диаконов, бурсаков-семинаристов и «академиков», я не водился, праздничные дни проводил у Вадима. Вадим Шавров, его друг — очень религиозная дама — и я, мы составляли неразрывное трио.
Так я жил, общаясь лишь с узкой церковной средой, занимаясь писанием статей, которые распространял Вадим. Лишь изредка до меня доносились слухи о том, что творится на широких просторах, на большой земле: о первых рассказах Солженицына, которые я прочел с жадностью, о «Новом мире», о котором я знал больше понаслышке, о В. Я. Тарсисе, о чтении стихов у памятника Маяковского, о бунтующей молодежи — смогистах. Но душой я рвался туда, в этот покинутый мною мир, и туда проникали обо мне слухи, и там читали мои статьи, слышали о нас с Вадимом.
Как вдруг неожиданный толчок вывел меня из моего уединения.
Среди моих машинисток была некая Александра Ивановна Стрельцова. Несчастная, одинокая женщина. Муж у нее сгинул в лагерях во время ежовщины, сын погиб во время войны. И жила она в небольшой комнатке в квартире около почтамта на Мясницкой. Печатала она хорошо, но часто работа прерывалась. Она неожиданно говорила: «Идите, идите, вот там рядом живет другая машинистка. Я больше не могу». Не сразу я узнал, в чем дело: несчастная женщина страдала запоем, и неожиданно ею овладевал бес пьянства — ей надо было немедленно бежать в магазин, покупать водку, чтобы потом всю ночь пить, пока она не повалится на постель вдрызг пьяной. Вскоре она умерла. Царство ей Небесное. Хорошая и несчастная была женщина.
Около нее всегда копошились какие-то странные люди. Один дефективный парень лет двадцати, вскоре найденный мертвым на лестнице московского дома, добывавший себе деньги на водку экстравагантным образом: он писал стихи продавщицам магазинов. Стихи примерно такие:
Продавщицы давали ему за это мяса, обрезки колбасы. Он, однако, их не ел. Он работал поставщиком на винных складах. Там было много мышей. Требовались кошки. Кошек надо было кормить. Он их подкармливал мясом, и за это ему отпускали вино, и он каждый день пьянствовал. А Александра Ивановна его жалела, испытывала к нему материнскую нежность, опекала, хотела крестить. Сын коммуниста, он был некрещеный. Так текла эта несчастная жизнь, пока не найден он был мертвым на лестнице чьего-то дома, несчастный, кроткий, пьяненький человек, всеми оставленный, всеми презираемый здесь, но не там, где «последние будут первыми» и где нет лицеприятия, ибо людская слава и людское величие суть мерзость перед Богом.
Однажды Александра Ивановна печатала мне мою беседу в Ждановском райисполкоме. Стояло лето 1965 года. Когда я пришел за отпечатанной рукописью, у Александры Ивановны сидел какой-то чернявый мальчик, на которого я не обратил особого внимания. Я расплатился и вышел. На лестнице мальчуган подошел ко мне.
«Я, — сказал он, — украдкой от Александры Ивановны, прочел вашу рукопись. Хотел бы с вами поговорить». (Потом оказалось, что Александра Ивановна сама дала ему рукопись.) Он пошел меня провожать до дома на улице Жуковского (это недалеко, около Чистых Прудов), где жила моя жена. Я начал говорить с ним на «вы», но он мне сказал: «Говорите мне „ты“ и называйте меня Женя». А когда мы прощались, назвал свою фамилию: «Кушев». Это был мой первый знакомый «оттуда», из кругов бурлящей, взъерошенной, взбудораженной молодежи. Думал ли я, что эта незначительная встреча станет «убийством в Сараево», начнет новый период в моей жизни и деятельности.
Он вскоре приехал ко мне в Ново-Кузьминки. Поговорили. Пошли гулять в Кусково, в Шереметьевский парк. Я ему рассказывал про Евангелие. Сидели на скамейке, я говорил о Христе. Задумчиво он сказал: «Как хорошо, и как это не похоже на все эти политические термины и политический жаргон». Он вскоре принял крещение, стал моим крестным сыном. Но религиозные настроения оказались мимолетными. Человек не особенно глубокий, увлекающийся, ему свойственны лишь поверхностные религиозные эмоции. Посещение церкви раз в год — на Пасхальной заутрене — и розговины за праздничным столом. Но недавно в Люцерне, когда он меня посетил, во время прогулки мы присели с ним на скамейку около монастыря Веземлин. С горы открывался чудесный вид на город. И он сказал: «А помните тот разговор на скамейке в Кусковском парке? Тогда ведь еще никого не было: ни Сахарова, ни Григоренко…» Значит, запало в душу…
А действительно, тогда еще никого не было: ни Сахарова, ни Григоренко. Были только юнцы. Существовал СМОГ — термин, который впоследствии расшифровывали: «Смелость, молодость, героизм». Но первоначально это означало: Союз молодых гениев. Возник этот Союз в конце пятидесятых. Во время знаменитых чтений стихов у памятника Маяковского. Возглавлялся этот Союз двумя «гениями»: Владимиром Батшевым и Леонидом Губановым. С этими «гениями» я вскоре познакомился.
Володю Батшева ко мне привел Женя Кушев. Это было в декабре, стоял трескучий мороз. Я сидел в своей небольшой новокузьминской комнатке. Постучали. Открыл дверь. Евгений Кушев с каким-то парнишкой. У парнишки детское лицо, курносый. Еще в сенях он заговорил, нисколько не умеряя своего звонкого голоса: «Я собираюсь издавать большую подпольную газету и решил вас пригласить в ней участвовать». Спокойно я возразил: «Почему подпольную? Она уже не подпольная, раз вы о ней орете на весь поселок». Разговорились. После первых же слов с Батшевым я понял, что это совершенный ребенок. Детское тщеславие, наивное хвастовство, весьма неопределенная настроенность, — народнические идеи, что-то из декабристов, нечто выслушанное из иностранного радио. Стихи. Стихи довольно интересные. О декабристах. Помню одно, связанное с темой декабристов. Начинается оригинально: разговор Пушкина с женой.
И далее весьма впечатляющие строки о жертвах 14 декабря.
Впечатление: довольно сумбурный молодой человек с хорошими порывами, как все мальчики, считающий себя если не Наполеоном, то во всяком случае Робеспьером.
Мне этот «наполеоновский» период был хорошо знаком, я сам через него прошел, поэтому он меня нисколько не шокировал.
Это был расцвет батшевской славы, если можно так выразиться. О нем знали, о нем писали в иностранных газетах, его имя передавали по иностранному радио. Увы! Слава оказалась кратковременной: увяла, не успев расцвести. Весной 1966 года его арестовали как тунеядца.
Выслали на три года в Иркутск. Там он женился, писал стихи в местную газету. Но в 1967 году начались аресты. Следователи стали вызывать людей, связанных с диссидентами. В это время Володя Батшев там, в далеком Иркутске, видимо, сильно струсил: стал писать в Москву письма с выпадами против арестованных, с комплиментами в сторону КГБ, явно рассчитывая, что письма будут перлюстрированы. Но хуже то, что он дал ряд показаний против Буковского и других своих друзей, когда они были арестованы. Поэтому, когда он вернулся в Москву, все двери перед ним закрылись. Его карьера — политика, литератора, диссидента — была окончена.
Более сложным типом оказался второй «гений» — Леня Губанов. Осенью 1965 года его выпустили из психиатрической больницы. Он должен был выступать в клубе «Зеленая лампочка» — это шоферский клуб недалеко от Комсомольской площади. Выступление не состоялось, но Губанова я видел тогда в первый раз. Тогда он на меня произвел впечатление здорового простого парня (помню, он был одет в красную майку). Не то в другой раз: его привели ко мне весной следующего года после ареста и высылки Володи Батшева. Я написал в защиту Володи статью: «У раскрытого окна». В связи с этим одна из наших девушек привела ко мне первого друга Володи Батшева — Леню. Тут он произвел на меня совсем иное впечатление. Я уже слышал о нем как о поэте и знал кое-что о его пьяных похождениях, поэтому был готов ко всяким экстравагантностям. Но получилось не то. Передо мной стоял парень со слезящимися глазами, с открытым воротом, на груди, на грубой бечевке, крестик. Парень симпатичный и очень, очень русский. Поговорили о Батшеве. Он сказал очень вежливо, что я недооценил организаторских способностей Батшева. Он был прав. Собрать впервые в Москве организацию молодежи (пусть не очень серьезную, но все-таки организацию), — в Москве, где еще недавно за такие вещи не только сажали, но и расстреливали, — для этого надо было обладать умением собирать людей, влиять на них, сплачивать их. Потом я попросил Леню прочесть стихи. После начала чтения я опасливо взглянул на открытое в сад окно. Мне показалось, что сейчас сбегутся люди из всех соседних домов. Он не читал, а кричал, завывал, как бы находясь в исступлении, и казалось, что он сейчас забьется в эпилепсии. Бредовые образы причудливо сплетались в какую-то больную амальгаму. Русь, озера, — и вдруг неожиданная фраза: «В Москву из Вологды везут Зиновьева, чтоб как следует расстрелять». Одна моя знакомая, прослушав стихи Губанова, сказала: «Вот теперь я понимаю, что такое кликуша». Я думаю иначе. Стихи Губанова — это, конечно, стилизованный бред, но именно в этом их право на существование. Разве не бред вся жизнь России за последнее столетие? Бред всюду и везде, начиная с Распутина и кончая «кремлевскими стариками». Да что там Россия, — а весь мир (от Гитлера до Хомейни) — разве не бред? Жизнь есть бред. И чем дальше, тем бред становится все более невыносимым, тягостным и больным, больным.
Поэтому стихи, подобные губановским, имеют право на существование: не пушкинским четырехстопным ямбом писать о бредовой, сумасшедшей эпохе.
Мы простились с ним тепло. Я уговаривал его не пить. Он ответил по-лагерному: «Я уже завязал». На прощанье поцеловались. Я перекрестил его.
Видел я его потом только один раз: в вестибюле КГБ (на Малой Лубянке) в 1967 году, куда нас вызывали на допрос в качестве свидетелей.
И тут же девушки. Девушки-диссидентки, близкие к СМОГу. Люда Кац, в скором времени ставшая Кушевой. Мой самый близкий преданный друг из молодежи до сей поры.
Еврейка. Но поверить в это почти невозможно. Более славянского типа я нигде и никогда не видел. Светлая блондинка. Широкое, чисто русское лицо. Серые глаза. Она родилась 12 июня 1947 года в Москве. Отец — крупный инженер-электрик, любимец рабочих, как говорят, человек редкой доброты. Мать замужем второй раз — первый муж революционер, кажется, из эсеров. Внучка крупного капиталиста, богача; в Петербурге, на Литейном, имел собственный дом.
Люда еще на школьной скамейке была дружна с Батшевым (одноклассники). Потом была близка к смогистам, бывала на их собраниях. Почти сразу попадает под обстрел КГБ. Вызовы для допросов, следователи, угрозы, непрерывная слежка. Но ее не запугаешь. Ее не сломишь. Она делает вещи невероятные: на глазах у чекистов передает материалы иностранным корреспондентам, встречается с диссидентами, подписывает петиции, находит машинисток, которые отстукивают самые криминальные материалы.
И в то же время — золотое сердце. Она не может видеть человека в беде, чтобы не броситься ему на помощь. Натура порывистая, увлекающаяся. С головой уходит в демократическое движение молодежи. Родители от этого не в восторге. Помню, еще в начале нашего знакомства, позвонил я к ней домой по телефону. Подошла мать. Я попросил Люду. Раздраженный голос: «А кто спрашивает?» — Ее товарищ. — «Какой товарищ?» — Левитин. — «Какой же вы ей товарищ? Оставили бы вы Люду в покое, лучше было бы».
Моя жена, которой я рассказал об этом разговоре, сказала: «Что правда, то правда». Но ни я, ни другие диссиденты бедную Люду в покое не оставили. Да, и она нас не оставила. Приходила на помощь, составляла петиции, собирала подписи, организовывала демонстрации. Без таких Людмил ни одно движение, ни одна революция быть не может.
Знакомство с ней у меня началось очень оригинально. Она работала в то время в Библиотеке им. Ленина («Ленинке», как называли в народе), а я — неизменный читатель этой Библиотеки. Как-то в читальном газетном зале у меня скандал с девочкой-библиотекарем. Я отдаю газеты за три месяца, она требует, чтобы я сложил их по номерам (по порядку), а я спорю: я получил их в таком разбросанном виде и собирать их не хочу. Нашла коса на камень. Во мне пробудился Левитин — сын и внук папаши и дедушки, которые славились своей вспыльчивостью. Бедная девушка, удрученная моей вспыльчивостью, зовет подругу: «Говори ты с ним, я уж больше не могу». Выходит Люда. После нескольких ее слов, сказанных спокойно, ласковым тоном, мое раздражение пропало. Она заглянула в формуляр и увидела мою фамилию, которую она слышала от Жени Кушева. Знакомство состоялось.
И другая девушка — Вера Лашкова. Тоже близкая к смогистам. Это — как будто полная противоположность Люде. Маленькая. Худенькая. В чем душа держится. Из простой русской семьи. Отец из Смоленска, был церковным певчим. Мать — буфетчица. Вера родилась в центре Москвы, на Пречистенке (Кропоткинская улица). Так сложилось, что в одной квартире с ее матерью жила хорошая семья (из старых интеллигентов). В этой семье родилась девочка одновременно с Верочкой, и мать кормила грудью одновременно двух: свою дочь и Веру, так как у ее матери не было молока. Таким образом. Вера приобрела молочную мать и стала своим человеком в этой семье.
Что изумительно в Вере — это ее любовь к труду. Я никогда еще не видел человека, столь любящего труд. Буквально не было такого вида работы, который она не испробовала бы. Труд мужской и женский. Достаточно сказать, что она много лет работала шофером на тяжелом грузовике, который и не всякому мужику под силу. И так же, как у Люды, — золотое сердце. Чего только и для кого только она ни делала. Золотой человек.
И еще один член этого трио. Юлия Вишневская. Еврейка. Из интеллигентной семьи. Эта совсем в другом роде. Отчаянная. Из тех, из которых выходили люди типа Фани Каплан. Смелость и бесшабашность. Когда милиционеры и кагебисты нападали во время судебных процессов и митингов на нашу молодежь, роли менялись: она переходила в наступление. Могла пуститься врукопашную. Поэтесса. Стихи интересные, хотя и не совсем зрелые. И при этом верующая христианка. Приняла крещение по глубокой вере. До сих пор ходит регулярно в церковь, не расстается с Евангелием.
Власти ее одолевали. Таскали по сумасшедшим домам, но она не сдавалась. Ни сломить, ни запугать ее не сумели. В конце концов уехала за границу. Была в Израиле. Но Израиль показался ей слишком провинциальным. Сейчас в Мюнхене. Работает на радиостанции «Свобода».
Это было время, когда демократическое движение молодежи только зарождалось. Трудно различить было оттенки. Здесь были самые разнообразные типы. Всех объединяло одно: ненависть к деспотизму, порыв к свободе. Это был именно порыв. Без всякой программы. Без продуманных, четких целей. Много было бестолкового, нелепого, но и много было чистого, хорошего, бескорыстного. Не следует идеализировать участников движения. Они пришли сюда из советских семей, пройдя сначала советскую школу, потом богему. Водка, матерщина, мальчишеские амбиции пронизывали весь быт этих ребят. Но это представляло собой и решительный противовес типу приглаженного, учтивого советского чиновника. Пьянки и грубость не проходили глубоко: они скользили лишь по поверхности. Служили своеобразной вывеской, как во времена Теофиля Готье и Виктора Гюго символом бунтарства были красные жилеты, а во времена Маяковского — знаменитая желтая кофта.
По существу, это были очень наивные и очень простые юноши и девушки с хорошими сердечными порывами, с большим чувством товарищества, с живым умом, проникнутые теплым чувством к своим старикам.
Многие из тех, о которых я говорил, стали вскоре моими близкими друзьями. Составили мой домашний кружок.
Самым деятельным и активным из моего кружка был тогда Евгений Кушев. Своеобразно происхождение этого человека. Сын актера-эстрадника, специализировавшегося на странном амплуа — чтение мыслей. Его родители разошлись почти тотчас после его рождения. Мать — порывистая, эмоциональная женщина, тоже эстрадная артистка, была замужем за известным артистом Вахтанговского театра Гриценко. Евгений жил у деда с бабкой. Дед из крестьян — старый чекист. К тому времени, о котором я говорю, полковник КГБ в отставке. Бабушка — верная его спутница, однако дочь священника, всю жизнь украдкой ходившая в церковь.
Своеобразное детство. Строгость, отсутствие ласки. Но дед приучил его к труду. Летом на даче вместе с дедом трудился. И дед, суровый человек, потачки не давал. Учеба не вытанцовывалась, хотя парень был очень способный. Индивидуалист. Вскоре покинул школу. Перешел в школу рабочей молодежи. Там порядки либеральные. В это же время сходится со взбудораженной молодежью. Место сбора — чайная на Кировской. Чайная своеобразная, нарочито стилизованная под дореволюционное время (этакий «style russe») и поэтому так же похожая на дореволюционные чайные, — я их еще застал, — как оперные «пейзане» на настоящих крестьян. Однако здесь под картинным самоваром сходится молодежь, здесь рассуждают, здесь рождаются химерические планы, здесь веет будущей революцией. Здесь — будущие декабристы.
Много смешного. Но когда же и что в жизни и в истории не начиналось со смешного? «От великого до смешного один шаг», как сказал великий корсиканец. Но ведь и от смешного до великого тоже не больше — всего один шаг.
Евгений приобретает верного друга — Сергея Колосова. Московский парень, тоже безотцовщина, живет с матерью и сестрой. Я его знал мало. Знаю о нем больше от Жени, так как он очень рано трагически погиб. У меня лишь сложилось впечатление: хороший мягкий парень, с отвращением ко всякой пошлости и фальши, — отсюда стремление к общественному перевороту.
Они с Женей начинают издавать рукописный (на машинке) журнал — «Тетради социалистической демократии». Этот журнал выходит ежемесячно на протяжении года (в 1965 году). Печатался он на машинке в очень небольшом количестве экземпляров. Он был очень мало известен и быстро сошел со сцены, а жаль: журнал производил очень симпатичное впечатление. Много в нем было молодого задора, искреннего и бескорыстного энтузиазма, искреннего желания разобраться в сложных вопросах. Журнал был очень разнообразен: тут и перепечатка из иностранных источников, и самостоятельные статьи, и перепечатка мало известных статей из мало читаемых советских журналов, и статьи редакторов (их было двое — Колосов и Кушев, они редактировали по очереди номера журнала), и статьи пишущего эти строки. Помню последний номер журнала, вышедший в декабре 1965 года, который кончался драматическими словами: «Следующий номер выйдет, возможно, с опозданием, а может быть, не выйдет совсем».
В это время редакторов начали вызывать в КГБ, угроза расправы нависла над обоими мальчиками. Мрачные ауспиции ознаменовали наступающий 1966 год.
В январе действительно пришлось туго. Мальчиков пока не арестовывали, но травмировали бесконечными вызовами в КГБ. Там их стращали, провоцировали, угрожали, хотели вырвать покаяние. Один из парней — Сергей Колосов — переживал все это особенно тяжело. Болезненный мальчик с неустойчивым организмом, с больным сердцем, он несколько раз во время допросов падал в обморок.
«Дружинники» (одна из наиболее гнусных разновидностей хрущевской эпохи — никчемные юнцы, стремившиеся сделать карьеру и лебезившие перед милицией и КГБ) выпытывали у него какие-то, в общем несущественные, детали. Им это удалось. Никому решительно он не повредил, но многие из товарищей после этого от него отвернулись. Это страшно травмировало молодого человека.
А через два года его неожиданно взяли в армию. Это было нарушение всех советских законов и даже правительственных инструкций: человек с тяжело больным сердцем, он был освобожден по белому билету. (Даже в военное время людей с пороком сердца в армию не брали.) Но для него как для неблагонадежного было сделано исключение. И направили его в какой-то медвежий угол, кажется, в Среднюю Азию. Незадолго до отъезда мы оба ночевали у Жени. Я говорил с ним первый раз подробно. Простился с ним. Меня поразил его взгляд, полный отчаяния: он смотрел на меня глазами приговоренного к смерти.
С тяжелым чувством я с ним простился. А через некоторое время его мать получила от него письмо из армии: «Мне здесь очень тяжело. Если со мной что-нибудь случится, вас известят».
Известие не заставило себя долго ждать. Через некоторое время мать получила извещение о его смерти. Немедленно отправилась в расположение его воинской части. Просила показать труп — не показали. На вопрос о причинах смерти — неопределенные ответы. Покончил ли он самоубийством, решился ли на какой-либо отчаянный поступок и был расстрелян, — так и осталось неизвестным. При всех условиях это еще одно преступление режима. Тяжело больного, хрупкого юношу забрали в солдаты, загнали в самый глухой медвежий угол. Поставили в ужасные условия. А условия в Советской армии (особенно в медвежьих углах) действительно ужасные: не говоря уж о вечной муштре, недоедании (воруют из солдатского пайка все, кому не лень), издевательство так называемых «стариков» (парней, оканчивающих срок военной службы), вечная матерщина, глумления, оскорбления и, как венец всего, самая настоящая, традиционная порка (ремнем в казарме, ложками на «губе» — гауптвахте), которая практиковалась «стариками» всюду и везде, во всех подразделениях армии с молчаливого благословения начальства, которое считало это дисциплинирующим моментом. (В последние годы эта процедура практикуется реже.)
Не столь трагичной оказалась участь Жени. Но и ему пришлось испить свою чашу. После многочисленных вызовов, собеседований с «парнишками педерастического вида», как он рассказывал, и с более взрослыми дядями, его вызвали в военкомат, а оттуда (не говоря худого слова) отправили в психиатрическую больницу (в известную больницу им. Кащенко). Там его мытарили из палаты в палату: сначала в палату № 6, оттуда в палату № 7. Как писал он мне с горькой иронией из этих печальных мест: «сплошная литература». Через 2–3 месяца выпустили. Тут появилось у него желание креститься. Крестил его отец Димитрий Дудко. Я стал его крестным отцом.
Выйдя из психиатрической больницы, Евгений, однако, не сдался. Он задумывает создание молодежного клуба им. Рылеева. Состав клуба весьма пестрый: Володя Виноградов (молодой человек, увлекающийся анархизмом), другой молодой человек либерального направления Володя Воскресенский (поэт), несколько девушек. Я также был приглашен участвовать в этом клубе. У меня сохранилась фотография, где все мы, «деятели» этого клуба, сфотографированы в Андрониковом монастыре на фоне древнего храма. Увы, это собрание в Андрониковом монастыре оказалось, кажется, единственным и последним.
Начавшаяся вскоре новая волна репрессий заставила забыть и об этом начинании молодежи.
Клуб должен был носить имя Рылеева, наиболее известное стихотворение Батшева посвящено декабристам. В сборнике стихов Евгения Кушева «Огрызком карандаша», вышедшем в изд-ве «Посев» во Франкфурте, много стихов посвящено декабристам. Это, конечно, не случайно. У этой идеалистически настроенной, ищущей новых путей среди непроглядной тьмы молодежи действительно много общего с декабристами, особенно с ранними декабристскими кружками типа «Союза благоденствия» и другими. Тот же порыв: к свободе, к свету, ненависть к деспотизму, смелость и нравственная чистота.
В это время Евгений задумывает еще одно издание. Он решает издавать журнал «Русское слово». Это был бы также своеобразный журнал. Название было взято из названия журнала, выходившего в шестидесятые годы прошлого века, издававшегося Благосветловым, в котором сотрудничал Д. И. Писарев. По мысли Евгения, этот журнал должен был быть продолжателем демократических традиций русской общественности. Мне эта идея была близка и понятна. Я ею увлекся, а к Кушеву привязался, как к родному сыну.
В это же время я познакомился и с другими представителями оппозиции. У Глеба Якунина тогда был хороший знакомый, приходившийся ему кумом. Некто Алексей Добровольский.
Знаком с ним несколько лет. Особого интереса он во мне не вызывал. Когда узнал, что он связан с оппозицией, стал приглядываться. Сразу заметил: человек многослойный.
Первый слой: тип дореволюционного офицера (кажется, из старой офицерской семьи). Отрывистая речь, полувоенный костюм (китель), резкие движения. Как мне говорили, человек весьма правых убеждений, но со мной на эти темы никогда разговоров не заводил.
Другое впечатление, когда посетил его по какому-то делу у него дома. Жил он в огромной комнате, переделенной надвое. В одной половине комнаты мать и бабушка. В другой — он с женой и сынишкой Сережей. Здесь впечатление другое: растерянный, мечущийся, смущающийся перед довольно резкими окриками мамаши. И мне стало ясно, что образ офицера, борца старой гвардии, которая умирает, но не сдается, — всего лишь рисовка. Рисовка, может быть, искренняя, но искусственная. На самом деле он слабый, неуверенный в себе. Он уже один раз сидел в тюрьме за антисоветские настроения — его, однако, не судили, а в лучших хрущевских традициях отправили в сумасшедший дом в Ленинград, где промариновали два года. Сейчас он дружил с представителями демократической оппозиции, однако сам он был крайне правым человеком — монархистом. У него в комнате висели портреты Николая II и цесаревича Алексея, что тогда было редкостно.
Так или иначе, но у нас установились контакты. Он был несколько раз у меня, я — у него. Между тем, летом 1966 года в Москву стали приходить тревожные слухи из Почаева. После некоторого перерыва опять начали терзать монахов.
Я стал советоваться с Алексеем: как быть. Надо, чтобы кто-то съездил в Почаев, посмотрел на месте и привез бы нам данные. Минуту подумав, Добровольский сказал: «Вот что, я познакомлю вас с очень смелым человеком. Он в оппозиции — все равно что вы в церковных кругах (это, видимо, должно было измерять степень воинственности). Я приведу его завтра, встретимся на бульваре».
Так и было. Жарким летним днем в июле 1966 года я был у Якуниных. Туда зашел Добровольский и повел меня на бульвар у Чистых Прудов. На скамейке сидел молодой человек, прилично одетый, с решительным лицом, — он чем-то мне напомнил портреты Савинкова. Познакомились. Я называю свою фамилию. Отрывисто он произносит свою: «Буковский». Начинаю говорить о деле. Внимательно слушает. Молчит. Хмурый. Держится отчужденно. Но со мной трудно установить официальный тон: сразу перехожу на «ты», кладу руку ему на колено. Он остается молчаливым и отчужденным, но фамильярности не прекращает. Деловой разговор продолжается. Так состоялось мое знакомство с Буковским.
Впечатление осталось хорошее. Сразу понял: он тот, кем хотел бы быть Добровольский. Действительно, смелый, волевой, решительный человек. Из всех представителей оппозиционной молодежи наиболее крупный. Я об этом тогда догадался, через год я в этом уверился.
Еще более примечательно мое знакомство с Юрием Галансковым. Во второй половине шестидесятых годов все еще нависал надо мной кошмар «тунеядства». Время от времени меня вызывала милиция и требовала от меня справку с места работы. Справки я неизменно представлял. Мое амплуа определилось: церковный сторож. Сначала в церкви в Вешняках (моем приходе), потом в одном сельском храме под Серпуховым, затем в одном из подмосковных храмов в селе Кур кино. Вслед за представлением справки в милицию меня немедленно увольняли с работы, и начиналось все сначала. Уж очень хотелось КГБ от меня отделаться.
Последний раз это было 21 сентября 1966 года, в день моего рождения. В самый разгар именинного веселья раздался стук в дверь и вошел участковый (старший лейтенант) со своим подручным (тоже в милицейской форме). Увидев праздничный стол, непрошеные посетители смутились. Стали извиняться. Один из моих ребят пригласил сесть за стол и выпить за здоровье новорожденного. Лейтенант смущенно отказался: «Мы же при исполнении служебных обязанностей». А затем вежливо попросил меня зайти на другой день в милицию.
На другой день разговор оказался, однако, не очень приятным. Начав с извинения за вчерашнее столь неожиданное вторжение, старший лейтенант затем твердо заявил: «А все-таки вы нигде не работаете. Подпишите предупреждение: если вы не устроитесь на работу в течение месяца, мы вынуждены будем вас привлечь к ответственности».
Что было делать? И я сделал, говоря шахматным языком, «ход конем»: решил обратиться к иностранным корреспондентам. Помогли мне в этом некоторые люди, находящиеся и сейчас в России, поэтому не буду называть их имен, и Юра Галансков.
Тут я увидел его впервые на квартире у одной из наших девушек. Другой раз я видел его в церковном дворе в Вешняках, где я работал сторожем.
Он пришел ко мне с одной девушкой поздно ночью, в осень. Перелез через высокий забор. Говорили с ним на бумаге — писали. Это профессиональная привычка диссидентов, привыкших к подслушивающим аппаратам.
Юра понравился, но в то же время оставалось какое-то тяжелое впечатление. Серое, пепельное лицо, подергивающиеся губы, — чувствовался неврастеник. Человек угрюмый и в то же время добродушный, готовый помочь. Он был уже тогда тяжело болен. Бывали острые желудочные боли. Чувствовалось, что нового срока он не выдержит (его уже не раз мотали по тюрьмам и сумасшедшим домам). Человек абсолютно бескорыстный, полный бессребреник.
Он — интеллигент нового типа. Отец его простой рабочий, хороший мужик; мама — известная в Москве «тетя Катя» — простая московская женщина, сердечная и очень неглупая. Меня при первом моем появлении в их квартирке с явно «конспиративными» целями — я явился с одной из наших девушек, сопровождаемый эскортом шпиков, с целью отпечатать один документ, — она попросту выгнала (при слабом сопротивлении лежащего на кровати и корчащегося от боли Юры). Но потом мы с ней подружились и даже породнились: я стал крестным отцом ее внука (сына ее дочери) — тоже Юры Галанскова, увы, глухонемого мальчика.
Между тем, в иностранной прессе появились отклики на преследования меня милицией. В «Русской мысли», издающейся в Париже, появилась статья под заглавием «Злоключения церковного писателя». Вслед за тем у меня произошла встреча с иностранными корреспондентами на Новодевичьем кладбище (это московский Пантеон). Явились трое: Миллер — корреспондент «Дэйли Телеграф», и американский корреспондент с чистыми детскими глазами, какие я видел только у американских парней, под руку с женой, находившейся в последней стадии беременности.
Они начали разговор вопросом: «Что произойдет с вами через месяц?» Они уже слышали о моих злоключениях. Я ответил: «Через месяц произойдет одно из двух: или меня арестуют, или меня не арестуют».
Дама, пораженная этим юмором висельника, спросила: «Есть ли у вас семья?» Затем я им долго рассказывал о своих злоключениях. Помню, в какой-то момент прервал свое повествование, чтобы показать одну из могил. Лаконично заметил: «Здесь похоронен Чехов». «О, — сказал Миллер, — я не знал». Американцы отнеслись к моему сообщению спокойно. Видимо, имя Чехова им очень мало что говорило.
Я ушел с «пресс-конференции» с удовлетворением. Я им сказал много, и не только о себе. Думал, что произвел впечатление. Только много лет спустя, будучи в Лондоне, узнал о словах Миллера: «Он говорил много, но так быстро, что я ничего не понял».
Однако в Москве все поняли: в ноябре меня вызвали снова в райсовет Ждановского района. На этот раз меня приняла заместитель председателя райсовета. Деловая и, видимо, очень занятая женщина. У нее сидела другая дама — корреспондент газеты «Московская правда». (Одновременно с обращением к иностранным корреспондентам я написал обращение ко всем людям доброй воли и разослал это обращение во все редакции.) На этот раз тон был совсем иной. Дамы сказали: «Выкиньте из головы эту фантазию — работать сторожем. Подумаем, как вас устроить».
Иностранного общественного мнения тогда еще в Москве побаивались. После этого от меня на некоторое время отстали.
А мои контакты с Юрой все продолжались, вплоть до самого его ареста. Чудесный это был парень. Под внешней грубостью, как и у матери, тети Кати, золотое сердце.
Оно и способствовало (увы!) его ранней смерти. По просьбе Добровольского, он принял некоторые из его дел на себя и этим утяжелил свою участь.
Он не был церковным человеком, но был верующим христианином. Его религиозные воззрения, видимо, не могли полностью сформироваться среди той бестолковой и беспокойной жизни, которой мы все тогда жили в Москве: между сообщением об аресте одного из наших товарищей и собственным арестом, между подписанием очередной петиции и организацией очередного митинга. Но основой его мировоззрения был христианский гуманизм, сформировавшийся под сильным влиянием Л. Н. Толстого и чтения Евангелия.
Юрий Галансков, как и большинство его друзей, представлял собой новый тип русского интеллигента, одинаково отличный и от старого интеллигента, который о любви к людям вычитывал из книг, и от советского интеллигента, для которого любовь к людям была туманностью Андромеды, а заодно и все на свете книги. Люди типа Юры Галанскова, видевшие с детства грязь, пошлость, грубость и неизбывную нужду, ютившиеся на задворках Москвы, учились любви к людям на практике, в жизни, в совместной борьбе.
И снова хочется повторить здесь слова поэта, который, прорвав силой гения советскую скорлупу, неожиданно ярко выразил чисто христианскую идею:
И в это же время происходит знакомство с Якиром. С 1965 года именно квартира Петра Ионовича Якира становится центром демократического движения. О Якире писали много; так или иначе он вписал свое имя в историю демократического движения. Отзывы разные: хорошие и плохие.
Многие характеризуют его как Воланда (воплотившегося сатану из знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита»). Действительно, квартира Якира (на окраине Москвы, где когда-то был Симонов монастырь) напоминала квартиру Воланда из знаменитого романа. Квартира, всегда переполненная народом. Проходной двор. И кого здесь только нет: научные работники, дети бывших высокопоставленных лиц, вернувшиеся из лагерей, куда их загнали Сталин и Берия, студенты, приехавшие из провинции, демократические мальчики и девочки со всей Москвы, крымские татары, украинцы, белорусы, евреи всех мастей, со всего Советского Союза, эстонцы, латыши, литовцы. Изредка здесь мелькают немецкие, английские, французские журналисты — и наряду с этим опустившиеся пропойцы, ночующие на вокзалах. Всем одинаковый прием, для всех ласковое слово, ну и чарка водки.
Большое обаяние Пети Якира (так его называла вся Москва) — в его общедоступности. Он демократ не в теории, не по книжным выкладкам, а по самой своей натуре. Никому никаких привилегий. Никаких различий. Между министром и босяком для него нет никакой разницы. Ко всем одинаково благожелательное отношение. Одинаково грубоватая речь, пересыпаемая добродушной матерщиной и типично лагерными словечками. И тут же жена — Валентина Ивановна — тоже, как и Петя, старая лагерница. Они познакомились в лагере, куда ее забросила волна репрессий, когда она была совсем молодой девушкой. Она родом северянка, из Мурманска. Очень травмированная, всегда грустная и необыкновенно отзывчивая. Она — сама доброта. Верующая, хотя в церковь не ходит. Когда болела, сказала: «хороните меня в церкви».
И тут же мать — вдова прославленного генерала, павшего в 1937 году жертвой Сталина. Сарра Лазаревна, проведшая после гибели мужа около 20 лет в лагерях. Молчаливая. Больная. Как-то я ей сделал комплимент, когда она сидела в кресле, вытянув больную ногу: «И чудесные же, должно быть, были у вас ножки, Сарра Лазаревна». Задумчиво она ответила стихами Блока: «Это было давно, я не помню, когда это было». Несколько раз хотел вызвать ее на разговор о старине. Это же живая летопись. Она лично знала всех: от Ленина и Троцкого до Сталина и Фрунзе. Она ответила: «Для этого вам надо прийти днем, когда я буду одна и мне будет очень скучно». Вспоминать о старом не любила. Лишь раз слышал от нее фразу: «Фрунзе говорил: Сарра молчит, но она все понимает».
Так, верно, оно и было. Она молчала, но понимала все.
Дочь Якира Ира — умная, толковая, хотя и болезненная молодая женщина. Энергичная и трудолюбивая, она была первой помощницей отца. В какой-то степени это добрый дух Якира. Она действовала на него как щелочь на металл: под ее влиянием у Петра Ионовича сходили пошловатые черточки, приобретенные во время длительного пребывания в лагерях. При ней он как-то становился другим: славным, добрым, неглупым, каким он и всегда был в глубине души. Она замужем за известным московским шансонье Юлием Кимом. Это также интересная личность: отец — корейский коммунист, попавший в Москву — эту Мекку коммунизма — в двадцатые годы и здесь расстрелянный в ежовщину. Мать — дочь почтенного тульского протоиерея отца Всехсвятского. Видел как-то фотографию его деда. Почтенный седобородый старик в рясе с наперсным крестом, окруженный семьей. Кто может подумать, что его внук — кореец, шансонье, зять Якира. Невольно повторишь вслед за одной из героинь Лескова: «Боже мой! Как курьезно подтасовываются все пары» (Н. С. Лесков, «На ножах»).
Это, впрочем, относится не только к бракам; пожалуй, не менее прихотливо складывается и мужская дружба.
У Петра Ионовича был задушевный друг, с которым он был неразлучен. При первом же взгляде поражал контраст. Приземистый, плотный, с лицом, окаймленным черной с сединой бородой, разговорчивый, подвижной, всегда «на взводе» Якир и высокий, молчаливый, аккуратный, вежливый, сдержанный Илья Янкелевич Габай. Я помню, как-то П. Г. Григоренко его охарактеризовал: «Умный еврей при Якире».
У меня такого впечатления не составилось, и только много позже я понял правильность этого определения.
Оригинально сложились у меня отношения с этим человеком. В шестидесятых годах, когда мы с ним встречались чуть ли не каждый день, у нас близкого контакта никогда не получалось. Всегда, когда мы с ним разговаривали, речь шла или о подписании какой-либо петиции, или об очередном митинге, или, наконец, мы виделись с ним в компании, за чьим-нибудь именинным столом. И всегда в присутствии Якира. Я знал, что он в прошлом, как и я, учитель литературы. Но никогда на эту тему мы с ним не разговаривали.
Помню, мы шли как-то по Замоскворечью зимой по снежной улице вчетвером: Петр Ионович с женой, Габай и я. Якиры шли впереди, а мы с Габаем отстали. Почему-то начался полушутливый разговор о женщинах. Шутя я сказал, что видел женщин решительно всяких, от аристократок до кухарок, от коммунисток в кожаных куртках до монахинь, но не видел ни одной умной женщины. Валя, расслышав отрывок нашего разговора, спросила:
«Что вы там болтаете о женщинах?» — Илья с готовностью ответил: «Мы говорим о них, что они очень добрые, хорошие». На этом разговор оборвался. Мы присоединились к общей компании.
И лишь через некоторое время для меня открылся внутренний мир Габая. Это было жарким летом 1969 года. Только что были получены сведения об аресте Григоренко и Габая. Я написал статью об арестованном генерале. Отпечатать ее на машинке взялась одна из наших девушек, которая жила в пустующей квартире Габая на Лесной улице, у Белорусского вокзала. Квартира пустовала, так как Илья был уже арестован, его жена поехала в Ташкент, где его должны были судить, сынишка был где-то на даче.
Диктуя статью, я машинально рассматривал книги на полке. И вдруг меня многое поразило: прежде всего огромное количество религиозных книг. Тут и несколько Библий, и Евангелия, и Жития святых. Целая полка была заставлена религиозно-философскими произведениями. В. С. Соловьев, Булгаков, Бердяев, Флоренский. Особую полку занимали книги по истории Церкви и чисто богословские труды. Изумленно я спросил у девушки, исполнявшей роль машинистки: «Это что? Книги Габая?» — «Да, он очень интересуется этими вопросами».
В этот момент Илья предстал для меня в совершенно новом свете. До этого я никак не думал найти у него столь углубленный интерес к религиозно-философским вопросам.
Вскоре, однако, я был также арестован. В 1970 году, во время моего кратковременного пребывания на свободе, Габай был в лагере. Я написал ему письмо, в котором, между прочим, говорил о моем посещении его квартиры и о моем знакомстве с его книгами. Тотчас получил ответ. Письмо начиналось словами: «Вы были поражены обилием книг по Вашей специальности. Ничего удивительного в этом нет. Когда мы встречались с Вами, всегда надо было кого-то спасать, и тут было не до духовного мира товарищей». Затем между нами завязалась интенсивная переписка, которая длилась всю зиму 1970/71 года. Переписка носила теоретический характер: я, разумеется, стоял на точке зрения положительного христианства, настаивая на том, что вся полнота Истины открыта в Личности и учении Иисуса Христа — Единородного Сына Божия и Первородного Сына Человеческого.
Для Ильи христианство было прежде всего нравственным событием. Я тут почувствовал, что его душе, жаждущей Истины, истосковавшейся по Правде, Евангелие было родником живой воды. Здесь он находил то, чего не мог найти ни в политической публицистике, ни в абстрактной философии (даже из этой переписки было видно, что он был, безусловно, самым образованным, начитанным и вдумчивым из всей этой компании молодежи — богемной, безалаберной, хотя и несущей в себе семена будущего обновления жизни). От христианства его отделяли тяжелые глыбы: во-первых, национальность. Видимо, ему трудно было перешагнуть через этот ров, ископанный людьми. С другой стороны, его отделяло от Евангелия советское воспитание, согласно которому Евангелие — это нечто антинаучное, недостоверное, нереальное.
Помню, однажды мы спустились с теоретических высот на грешную землю. Я написал о Якире, который в эту зиму все больше втягивался в запой, просил на него повлиять. Илья ответил, что он и сам в этом грешен. Это было неверно. Он выпивал в компании, но далеко не так, как Якир.
Вскоре я был вновь арестован. И переписка наша оборвалась навсегда. Потом мы дважды говорили по телефону. Шел 1973 год. Я вернулся из лагеря. Илья вернулся еще раньше. Я говорил с ним после приезда из чьей-то квартиры. Потом меня охватили хлопоты, треволнения. Однажды одна из наших девушек сказала: «Илья находится в очень тяжелом состоянии. Его одолевает тоска. Позвонили бы к нему». Тотчас я позвонил. К телефону подошел Габай. Я узнал и не узнал его голос. В голосе было столько тоски, он был какой-то старческий и с какой-то неожиданно еврейской интонацией, вообще Илье совершенно несвойственной. Мне этот голос чем-то напомнил интонации героев «Гадибука» — мистической еврейской пьесы, которую я в детстве видел в еврейском театре «Габима».
После небольшой паузы я сказал: «Это вы, Илья? Это говорит Левитин». Илья ответил своим обычным голосом: «Здравствуйте, Анатолий Эммануилович?» — «Илья, я хотел бы вас видеть. Разрешите, я зайду к вам во вторник». (Разговор происходил в пятницу.) — «Пожалуйста». — «Я слышал, что вы что-то хандрите. Верно, история с Якиром и Красиным вас так поразила». (Все мы тогда находились под впечатлением суда над Якиром и Красиным и их капитуляции.) — «Да разве только в этом дело?» — «Ну, так до вторника. До свидания». — «До свидания».
В воскресенье один из наших друзей Григорий Сергеевич Подъяпольский праздновал день своего рождения. Вечером я пробирался к его дому. Встретил по дороге одну почтенную даму, тоже из наших, Надежду Яковлевну Иофе. Я подошел к ней с шутливым приветствием и заметил:
— Что это, мадам, вы сегодня не в духе?
— Подождите, сейчас вы тоже перестанете улыбаться. Вы знаете, что сегодня Габай бросился с девятого этажа?
Я остался без слов. Я был на его похоронах. Увидел его в гробу. Первый раз после 1969 года. Молодое, хорошее лицо. Я перекрестил его и поцеловал его в лоб. Это была жертва. Жертва КГБ. При освобождении у него вынудили подписку об отказе от общественно-политической деятельности. Потом не раз мотали по следователям. Требовали каких-то показаний. Это его страшно травмировало. Грубить следователям по мягкости характера он не мог, поставлять им какие-то сведения — тем более. Капитуляция близких друзей, сопровождавшаяся отвратительной пошлостью и носившая особо гнусный характер, его доконала. В декабрьское утро 1973 года он покончил счеты с жизнью.
И еще с одним человеком я встретился у Якира — с Красиным.
Этого я знал давно. Еще в 1949 году я сидел с ним в одной камере. Тогда он был мальчишкой, ему только что исполнилось 20 лет. Он принадлежал к группе так называемых «индусских философов», мальчиков, увлекавшихся философией йогов, из чего карьеристы из «органов» сделали целую организацию.
В книге «Рук Твоих жар» я рассказывал об этом подробно. Виктор мне рассказывал об индусской философии, расспрашивал меня о Христе, как будто проникался Евангелием. Но с этим страшно не гармонировала хамская грубость, вечная матерщина, не совсем этичное поведение по отношению к товарищам. Затем в лагере он совершил смелую до дерзости попытку побега. Вел себя благородно. Совершили побег втроем, на лагерной машине. Но машина забастовала на ближайшем повороте. Пришлось улепетывать пешком. Один из товарищей обезножил, не мог идти. Третий их компаньон, блатной парень, предложил: «Убьем его и пойдем дальше, а то он нас выдаст, скажет, куда мы пошли». Виктор отказался. Его компаньон ответил:
«Тогда оставайся ты с ним. Я пойду один». И он отправился в путь один, потерялся в сибирских лесах. До сей поры никто не знает, что с ним случилось. А Виктора с больным товарищем «застукали» эмгебисты через несколько часов. Не убили только случайно. Командиром отряда был узбек, а Виктор в детстве был с матерью и братом в эвакуации в Ташкенте и там выучился узбекскому языку. Это спасло ему жизнь. Узбек, услышав родную речь, приказал не убивать его. Дело ограничилось лишь избиением и заключением в карцер. Судили за побег. Продлили срок. В 1956 году, в эпоху «позднего реабилитанса», вышел он на волю. В объятиях матери. Поступил вновь в университет (на экономический факультет — до ареста был на историческом). Женился. Обзавелся семьей. Трое сыновей. А в это время сблизился с Якиром, стал одним из самых активных участников движения. Мы с ним были связаны в течение долгих лет.
В 1968 году он принял вместе со своей семьей крещение. Я стал его крестным отцом. Когда мы встретились с ним на квартире Якира, — это был разгар его деятельности, и через него осуществлялась связь с иностранными журналистами, посольствами; собирал подписи под петициями, устраивал демонстрации. Ему нельзя было отказать ни в энергии, ни в решимости, ни в изобретательности, ни в таланте.
В чем, однако, причина крушения этого способного человека, определившая его страшное нравственное падение (позорная капитуляция на суде, гнусная пресс-конференция, передававшаяся по радио, предательство ряда товарищей и, как выяснилось позднее, принятие денег у КГБ перед эмиграцией).
И здесь мне вспоминается один давний эпизод. Однажды (еще в 1968 году) Виктор сказал одной девушке: «У меня ничего не осталось, кроме ненависти». И в этом разгадка его духовного краха. На ненависти ничего нельзя строить. Строить можно только на любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» (1Кор.13:1).
Падение Красина — не случайность. И во многих ребятах — участниках демократического движения — я чувствовал, что порыв юношеского энтузиазма часто сменялся тоской, безразличием и духовной усталостью. Это настроение хорошо выразил Евгений Кушев в одном из своих стихов, под которым, вероятно, могли бы подписаться и Красин, и Якир, и еще очень, очень многие.
1956–1966 годы — переломное время. Все пошатнулось, все стало зыбким, ни в чем нет уверенности. Это время будет изучаться историками, ибо это десятилетие было чревато будущим. Оно уже имеет своих мемуаристов, исследователей.
Но наиболее полно его выразил в своем творчестве писатель, о котором шла речь в начале главы: Валерий Яковлевич Тарсис.
«На жирной коже ее» (Интермеццо). В. Я. Тарсис
Все его творчество на переломе. И в каждой написанной им строчке надлом. След трагической эпохи.
Он необыкновенно искренен. Ни одной фальшивой ноты, — во всем болезнь родной страны, болезнь эпохи.
Он имеет пристрастие к сложным душевным процессам, к противоречивому психологическому рисунку, к патологическим типам. Отсюда его любовь к Достоевскому и органическая антипатия к Л. Н. Толстому. Классическая простота и ясность, воплощенные в таких типах, как княжна Марья, Наташа Ростова, Китти Щербацкая, ему чужды. Его герои все, без исключения, люди путаные, противоречивые, сумбурные.
Сказывается эта особенность В. Я. Тарсиса уже в первом его произведении, опубликованном за границей. Эта повесть — «Сказание о синей мухе» — распадается на две очень неравные части: первая часть, связанная с идейной эволюцией советского философа Синемухова, чисто философская, напоминающая по своему замыслу повести Вольтера; вторая часть — чисто психологическая; идеология здесь отступает на задний план, и банкротство советской интеллигенции раскрывается в чисто психологическом плане, в опустошенности ее представителей.
Первая часть (это усиливает ее сходство с философскими повестями Вольтера) изобилует острыми афоризмами, едкими выходками против господствующей идеологии.
Первая страница. Афоризм из философского труда Синемухова: «Глупость всесильна, разум беспомощен. Что может сделать двуглавый орел против миллионноголовой гидры? Глупость одержала решительную победу над миром еще в тот гибельный день, когда первый дурак покорился первому злодею. И власти своей над миром не уступит до скончания века» (Валерий Тарсис. «Сказание о синей мухе». — Франкфурт-на-Майне: изд. «Посев», 1963, с. 7).
Афоризм, сложенный в Москве в начале шестидесятых годов, когда все советские идеологи пытались объяснить «культ личности» случайными факторами, так и бьет по лицу апологетов советской философии истории. У всех в памяти «первый злодей», а в нескольких шагах от квартиры Тарсиса, в стенах Кремля, в своих шикарных кабинетах сидят «первые дураки», покорившиеся первому злодею.
Другой афоризм, в нем вся программа писателя: «Но я все же отвлекусь от отвлечений, и на этот раз окончательно… Хотя не сомневаюсь в том, что отвлечения и отступления — самое увлекательное и в жизни и в искусстве» (там же, с. 9).
Это опять удар по советской идеологии, наиболее характерной чертой которой является прямолинейность, мнимое разрешение всех противоречий и трудностей. Для советского человека все трудные, мучительные вопросы разрешены раз и навсегда, как говорил Алексей Николаевич Толстой в 1938 году, «четырьмя гениями» (правда, после XX съезда число гениев убавилось, но и трех гениев достаточно, чтобы все разъяснить, всему дать свое место, разрешить раз и навсегда все противоречия, — какие могут быть тут «отвлечения и отступления», разве что в арестантском эшелоне в лагерь).
И, наконец, автор подытоживает искания Синемухова. Чтобы предельно заострить мысль, автор прибегает к своеобразному приему: он смотрит на себя и на своего героя извне и излагает сущность его мировоззрения устами среднего советского человека, нормального советского бюрократа, службиста:
«Свое поприще — философию — наш герой называл не любомудрием, а любоглупием или филокретинией. Он даже утверждал, что философы, кроме глупости, еще ничего не придумали, будто они тем и заняты, что болтают маловразумительную чушь, и поэтому ничем не отличаются от обычных кретинов — юродивых, святых, пророков, одержимых и прочих психопатов» (там же, с. 11).
Это одна из самых острых страниц у Тарсиса. Кто из нас, грешных, людей, сбивающихся с обычного проторенного пути, не слышал подобных поучений от советских людей, начиная от следователей КГБ, кончая нашими родителями, женами, соседями, коллегами, друзьями.
И на этом фоне диаматчик Иоанн Синемухов, официальный философ, который становится в резкую оппозицию к советской идеологии. Собственно говоря, Иоанн Синемухов, как и сам Тарсис в те времена, не отказывается пока еще от социализма. Его идеи вполне созвучны не только идеям западных социалистов, но и идеям наиболее широких и дальновидных коммунистов (типа Роже Гароди). Иоанн Синемухов — последовательный гуманист:
«В конце концов, важен принцип. Если сегодня он убил муху, то почему он завтра не может убить жену, которая гораздо сильнее мешает ему работать, уже много раз жалила его куда больнее, чем синяя муха, и не в макушку, а в сердце» (там же, с. 16).
Он прав. Во всем есть логика. Что может быть смешнее потуг сталинских приспешников выступать в качестве блюстителей нравственности. Только здесь уравнение Синемухова следует перевернуть: если можно безнаказанно убивать миллионы людей, мучить, заключать в лагеря десятки миллионов, бесстыдно всенародно лгать, приписывать себе чужие заслуги и оспаривать совершенно для всех очевидные факты и при этом еще корчить из себя благодетеля людей, то почему нельзя «убить синюю муху» (изнасиловать девушку или на худой конец убить жену или набить кому-нибудь морду). Ибо основой официальной идеологии в сталинское время была вывернутая наизнанку мораль: матом ругаться нельзя (за это на 5 лет в лагерь), а убивать, пытать, сажать в тюрьмы невинных — можно (за это чины, ордена и медали).
Синемухов это понял и об этом сказал. Собственно, он не сказал ничего нового: это и так всем понятно, но говорить об этом строго воспрещается. За такие слова — изгнание, тюрьма или (согласно хрущевскому «возрождению ленинских норм») сумасшедший дом.
Тарсис бегло, но очень выразительно очерчивает образы представителей официальной идеологии. Главная их черта: опустошенность, полное отсутствие каких бы то ни было убеждений, моральных критериев, верований. Так у рядовых диаматчиков (кроме Синемухова), так у жрецов советской идеологии высшего класса.
Вот перед нами высокий идеолог Михаил Михайлович Архангелов (видимо, Михаил Суслов). Это человек лично чистоплотный (не взяточник, не убийца), но донельзя ограниченный, тип фанатика, изувера, из тех, которые спокойно и елейно посылали людей на костры в средние века, рубили людям головы в эпоху якобинского террора, морили людей в душегубках в фашистской Германии.
«Превыше всего для него были интересы партии. Партийная жизнь и жизнь вообще для него были синонимами, никогда и ни в чем не сомневался Михаил Архангелов. Самые потрясающие события не выводили его из состояния невозмутимого спокойствия. Он никогда не повышал своего тихого голоса. Не потому, что сдерживал себя, он просто не испытывал ни гнева, ни раздражения, не вскипал, не отходил, и Синемухов не мог бы себе представить, что Архангелов вдруг загорелся от страсти, зарыдал от горя и вообще что он может быть мужем, отцом, другом, всем, чем угодно, кроме партийного работника. Это была особая порода людей…» (сс. 23–24).
Это была особая порода людей, заботливо выпестованная и выращенная Сталиным, — людей бездушных, бессердечных, бесстрастных.
И наконец, вершина вершин. Апостолов. Едкая карикатура на Хрущева.
Характеристика Апостолова-Хрущева в основном правильная: это человек не жестокий, не злой, готовый к компромиссам и уступкам; главная его черта — ограниченность, непонимание духовных потребностей. В. Я. Тарсис считает, что девизом Хрущева является принцип маркизы Помпадур: «После нас хоть потоп». Это не совсем верно. Хрущев был по-своему убежденным человеком, он из тех, кто произносит слово «Ленин» с дрожью в голосе, со слезами на глазах. Его главный порок был не в беспринципности, а в ограниченности: он искренно считал, что если предоставить людям возможность жить в отдельных квартирках (но без архитектурных излишеств) и дать им более или менее приличную пенсию, то этим все на свете проклятые вопросы будут разрешены. «Хлебом единым», и только хлебом единым, — таков лозунг Апостолова-Хрущева.
И еще несколько слов о непосредственном окружении Синемухова. Профессиональные диаматчики, советские философы. Среди них и человек, просидевший 18 лет в лагерях и утверждающий, что это нисколько не умаляет высоты «советской демократии». Здесь и либерал, ободряющий Синемухова, но сам боящийся слово сказать. Здесь и просто (по выражению Троцкого) «партобыватели», любящие поиграть в карты, поставить пульку, выпить пару пива. Им не надо свободы, им не надо мысли и сердца. Зачем? Для чего? О них сказал он, наш вещий Пушкин:
Впрочем, можем вспомнить и еще одного человека, написавшего в 1915 году своим размашистым почерком следующие слова: «Никто не виноват в том, что родился рабом, но раб, который идеализирует свое рабство, украшает цветами свои цепи, есть вызывающий законное чувство негодования холуй и хам» (В. И. Ленин. «О чувстве национальной гордости у великороссов»).
И наконец, женщины. В повести «Сказание о синей мухе» есть четыре женских образа: Евлалия (жена Синемухова), горничная Катя, которая живет с хозяйским сыном, Зина (сестра Евлалии) и Розалия Загс.
Они много умнее мужчин. Красивыми словами их не проведешь. Евлалия — законченная мещанка, но умная и проницательная мещанка: она понимает, что Синемухов лезет в яму, и говорит просто и ясно то, что стесняются говорить мужчины. Она нисколько не скрывает, что ей в высшей степени наплевать на все идеи, будь то официальное словоблудие или синемуховский гуманизм. Она не скрывает, что для нее в жизни главное — деньги и комфорт. Спасибо за откровенность. Открытый Циник лучше елейного лицемера.
Такова же и домработница Катя. Высокими словами ее не проведешь. С первых же слов она прерывает Синемухова, который предлагает ей учиться: «Нечему мне учиться. Меня ваш сын уже в постели всему выучил».
Еще более рельефны две другие женщины: Зина и Розалия Загс. Умницы, циничные, остроумные, красивые, страстные. Они начитанны и в меру культурны. И циничны еще в большей, во много раз большей степени, чем Евлалия и Катя.
Если нужны литературные аналогии, то, пожалуй, наиболее близкой аналогией является Нана из известного романа Эмиля Золя. Так же, как в образе Нана Золя как бы изрекает приговор растленному миру Ругон-Маккаров, так в образах Зины и Розалии Загс Тарсис вскрывает внутреннюю опустошенность, вырождение правящего класса советской страны.
То, что у официальных чиновников тщательно закамуфлировано, у этих женщин дается в обнаженном, вызывающем виде.
В этой повести нет глубокого психологического анализа, нет особого стилистического мастерства. «Сказание о синей мухе» — плакат. Как во всяком плакате, здесь все подано жирным курсивом: резко, обнаженно, отточено. Сильный и яркий плакат, быть может, первый плакат о советском обществе такой остроты, появившийся в России, в самых недрах советской страны.
Примерно в это же время В. Я. Тарсис пишет «Красное и черное» — лучшее из своих произведений.
И, как часто бывает, именно это-то его произведение и осталось почти не замеченным ни широкой публикой, ни зарубежными журналистами, жадными до литературных и политических сенсаций.
Уже введение в повесть необычно:
«Внезапная гибель профессора французской литературы Корнелия Абрикосова и сопутствующие ей обстоятельства поначалу вызвали много сенсационных толков, подобно камню, брошенному в тихие волны, но, как всегда, круги сужались на невозмутимой глади и разглаживалось чело океана времени для новых забот и морщин. Было много других профессоров, дел, страстей, забот и нужд, люди спешили трудиться, любить, драться и гибнуть по разным причинам — сложным, простым, обыкновенным, трагическим» (В. Тарсис. «Красное и черное». «Посев», 1963, с. 101).
Это вступление Тарсиса сильно напоминает вступление нелюбимого им Л. Н. Толстого к «Смерти Ивана Ильича»: смерть и равнодушие окружающих, занятых своими мелкими и будничными интересами.
В основе этой повести лежит, однако, повесть не о среднем, как у Л. Н. Толстого, а о крупном и широко известном человеке: проф. А. Виноградове.
В первый послевоенный год Москва была взволнована вестью о неожиданной его смерти вследствие несчастного случая.
Проф. Виноградов был широко известен еще в тридцатые годы. Помню, как примерно в эти годы мой приятель, московский учитель, показывая свою нищенскую библиотечку, сказал, держа в руках старую зачитанную книжку: «А это мой золотой фонд». То была книга А. Виноградова об известном скрипаче Паганини. Но особой известностью пользовалась его книга о Стендале: «Три Цвета времени».
В центре повести Тарсиса лежит рассказ о проф. А. Виноградове и его жене. В. Я. Тарсис, который был его близким другом, сумел приподнять завесу над интимной жизнью профессора. Прежде всего — никаких преувеличений. Проф. Виноградов (он же Абрикосов) — человек преуспевающий, человек исключительно благополучной судьбы. Его, как и самого В. Я. Тарсиса, никогда не сажали ни в тюрьму, ни в лагерь, не объявляли врагом народа, не мешали заниматься избранной им любимой специальностью.
Мало того, он сделал блестящую карьеру, он — профессор Московского университета, он известный и популярный писатель; наконец, его заработок равняется 100 тысячам в год. Он женат на молодой, красивой, страстно любимой им женщине. Он принадлежит к самым привилегированным слоям советского общества, и ему доступно то, что тогда, в сталинские времена, не было доступно никому из простых людей: поездка за границу. Он едет с женой в Италию, погружается «в искусство, в науку». И никто от него ничего не требует, ни к чему его не принуждает. Собственно говоря, он ведет такой же образ жизни, какой вел бы, живя в любой западноевропейской стране.
Правда, на заднем плане мелькает фигура редактора Веселова, типичного чиновника от литературы, твердокаменного коммуниста, который говорит и мыслит партийными прописями. Он все время требует от проф. Абрикосова ультрапартийных статей, направляет его на «идейно-политическую партийную линию». Но направляет не грубо, не жестоко, без особых нажимов и без угроз. Жена Абрикосова также хочет, чтобы он продолжал оставаться апробированным человеком и не лез в оппозицию. Но опять-таки добивается этого не грубо, без особых нажимов. Так же, как и на Западе, профессорша не хотела бы, чтобы ее муж ссорился с начальством. Но он может никого не слушать и все-таки оставаться профессором. И тем не менее тоска, лютая тоска его гложет.
В. Я. Тарсис нашел тонкие краски, чтобы не навязчиво, ничего не утрируя, показать, как внешнее благополучие, как блестящая карьера не спасают от скуки, от ощущения пустоты и одиночества.
И человек ищет, за что бы зацепиться, что наполнило бы жизнь, что насытило бы духовную жажду. Для профессора Абрикосова это любовь к жене, любовь страстная, неизбывная. Но и это лишь иллюзия, лишь наркотик, и достаточно небольшого толчка, чтобы чары рассеялись, наркотик перестал действовать. В повести это случайные слова, сказанные Абрикосову его женой в Италии.
«Видя мое торжество, Римма почему-то нахмурилась.
— Знаешь, — сказала она со зловещим равнодушием, — я окончательно убедилась, что вовсе не люблю родину, а если когда-нибудь и любила, то наверняка разлюбила.
— Так же, как меня?
— А разве я тебя любила? — спросила она с удивлением человека, не ведающего, что он творит.
Так отплатила мне жизнь за мою страстную любовь к ней.
С того дня я решительно порвал свой роман с жизнью, хотя любил ее, кажется, еще сильнее. Но я уже продолжая свой путь в другом, воображаемом мире. Постепенно все от меня отворачивались, из бегали. Вероятно, во мне было что-то опасное для цельных натур, окружавших меня» (там же, с. 158).
Это глубокая и сильная страница. Постараемся вникнуть в нее. Жена сказала: «А разве я тебя любила?» — самая обыкновенная женская выходка. Кто не слышал от своих жен в какие-то моменты таких комплиментов и кто их принимал когда-либо всерьез? Но для Абрикосова это конец, расчет с жизнью. Почему? Да потому, что весь его «роман с жизнью» держался на тоненькой ниточке: на влюбленности в жену. И когда эта ниточка порвалась, исчезла цель жизни. Все стало скучно, безразлично, не нужно.
И здесь с большой художественной силой раскрывается то, о чем я писал в предыдущих книгах, тот комплекс, который преследует меня с ранней юности: комплекс Гамлета. Комплекс переживаний человека, для которого жизнь потеряла смысл, для которого все окружающее лишь пустой и ненужный маскарад. Нет связи с людьми, нет связи с жизнью.
Профессор Абрикосов также уходит из жизни.
«Красное и черное» — это рассказ, в котором политическая тема задета лишь мимоходом. И все-таки он бьет по социальному антуражу советского общества. Тарсис показывает импотенцию советской идеологии, советского общественного строя.
Советская идеология способна удовлетворить лишь мелких людей, посредственных чиновников, таких, как Веселов, Архангелов, Апостолов. Более глубокие, взыскующие истины, способные к могучей страсти, к сильному чувству, остаются бесприютными скитальцами и уходят из жизни. Как ушли Есенин, Маяковский и Фадеев, как ушел проф. А. Виноградов и его литературное alter ego в повести Тарсиса профессор Абрикосов.
И наконец, совершилось. Совершилось то, о чем предупреждали, чем грозили, что мерещилось по ночам, то, что не давало покоя с тех пор, как Тарсис вступил на путь оппозиции.
23 августа 1962 года писатель Валерий Яковлевич Тарсис был доставлен в психиатрическую больницу им. Кащенко. В известную психиатрическую больницу Москвы. Это — не тюрьма, но это страшнее тюрьмы. Прежде всего страшнее тем, что здесь заключение бессрочное, быть может, пожизненное. Наконец, в тюрьме, в лагере вы можете жаловаться, апеллировать, предъявлять претензии, — здесь вы не можете ни жаловаться, ни протестовать, ни предъявлять никаких претензий. Вы — больной, умалишенный. Вас не наказывают, вас лечат.
Правда, Тарсису повезло: он в привилегированной палате — среди таких же, как он, спокойных «больных» интеллигентов, которых лечат от оппозиции режиму. От убеждений. Но это не имеет значения. Завтра, по прихоти любого врача, по приказу свыше, его могут перевести в другую палату, в палату, о которой есть беглое упоминание в повести Тарсиса: «Его отвезли в пятое отделение. Бросили на грязный матрац на полу. Шестипудовая баба посмотрела на него совиными глазами, — и он сразу присмирел. Сорок человек гоготали, плясали, плевали, курили, ругались, дрались. Когда его через неделю перевели в палату № 7, ему казалось, что он попал в рай» (В. Тарсис. «Палата № 7». 2-е изд. «Посев», 1974, с. 67).
Во время 7-месячного пребывания в сумасшедшем доме пишет Тарсис свое наиболее известное произведение: «Палата № 7» — произведение, которое доставило ему мировую славу, было переведено на полтора десятка языков; до сих пор пользуется известностью во всем мире.
Что следует о нем сказать? Прежде всего, оно импонирует своей смелостью. Никто еще, находясь в лапах тоталитарного режима, будучи в полной зависимости от властей, не осмеливался с такой страстностью, с такой смелостью бросить вызов режиму, открыто называть его фашистским.
«Палата № 7» — произведение исключительной яркости, буквально ни одной блеклой строки: повесть написана жирным курсивом. Это протест исключительной силы, брошенный в лицо советскому режиму.
В плане истории русской литературы повесть достойна занять место где-то рядом с письмом Белинского к Гоголю, с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева и с другими актами гражданского протеста.
Она заслуживает внимания и в другом аспекте. В ней, как в зеркале, отразились все сильные и слабые черты нарождавшегося тогда (в начале шестидесятых годов) демократического движения.
Итак, сильная сторона: протест против угнетения, издевательства над человеческой личностью. Повесть в этом смысле сохраняет полностью свое актуальное значение. И слабые стороны: вступление. К В. Я. Тарсису приходит юноша Женя, его «однополчанин» по палате № 7. Диалог между ним и автором:
«И я рад вам сообщить, что в нашем городе вся молодежь готова восстать…» Тут я перебил его:
«Ну, ты, наверное, увлекаешься. Женя. Это, конечно, естественно для двадцатилетнего юноши…» Он с жаром возразил: «Нет, нет… Это не мечты, не фантазия…» (там же, с. 10).
В 1949 году я сидел в Бутырках вместе со старым петербургским адвокатом и общественным деятелем Гореликом. Мне запомнился его рассказ, как в день выборов в Учредительное собрание, когда он утром вышел на улицу, его встретил хозяин дома, в котором он снимал квартиру, и бросился к нему с радостным воплем: «Соломон Савельич, мы победили. Все голосуют за кадетов. Все, без исключения».
На самом деле, как известно, кадеты получили на выборах очень небольшое количество голосов: меньше одной четверти. Между тем, хозяин дома, в котором жил Соломон Савельич, говорил вполне искренно: просто среди его знакомых все голосовали за кадетов, как и он сам.
Так же и молодые люди (типа Жени), которые ходили к Валерию Яковлевичу (я знал многих из них), находились во власти иллюзий: им казалось, что если десяток их товарищей «готовы восстать», то это означает «всю молодежь». Играли, конечно, роль и «благочестивые обманы»: желание поддержать дух, поднять настроение, а заодно и преувеличить свое значение, как говорил у Достоевского в «Преступлении и наказании» Заметнов: «Ба, в наше время, кто же не мнит себя Наполеоном?» Да еще в двадцать лет, да еще неуравновешенный малец. На самом деле, конечно, далеко не вся молодежь готова восстать (вряд ли таких найдется 2–3 процента), хотя наличие оппозиционных настроений среди молодежи налицо.
В чем, однако, слабость нарождавшегося движения? Восстать, свергнуть советский режим. Прекрасно. А зачем и для чего? Послушаем.
Уже в преддверии больницы им. Кащенко разговор с оппозиционно настроенным интеллигентом Фиолетовым:
«…И вместо гордого Петербурга нищий Ленинград. Помилуйте, по какому праву? Великому городу было присвоено имя его великого основателя, поднявшего Россию на дыбы, а за что же, позвольте спросить, Ленина? За то, что он поставил ее на колени?»
Здесь что ни слово, то передержка: «Вместо гордого Петербурга нищий Ленинград».
Гордым Ленинград остался таким же, каким и был: те же великолепные набережные, дворцы, памятники. Да и банкеты не хуже прежних. А что касается нищеты, то нищета и в старом Петербурге нисколько не меньшая. Об этом может кое-что рассказать любимец Тарсиса Достоевский.
Далее, насчет сопоставления Петра I с Лениным. Ленин поставил Россию на колени? А Петр не поставил? Или вы ничего не слышали о восстании стрельцов и об окончании этого восстания, господин Фиолетов, о том, как Петр самолично рубил головы стрельцам и заставил это делать всех своих приближенных, как он рвал ноздри, ссылал на каторгу за малейшее сопротивление власти. Или вы никогда не слышали о том, как Петр убил собственного сына, господин Фиолетов? Или вы не знаете о том, что Петербург выстроен на костях несчастных людей, которые здесь десятками тысяч пали на чухонских болотах точно так же, как на Беломорканале? А что касается того, что Петр поднял Россию на дыбы, так Ленин это сумел сделать в гораздо большей степени. Так что, если восставать против Ленина, то, во всяком случае, не под знаменем Петра. Оба знамени друг друга стоят. Далее начинается уже совершенный бред. «Умнейший человек Столыпин — истинный птенец гнезда Петрова — об этом хорошо сказал, обращаясь к революционерам: — Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия. — Но для чего, спрашивается, им нужны потрясения? Очень просто. Все эти „пролетарии“, которым в конечном счете наплевать на Россию и на весь культурный мир, на самую идею европеизма, хотят хоть чем-нибудь возвеличиться… Эти „пролетарии“ успели уничтожить несколько миллионов лучших русских людей, а теперь продают и раздаривают Россию направо и налево».
Позвольте спросить, это кому же продают Россию? Уж не Чехословакии ли или, может быть, Польше? Или Венгрии? В смысле внешней политики «умнейший человек» не мог бы сделать Сталину ни одного упрека. Не мог бы сделать упрека и Суворов и сам Петр I. Где это и когда кто мог мечтать о таком могуществе России, которая простерла свою власть над полумиром, стала «сверхдержавой»? А что это обходится в копеечку? Когда же и какая война и какие завоевания не обходились в копеечку? А затем «умнейший человек» тоже не отличался мягкостью. Некоторые его изобретения используются советским правительством, и используются неплохо: «столыпинский галстук» (виселица) и «столыпинские вагоны» (кто из нас, старых лагерников, их не знает?)[3].
Так что первый свидетель, выставленный автором против советской власти, Фиолетов, — неудачный свидетель. Под знаменем Петра I и Столыпина никто из молодежи воевать не пойдет. Все останутся дома.
Впрочем, Фиолетов только незначительный персонаж в повести. Но все-таки характерный персонаж. Фиолетовы имеются в России, и, если они когда-нибудь придут к власти и начнут осуществлять свою программу: оставить в мире всего 10 миллионов человек, истребив остальных, — сохрани Господь.
Далее, Валентин Алмазов встречается в палате № 7 с «тройкой». С Николаем Васильевичем Мореным (молодым доцентом-историком) и его студентами — Толей Жуковым и Володей Антоновым. Образы, очерченные ярко и талантливо. И — что самое главное — взяты из жизни. Кто из нас не знал таких доцентов и таких парней?
Когда-то известный советский литературовед В. Ф. Переверзев внес очень существенную поправку в известное определение литературы как мышления в образах. «Не мышление в образах, а мышление образов». Это, безусловно, правильно, ибо без этого непременного условия литература превращается в катехизис — монолог в форме диалога.
В. Я. Тарсис в своей «Палате № 7» воплотил мышление образов. В палате сумасшедшего дома происходит столкновение мнений, причем каждый из персонажей выражает свое мнение естественно и правдиво. Чувствуется, что другого мнения у него быть не может.
Николай Васильевич Мореный — интеллигент чистых кровей, поклонник В. С. Соловьева — уловил, однако, у Соловьева лишь его концепцию желтой опасности (самое слабое, что есть у Соловьева, — мусор его философской системы, выражаясь языком диаматчиков). Николай Васильевич — ярый враг монголов — китайцев, как и советских коммунистов, — выход он видит лишь в одном: в полной, безоговорочной ориентации на Запад, особенно на Америку. Спасение с Запада — Запад принесет на все лучшее и разрешит все проклятые вопросы на все века.
Действительно, так думали многие идеалистически настроенные интеллигенты в тридцатых, сороковых, пятидесятых годах. Конечно, на Западе много того, на что мы в России смотрели и смотрим с завистью: свобода мнений, законность, парламентаризм. Однако при этом возвышенные идеалисты забывали об одной мелочи: о капитализме, который является неотъемлемой составной частью западной цивилизации.
Но Россия, но русская литература, но русская интеллигенция никогда не принимали капитализма: начиная с корифеев русской мысли: Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева и кончая теми «лучшими», которые, по словам Николая Васильевича, гибли в советских лагерях: хорошими, жертвенными русскими интеллигентами, вдохновенными пастырями, иноками-аскетами, народными богоискателями-сектантами, не говоря уж об эсерах, меньшевиках, честных коммунистах, вроде моего Кривого.
Если в лагерях гибли, наряду с ними, и черносотенцы, и кулаки-мироеды, и торгаши, то очень, конечно, жаль и их, но ведь к «лучшим» причислить их все-таки трудно. Да никто, кажется, никогда и не причислял.
Да и вряд ли кто-нибудь захочет отдать жизнь за то, чтобы предприимчивые дельцы, которых и сейчас в Советском Союзе пруд пруди, могли свободно торговать, увеличивать свои капиталы, чтобы потом их прокучивать по ресторанам с девками.
Володя Антонов ответит на такое предложение словами другого Владимира — Владимира Маяковского, который в 1915 году писал, обращаясь к господам капиталистам:
Владимир Антонов также очень колоритный и исключительно талантливо обрисованный образ. В прошлом это беспризорник, но не из тех сусальных беспризорников, которые появлялись на экранах советских кинофильмов. Он нарисован Тарсисом без прикрас. Это не херувимчик — это волчонок. С малых лет он изведал не только невзгоды, но и человеческую жестокость, и человеческую подлость. Очень колоритен в этом смысле тот эпизод, когда мальца обыграли в карты в вагоне и выкинули на волю в одних трусах.
Сын гулящей бабы, которой он не знал, воспитанник другой гулящей, затем участник воровской шайки, которая занималась скупкой краденого, Володя пробился к знаниям, стал студентом и поклонником Ницше. Это очень правдиво и естественно: я знал многих таких бывших беспризорников. Для них, людей волчьей хватки, волевых и сильных, характерен культ воли. И все они всегда забывают, что воля не самоцель. Из нее нельзя делать кумира. И здесь, как везде и всюду, действительна заповедь Божия: «Не сотвори себе кумира».
Володя Антонов даже написал философский трактат, озаглавленный «Эврика».
«На земле существует только Человек, — писал он во введении, — все остальное — миф, досужий вымысел, глупая абстракция, ерундистика в кубе. Человек способен на все, ибо Человек — это сверхчеловек (Человек как имя собственное, а не нарицательное), то есть бог. Их немного Человеков (не смешивать с людьми). Но с тех пор, как они появились на свет, человекообразные людишки — имя им легион — начали охотиться за ними и пойманных приковывали к утесам — отсюда миф о Прометее. Земля создана для Человека, а не для обезьян» («Палата № 7», сс. 75–76).
Это фашизм? Но Володя Антонов отмежевывается и от фашизма. Как это ни странно, фашизм для него слишком демократичен. Он предоставил власть «человекообразным», т. е. апеллирует к массам. Идеал Антонова другой: «Чувствую, что сейчас в мире возникла новая задача: сначала сделать человеческую историю, т. е. покончить с заговором обезьян, а потом уже писать подлинную историю человечества» (там же, с. 76).
Правда, через несколько строк следует реплика: «Свобода мысли — вот чего не хватает для победы» (с. 76).
Для победы. А после победы? Вряд ли.
«Прежде всего — переоцените все ценности! Так завещал величайший учитель мира — Фридрих Ницше. Ницше — единственный настоящий философ — творец Идеи».
Хорошо известно, какие именно ценности завещал переоценить Ницше: христианство, Евангелие («самую грязную в мире книгу, к которой страшно прикоснуться без перчаток»), сострадание, любовь к ближнему и гуманизм.
Дальше ссылка на Достоевского. Явное недоразумение. Не на Достоевского, а на его героя Раскольникова. Невольно вспоминается нарисованный Раскольниковым образ Магомета: «Едет пророк, и повинуйся, дрожащая тварь». Нельзя считать, что этот образ устарел. Он смотрит на нас со страниц каждой газеты. Феномен Хомейни — страшный феномен современной жизни. И за это бороться? Нет, пусть уж лучше Хрущев и Брежнев. Они хоть лицемерят. Это все-таки лучше. Как гласит французская поговорка: «Лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели».
И Николай Васильевич также ободряет Володю: по его мнению, когда люди будут сыты, они превратятся в свиней. От них ждать нечего. Совсем по Ришелье, который утверждал, что, чем народу хуже живется, тем лучше, он более покорен «сверхчеловекам».
К счастью, наряду с Николаем Васильевичем и Володей, есть еще Толя.
Толя, генеральский сын, но потерявший отца в детстве. Воспитывается у бабушки в Загорске, вблизи Лавры. И святость Лавры, святость преподобного Сергия глубоко запали в его сердце. Он очень плохо формулирует, неубедительно спорит, он христианин не столько в сознании, сколько в подсознании, и в своем подсознании он отталкивается всеми силами от человеконенавистнической философии Володи и Николая Васильевича.
Толе надо подрасти. Пусть растет. И когда вырастет, он будет подлинным человеком будущего. Носителем благородной христианской гуманистической идеи, которую подхватят люди и понесут наперекор и человеконенавистническим идеям Фиолетова, Николая Васильевича, Володи, и антидемократической и антигуманистической демагогии Хрущева и Брежнева.
И наконец, Валентин Алмазов, alter ego автора, от имени которого ведется рассказ. Человек смятенный, выбитый из колеи, ищущий. В прошлом — стопроцентный советский человек. Но который на склоне лет увидел, что «король голый», что за коммунистической фразеологией — аракчеевщина, казарма, палата № 7. И отсюда тоска.
В начале повести настроение Валентина Алмазова символизируется картиной природы.
«Стоял сентябрь — месяц увядания, цвели, розовели безвременники… Тоска, словно тяжелая секира, с глухим и неясным гулом раскалывала дни, как дубовые бревна в серые щепки, пахнувшие прелым листом» (там же, с. 15).
Так и в душе Валентина Алмазова.
«Может быть, основное и главное для Валентина Алмазова и заключалось в тягучем, однообразном, слишком медленном течении нескончаемой реки времени. Возможно, и даже весьма вероятно, что вокруг не происходило ничего существенного, — да и что еще может случиться в этой шестой части мира, мало-помалу превратившейся в силу неимоверного сужения масштабов советского крохоборческого существования, в одну шестьдесят шестую…» (с. 15).
Да, так и было. С этого начинали мы все. Участники демократического движения.
Оппозиционеры. Нелегальные деятели и писатели. Мучительная тоска, неудовлетворенность. Искания, разочарование, поиски…
Заключительный аккорд. Валентин Алмазов формулирует четко и ясно всю программу демократического движения. Права человека, борьба за свободу личности.
И конец.
«Пришла дежурная сестра и отвела Валентина Алмазова в палату. И снова была ночь, бессонница, кошмары, — и на этом я прекращаю дозволенные речи» (с. 148).
Ночь, бессонница, кошмары — так везде и всюду, до конца.
Глава вторая. Ночь. Бессонница. Кошмары
Кошмар наступил в 1965 году. Сентябрь, как в чаду. Подготовка петиции двух священников. Пишу. Би-Би-Си передает каждую неделю мою книгу «Монашество и современность». Дома у меня все то же. Проходной двор. Семинаристы. Академики. Демократическая молодежь. Роман с моей будущей женой Лидией Иосифовной в самом разгаре.
Как-то в сентябре встречаю университетского парня, студента с исторического факультета. Он мне говорит: «Новость, арестовали Синявского».
Я: — Какого Синявского? Радиокомментатора?
Он: — Нет, писателя.
Я: — А разве есть такой писатель?
Этот диалог очень характерен: радиокомментатора Синявского, который комментировал футбольные матчи, знала вся Россия. Писателя Синявского не знал решительно никто, как и его товарища Даниэля. Через две недели о них говорил весь мир.
Взбудоражена была вся Москва. Их имена были у всех на устах. Иностранные радиостанции передавали о них с утра до вечера. В любом доме, где собиралась интеллигенция, говорили о них, и только о них. И все это при полном молчании официальной прессы.
Еще за 12 лет до этого бесследно исчезали десятки, даже сотни писателей, литераторов, ученых — никого это не поражало, никому во внешнем мире это было не интересно, никого это не волновало. И эти писатели, ученые, литераторы, общественные деятели носили общеизвестные имена, иной раз прославленные на весь мир, а тут арест двух никому не известных писателей вызвал такую бурю. Это было знаменательно.
Это напоминало всем известную, но забытую истину, что и в социальной жизни, что и в истории, как в физике, царит великий закон инерции.
Гражданская казнь петрашевцев в 1848 году, среди которых находился талантливейший и уже тогда знаменитый автор «Бедных людей» Ф. М. Достоевский, не привлекла решительно ничьего внимания. А через 15 лет гражданская казнь Чернышевского возбудила всеобщую бурю. В сороковые годы был высечен забритый в солдаты русский поэт Ал. Полежаев, автор известной поэмы «Сашка» и талантливейшей «Песни пленного ирокезца» — и это прошло не замеченным. А через 30 лет такое же наказание, примененное к никому не известному студенту Боголюбову, привлеченному к судебной ответственности по политическому делу, вызвало выстрел Веры Засулич, громкий процесс под председательством А. Ф. Кони, скандальное оправдание героической девушки, прославившейся на весь мир, вызвало к жизни два замечательных стихотворения Тургенева и Полонского — стало вехой в русском революционном движении.
И то же теперь. Россия, взбаламученная, взъерошенная, стала протестовать. Толки и разговоры повсюду. Затем они перехлестнули через границы. Взбаламутили мир.
Это было грандиозно. Через много времени после этого, в апреле 1969 года, я имел беседу с А. И. Солженицыным по поводу ареста Владимира Буковского. Он сказал: «Для чего все эти протесты? Каждый из нас делает свое дело, — это и есть наш ответ». Я ответил вопросом: «Как вы думаете, Александр Исаевич, если бы не подняли такого шума вокруг ареста Синявского и Даниэля, как вы думаете, кто бы был следующий?»
«Не знаю, может быть, я».
«Да, это были бы вы. Как вам известно, Шелепин потребовал тогда 20 тысяч голов. И только международный шум заставил советское правительство отступить».
Да, так было. И в ноябре этот шум достиг и нас, пришли в движение демократические мальчики и девушки.
Решено было провести митинг, первый в России митинг, в самом центре Москвы, на Пушкинской площади.
Главным инициатором был Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, которого я ни разу до этого не видел. 1 декабря Алексей Добровольский на квартире Якуниных вручил мне отпечатанное на машинке объявление:
«Несколько месяцев тому назад органами КГБ были арестованы два гражданина: писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности уже само по себе является беззаконием.
В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.
У граждан есть средства бороться с судебным произволом. Это — „митинги гласности“, во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: „Тре-бу-ем глас-но-сти суда над… (следуют фамилии обвиняемых)“ или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно, и провокационными, и должны пресекаться самими участниками митинга.
Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись — следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.
Ты приглашаешься на митинг гласности 5 декабря с. г. в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина, у памятника поэту.
Пригласи еще двух граждан посредством текста этого приглашения».
(Цитирую по книге В. Буковского «И возвращается вечер…». — Нью-Йорк: Изд-во «Хроника», 1978, сс. 224–225.)
И вот 5 декабря 1965 года. Официальный праздник. День сталинской конституции.
И в этот же день еще один праздник. Мой шеф Анатолий Васильевич (бывший редактор «Журнала Московской Патриархии») в этот день празднует именины. Захожу в магазин. Покупаю торт. С тортом подхожу к памятнику Пушкина на Страстной (ныне Пушкинской) площади. Сквер около памятника полон работниками КГБ: тут и знатные эмгебисты, подъехавшие на автомобиле, тут и чином поменьше — курносые, с бегающими глазами. И бесконечное количество шпиков. Меня оглядывают с подозрением. Но никто меня не задерживает. Как говорила мне потом Юля Вишневская: «Уж очень у вас мирный вид. Впечатление: еврейский отец семейства пошел за кефиром и ввязался из любопытства в уличный скандал».
Подхожу к памятнику. Сажусь на скамейку. Наших нет. Рядом со мной молодой мужчина (лет тридцати) с ребенком. Немного подальше мрачный мужчина с бородой. Как я узнал потом — Гершуни, племянник великого террориста, эсера, многолетний узник советских лагерей, товарищ по узам Солженицына.
Но вот часы показывают шесть. Откуда-то внезапно появляются ребята. Все знакомые мне лица:
Галансков, Кушев, которому я вручил накануне приглашение явиться на Пушкинскую площадь, и другие. И девушки: Вера Лашкова, Люда Кац, Юля Вишневская. Быстрым шагом идут к памятнику, поднимают плакат, — вспышки магния, щелкают фотоаппараты иностранных журналистов. На ребят набрасываются дружинники. Свалка. Я ухожу с площади. Ко мне подходит журналист из «Daily Telegraph» Миллер: «Что здесь происходит?»
Я (сердито): «Сами догадайтесь! Какой же вы журналист, если не понимаете?»
На глазах у шпиков мне не хочется продолжать с ним беседу. Считаю, что все кончено. Иду на именины. В 10 часов вечера приходит парень, который был на площади. Оказывается, это было только начало. За первой волной ребят последовала вторая, потом третья — до 10 часов продолжался митинг. Это был, собственно, не митинг, а демонстрация. В ней приняло участие больше сотни человек. Дружинники неистовствовали — заталкивали ребят в автомобили, одну девушку схватили за волосы; иностранные журналисты защелкали аппаратами — кадр попал во все иностранные газеты и журналы. Уже в 11 часов вечера Би-Би-Си сообщило о митинге протеста на Пушкинской площади. На другой день о том же сообщили телеграфные агентства всего мира. И газеты Запада были полны подобными сообщениями.
1966 год принес много нового. Прежде всего, процесс Синявского и Даниэля.
Этому процессу предшествовала шумная кампания. Видимо, кремлевские правители (тогда еще не столь глубокие старики, как сейчас, но все же и молодыми их нельзя было назвать) немного растерялись. Даже из участников демонстрации 5 декабря 1965 года никто не пострадал. Задержанных отпустили.
Между тем, молодые разбудили стариков. В начале 1966 года, в преддверии готовящегося съезда партии, была подана петиция, подписанная целым рядом известных имен: тут и Илья Эренбург, тут и Эрнст Генри (известный журналист), и Николай Акимов (ленинградский режиссер), и балерина Майя Плисецкая, и скульптор Пименов, и художник Павел Корин, и один из самых замечательных актеров этого времени Иннокентий Смоктуновский. Впервые появляется здесь имя академика А. Д. Сахарова и имена других прославленных ученых. Западная пресса также полна сообщениями о предстоящем суде.
О двух писателях, которых И. Эренбург предлагал взять на поруки, никто ничего толком не знал. Но всеми эти аресты были восприняты как начало новой ежовщины.
Призрак бродил по смятенной, встревоженной Руси — призрак ежовщины, от которой в душах еще остался кровавый след.
Характерный эпизод. Эрнст Генри, который хотел во что бы то ни стало достать подпись Майи Плисецкой, никак не мог добиться с ней свидания. Он звонил без конца по телефону — ее не оказывалось дома. Он хотел ее видеть — ему отвечали, что она не принимает. Наконец, он проник к ней за кулисы во время спектакля. Когда он рассказал ей, в чем дело, она сразу засмеялась и прослезилась.
«Так вот в чем дело. А я думала, что это очередной поклонник. Если бы вы знали, как они мне надоели. Подпишу! Сейчас же подпишу! Ведь у меня родители погибли в лагерях».
И она тотчас подписала петицию протеста против ареста двух писателей.
Суд над Синявским и Даниэлем все-таки состоялся. 10 февраля 1966 года писатели предстали перед судом. Это был первый судебный процесс после смерти Сталина.
Во время процесса сразу почувствовался новый дух. Не было кошмарных признаний подсудимых, вырванных пытками. Подсудимые не признали себя виновными, держались с достоинством, отрицали наличие антисоветской агитации в своих произведениях. Даниэль даже ссылался на «Тихий Дон» Шолохова как на образец реалистического изображения жестокостей эпохи гражданской войны.
Обвиняемые были приговорены к длительному сроку заключения, но дальнейших арестов не последовало, а на XXIII съезде выступил Ильичев (первый секретарь Московского комитета КПСС) с «успокоительной речью», в которой, признав, что процесс Синявского и Даниэля возбудил беспокойство интеллигенции, увидевшей в этом процессе признак возвращения к сталинским временам, заверил, что дальнейших репрессий не будет.
В это же время происходит высылка за границу В. Я. Тарсиса. Это было начало подобных высылок.
Непосредственная причина: второй подобный же процесс после того, как оскандалились с Синявским и Даниэлем, начинать струсили. Оставить безнаказанным — расписаться в своем бессилии.
Именно в этой накаленной атмосфере стала известной петиция двух священников[4] Патриарху, опубликованы мои статьи в развитие идей петиции, началась международная кампания в защиту двух священников. Я подробно рассказывал историю всех этих событий в предыдущей книге (см. «В поисках Нового града»), поэтому возвращаться не буду к этому грустному повествованию; отмечу лишь, что, возможно, именно благодаря всей этой обстановке власти проявили некоторую «мягкость»: ограничились лишь церковной эпитимьей в адрес двух священников (запрещение в служении) и воздержались от прямых репрессий в отношении пишущего эти строки.
Осенью 1966 года, однако, произошла зловещая акция, которая показывала, что «наверху» не примирились с оппозицией и готовятся к новым репрессиям: 16 сентября 1966 года было принято постановление «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР»: статья 1901, карающая за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, и статья 1903 — активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья, явно направленная против митингов и демонстраций). Постановление это вызвало протест, подписанный 21 представителем научной и литературной общественности. Всеми нами оно было воспринято как предвестник грядущих бед.
Так кончался 1966 год. С душевным трепетом мы встречали 1967-й.
Я встретил этот год в тяжелой обстановке: у постели больной матери о. Глеба Якунина — Клавдии Иосифовны, которой вскоре предстояло стать моей свояченицей. Она тяжело страдала. У ее постели сидели мы трое: моя будущая жена Лидия Иосифовна, другая ее сестра Агафья Иосифовна и я. На другой день Клавдия Иосифовна меня похвалила, сказав: «Вы серьезный человек!» Я в ответ рассмеялся и сказал: «Такую похвалу я слышу в первый раз».
Однако в 1967 году и мне, и всем моим друзьям предстояло стать серьезными. 1967 год оказался действительно серьезным годом.
Серьезное у меня началось, однако, с не очень серьезного разговора: были мы как-то (это было еще в декабре 1966-го) в гостях у моей свояченицы на улице Жуковского. Был там и Алексей Добровольский. Вышли. Спустились в метро «Кировская». Говорит мне Добровольский: «У меня возникло большое дело: появились связи в типографии; кое-что уже отпечатали (церковные праздники), хочу отпечатать журнал „Феникс“: там статьи Галанскова, моя и другие. Отпечатаем сразу тысячу экземпляров».
— Алеша! Вас же посадят, если даже вы отпечатаете собрание сочинений Ленина, — самый факт, что можно что-то печатать без цензуры, приведет их в ужас.
— Ну, так что же?
— Наконец, вы же страшно подведете рабочих. Они же не понимают, что за это тюрьма.
— Ну, так что же?
— И самое главное: вы же ничего не достигнете. Весь тираж будет немедленно конфискован.
— Все-таки, может быть, и нет. Подумайте, какой эффект: в Советском Союзе массовым тиражом выйдет нелегальный журнал…
Я снова повторил свои доводы. Мне казалось, что Алексей заколебался. Оказалось, нет. Через несколько дней он бросился с головой в это безумное предприятие.
«Связи» выражались в том, что Добровольского кто-то познакомил или только обещал познакомить с Павлом Радзиевским. Тогда ему было 20 лет. Я познакомился с ним много позже, лет через 12, уже в эмиграции, в Париже. Он на меня произвел впечатление неплохого парня, готового помочь товарищу.
Во время судебного процесса, давая свидетельские показания, он заявил, что совершенно не знал, что именно готовятся печатать. Вряд ли, конечно, было так, — не может быть, чтобы так уж совершенно ничего и не знал, но, конечно, по молодости лет, не представлял себе полностью всей опасности затеянного предприятия.
А Добровольский (исходя из своей идеи — «сострадают — ну, и что же?»), конечно, ни одним словом и даже намеком не предупредил его. Он, вероятно, изобразил дело так, что речь идет всего лишь о литературной полемике (недаром Радзиевский говорил на следствии, что он лишь видел статью о Шолохове) и что ничего решительно рабочим не угрожает, тем более что некоторые материалы (религиозные календари) они размножали и раньше.
Все это очень похоже на Добровольского: он действовал часто методами Петра Степановича Верховенского, не имея, впрочем, и десятой доли талантов и изворотливости этого героя «Бесов», прототипом которого является знаменитый Нечаев.
Но рабочие «Гидроцветметпроекта» оказались похитрее и более практичными, чем Радзиевский. Увидев, что материалы носят явно антисоветский характер, они отнесли их в КГБ (что можно было ожидать еще от пьяных прощелыг, согласившихся печатать из-за заработка). КГБ сразу завело дело.
Таким образом, метод Добровольского — дать печатать материалы совершенно незнакомым рабочим через не ведавшего, что творит, посредника — обернулся против него. Рабочие смекнули, в чем дело, — и как люди беспринципные и продажные решили, что предательство будет лучшим выходом из положения.
В этом предостережение и урок будущим деятелям демократического и революционного движения России: никогда не действовать методами Верховенского, — чистое и святое дело должно делаться чистыми руками, — а «бесовские» методы порождают бесовщину, и только бесовщину.
Распутать дело и дознаться, кто авторы, не составляло для КГБ никакого труда. По отпечатанному на машинке тексту узнали и машинистку — это была Верочка Лашкова, которая не раз печатала документы самиздата и «машинописный» почерк которой, как и ее машинка, уже были зафиксированы в КГБ. Узнали и о Добровольском. Юрия Галанскова арестовали тотчас, так как его фамилией было подписано открытое письмо Шолохову, помещенное в журнале, а также передовая статья «Можете начинать». Никаких улик не было в отношении Александра Гинзбурга, но на Александра кагебисты уже давно точили зубы, так как за несколько месяцев до этого он составил «Белую книгу» о процессе Синявского и Даниэля. Прихватили и его. Заварилась каша.
Я был знаком со всеми героями будущего процесса. О знакомстве с Юрием Галансковым, Алексеем Добровольским и Верочкой Лашковой я уже говорил. В декабре 1966-го, совсем незадолго до ареста, я познакомился с Александром Гинзбургом. Это было на квартире у Веры. Когда я пришел к ней, я встретил у нее молодого человека, светлого блондина, чистого, аккуратного. Он рассказывал, что только что был у прокурора, который предупреждал его об ответственности за «Белую книгу», которая к этому времени уже была известна за границей. Прокурор грозил Александру привлечением к уголовной ответственности и заявил:
«Не думайте, что мы из вас будем делать героя, как из Синявского и Даниэля. Мы вас посадим как уголовника, по новой 1901-й статье».
(Вышло, что Александр был посажен через месяц как раз по статье 70-й и, как говорят в таких случаях евреи, «из него-таки сделали героя».)
Александр произвел хорошее впечатление: вежливый, аккуратный — в нем совершенно не чувствовалось того налета богемы, который я замечал почти у всей демократической молодежи. Он производил впечатление очень культурного молодого человека. На еврея он похож мало. Говорил чистым литературным языком. Однако, когда возник вопрос, кому раньше Верочка должна печатать статью — мне или ему, — он спросил: «А что, Анатолий Эммануилович не может подождать?» И в этом вопросе прозвучала типично еврейская интонация.
И вот теперь, через месяц, все эти люди, такие обыденные, такие близкие, с которыми я в силу своего возраста говорил покровительственно, находятся в заключении, в страшных тюрьмах КГБ, и им предстоят долгие годы мучений. Это было непостижимо, не помещалось в голове. Ведь они для меня были дети. И я смотрел на них, как на детей.
Между тем время шло своим чередом. Январь. Прошли праздники Рождества, Крещения. 20 января у Якуниных — телефонный звонок. Звонит Женя Кушев. Просит меня выйти к метро Кировская. Ему надо экстренно меня видеть. Иду. Женя взволнованный, бледный. Говорит мне, что на 22 января в 6 часов вечера назначена демонстрация. По обыкновению на Пушкинской площади. Он страшно возбужден. Ведь 17–19 января арестованы Галансков, Добровольский, Лашкова и Радзиевский. Он весь дрожит мелкой дрожью. Особенно болезненно переживает он арест Веры Лашковой: «Сволочи! За Верку я им всё КГБ расшибу».
Женя — человек экспансивный. Его можно было бы удержать, уговорить, охладить. Но я ничего этого делать не стал. Я сказал: «Да, да, мы встретимся послезавтра на Пушкинской». Впоследствии Клавдия Иосифовна меня жестоко за это упрекала. Говорила: «А ведь он будет потом укорять. Скажет: — Крестный меня не удержал».
22 января иду на Пушкинскую площадь. Я очень спешил, но к главному моменту все-таки опоздал. Ведь все продолжалось ровно одну минуту. Ребята (Буковский, Делоне, Хаустов и другие) успели лишь поднять лозунги: «Свободу Галанскому, Добровольскому, Лашковой, Радзиевскому» и «Требуем пересмотра антиконституционного Указа и статьи 70». Тотчас налетели дружинники, выбили лозунги, всех разогнали. Когда я пришел — через четыре-пять минут — в центре площади никого не было. В разных концах площади стояли лишь разрозненные кучки молодежи. В одной из них я увидел Женю, подошел к нему, заговорил, но в этот момент меня кто-то сзади схватил за руку. Оглядываюсь. Люда Кац. Ласково она сказала: «Анатолий Эммануилович, пойдемте».
Как-то так вышло, что я ее не видел перед этим месяц, поэтому отошел с ней. Она сказала про Евгения: «Сейчас он выкрикнет лозунг. Он хочет кричать». Я: «Сумасшедший! Какой смысл? Никого же на площади нет! Надо его удержать». Я сделал два-три шага в сторону Кушева, но в этот момент уже раздался тоненький голос. С трудом я различил: «Долой диктатуру! Свободу Добровольскому!» Тут же к нему подошли двое, взяли под руки, повели к машине. Все было кончено.
Во время первой демонстрации 5 декабря 1965 года многих задержали, но никого не арестовали, через несколько часов отпустили. Поэтому мы с Людой особенно взволнованы не были. Решили, что пойдем к Володе Воскресенскому — Жениному товарищу, который жил на окраине Москвы, в Измайлове, и там будем ждать Евгения.
Пришли туда. Володя Воскресенский — тоже человек своеобразной и трагической судьбы. Коренной москвич. Сын ответственного советского работника. Мать его — симпатичная интеллигентная женщина — уже много лет не жила с мужем, Володя остался с матерью и малолетней сестренкой.
За два года до описываемых событий мать покончила с собой, оставив сыну записку: «Мой дорогой мальчик! Прости меня, я больше не могу! Я принимаю яд». Покончила жизнь самоубийством почти на глазах у юноши. Он вернулся домой, мать что-то писала. Володя лег спать. А через некоторое время обратил внимание на то, что мать как-то уж слишком неподвижно сидит у стола, уронив голову на стол. Подошел, прочел записку. Мать была еще жива, но уже без сознания. Он вызвал скорую помощь. Целые сутки здоровый организм еще молодой женщины боролся с ядом. Увы! Яд оказался сильнее. Через сутки она умерла. Это страшное событие наложило трагическую тень на молодого человека. Внутренний надрыв выражался внешне в грубости, в необузданном дон-жуанстве. Но за этим всем чувствовалась глубоко травмированная и трепещущая душа, с каким-то порывом куда-то. Куда? Он всегда напоминал мне чудесное, проникновенное стихотворение Тютчева:
От боли и бессилья и внешняя грубость, и желание утопить себя, как в вине, в первых попавшихся женщинах… А потом, через два года, — тоже в трагической гибели. Причем последним его словом было «мама».
Он очень привязался к Жене, хотя говорил с ним тоже довольно грубо. Писал стихи. Не слишком удачные, но проникновенные. Ко мне относился с некоторой симпатией. Во всяком случае, мне не грубил. Называл меня, как мне говорили, за глаза «Боженька».
Мы долго сидели у Володи, ожидая появления Жени или его звонка, и так и не дождались. Решено было ждать еще три дня. Через три дня все должно было стать ясным, так как по закону человека могут задержать лишь на три дня, а там должны или предъявить ордер на арест, или освободить.
Итак, три дня между страхом и надеждой. Был в это время у Владимира Буковского. Он арестован еще не был. Внешне он был спокоен. Немного резковат. Но за этим спокойствием чувствовалась внутренняя напряженность. Помню его слова: «Мы сделали, что могли. Теперь остается ждать».
И наконец наступил третий день. 5 января я попросил одного из своих ребят, семинариста, позвонить матери Жени. Сам я не звонил, так как в этом доме, где хозяином был дед Жени — старый чекист, — я не рассчитывал встретить особо радостный прием. Коле, своему ученику, я велел сказать, что он Женин товарищ и приехал только что из Киева. В ответ он услышал взволнованный голос: «Я не знаю, из Киева или не из Киева. Я знаю лишь, что сына нет». Итак, Женя домой не вернулся.
Все стало ясно. Девятнадцатилетний малец был арестован. Вместе с ним были арестованы Хаустов и Габай. А 25 января ко мне пришла Люда и сообщила еще одну печальную новость: арестованы были также Владимир Буковский и Вадим Делоне.
Попутно я узнал о том, что предшествовало появлению Жени на площади. В этот день приехал какой-то дальний родственник, который жил в Болгарии. Сидели, выпивали. Потом Женя заторопился уходить. Сказал, что ему некогда. Мать Жени, которая потом мне об этом рассказывала, говорила взволнованно:
«Если бы я знала, если бы я только знала, — я бы повисла у него на руке и не пустила бы…»
Начались тяжелые дни. Я, наконец, позвонил Инне Николаевне, матери Жени, сказал:
«Я — Левитин. Вероятно, вам неприятно со мной говорить».
Инна Николаевна (любезно): «Нет, нет, почему же».
После этого начались мои контакты с Инной Николаевной. Я хотел написать статью и пустить ее в самиздат. Но Инна Николаевна просила этого не делать. Она сказала, что они пригласили защищать Женю домашнего адвоката Альского (бывшего чекиста).
Характерна реакция Жениного деда, старого чекиста и, конечно, старого коммуниста. В разгар хлопот о Жене, когда они обивали пороги учреждений вместе с Людой, однажды в раздражении он сказал: «Знали бы мы, что такой бардак будет, не стали бы затевать эту историю».
Вероятно, нечто подобное говорили многие: меньшевики, эсеры и троцкисты в двадцатых, тридцатых годах в Одессе, где полковник Малиновский (дед Жени) возглавлял тогда органы ОГПУ.
Между тем, пролетели весна и лето. Понемногу все становилось на свои места. Я писал тогда свою работу «Христос и Мастер» о романе Булгакова.
В августе стало известно, что 30 августа назначен суд над мальцами. Перед судом должны были предстать трое: Владимир Буковский, Евгений Кушев и Вадим Делоне (четвертый обвиняемый В. А. Хаустов, с которым я знаком не был, был осужден еще 16 февраля 1967 года на 3 года заключения в лагерях).
30 августа 1967 года я пришел на Каланчевскую к зданию Московского городского суда, где должны были судить ребят. У дверей суда собралась толпа: все знакомые лица. Диссиденты. Здороваемся. Переговариваемся. Тут я познакомился с матерью Жени. Высокая. Брюнетка. Экспансивная. Крепко жмет мне руку. А там, за закрытыми дверями, начинается суд. Приходят оттуда вести. Двое обвиняемых: Женя Кушев и Вадим Делоне признали себя виновными. Со вздохом сообщает об этом Люда.
Еще несколько минут. И сенсационное известие: адвокат Евгения Альский потребовал вызвать меня в качестве свидетеля. Суд удовлетворил ходатайство. Иду в канцелярию суда, получаю повестку на 31 августа.
Пока прогуливаюсь. Захожу в метро. Вижу издали моего бывшего ученика, которому помогал писать диссертацию. Теперь он священник и сотрудник Отдела внешних сношений при Патриархии. Маленькая фигурка поднимается по эскалатору, ныряет между народом. На лице застыла робкая, заискивающая улыбка. В уме возникает статная фигура с уверенной, волевой походкой красивого, мужественного парня, который сейчас там, в суде, Владимира Буковского. Это ассоциация по противоположности. Невольно спрашиваешь себя: неужели это два существа одной породы?
Но вот приходит день 31 августа. Я снова в суде. Ожидание в коридоре. Впоследствии Д. И. Каминская, адвокат Володи Буковского, говорила:
«Здесь мы видим среди свидетелей людей столь разных, что даже странно их видеть вместе».
Действительно, более разношерстной публики я никогда не видел. Тут экспансивная нервная дама — Татьяна Максимовна Литвинова, дочь прославленного дипломата, министра иностранных дел. Тут и сумасшедшая, экстравагантная девчонка, некто Кучерова, от которой так и веет Тверской улицей и дешевыми ресторанчиками, каким-то образом где-то познакомившаяся с Буковским (все-таки ведь молодой парень, никуда от этого не уйдешь). Тут и интеллигентная дама со скорбным лицом — мать Вадима Делоне. Какой то парень с рыжей бородой, угрюмо сидящий в углу. Я присматриваюсь. По бороде я его принимаю за одного из наших. Борода — это в Москве, как известно, почти визитная карточка свободомыслящего. Пытаюсь с ним заговорить. Меня отводят от него за рукав. «Что вы. Это же стукач». Следовательно, борода — это фальшивый паспорт.
Все разговаривают, шумят, спорят. У всех нервное, приподнятое настроение. Вызывают в суд по одному. Проводят через нашу комнату под конвоем молодого человека: приветственные крики «Здравствуй, Виктор». Это уже ранее осужденный Виктор Хаустов. Затем следуют один за другим: Кучерова (из-за двери доносится смех: она там говорит какие-то глупости), Людмила Кац, Володя Воскресенский. Наконец, я.
Атмосферу суда я знаю с детства. Познакомился с ней еще тогда, когда мой покойный отец водил меня на свои выступления (он был юрисконсульт). Поэтому веду себя непринужденно. Отвечаю на вопросы судьи. Потом на вопросы прокурора (еще не старого человека с незапоминающимся лицом чиновника). Потом начинает спрашивать адвокат Евгения. С неприятным лицом чекиста. Он меня раздражает. Я говорю ему с ходу дерзость. При этом прокурор злорадно улыбается.
Привожу текст моего допроса, как он был мною записан тем же вечером по свежей памяти. Впоследствии он был напечатан в книге «Правосудие или расправа» (см. Overseas Publications Interchange, Ltd., London, 1968, cc.89–94).
Судья: Кого вы знаете из подсудимых?
Левитин: Всех троих. Кушева Евгения я знаю очень хорошо. Буковского Владимира я видел несколько раз. Делоне Вадима я видел всего один раз мельком.
Судья: Расскажите нам о себе и о вашем знакомстве с Кушевым.
Левитин: Я работаю счетоводом в одной из церквей. Помимо этого, я являюсь церковным писателем и пишу статьи по вопросам богословия под псевдонимом «Краснов», широко известные в наших и зарубежных церковных кругах. Летом 1965 года я печатал свои статьи у одной машинистки. У нее я встретил юношу, которому оказалось известным содержание моих статей. Мы разговорились с ним на религиозные, философские и политические темы. После нескольких таких встреч я пригласил его к себе, и вскоре он стал своим человеком в моем доме. Через несколько месяцев он под моим влиянием принял крещение, и я являюсь его крестным отцом, так что между нами существует духовное родство.
Судья: Не считаете ли вы себя ответственным — я говорю о моральной ответственности — за то, что он сейчас находится под судом?
Левитин: Да, конечно, я не снимаю с себя за это ответственности. Тем более, что арест его произошел у меня на глазах.
Судья: Расскажите, как это было.
Левитин: 21 января 1967 года, поздно вечером, я нашел у себя в ящике записку, отпечатанную на машинке. Меня приглашали явиться 22 января в 6 часов вечера к памятнику Пушкина, где должен был состояться митинг с протестом против ареста Добровольского и Лашковой. Я пошел на митинг, но опоздал и пришел, когда уже все кончилось. На площади перед памятником стояли лишь две небольшие кучки молодых людей. Здесь я увидел Евгения Кушева, который стоял с двумя парнями. Я подошел к нему и сказал: «Женя, пойдем отсюда». Он мне ответил: «Уйдите отсюда, Анатолий Эммануилович». Я хотел увести его, но в этот момент меня взяла за руку Людмила Кац, и мы отошли с ней в сторону. Тут в группе, где стоял Евгений, что-то произошло. Я увидел, что он идет куда-то, и два парня держат его под руки. Кто-то сказал мне: «Его же задержали». Я бросился за Женей, но было уже поздно: его втолкнули в закрытую машину и увезли. И вот я вижу его сейчас, через восемь месяцев, здесь, побледневшего и похудевшего после длительного заключения.
Судья: Что вы можете сказать об убеждениях Евгения Кушева?
Левитин: Вас, вероятно, интересуют его политические убеждения?
Судья: Вовсе нет. Охарактеризуйте Кушева.
Левитин: Евгений — человек исключительного благородства. Это искатель. Ему свойственны напряженные поиски смысла жизни. И то, что произошло, является следствием его благородной натуры.
Судья: А что же произошло?
Левитин: Евгением двигало благородное стремление заступиться за товарищей. Он человек самоотверженный, который всегда думает о других и никогда не думает о себе. Он талантливый поэт, человек с большим интересом к философии, к истории, к искусству. Из него выйдет прекрасный литературный деятель. Он является сторонником развития социалистической демократии. Как и вся интеллигенция, он и я являемся сторонниками большей свободы слова и печати. Мы, однако, считаем, что бороться за это надо строго легальными методами. Совместно со своим товарищем, покойным Сергеем Колосовым, Евгений издавал рукописные журналы «Русское слово» и «Социализм и демократия». В этих журналах печатались статьи, перепечатанные из советских журналов, мои статьи и его стихи. Никаких антисоветских материалов там не было. Женя хотел создать клуб имени Рылеева, где молодежь могла бы вести свободные дискуссии на философские и общественные темы. И я горячо одобряю это намерение.
Прокурор: Вы сейчас сказали, что Кушев — человек исключительного благородства. Включаете ли вы в понятие благородства также и правдивость?
Левитин: Да, конечно.
Прокурор: Но вы говорите, что вы имели влияние на Кушева, а он здесь сказал, что вы на него влияния не имели.
Левитин: Это вопрос очень субъективный. Конечно, ему лучше знать, имел ли я на него влияние. Часто бывает, что учителю кажется, будто он дал прекрасный урок, а потом оказывается, что ученик ничего не знает.
Прокурор: Вы сказали, что Кушев пишет хорошие стихи, а он нам здесь говорил, что стихов писать не умеет.
Левитин: Это за счет скромности. Нет, стихи его очень хорошие. Не один я так считаю. Для него как для поэта характерна тяга к героическим образам: он воспевает декабристов, народовольцев и т. д.
Прокурор: Не смущало ли вас как его крестного отца, что он нигде не работал?
Левитин: Это неверно. Когда я с ним познакомился, он работал в библиотеке им. Ленина. Затем он все время учился в школе рабочей молодежи, прошлый же год его все время мотали по допросам, по сумасшедшим домам и т. д.
Адвокат Альский: Как вы познакомились с Кушевым?
Левитин: Я уже рассказывал об этом. Вы плохо слушаете, товарищ адвокат.
Адвокат: Почему вы считаете, что Кушев принял крещение под вашим влиянием?
Левитин: Я единственный религиозный человек в его окружении. Ведь не под влиянием же деда он принял крещение.
Адвокат: И вы довольны тем, что произошло?
Левитин: Я, конечно, очень доволен тем, что Евгений принял крещение, какой же я был бы религиозный деятель и писатель, если бы не радовался тому, что люди приходят к вере. Но я очень недоволен, что он здесь.
Адвокат: Вы ему давали знания, а он вам что давал? Зачем он вам был нужен?
Левитин: Видите ли, я с восемнадцати лет был учителем. И моим призванием является работа с молодежью.
Судья: С какого года вы перестали работать в школе?
Левитин: С 1959. Я был изгнан в связи с моими религиозными убеждениями.
Адвокат: Почему именно к Евгению вы решили применить свои знания и педагогические способности?
Левитин: Знания и педагогические способности не применяются по расписанию. Нельзя сказать: вот с сегодняшнего дня я буду их применять. Знания (если они у меня есть) я готов передавать каждому. Я и вам их передам, если вы ко мне придете.
Адвокат: Как же, непременно. Знала ли его мать о том, что вы его крестили?
Левитин: Вероятно, знала. Но я с ней до вчерашнего дня не был знаком. Ведь не я пришел к Евгению, а он ко мне, и я не считал нужным навязывать свое знакомство его близким.
Адвокат: Значит, вы считаете, что можно крестить девятнадцатилетнего парня без ведома его родителей?
Левитин: Есть каноническое правило, согласно которому Церковь не имеет права отказывать в крещении кому бы то ни было, а Евангелие обращается с призывом к крещению решительно ко всем.
Адвокат: Там об этом говорится так же неуважительно, как вы разговариваете?
Левитин: Это за счет моего темперамента.
Кушев: Я хочу сделать добавление. Я не говорил, что Анатолий Эммануилович не имеет на меня влияния. Я говорил, что он не оказал на меня плохого влияния. И он не христианский демократ, и я не христианский демократ.
Левитин: Если понимать это слово в аденауэровском смысле, то конечно.
Адвокат Каминская: Видели ли вы на ком-нибудь повязки?
Левитин: Да, видел.
Своими ответами я в основном был доволен, но все-таки сделал два больших «ляпа». Когда меня спросили, откуда я узнал о митинге (а я узнал от Жени), я, не желая его подводить, сказал, что, якобы, получил письменное приглашение. Я выручил Женю, но подвел Владимира Буковского. Приглашение в письменном виде означало элемент организации. Когда меня спросили, видел ли я людей с красными повязками, я, не сообразив, ответил: «Видел». Мне в этот момент показалось, что я действительно видел. Между тем, вся защита строилась как раз на том, что у дружинников повязок не было.
После допроса я занял место среди слушателей. Осмотрелся. Председателем суда была женщина, дама лет 35. Довольно симпатичная. Заседатели — угрюмые мужички с серыми, чекистскими лицами. Справа — прокурор. Человек лет тридцати пяти. Вид молодого инженера, снабженца, фельдшера. Почему-то сразу представилось, что он недавно отстроил себе дачу. Материал, конечно, ворованный. Хозяйственный мужичок. Жена, верно, тоже работник прокуратуры. В его манере говорить чувствовался профессионал. Почему-то вспомнился Щедрин: «То, как он говорил, было благородно. То, что он говорил, было благородно, и в то же время чувствовалось, что он непременно запустит руку в казенный ящик». В ящик — не в ящик, но уж взятку сорвет обязательно. С какого-нибудь хозяйственника. Через посредника.
Напротив адвокаты. Альский. Человек с усиками. С лицом чекиста.
Как все ипохондрики, я очень поддаюсь первому впечатлению. Его я возненавидел мгновенно. Он меня тоже. Защиту он строил по следующему принципу: главный виновник — это я. Евгений Кушев — моя жертва Его надо оправдать, а меня привлечь к ответственности, чтобы я не ушел из этого зала безнаказанным.
Рядом с ним другой адвокат, Меламед, — вскоре умерший. Той же масти, что и Альский, но поумнее и более изобретательный. Он защищал Делоне. В своей защитительной речи подпустил «либерализм»: сравнил молодежь с бурлящим, бродящим вином. Вину надо дать перебродить. Оправдывая свою фамилию, был похож своей манерой говорить и даже внешним видом на местечкового учителя из хедера или ешибота (меламед по-еврейски означает «учитель»).
Третий адвокат Дина Исааковна Каминская. Симпатичная дама, брюнетка, интеллигентная, мягкая, деликатная. К этой я сразу почувствовал симпатию. Она мне так живо напомнила моих многих знакомых: моих тетушек по отцу, Дору Григорьевну — мою первую любовь, других культурных, сердечных еврейских женщин, каких я много встречал в своей жизни.
Затем подсудимые. Владимир — тюрьма его мало изменила. Высокий, статный, с открытым энергичным лицом. Почему-то в красной рубахе-косоворотке под пиджаком. Рядом Женя Кушев. Тоже мало изменившийся. Черноволосый. Подвижной. По сравнению с Буковским он выглядел мальчиком.
И совсем уже впечатление ребенка произвел Вадим Делоне. Лицо с детским выражением, немного одутловатое. Вид обиженный.
В зале сразу приковал мое внимание высокий старик с очень характерным лицом. Это дед Жени. Узнал его сразу, хотя никогда до того не видел. Есть в старых чекистах что-то типичное. Во время процесса мы часто сталкивались в коридоре. Подчеркнуто друг друга не замечали. Но чувствовали одно и то же. Беспокойство за Женю нас связывало. И эта невольная связь еще более раздражала нас обоих.
Между тем допрос свидетелей шел своим чередом: Татьяна Максимовна Литвинова, Есенин-Вольпин. Наиболее яркое впечатление произвели показания матерей подсудимых.
Мать Евгения Инна (а не Ирина, как ошибочно напечатано в книге «Правосудие или расправа») Николаевна Малиновская очень искренно и проникновенно говорит о своем сыне. В стенограмме процесса, между прочим, пропущена первая фраза:
«Я очень виновата перед моим мальчиком». А затем, как в книге: «У меня очень неудачно сложилась жизнь. С отцом Евгения мы разошлись вскоре после его рождения, а затем его отец умер. Мой второй муж известный актер Гриценко (его отчим) страшно его обижал и оскорблял, устраивал мне дикие скандалы за каждую тарелку супа, которую я оставляла Евгению. Потом я развелась с Гриценко, от которого у меня есть шестилетняя дочка Катя. Евгений очень хорошо ко мне относился — он никогда не сказал мне ни слова упрека. Это единственный близкий человек, который меня понимает».
Все это говорилось в тоне повышенной эмоциональности, которая невольно передавалась слушателям. Инна Николаевна проявила, однако, во время своих показаний и свою способность к независимой позиции. В частности, она неожиданно сорвала весь план защиты, безусловно согласованный с ее отцом, — изобразить меня как главного виновника Жениного выкрика; этот план, видимо, был согласован и с судьей.
Атаку начала судья:
Судья: Был ли с вами откровенен ваш сын?
Малиновская: Да, он всегда был со мной вполне откровенен.
Судья: Знали ли вы о его крещении?
Малиновская: Да, я знала о его крещении.
Судья: Как вы к этому отнеслись?
Малиновская: Я не отношусь с пренебрежением к религии.
Судья и прокурор: Как, вы верующая?
Малиновская: Нет, я не могу признать себя верующей: я не крещена и не хожу в Церковь. Но у меня свой Бог…
Судья: Знали ли вы о знакомстве своего сына с гражданином Левитиным?
Малиновская: Да, я знала о знакомстве сына с гражданином или товарищем Левитиным. (Обращаясь к Левитину.) Извините, я не знаю, как я должна вас называть.
Левитин: Как хотите.
Малиновская: Я не знаю, как называется по-церковному.
Левитин: Я же не духовное лицо.
Малиновская: Я не считаю, что он плохо влиял на Евгения («Правосудие или расправа», сс. 103–104).
Таким образом, Инна Николаевна нанесла сокрушительный удар по концепции Альского, основой которой было утверждение, что я крестил Евгения помимо воли родителей.
Столь же эмоциональными были выступления матерей Буковского и Делоне. В конце заседания было объявлено, что прения сторон переносятся на другой день.
И наконец, 1 сентября 1967 года — прения сторон. Центральный день процесса. Речь прокурора Миронова. Именно такая, какой она и должна быть. Речь как речь. Такие, какие произносятся всюду и везде, по всем городам и весям Советского Союза. И наконец речи адвокатов.
Первым говорил Меламед. Речь его была типичной речью талмудиста. Начал он с того, что признал «противоправность» демонстрации. Но «противоправность» и уголовная наказуемость — разные вещи. Т. е. для начала он подпустил казуистики, в которой сам черт ногу сломит; на всякий случай, если потянут к ответственности, так он, мол, признал, что демонстрация противоправна, а если скажут, что он не выполнил долг адвоката, то, помилуйте, я же сказал, что демонстрация уголовно ненаказуема. Далее похвалы в адрес подзащитного и то самое либеральное место по поводу молодого вина, которое должно перебродить, а у нас часто сразу применяют меры суровости; и далее совершенно неожиданный ход: «Так и у нас отталкивают людей суровостью и жестокостью, и они идут искать чуткости и заботы в другие места. Я не хочу говорить о Левитине: он здесь сегодня (заметьте, это сегодня) в качестве свидетеля, но то, что он сделал с Кушевым, действительно ужасно». И далее просьба не отталкивать Делоне, дать ему возможность работать и творить. «Я уверен, что все мы еще услышим о Делоне много хорошего» (там же, сс. 111–112).
Далее говорил Альский. Этот прямо начал с меня. Привожу дословно эту часть его речи.
«Через четыре дня моему подзащитному исполнится 20 лет. (Вновь неточность: 20 лет исполнилось Кушеву 3 августа 1967 года, и с делом-то, как следует, вы не удосужились ознакомиться, господин адвокат.)
Я прошу вспомнить тяжелое детство Кушева, о котором нам вчера говорила его мать. Я хочу указать, что вменяемость все же не исключает психической неуравновешенности, которая должна учитываться при назначении наказания за не очень тяжелые преступления. Надо отметить и внушаемость Кушева, вполне естественную в этом возрасте, когда молодые люди — это еще воск, из которого можно вылепить все, что угодно. Из-за этой внушаемости он оказался жертвой религиозного фанатика Левитина.
Кушев много писал — и писал как советский человек. Вот перед нами его стихотворение, посвященное Парижской Коммуне.
Встреча с Левитиным была роковым событием в его жизни. Воинствующие защитники религии страшнее непризнанных поэтов, с которыми был знаком Кушев. Левитин вчера прокламировал свое право быть религиозным и проповедовать религию; однако никто не дал ему права вовлекать в религию несовершеннолетних и действовать насилием. („Ну, и дурак“, — произнес я здесь довольно громко, так что многие обернулись.) Я прошу вас в своем приговоре оградить от Левитина Кац, Воскресенского и других юношей и девушек, ибо ведь это бесчеловечно — тащить в религию неустойчивых юнцов» (там же, с. 113).
Далее просьба оправдать Кушева или назначить ему условную меру наказания.
Речь Дины Исааковны Каминской резко отличалась от речей ее коллег. К сожалению, в книге «Правосудие или расправа» эта речь приведена очень неполно. За это ответственность несу я. Все речи адвокатов даны Павлом Михайловичем Литвиновым в основном по моим записям. Но к моменту произнесения Диной Исааковной ее речи я чувствовал себя утомленным, поэтому эта речь у меня в памяти уцелела лишь в отрывках.
Дина Исааковна никого не задевала, ни на кого не перекладывала вину (да и Буковский никогда не позволил бы это сделать). Дина Исааковна по существу держалась той же позиции, что и Буковский: демонстрации у нас разрешены, это гарантировано Конституцией. Владимир Буковский лишь осуществил свое право. В инцидентах, которые имели место (сопротивление Хаустова и выкрик Кушева), он не виноват. Эти инциденты последовали вопреки его воле и даже вопреки его прямому уговору. Таким образом, в деле Буковского нет никакого состава преступления, и она просит его оправдать. Речь Дины Исааковны подкупала своей искренностью, — как она говорила впоследствии: «Я очень люблю Буковского. Он мне внушает искреннюю симпатию». И все это прозвучало в ее речи.
И наконец, кульминационный пункт процесса: последние слова обвиняемых. Говорили все три. Владимир Буковский говорил последним. Но его речь по своей яркости, исторической значимости заслонила не только слова остальных обвиняемых, но и самый процесс. Его речь на суде 1 сентября 1967 года — в полном смысле этого слова историческое событие; интересно, что сам он этого не заметил. В своих воспоминаниях «Возвращается ветер на круги своя…» не отличающийся скромностью автор говорит о самом главном моменте своей деятельности как-то вскользь и, как мне кажется, его явно недооценивает. Следует сделать это сейчас за него.
Но прежде (так как мне придется еще много говорить о Буковском) считаю нужным кратко рассказать о моем к нему отношении.
Мое отношение к нему я лично для себя делю на три этапа. До его речи на суде я относился к нему как к случайному знакомому, как к одному из многих молодых людей, с которыми мне приходилось встречаться. Речь его перевернула мое сердце. Я чувствовал огромные потенциальные силы, которые в нем таятся. Интересен следующий эпизод. Когда после его речи смертельно напуганная Нина Ивановна Буковская говорила в отчаянии: «Это же мой сын, мой сын…», я, будучи под впечатлением его речи сказал: «Ваш сын замечательный человек, он — великий человек».
Таково было мое отношение к Владимиру Буковскому до самого его повторного ареста весной 1971 года. Тут у меня пробудилось то особое нежное чувство, которое я, старый арестант, имею ко всем заключенным. Я чувствовал к нему нежность необыкновенную, как к родному сыну. Так было до его освобождения и до его появления за границей.
Здесь его деятельность меня сильно разочаровала. И сейчас мы в совершенно разных лагерях. Для наших отношений сейчас характерны два обмена репликами.
В Турине в 1978 году:
— Я говорил о тебе, что ты русский Гарибальди.
— Какая глупость. Я вовсе не Гарибальди.
— Нет, ты Гарибальди. Ты парень смелый, замечательный, талантливый, однако, мягко выражаясь, не великий мыслитель.
Он ничего не ответил, но тень прошла по его лицу, и я понял, что попал в какое-то больное место.
Второй раз в том же Турине. Мы оба с ним выступали на Конгрессе католических профсоюзов. Я произнес речь о христианском социализме. При выходе кто-то тронул меня за плечо. Смотрю — Буковский.
— Анатолий Эммануилович! Вы произнесли темпераментнейшую речь. Совсем как ваш учитель Троцкий.
— Друг мой, — ответил я. — Ты спутал двух евреев: мой учитель не Троцкий, а Иисус Христос.
В этих двух репликах вся глубокая противоположность наших воззрений.
По долгу свидетеля (ведь я снова свидетель, как и 31 августа 1967 года) считаю нужным заявить судье (т. е. читателю) о наших счетах, а затем буду вести свой безыскуственный рассказ, стараясь быть максимально беспристрастным.
В чем значение речи Буковского? Это первая политическая и гражданская развернутая декларация своих взглядов на суде со времени знаменитого процесса эсеров в 1921 году. Более того, это до сего времени и последняя декларация такого типа. Правда, после речи Буковского в какой-то степени климат изменился, и покаянные речи на суде — это сравнительно редкое явление.
Однако никто еще (после Буковского), в том числе и пишущий эти строки, не дал с тех пор на суде такого развернутого, последовательного, юридически точного и вместе с тем пропитанного гражданским темпераментом анализа, как Буковский. В этом отношении поведение на суде Буковского является классическим. Оно может войти в историю как образец гражданской доблести, как образец поведения на суде человека и гражданина, обвиняемого по политическим мотивам.
Уже начало речи Буковского было необычным. Он начал в академической манере, точно профессор, выступающий при защите диссертации молодого аспиранта в качестве строгого оппонента:
«Готовясь к суду, — говорил молодой „профессор“ в красной рубашке, — я ожидал, что суд полностью выявит все мотивы действий обвиняемых, займется юридическим анализом дела. Ничего этого суд не сделал. Он занялся характеристикой обвиняемых — между тем, хорошие мы или плохие, это не имеет отношения к делу.
Я ожидал от прокурора детального разбора „беспорядка“, который мы произвели на площади: кто кого ударил, кто кому наступил на ногу. Но и этого не последовало.
Прокурор в своей речи говорит: „Я вижу опасность этого преступления в его дерзости“.
Судья: Подсудимый Буковский, почему вы цитируете речь обвинителя?
Буковский: Надо мне — я и цитирую. Не мешайте мне говорить. Поверьте, мне и так нелегко говорить, хотя внешне моя речь идет плавно. Итак, прокурор считает наше выступление дерзким. Но вот передо мной лежит текст Советской Конституции: „В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом… г) свобода уличных шествий и демонстраций“. Для чего внесена такая статья? Для первомайских и октябрьских демонстраций? Но для демонстраций, которые организует государство, не нужно было вносить такую статью — ведь и так ясно, что этих демонстраций никто не разгонит. Нам не нужна свобода „за“, если нет свободы „против“. Мы знаем, что демонстрация протеста — это мощное оружие в руках трудящихся, это неотъемлемое право всех демократических государств.
(А вы тоже произнесли темпераментнейшую речь, Владимир Константинович, совсем как ваш учитель Троцкий на известном процессе Петербургского Совета в 1906 году. Вы сами этого не зная, его почти дословно повторили.)
Где отрицается это право? Передо мной лежит „Правда“ от 19 августа 1967 г., сообщение из Парижа. В Мадриде происходит суд над участниками первомайской демонстрации. Их судили по новому закону, который недавно принят в Испании и предусматривает тюремное заключение для участников демонстрации от полутора до трех лет. Я констатирую трогательное единодушие между фашистским испанским и советским законодательством.
Судья: Подсудимый, вы сравниваете вещи несравнимые: действия фашистского правительства Испании и Советского государства. В суде недопустимо сравнение советской политики с политикой иностранных буржуазных государств. Держитесь ближе к существу обвинительного заключения. Я возражаю против злоупотребления предоставленным вам словом.
Буковский: А я возражаю против нарушения вами моего права на защиту.
Судья: Вы не имеете право что-либо возражать. В судебном процессе все подчиняется председательствующему.
Буковский: А вы не имеете права меня перебивать. Я не уклонился от существа моего дела. На основании статьи 243 УПК я требую, чтобы это мое возражение было занесено в протокол.
Судья (секретарю): Занесите, пожалуйста». («Правосудие или расправа», сс. 126–127).
Я хотел выписать наиболее яркие отрывки из этой речи, но это трудно сделать, ибо это редкий случай, когда вся речь буквально на одном уровне. В ней нет ни одного блеклого места. Анализ обвинительного заключения на уровне профессионального юриста, вскрыты противоречия в показаниях свидетелей. Речь построена по кольцевому принципу: в конце речи (после конкретных указаний на нарушения статей закона и противоречий в показаниях свидетелей) Буковский вновь, как и в начале, переходит к общему анализу законодательных актов; на этот раз он говорит о статьях Конституции, гарантирующих свободу слова и печати: «Если внесены в Конституцию статьи о свободе слова и печати, то имейте терпение выслушивать критику. Как называются страны, в которых запрещается критиковать правительство и протестовать против его действий? Может быть, капиталистическими? Нет, мы знаем, что в буржуазных странах существуют коммунистические партии, которые ставят себе целью подрыв капиталистического строя. В США коммунистическая партия была запрещена — однако Верховный Суд объявил это запрещение антиконституционным и восстановил коммунистическую партию во всех ее правах.
Судья: Подсудимый Буковский, это не имеет отношения к обвинительному заключению по вашему делу. Поймите, что суд неправомочен решать те вопросы, о которых вы говорите. Мы должны не обсуждать, а исполнять законы.
Буковский: Опять вы меня перебиваете. Поймите, мне все-таки трудно говорить.
Судья: Я объявляю перерыв на пять минут.
Буковский: Я об этом не просил, я уже скоро закончу свое последнее слово. Вы нарушаете непрерывность последнего слова».
У меня отчетливо сохранилось в памяти, как судья на этом месте воскликнула тоном школьницы:
«Ну, мне надо выйти».
Был объявлен перерыв. Причина этого неожиданного перерыва понятна: судья побежала проконсультироваться по телефону: что делать? — в суде произносится антисоветская речь — прервать или дать ее закончить? Это были относительно либеральные времена; у всех еще был свеж в памяти XX съезд и разоблачение культа Сталина, поэтому и судья, видимо, получила указание речи не прерывать.
Вернувшись в зал суда, она сказала:
«Подсудимый Буковский, продолжайте ваше последнее слово, но я вас предупреждаю, что, если вы будете продолжать критиковать законы и деятельность КГБ вместо того, чтобы давать объяснения по существу, я вынуждена буду вас прервать.
Буковский: Поймите, что наше дело очень сложное. Нас обвиняют в критике законов — это дает мне и право и основание обсуждать эти основные юридические вопросы в моем последнем слове.
Но есть и другая тема. Это вопросы честности и гражданского мужества. Вы — судьи, в вас предполагаются эти качества. Если у вас действительно есть честность и гражданское мужество, вы вынесете единственно возможный в этом случае — оправдательный приговор. Я понимаю, что это очень трудно…
(В стенограмме пропущена заключительная фраза: „Я знаю, какое на вас оказывается давление“… Здесь вскочил с места прокурор, всплеснул руками с восклицанием „Я не понимаю, что здесь происходит!“ Далее, как в стенограмме.)
Прокурор: Я обращаю внимание суда на то, что подсудимый злоупотребляет правом на последнее слово. Он критикует законы, дискредитирует действия органов КГБ, он начинает оскорблять вас — здесь совершается новое уголовное преступление. Как представитель обвинения я должен это пресечь и призываю вас обязать подсудимого говорить только по существу предъявленного ему обвинения, иначе можно до бесконечности слушать речи с любой критикой законов и правительства.
Судья: Подсудимый Буковский, вы слышали замечание прокурора. Я разрешаю вам говорить только по существу обвинительного заключения.
Буковский (прокурору): Вы обвиняете нас в том, что мы своими лозунгами пытались дискредитировать КГБ, но само КГБ уже настолько себя дискредитировало, что нам нечего добавить. (Суду): Я говорю по существу. Но того, что хочет услышать от меня прокурор, он не услышит. Состава преступления в нашем деле нет. Я абсолютно не раскаиваюсь в том, что организовал эту демонстрацию. Я считаю, что она сделала свое дело, и, когда я окажусь опять на свободе, я опять буду организовывать демонстрации, конечно, опять с полным соблюдением законов. Я сказал все» (там же, сс. 135–136).
Речи других участников процесса — Евгения Кушева и Вадима Делоне — были речами честных людей: они никого не выдали, ни на кого не свалили вину, — они пытались объяснить суду мотивы своих действий — желание заступиться за своих друзей, брошенных в тюрьму. Речи их производили симпатичное впечатление.
Приговор суда гласил: Буковского Владимира осудить к заключению в лагере сроком на 3 года, Вадима Делоне и Евгения Кушева присудить к 1 году исправительно-трудовых работ, однако, учитывая их чистосердечное раскаяние, считать приговор условным.
После оглашения приговора — в зале суета.
Мать Евгения, бросившись на стул, разразилась рыданиями (разрядка нервного напряжения за все эти месяцы).
Люда подносит Буковскому букет. Улыбаясь, он отвечает: «Люда, у нас там, в камере, нет вазочек для цветов».
Дед Евгения подходит к внуку с протянутой рукой, на устах официальная улыбка: «Поздравляю».
Я понял: мне здесь делать нечего. Ухожу. Как я узнал потом, один из конвоиров говорил арестантам по моему адресу: «Я бы вас всех освободил, а уж этому дал бы срок».
Об этом просил и Альский, адвокат Евгения. Но на этот раз Бог миловал.
Так рассудил суд. Но не так рассудила жизнь. Владимир Буковский после своей речи на суде становится одним из самых известных деятелей русского освободительного движения. Его имя попадает на столбцы газет всех стран мира. Оно будет вписано и на страницы истории русского освободительного движения.
Двое освобожденных так и остались теми же, чем были тогда, молодыми людьми, подающими надежды.
«Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат» (А. С. Пушкин).
Сентябрьский процесс Буковского, Кушева и Делоне был, однако, лишь репетицией другого, основного процесса, по которому привлекались к ответственности Ю. Т. Галансков, А. И. Гинзбург, А. А. Добровольский и В. И. Лашкова.
Предварительное следствие по этому делу было необыкновенно длительным: оно продолжалось почти год. Арестованы были обвиняемые в январе 1967 года, а судили их в начале января 1968 года.
Хотя заключенные все это время были в строгой изоляции, кое-какие сведения об их поведении начали просачиваться на волю. По их делу вызывали множество свидетелей, и от них мы кое-что начали узнавать. Наиболее сенсационным известием было известие о капитуляции Алексея Добровольского. Долгое время никто этому не хотел верить.
Добровольский своими манерами — не то белого офицера, не то героя-народовольца — сумел внушить к себе всеобщее доверие, поэтому, когда некоторые факты стали известны следствию, это приписывалось Верочке Лашковой, которая по молодости лет и по неопытности (ей тогда было всего 22 года) также была откровенна.
Помню, как я был удивлен, когда, встретив на Садовой одного из знакомых, также близкого к демократическим кругам, я услышал от него, что полностью капитулировал перед следствием («раскололся» — на жаргоне арестантов) Алексей Добровольский.
«Как, — сказал я, — говорят, следователи все знают от Веры Лашковой».
«Бросьте, — ответил мне мой знакомый, — они знают такие вещи, о которых Лашкова понятия не имеет».
Я все-таки не поверил, но через некоторое время не верить стало нельзя. Слишком много людей подтверждало, что следствию известны такие детали, которые знает один лишь Добровольский.
Я также, уже в процессе следствия, был вовлечен в это дело и должен о нем дать здесь показания. Начну с небольшого факта.
Во время суда Дина Исааковна Каминская процитировала следующий документ. В феврале 1967 года Добровольский написал следователю майору КГБ Елисееву записку:
«Размышляя над нашей беседой, готов представить следствию возможность изыскать оставшиеся экземпляры „Феникса“. Это нужно сделать как можно скорее, потому что он может уйти за границу. Решение этого вопроса не должно откладываться» («Процесс цепной реакции», «Посев», 1971, с. 214).
Аналогичное заявление Добровольский сделал в отношении сборника «Белая книга» (о процессе Синявского и Даниэля, составленного А. Гинзбургом). Этот сборник существовал в нескольких экземплярах. КГБ было известно, где находятся четыре экземпляра. Однако оно никак не могло разыскать другие экземпляры.
Сейчас, через 13 лет, я могу рассказать, где находился один экземпляр — у меня, в Новокузьминках. Дело было так. Однажды Люда Кац (тогда еще не Кушева) принесла мне эту книгу, сообщив, что ее разыскивает КГБ.
Взяв эту книгу, я тотчас отнес ее одной из прихожанок нашего храма, 75-летней, совершенно неграмотной хорошей старушке. При этом я сообщил ей, что эта книга разыскивается КГБ, и попросил никому ее не показывать. Старушка точнейшим образом исполнила мою просьбу. Лишь через много месяцев, когда появилась возможность передать эту книгу за границу, я взял ее у моей старой приятельницы и возвратил Люде.
Этот эпизод очень характерен: он показывает, как простые люди относятся к диссидентам, борющимся за правду. Как увидим ниже, это далеко не единственный случай, когда простые люди помогали нам в нашей борьбе.
Примерно в сентябре я также был вызван на допрос в КГБ в качестве свидетеля. Допрашивал молодой следователь. С ним мы быстро нашли общий язык. Он оказался товарищем по Институту Евгения Бобкова — старообрядческого отца диакона, о котором я писал в свое время статью. Здесь я впервые после сороковых годов столкнулся с работниками КГБ новой формации (послесталинского периода). Во время допроса зашел Елисеев, начальник следственного отдела. Таким образом, я увидел сразу двоих работников КГБ. От работников сороковых годов они резко отличаются своей «культурностью». Культурность эта, конечно, чисто внешняя: никто из них не блещет эрудицией, но манеры, но вежливость, но обхождение… видимо, выдрессировали.
Как раз в это время моя машинистка Нина Леонидовна Монахова была также вызвана на допрос по моему делу (меня они хотели судить за тунеядство).
Я спросил: «Как они с вами говорили?»
Она: «Версаль! Версаль! Двери отворяют, пальто подают».
Помимо этого мне удалось заметить еще одну черту: полнейшую незаинтересованность в деле. Мой следователь меня допрашивал лишь в присутствии Елисеева. Как только Елисеев уходил, начинался разговор на нейтральные темы: о последних кинофильмах, об итальянской артистке Софи Лорен и т. д.
Я не помню почему, но зачем-то понадобилась очная ставка с Алексеем Добровольским, и мы поехали на особом автобусе в Лефортовскую тюрьму, в которой мне пришлось побывать в качестве арестанта через 5 с половиной лет.
Нас ввели в кабинет, преобразованный из тюремной камеры, в нижнем этаже. Здесь я увидел Добровольского. Худой, бледный, он имел вид беспомощного, слабого человека, каким я его видел до этого один раз у него дома. Он жалко лепетал что-то. Я сказал, что не настаиваю ни на каких своих показаниях, так как мне могла изменить память, и полностью согласен со всем, что скажет Алексей. На прощание я его перекрестил и поцеловался с ним.
Это был последний раз, когда я имел с ним дело. Следующий раз я его увидел уже на суде.
И вот, наконец, самый процесс.
Запомнилось мне, как я получил повестку с вызовом на суд в качестве свидетеля. Было это в первый день Рождества, 7 января 1968 года. 10 часов вечера. Стук в дверь. Открываю. Участковый. Это новый человек. Я его вижу в первый раз. В форме старшего лейтенанта милиции — и вдрызг пьяный. Садится. Блаженно улыбается. И говорит: «А у меня к вам повестка». Роется в карманах. Ищет повестку. Но не находит. Между тем, поздравляет меня с праздником. Вынимает из кармана бумажного медвежонка. Дергает его. Медвежонок высовывает язык.
Я: «Ну, не надо повестки. Давайте я распишусь». Наконец, повестка находится. Я должен явиться 10 января в 10 часов утра в хорошо мне знакомое помещение Московского городского суда на Каланчовке. Расписываюсь. Спрашиваю участкового: «Я вас вижу первый раз. А где другой лейтенант?» — «Пошел на повышение». Затем крепко жмет мне руку: «Я же к вам ни разу не заходил, вас не беспокоил». Уходит.
Русская безалаберность и русское добродушие все-таки скрашивают русскую гнусную действительность. Мне всегда хотелось переделать знаменитое изречение маркиза де Кюстина: «Русский строй — тирания, слегка умеряемая цареубийством» на другое: «Русский строй — тирания, слегка умеряемая русским характером, — безалаберностью и добродушием».
И вот 10 января. 11 часов утра. Здание городского суда. На улице против суда полно диссидентов. Знакомые все лица. В суд их не пускают. Но я, имея в руках повестку, прохожу. Меня проводят на второй этаж. В коридор. Здесь еще не допрошенные свидетели. Кто-то из девушек меня подводит к какой-то очень милой пожилой даме, которая сидит на скамейке.
Дама крохотная. Лицо улыбающееся, источает добродушие. Мы знакомимся. Это Людмила Ильинична. Мать Гинзбурга. Весь город ее называет «старушкой». Но «старушка» она относительная. Примерно в одном возрасте со мной. А меня в то время еще никто не называл «старичком».
Примечательна ее биография. Коренная москвичка. Родители — из крупных буржуа, поэтому имели право жительства в Москве. Начала учебу в одной из самых фешенебельных гимназий Москвы. В Обыденском переулке, где преподавание велось на французском языке. Но гимназию не успела окончить из-за революции. В годы гражданской войны жила в Москве. Никуда не трогались. Мама Людмилы Ильиничны в это время изготовляла самодельно конфеты. Для этого требовался сахар. Его поставляли различные дельцы, приезжавшие из провинции. Как-то раз познакомилась мадам Гинзбург со священником, который хочет продать сахар. Приводит его к себе на Остоженку. Первого, кого видит священник, дедушку, патриархального еврея с большой седой бородой, в архалуке, подпоясанном ремнем, который сидит за книгой.
Священник (радостно): «Как приятно. Священник. Сразу видно, что свои люди. Это не то что жиды». (Оказывается, он принял дедушку по бороде и длинным волосам за своего собрата.)
Мадам Гинзбург (радостно): «Батюшка, да вы же как раз и попали к жидам. Это мой отец. Он читает Талмуд». Батюшка смущен. Продает сахар. Быстро уходит. Хотя сделка была выгодная и договорились раньше и о следующих торговых операциях, но больше он в этот дом не приходил.
Затем двадцатые годы. Людмила Ильинична оканчивает уже советскую школу. Институт. Здесь знакомится с русским парнем Сергеем Чижовым. Из коренных москвичей. Из патриархальной русской семьи. Выходит замуж. В 1936 году рождается у нее сын Александр.
Брак Людмилы Ильиничны не был счастливым. Вскоре супруги расстались, но Людмила Ильинична сохранила на всю жизнь хорошие отношения со своей свекровью, культурной, очень религиозной женщиной, которая умерла в ссылке, куда попала из-за своей особой приверженности к Церкви.
Сын Людмилы Ильиничны не знал отца. Воспитывался матерью. От нее он унаследовал живой, энергичный темперамент, острый ум, интерес к общественным проблемам. В 16 лет, в самый разгар официального антисемитизма, выкинул фортель: при получении паспорта он (сын чисто русского человека — Сергея Чижова) принял фамилию матери Гинзбург, отчество своего деда — Ильич и национальность матери. Это, возможно, единственный случай в те времена, когда евреи усиленно перекрашивались в русских и когда в газетах расшифровывались по-русски звучащие псевдонимы литераторов еврейской национальности.
Затем начинается крестный путь Алика (как называла молодого Гинзбурга вся Москва). Человек разбросанный, вкусивший немного от прелестей богемы (хотя по виду это трудно подумать), он часто менял профессии, места учебы; побывал и в актерах, и в режиссерах, учился и на журналистском факультете Московского университета.
Наконец, в 1959–1960 годах стал выпускать нелегальный журнал «Синтаксис». Затем тюрьма. Два года заключения. «Белая книга» по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Арест 22 января 1967 года. Год в Лефортовской тюрьме. И вот суд.
И мы сидим с его матерью Людмилой Ильиничной в коридоре городского суда на Каланчовке.
У Людмилы Ильиничны в характере есть одно очень редкое свойство: она никогда не плачет, не жалуется на судьбу. Она всегда в хорошей форме. У этой московской еврейской дамы характер английской аристократки, представительницы элиты, коронованной особы. Никогда никаких жалоб, никаких стонов, никаких внешних проявлений того, что переживается, все запрятано где-то глубоко, глубоко внутри.
Однажды мы говорили с ней о сыне, когда он переживал один из самых страшных моментов своего лагерного заключения. Она была абсолютно спокойна. Я невольно взглянул на нее. Поймав мою мысль, она сказала: «Что вы смотрите на меня? Я плакать не умею». И действительно не умела.
И сейчас мы заговорили о совершенно посторонних вещах, начался светский, гостинный разговор. И я со свойственным мне легкомыслием так увлекся, что даже забыл на мгновение о том, что пришел сюда не для светских разговоров с дамами, и невольно вздрогнул, когда услышал свою фамилию. Меня вызывали в судебное заседание.
Вхожу. Обстановка совсем иная, чем на процессе Буковского — Кушева — Делоне.
Во-первых, огромный зал. Все места заняты. На скамьях ни одного знакомого человека. Люди с каменными лицами. А также мальчишки педерастического типа (по выражению Жени Кушева) из эмгебистских стукачей.
Прохожу через весь зал и тут же замечаю еще одну странность: подсудимые сидят далеко друг от друга. Около судебного стола справа Юрий Галансков, слева Гинзбург. На большом расстоянии от них (метров в 15–20), в самом центре зала, сидят справа — Верочка Лашкова, слева — Добровольский. За пять месяцев, которые я его не видел, он отрастил себе огромную бороду (она у него рыжая). Придает ему особо зловещий вид. Невольная ассоциация — Иуда, который в православной иконописи часто изображается с рыжей бородой.
Подхожу к столу. Далее предоставляю слово стенограмме из книги «Процесс цепной реакции», прекрасно изданной «Посевом» в 1971 году во Франкфурте-на-Майне.
Судья: Где вы работаете?
Левитин: Счетоводом в храме Нечаянная Радость. (Хохот в зале.)
Судья: Вы как гражданин СССР должны помочь суду, прошу вас говорить одну только правду. Что вы можете показать проливающее свет на это дело?
Левитин: Боюсь, что ровным счетом ничего. Кроме того, что я знаком со всеми подсудимыми. Если это может пролить свет на это дело, я могу рассказать.
Судья: Начните со знакомства.
Левитин: Как вы видите по моей профессии, я принадлежу к церковным кругам. Добровольский является верующим человеком и немного вхож в церковные круги. Мы встречались с ним в доме нашего общего приятеля, ныне умершего Марка Доброхотова. Лашкова Вера является моей машинисткой, так как, помимо своего официального положения, я являюсь церковным писателем, статьи которого, как вероятно знаете, широко известны в церковных кругах. У Веры Лашковой я несколько раз видел Галанскова и один раз Гинзбурга. Вот и все, что я могу сообщить.
Судья: Знали ли вы, что Гинзбург является создателем «Белой книги»?
Левитин: Да.
Судья: Откуда?
Левитин: Из передач заграничного радио.
Судья: Но в своих показаниях, данных на предварительном следствии, вы показали, что вы знаете это от него самого.
Левитин: Нет, я показывал не это. Я говорил о том, что Гинзбург мне говорил, что он идет от прокурора, который обвинил его в том, что он составил «Белую книгу». Это не совсем одно и то же.
Судья: Что вы знаете о журнале «Феникс»?
Левитин: Я знал о том, что намечается выход какого-то антисталинского сборника или журнала. Там должна была фигурировать также и одна моя статья. Я против этого не возражал, не видя в этом ничего криминального. Однажды я встретил Добровольского в метро, и он меня информировал о том, что они намерены выпустить сборник или журнал типографским путем. Я отговаривал Алешу от этого приключения, помню свое выражение: «Вас посадят за это, даже если вы будете печатать таким образом собрание сочинений Ленина». Алеша тогда мне сказал: «Вы меня убедили — печатать не будем». Но вот, оказывается, не убедил.
Судья: Что они вам говорили об НТС?
Левитин: Им не надо было говорить мне об НТС. Я знал, что такое НТС, когда они еще не родились.
Судья: Нет, что они вам говорили о своих связях с НТС?
Левитин: Ровным счетом ничего.
Судья: А разговаривали вы с ними вообще об НТС?
Левитин: Уж не помню. Мало ли о чем я мог с ними разговаривать. Может быть, и разговаривал, как и о всякой другой организации. Судья: Что вы знаете о их настроениях?
Левитин: Они, как и большая часть нашей интеллигенции…
Судья: Разве вы имеете полномочия от большей части нашей интеллигенции? Прошу вас говорить только за себя.
Левитин: Ну, хорошо. Как многие люди, с которыми мне приходилось встречаться, они были недовольны очень жесткой цензурой, недостаточной свободой религии — это я говорю уже со своей колокольни, словом, все они хотели большей свободы мнений. И больше ничего.
Прокурор: Что вы скажете о Галанскове?
Левитин: Человек больной и раздражительный.
Прокурор: Из материалов дела видно, что вы знали о туристке, приезжавшей к Добровольскому из-за границы. Не от НТС ли она приезжала?
Левитин: Ни в коем случае. Это была религиозная туристка, приезжавшая от заграничных церковных кругов.
Судья: Есть вопросы у защиты?
Каминская: Слышали ли вы, что Галансков принял участие в журнале «Феникс»?
Левитин: Я слышал, что он принимал какое-то участие. Но какое, я не знаю.
Швейский: Знаете ли вы, что в журнале «Феникс» была статья о Почаеве?
Левитин: Мне об этом говорил следователь. Он прочел несколько строк, после чего я убедился, что статья не моя.
Швейский: Писали ли вы о Почаеве?
Левитин: Да, у меня есть на эту тему три статьи.
Швейский: Они были написаны еще до знакомства с подсудимыми?
Левитин: Да, тотчас, как только те события произошли.
Судья: Вас не привлекали за эти статьи к ответственности?
Левитин: Нет, и не могли привлекать…
Судья: Свидетели не выступают, а допрашиваются. Вы уже ответили на вопрос.
Ария: Из материалов дела видно, что во время вашей встречи с представителями общественности заместитель редактора журнала «Наука и религия» Григорян говорил, что он также знал о событиях в Почаеве.
Левитин: Да, я могу дословно повторить его слова: «Вы много писали о Почаеве (это обо мне). Я же сделал для Почаева больше, чем вы. Как только я узнал о событиях в Почаеве, я сразу позвонил в ЦК».
Ария: Правду ли сказал Григорян?
Левитин: Думаю, что правду. Он вполне порядочный человек и врать не будет.
Ария: Вымышлены ли эти события или нет?
Левитин: Ну, что вы?! Ни один антирелигиозник и ни один представитель власти никогда не отрицали этого.
Швейский: Считаете ли вы, что реакция Добровольского на Почаевские события как религиозного человека могла быть особенно острой?
Левитин: Ну, конечно. Какому же религиозному человеку понравится, что в монастыре происходят зверства?
Золотухин: Как попал за границу «Феникс»?
Левитин: Не знаю.
Золотухин: А как попадают туда ваши произведения?
Левитин: Понятия не имею.
Судья: Давали ли вы когда-нибудь Добровольскому какие-нибудь книги?
Левитин: Не помню.
Судья: А он вам давал когда-нибудь книги, изданные НТС?
Левитин: Никогда.
Судья: Давала ли вам Лашкова книгу, изданную НТС?
Левитин: Один раз она мне показывала какую-то книгу заграничного издания. Какую — не помню.
Судья: Товарищ Левитин, подойдите сюда. Та ли это книга, которую показывала вам Лашкова?
Левитин: Не помню.
Судья: Лашкова, эту ли книгу вы показывали Левитину?
Лашкова: Да, эту.
Судья: Настаивала ли она, чтобы вы прочли эту книгу?
Левитин: Нет, она просто показала мне эту книгу как книжный курьез.
Судья: Восхваляла ли она НТС?
Левитин: Ни в коем случае. Зная Веру, я не могу допустить и мысли, чтобы она сочувствовала НТС.
Судья: Вы свободны (cc. 151–156).
После этого меня тотчас вывели из зала. Это показывало, что точная запись процесса Буковского и других (особенно запись последнего слова Буковского) насторожила. Власти решили предотвратить повторение подобных записей. Но опять неудача.
Запись процесса Галанскова и других получилась даже еще более подробная.
Известен результат этого процесса. Драконовские приговоры: Юрий Галансков (по милости Добровольского, свалившего на него значительную часть своих проделок) получил 7 лет заключения и, как известно, так и не увидел воли. Александр Гинзбург получил 5 лет. Алексей Добровольский — всего лишь 2 года лагерей (30 сребреников — плата за предательство). Вера Лашкова — 1 год, что равнялось немедленному освобождению, так как она уже пробыла в тюрьме один год в предварительном заключении.
Я на заключительной части процесса не был. О приговоре узнал уже после окончания процесса.
Что можно о нем сказать?
Прежде всего ряд психологических наблюдений. Этот процесс подарил миру двух героев: Юрия Галанскова и Александра Гинзбурга. Причем это было для меня некоторой неожиданностью. Юрий всегда производил на меня впечатление человека озлобленного и раздражительного. Кто мог ожидать, что он проявит столько истинно христианской самоотверженности. По просьбе Добровольского он принял на себя значительную часть его поступков. Он держался на суде с огромным достоинством. И умер, как герой.
Александр Гинзбург также удивил многих. В прошлом, когда его привлекали однажды к ответственности, он покаялся и даже написал соответствующую статью в газету. Он не пользовался поэтому репутацией храброго человека. И для многих было неожиданным его героическое поведение на суде. Кульминационным пунктом было его последнее слово, во время которого он попросил, чтобы ему дали срок, не меньший, чем Галанскову.
Вера Лашкова капитулировала во время следствия и суда, но никто ей этого в вину не ставил; все приняли это как проявление слабости: вся ее дальнейшая жизнь исполнена такого же самоотвержения и доброты, как и до суда. Мне она всегда удивительно напоминала образ «Ванскок» из романа Лескова «На ножах» — образ девушки-революционерки, которая с молодых лет до старости прожила жизнь для других, не желая ничего для себя.
Омерзительное впечатление (и до и после суда) производил Добровольский. Озлобленный, притом очень неумный, он вызывал у всех, его знавших, смешанное чувство — брезгливости и сожаления.
Тяжела участь предателя. Евангельский прототип является классическим.
Процессы 1967–1968 годов вызвали широкий резонанс. Привлекли всеобщее внимание, выходящее далеко за пределы диссидентских кругов. О том, какой интерес вызвали эти процессы, можно судить хотя бы по тому, что Людмила Ильинична Гинзбург получила по почте письмо, написанное детским почерком, от имени целого класса одной из московских школ, в котором выражается одобрение поведению ее сына и возмущение «предателем Добровольским».
Именно в связи с этим процессом появляется в демократическом движении ряд новых фигур.
Это прежде всего Павел Михайлович Литвинов. Кстати, в одной из книг, вышедших в Америке и принадлежащей перу Юрия Глазова, мы находим легенду о том, что якобы Павел Литвинов был лидером демократического движения или даже его зачинателем. Эта легенда лишена и тени правдоподобия. Демократическое движение возникло задолго до появления в нем Литвинова, и никто из нас не имел о его существовании ни малейшего понятия. Как представитель демократического движения он появляется лишь в 1968 году в связи с его обращением, написанным совместно с Ларисой Даниэль (Богораз-Брухман). После этого начинается период громкой известности Павла Литвинова, который длится около года: от выступления в защиту осужденных Галанскова — Гинзбурга вплоть до демонстрации с протестом против советской интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. После этого ни в каких актах демократического движения он не участвует. Следует сказать, однако, что еще в сентябре 1967 года он составляет запись процесса Буковского — Кушева — Делоне.
В связи с этим началось мое с ним знакомство. Он пришел ко мне совместно с Красиным. На меня он произвел впечатление очень неглупого человека, сдержанного, вежливого. Тип инженера. Впоследствии мы имели друг с другом много дел, и у нас были добрые отношения, которые, однако, никогда не переходили в дружбу. Об этом речь впереди.
В это же время ярко разгорается звезда Якира и Красина. Вовлекается в движение П. Г. Григоренко.
1968 год — это время, когда демократическое движение выходит из пеленок, становится существенным фактором советской жизни, приобретает международное значение.
Процесс Гинзбурга — Галанскова вызвал к жизни множество петиций, писем, заявлений различных общественных деятелей. Не мог промолчать и я. Привожу текст своего обращения к Председателю Верховного Суда РСФСР.
Я, Анатолий Левитин, за последние месяцы участвовал в качестве свидетеля в двух политических процессах. Сейчас я считаю своим долгом высказать свои соображения в отношении дела Гинзбурга Александра и Галанскова Юрия, осужденных в январе 1968 года Московским городским судом, которые ныне обратились к Вам с кассационной жалобой.
Сознание ответственности перед Богом и своей совестью не позволяет мне, единственному верующему христианину, участвовавшему в деле, малодушно промолчать, когда решается судьба двух молодых людей, а моя гражданская честь старого учителя, проведшего большую часть своей жизни среди молодежи, заставляет меня высказаться решительно и прямо перед судом в отношении побуждений Гинзбурга и Галанскова.
После окончания суда над Гинзбургом и Галансковым в «Известиях» и «Комсомольской правде» были напечатаны статьи, в которых молодых людей обливали грязью, называли лакеями и платными агентами НТС. Все эти статьи написаны журналистами, у которых отсутствует элементарное чувство уважения к читателям. В самом деле, кто поверит, что два человека, которые с двадцати лет скитались по тюрьмам и сумасшедшим домам (будучи, как сейчас установлено, совершенно нормальными), которые добровольно обрекли себя на жизнь затравленных зверей, лишились карьеры, возможности вести спокойную нормальную жизнь и иметь семью, — действовали из низменных побуждений. Как бы мы ни относились к ним, несомненно одно: перед нами идейные люди. И прежде всего, мы должны относиться к ним как к идейным людям.
Каковы же их идеи и из каких побуждений они действовали? Быть может, они хотели восстановления помещичье-буржуазного строя? Быть может, они хотели стать фабрикантами и заводчиками?
Я очень мало их знаю, но даже этого поверхностного знакомства достаточно, чтобы отвергнуть такие предположения. Трудно себе представить людей, более чуждых собственнических чувств, более непрактичных, чем эти два человека. Это люди, в которых очень развито товарищеское чувство, и любой из них поделится с товарищем последним куском хлеба. Помогал же Галансков матери Гинзбурга, будучи сам нищим.
Авторы газетных статей упрекали Гинзбурга и Галанскова в том, что они часто меняли профессии. Но что им оставалось делать, если их отовсюду выгоняли и мешали нормально работать.
Чего же все-таки хотели Галансков и Гинзбург? Можно ответить одним словом: они хотели свободы. Они хотели свободы художественной литературы от жестокого цензурного пресса. Им не нравилось такое положение, когда великий писатель земли русской Солженицын не может напечатать своих произведений, когда другой великий писатель земли русской Пастернак умер, затравленный, ошельмованный, и многие его произведения до сих пор не увидели света. Они хотели освобождения публицистического пера от цензурного гнета, так как только свободное обсуждение всех жгучих проблем современности может предотвратить ошибки, подобные тем, которые были во времена культа личности. Они хотели свободы философских и религиозных убеждений и не могли примириться с тем, что марксистская философия навязывается насильно, а всякий человек, открыто выражающий религиозное или идеалистическое мировоззрение, лишается возможности работать по своей специальности. Мне не нужно далеко идти для того, чтобы привести подобный пример. Мне достаточно сделать для этого несколько шагов и взять в руки зеркало. Оно мне покажет лицо пожилого человека в очках, лицо типичного учителя, проработавшего в этой специальности более двадцати лет, который вот уже восемь лет вынужден вести жизнь человека без определенных занятий, так как его изгнали из школы за религиозные убеждения.
Одиноки ли Галансков и Гинзбург в своих убеждениях и требованиях? Нет, не одиноки.
1956 год — год XX съезда Коммунистической партии — был поворотным пунктом в истории СССР. В настоящее время еще трудно оценить все значение событий этого года. Рухнул фетиш, висевший над страной в течение тридцати лет; начался мучительный процесс пересмотра таких понятий, в которых выросло целое поколение людей. Люди отвергли официальные авторитеты и захотели жить самостоятельно, самостоятельно мыслить и самостоятельно строить свое мировоззрение. Критическая мысль отпраздновала свое великое торжество — и русский народ (другие народы интересуют меня в меньшей степени) сделал стремительный рывок вперед. Молодежь стала другой — и управлять старыми методами стало немыслимо. Люди моего поколения хорошо помнят, как в 1936 году, когда принималась действующая ныне Конституция, много говорилось о том, что всякая конституция лишь фиксирует объективно сложившееся положение в стране.
Ныне настала пора зафиксировать изменения, происшедшие в сознании людей за последние двенадцать лет. Русская мысль за это время выросла и окрепла, изменилось сознание людей — мы все чувствуем себя взрослыми, — и нас лишь раздражает, когда нас опекают, как младенцев, и кормят кашей.
В. И. Ленин всегда указывал, что самое страшное в политике — это непоследовательность и косность. Попытки консерваторов вернуть нас к 30-м и 40-м годам лишь мешает продвижению русского народа вперед, компрометирует нас в глазах всего мира (в первую очередь, в глазах зарубежных коммунистов) и мешают борьбе с реакцией. Поясню свою мысль примером. Лет десять назад митрополит Николай предложил мне написать в «Журнале Московской Патриархии» статью, направленную против иеговистов. Я вынужден был категорически отказаться от этого предложения, ибо я не могу дискутировать с людьми, сидящими в тюрьмах. Так и сейчас я не могу дискутировать в своих статьях с людьми, которых считаю отъявленными реакционерами, только потому, что всякое выступление против них будет политическим доносом.
Дело доходит до того, что всякий честный литератор, открыто выражающий свои убеждения, если его не сажают в тюрьму, рискует прослыть агентом КГБ. Становится неудобным выражать свою солидарность с правительством даже в тех вопросах, в которых оно совершенно право, ибо вас начинают сразу же подозревать в неискренности.
Все это следствие того ненормального положения, которое сложилось ввиду нежелания считаться с объективными фактами. Возникает вопрос, почему мало доверяют народу и обществу? Неужели действительно думают, что кто-то собирается восстанавливать капитализм и свергать советскую власть? Но если этого нет, то диктаторские методы становятся излишними, и всякие ограничения свободы совести, научной и философской мысли, художественного творчества и публицистики становятся излишними.
Я не знаю точно, в чем именно обвиняют Гинзбурга и Галанскова и насколько доказана их связь с НТС, так как свидетелей выпроваживали после дачи показаний из зала суда, а по газетным отчетам решительно ни о чем нельзя судить, так тенденциозно и пристрастно они составлены. Но я уверен, что побуждения Галанскова и Гинзбурга были самыми чистыми, и если они в чем-то преступили закон, то только по юношеской горячности. Это дает возможность заменить им заключение условным наказанием и освободить из-под стражи.
Когда я закончил свои показания, я услышал из уст Председателя два слова: «Вы свободны». Скажите эти два слова Гинзбургу и Галанскову — и Вы несказанно поднимете авторитет СССР во всем мире. Вы выбьете главный козырь из рук антисоветской пропаганды. Вы дадите радость миллионам русских людей.
Пусть же прозвучат эти два слова, и да будут они началом новой гуманистической эры на Руси.
А. Н. Левитин-Краснов
9 февраля 1968
Анатолий Эммануилович Левитин (Краснов)
Москва, Ж-377, 3-я Новокузьминская, 23.
(«Процесс цепной реакции», сс. 402–467)
Нижний Новгород. (Интермеццо)
Помню, однажды (это было в 1929 году), когда мне было 14 лет, взял меня отец в Питере на сенсационный процесс: судили за какие-то злоупотребления по линии театральных финансов известного ленинградского артиста и директора Театра драмы и комедии (знаменитый театр в Пассаже) Надеждина, мужа прославленной артистки Елены Маврикиевны Грановской.
Запомнилось, как говорил Надеждин свое последнее слово. По-актерски, с паузами, с придыханиями, со скупой, но выразительной жестикуляцией. И финал: «Грановская тут ни при чем, но бывают слова, которые неразрывны: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, — Грановская и Надеждин, Надеждин и Грановская».
К таким словосочетаниям принадлежало: «Синявский и Даниэль». Во всяком случае принадлежало в описываемое время. И писать надо о них обоих.
Для этого есть все основания, ибо, помимо общей судьбы, их объединяет и художественный метод.
Но сначала Синявский. Каких только отзывов о нем не было: от самых восторженных до самых ругательных.
Восторженных.
Небезызвестный Михайлов опубликовал о нем, кажется, еще находясь в Белградской тюрьме, книгу, в которой сравнивал Синявского с Достоевским. И не с какой-либо одной стороны. А так прямо и пишет: «Синявский — Достоевский».
Медвежья услуга. Таким отзывом можно убить и более сильного прозаика.
И ругательные отзывы: лишь год назад в Лондоне вышла книга Григория Свирского «На лобном месте», в которой имеется уничтожающая характеристика А. Д. Синявского.
«Я увидел, — пишет Григорий Свирский, — что проза Синявского — это, за редким исключением реминисценции из Орвелла, Рэя Бредбери, Кафки, Гоголя, Щедрина, Грибоедова, Достоевского, Булгакова, Замятина, Ильфа и Петрова, Солженицына… и так вплоть до Дудинцева, драматургии Розова, Ю. Реста, газетного поэта Ошанина и анекдотного „изюма“.
Каждая из этих реминисценций, окрашенная иронией Терца, несомненно, имела бы право на существование. Иронично-фантастическая проза, кто бы не радовался ей? Но густой, возможно, принципиально густой лапшевник, даже с ироничной приправой, дал новое качество, которое в литературе не имеет права на существование: вторичность» (Григорий Свирский. «На лобном месте. Литература нравственного сопротивления (1946–1976 гг.)» — Лондон: «Новая литературная библиотека»,1979, с. 258).
Имеет право на существование! Невольно вспоминается известная книга проф. Б. М. Эйхенбаума о Лермонтове, вышедшая в двадцатые годы, где известный питерский литературовед, насчитав буквально сотни одинаковых мотивов, образов и даже рифм у Лермонтова с русскими и западными современниками и предшественниками, бросил крылатый эпитет: «гениальный сплавщик».
Таким образом, то, что Синявский «сплавщик», еще не причина, чтобы пренебрежительно отзываться о его творчестве.
Однако «сплав» или «лапшевник»? Беспорядочная смесь или объединенное единым взглядом, единым художественным мировоззрением творчество? Думаю, что сплав!
Гениальный, как у Лермонтова, или нет? Чтобы уяснить это, следует хотя бы поверхностным образом проанализировать произведения Синявского и однотипные произведения Даниэля. Займемся этим. Два русских писателя заслужили наше внимание, хотя бы тяжкими страданиями, которые в свое время выпали на их долю.
1. Фантастический мир Толи Левитина и Абрама Терца
Какова почва, на которой возникает «Фантастический мир Абрама Терца»? Двадцатые годы. Нэп. Ленинград. Фантастика в жизни. Я расскажу о нескольких людях, которых знал, будучи мальчишкой, не прибавив от себя ни единого слова, ни единого вымысла. Это великолепное вступление в фантастический мир Абрама Терца.
1926, 1927, 1928 годы. На углу Шестой линии и Среднего проспекта вы всегда могли встретить странную фигуру. Породистое лицо с орлиным носом, седые стриженые волосы, невероятное тряпье — даже трудно различить, что это: ночная рубашка, настолько грязная, что трудно понять, какого она цвета, — такие же брюки, галоши на босу ногу. Она? Он? Трудно сказать. И поет романсы на великолепном французском языке, и не так, как «французили» дамы в гостиных, а на таком языке, что любой парижанин позавидовал бы (это пояснила наша знакомая — профессиональный переводчик с французского). Однажды видел, как она (оно) подбирала окурки на бульваре. Отец спросил: «Я слышал, вы поете на французском. Вы его так хорошо знаете?»
Ответ (вежливо): «Певец должен все языки знать».
Когда она (оно) отошла, я спросил у папы: «Так это мужчина или женщина?» Он ответил: «Ты же слышал, он сказал: „певец“. Значит, мужчина».
Лишь через 20 лет я узнал биографию этого странного «оно». Отец ее — шприц. У одних очень богатых людей не было детей. По совету какого-то француза, полуврача, полушарлатана, прибегли к шприцу. Мне рассказывали об этом так:
«Он приходит в энтузиазм. В это время берут у него шприцем все необходимое и всаживают жене. В результате этой процедуры родилось „оно“. Собственно говоря, „она“. Это была девочка. Но с раннего детства — странные отклонения от нормы. Она не могла сидеть ни на стуле, ни на диване — только на полу. С детства воображала себя мальчиком. И попутно — выдающиеся способности к языкам. Достаточно сказать, что в 17 лет она переводила „Эдду“ с древнеирландского языка. И в ее переводе „Эдда“ была напечатана не кем-нибудь, а Собашниковым (известным издателем мировой классики). Потом наступила революция. Родители погибли в гражданскую войну». Далее я передаю слово моей знакомой, бывшей балерине — баронессе, тоже даме с фантастической судьбой.
«Однажды я пришла в гости к Домашевой (известной актрисе). Рассказываю о своем знакомом, враче. Вдруг из угла голос. Смотрю: куча тряпья в кресле. И оттуда же голос светской женщины: „Вы, кажется, знакомы с врачами? Не можете ли вы мне достать морфий?“ — „Могу. Я попрошу выписать рецепт“. — „Да, но тогда я уж попрошу вас получить в аптеке и мне принести. В аптеках мне не дают. Все знают меня как морфинистку. Мой адрес такой-то. Средний проспект, номер дома, в подвале“.
„А в какое время прийти, чтобы застать вас дома?“
„Приходите в любое. Меня вы все равно не застанете, но дверь открыта. Воровать у меня нечего. Положите на стол у окна“.
Я, — рассказывает моя знакомая, — все так и сделала. Достала морфий, пришла. Совершенно пустое подвальное помещение. Деревянные нары, около окна дощатый стол. Кладу на него пакетик. И вдруг вздрагиваю: огромная птица (ястреб) взлетает из угла. Это ястреб хозяйки. Прирученный, ее друг. Она, и живя в этих условиях, продолжала писать. Написала на великолепном французском языке „мемуары“ от первого лица — пажа, который находится в противоестественных отношениях с королем Франциском. Язык XVI века, колорит эпохи соблюдены до малейших деталей. Уверяет на полном серьезе, что это действительно была она. Затем попадает в сумасшедший дом на Раздельную. Следы ее исчезают…»
Разве это не персонаж из фантастического мира?
Далее. 1931 год. Мне уже 15 лет. Хожу по церквам. Все знают меня как будущего монаха. В Киевском Подворье встречаю даму, которая рассказывает мне свою историю.
Дворянка. Жена белого офицера. 1919 год. Ростов-на-Дону. У нее сын Кирилл. Гимназист восьмого класса. Семнадцати лет. Чисто русский. Но вдруг неожиданное знакомство с евреями. Все время среди евреев. Все его друзья евреи. Родители изумлены. Мать как-то говорит: «Что ты с ума сошел со своими жидами?»
Вдруг исчезает из дому. Четыре дня отсутствует.
Затем находят его труп. Самоубийство. В его комнате находят его крестик, завернутый в бумажку. Выясняется, что он тайно перешел в иудейство. Печатался в сионистских журналах.
Похороны. Родители самоубийство скрыли, инсценировали несчастный случай. Во время отпевания пришло много евреев. Стояли со свечами. Пришла одна старая еврейка, мать товарища Кирилла. Подходит к гробу, причитает: «Великий ты наш! Родной ты наш!» Целует покойнику ноги. Мать, у которой нервы напряжены, говорит: «Скажите, чтобы она ушла»…
Затем гражданская война. Родители Кирилла через Крым, через Японию попадают к Колчаку. Конец гражданской войны. Монголия. Мать Кирилла сидит целыми днями в своей делянке и занимается спиритизмом. Однажды она чувствует какой-то страшный удар. Она в обмороке. Две недели без сознания. Потом пришла в себя. Причастилась. Когда я ее знал, ходила в церковь почти ежедневно. Просила поминать ее сына. Эту ее просьбу я исполнил: поминаю его до сих пор. Не знала, что обратилась она с такой просьбой к полуеврею. Евреев она не выносила до конца жизни. А я тогда был мальчишкой и не решился признаться в своей национальности.
Разве это также не фантастический мир?
Мы говорили о мистике, — перейдем к политике. И здесь фантастика. В конце века в городе Полтаве жил ешиботник (ешибот — еврейская семинария, ешиботник — еврейский семинарист — кандидат в раввины). Имя и фамилия ешиботника: Самуил Борисович Виленский.
В этом городе жили мои родственники Василевские. Розалия Борисовна Василевская — сестра моей бабушки. Фантастически богатые евреи. Единственные в России евреи-помещики.
В шестидесятых годах прошлого века, при Александре II, евреям разрешили покупать землю, через 10 лет снова запретили, но собственность священна и неприкосновенна: те, кто купил землю, так и остались помещиками.
Дочь Василевских — Мария Яковлевна — совершенно ослепительная красавица. Вся губерния у ее ног.
Затем революция. Старший сын Илья — белый офицер — расстрелян при участии знаменитой Землячки. Василевские перебираются в Москву. И здесь, в их даче неожиданно появляется бывший ешиботник. Но теперь он уже не ешиботник. Нэп. Он крупный коммерсант. Ездит за границу. Связан с ГПУ. Притом лично с Дзержинским. По его поручению он проводит операцию с возвращением в Москву известного белого генерала Слащева.
Он занимает бывший княжеский особняк в Николо-Песковском переулке. Он делает предложение Марии Яковлевне Василевской, моей двоюродной тетушке. Женится. Она со своими родителями поселяется в особняке в Николо-Песковском. Бывал и я там вместе с бабушкой. Огромные залы, анфилады комнат. Чудесная обстановка. Актеры, певцы, композиторы, поэты. Здесь часто можно видеть угрюмого, молчаливого верзилу, которого хозяйка встречает восклицанием: «Владимир Владимирович, а где Брики?» На это следует ответ: «Придут. Никуда не денутся». Действительно, куда они денутся, ведь муж Лили — чекист.
Кого здесь только не было: нэпманы, нэпманши, аристократы (князьки и графы, влачащие существование на задворках Москвы), евреи, русские, американцы, немцы. Над всем царит прелестная хозяйка. Виленский является обычно поздно вечером. Здоровается. Садится где-то в углу. Молчит. Никогда ни с кем не разговаривает. Среди гостей много чекистов. Как-то отец с одним из них разговорился.
Тот сказал: «Виленский плохо кончит. Он все время играет на два фронта».
Отец спросил: «Двойник?»
Ответ: «Какой там двойник. Верно, десятирик».
Как-то отец спросил Марию Яковлевну, нельзя ли через Виленского сделать одно дело. Она ответила:
«Не связывайся с ним. Это страшно».
Однажды он заболел. Послал телеграмму цадику (все-таки бывший ешиботник). Получил ответ: «Благословляю. Завтра выздоровеешь».
Выздоровел. А потом новое горе: Мария Яковлевна должна была родить и во время родов умерла. Общее горе всех родных.
Виленский показал себя джентльменом. Особняк оставил родителям. Они жили на его счет. В память любимой жены.
Но вот наступил 1929 год. Дела Виленского пошатнулись. Его выслали в Калугу. Изредка приезжал. Останавливался на Николо-Песковском. В один из приездов его арестовали на вокзале. Вместе с ним арестовали его тестя Якова Веньяминовича, человека не от мира сего. Через несколько дней сообщили теще о Виленском: «Расстрелян».
Карьера ешиботника из Полтавы — разве это не фантастический мир?
Андрей Донатович Синявский — человек, который много моложе меня (на целые десять лет). Нэп он помнить не может. Но фантастические веяния его настигли. И отсюда фантастический мир Абрама Терца.
Берем объемистую книгу в сером переплете, изданную в 1967 году в Париже. Заглавие: «Фантастический мир Абрама Терца».
Первый рассказ «В цирке». Здесь кратковременная карьера уголовника-блатного. Это, правда, не настоящий блатной — «вор в законе», он новичок, но психология блатного схвачена метко.
Когда я общался с блатными, меня всегда поражала их странная психика. Я бы определил эту психику, перевернув формулу апостола Павла. У апостола сказано: «Будьте на все злое младенцы, умом — совершеннолетни». Блатной, наоборот, на все плохое совершеннолетний, да еще какой совершеннолетний, а умом — младенец. Объяснить это трудно — это иррационально.
Так и у Терца. Его Костя — талант и, как всякий талант, действует по вдохновению. Так, по вдохновению, происходит первое крупное ограбление:
«Дыхание мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично выпрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не догадываясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубахой… „Деньги ваши стали наши“, как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус. Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея» («Фантастический мир Абрама Терца», с. 29).
Это язык поэта. Это вдохновенно. Романтично. В воровстве, как и во всяком пороке, есть своя романтика. Здесь есть свои виртуозы, свои гении. Верх воровского артистизма — вытащить портмоне из внутреннего кармана пиджака. Содержимое кошелька пересыпать в свой карман, а затем положить пустой кошелек обратно в карман владельца (задача невероятной трудности, — это гораздо труднее, чем вытащить кошелек).
И в жизни у него все время чередуются преступления и детские выходки. Ему ничего не стоит убить, ограбить, и в то же время необыкновенная радость, которую ему доставляет тросточка с набалдашником в виде филейных частей. И смерть в порыве вдохновения: неожиданная попытка к бегству.
«Им овладело чувство, близкое к вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и сверхъестественной силы, которая кинет тебя в воздух в могущественном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни. Все ближе, ближе… Вот сейчас кинет… Сейчас он им покажет…
Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головой вперед» (там же, с. 41).
Один из первых рассказов Терца написан легко и талантливо. И в то же время за этой простотой глубина. Ибо бесовщина — это сложное явление; и здесь вспоминается старинное монашеское слово: соблазн, искушение.
Ибо соблазн, искушение — это не просто на голых баб смотреть. Здесь есть свои взлеты, свое вдохновение, свои порывы, своя творческая радость. Ибо дьявол есть падший ангел — и в этом его страшное и чарующее обаяние.
Гораздо менее удачен рассказ «Ты и я». Тоже преступление. Тоже блатные. Но чувствуется, что автор понятия не имеет об этом мире (в первом рассказе — блатной случайный — циркач, пошедший по воровской линии; это тип все-таки более понятный Терцу).
В рассказе «Ты и я» впервые проступает основной недостаток Терца: искусственность, надуманность ситуации. Для чего-то мужики, переодетые женщинами, бессмысленные повторения, дешевый декаданс (попытка выразить спутанность эмоций). Прочтя рассказ, невольно повторяешь любимое словечко Станиславского: «Не верю».
Не верю! Все это было и бывает совсем не так. Не фантастический мир, а сооружение из папье-маше.
Далее рассказ «Квартиранты». Интересна история этого рассказа. Хотя он был написан в 1959 году, но никто о нем не знал до ареста автора. После ареста писателя в декабре 1965 года его жена пустила этот рассказ в самиздат. Отсюда он попал в «Белую книгу», а затем на Запад, (см. «Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». Составитель А. Гинзбург. — «Посев», 1967, сс. 68–77).
Здесь действительно некоторые реминисценции: реминисценции с Передоновым из «Мелкого беса» Ф. Сологуба. Но это советский Передонов, гораздо более запуганный, чем у Сологуба, гораздо более жалкий и не страшный. Сологубовский Передонов — тиран: он и сожительницу высек розгами, и гимназистов заставляет сечь, и Володина убивает. В нем развит защитный рефлекс. Он готов обороняться против мнимой опасности.
Не таков Передонов Синявского. Где уж! Он одержим одной мыслью — бежать, спрятаться, забиться в угол. Он и за Сергея Сергеевича (своего собеседника) цепляется, как утопающий за соломинку. И кончает полной безнадежностью:
«Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже („Фантастический мир Абрама Терца“, с. 76)».
Жене Синявского Марии Васильевне нельзя отказать ни в остроумии, ни в смелости. Ведь это голос из тюрьмы. И всем нам он говорит: «И за вами тоже, и за вами тоже, и за вами тоже».
Да, и за нами тоже!
Рассказ «Графоманы». Актуальный рассказ. В Советском Союзе очень много графоманов. Объясняется это тем, что никто из пишущих не может ничего опубликовать, кроме особых счастливчиков, апробированных властью (т. е. чиновниками с «книжечками»). Все пишущие в одинаковом положении. И трудно определить с полной уверенностью: гений перед вами или безграмотный маньяк. Суд читателя — единственный компетентный в этом деле суд — в данном случае невозможен. Каждый считает, что, если бы ему дали возможности, он бы мир перевернул. И вы не можете никак его опровергнуть: у вас для этого нет никаких конкретных данных.
А. Д. Синявский в своей повести в форме гротеска хорошо описывает эту среду, в которой соединяются неумеренное тщеславие, оскорбленное самолюбие, озлобленность, химерические надежды. Как известно, во время суда Синявскому инкриминировались дерзкие слова о Чехове, сказанные одним из графоманов. На самом деле это горькие слова не против Чехова, а против советского режима, при котором невозможно отличить Чехова от любого графомана.
В самом деле, в лучшем ли положении был бы Чехов, если бы жил в Москве шестидесятых годов XX века? Что он делал бы? Разве что был бы амбулаторным врачом (выписывал бы бюллетени). Если бы, таким образом, Чехова сравняли с графоманом, почему бы графоману не сравнять себя с Чеховым, не говорить с ним на «дружеской ноге» и не завидовать ему.
В то же время эта повесть обнаруживает очень существенный недостаток многих произведений Синявского: неумение раскрыть до конца образ.
Повесть называется «Графоманы». По мысли автора, здесь должна быть целая галерея однотипных образов. Но все графоманы на одно лицо.
Синявский написал талантливую книгу о Гоголе. У того галерея помещиков, но Манилова вы никогда не спутаете с Собакевичем, Плюшкина с Ноздревым, Хлестакова с Чичиковым, Петрушку с Селифаном, но трудно сказать, чем Страустин отличается от Галкина, полковник — от других гостей Галкина. Герои Синявского лишь бегло очерчены, и лишь в той мере, чтобы они служили иллюстрацией авторской мысли. В этом, между прочим, его неутерянная связь с «соцреализмом», с Союзом советских писателей, со всем советским.
Между тем, время идет. И вот 1961 год. Творчество Синявского, пока еще не арестованного, но ждущего ареста каждый день, продолжается.
И вот повесть «Гололедица». Тут наш друг Григорий Свирский может возрадоваться. Действительно, реминисценция. Множество реминисценций. В основном из Булгакова. Но есть нечто свое, чего не найдете ни у Булгакова, ни у кого из современников. Что же? КГБ. Это милое учреждение проходит красной нитью через повесть. Определяет все течение сюжета.
Кульминационный пункт: главного героя, от лица которого ведется повествование, арестовывают.
Арест по доносу Бориса — бывшего мужа его любовницы. И вот он в КГБ. Там узнают о его чудесной способности предсказывать. Используют его чудесный дар.
Как ни странно, это не фантастика: в 1925 году был совершенно такой же случай. Расскажу о нем.
В 1925 году в Москве, у Сретенских ворот (этот дом цел и сейчас), жил необыкновенный мальчик. Он обладал странной особенностью: видел на расстоянии. Пример. Лежит мальчик на постели. У него спрашивают: где папа? Отвечает: он оканчивает работу, складывает бумаги, надевает пальто. Берет портфель. Идет по улице. Повстречался с какой-то дамой. Разговаривает. Целует ей руку. Прощается. Садится на трамвай. Слезает с трамвая. Подходит к дому. Поднимается по лестнице. Остановился на площадке нашего этажа. Подходит к квартире. Протягивает руку к звонку. В этот момент раздается звонок.
ГПУ проведало об этой особенности мальчика. Стало использовать его в своих оперативных делах. Так варварски эксплуатировало его особенность, что вскоре он умер. Эту печальную историю мне рассказывал покойный протоиерей о. Александр Щербаков, который познакомился с мальчиком и его семьей в октябре 1925 года, во время обновленческого собора, происходившего в Москве.
Но ведь эта история очень точно воспроизводит всю историю пребывания героя «Гололедицы» в КГБ с попыткой использовать его талант предсказателя. Интересна вся линия отношений героя «Гололедицы» с Наташей: грубый разврат, распутство и где-то глубоко затаенная нежность, лиризм. Трагическая кончина. И в заключение нежный аккорд:
«А ты, Наташа, услышишь? Дочитаешь ли ты до конца……………………… Подожди одну секунду.
Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в силах… Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я так, я так тебя люблю…» («Фантастический мир Абрама Терца», с. 179).
Далее идет, пожалуй, лучший рассказ Синявского «Пхенц».
Рассказ о странном существе, о каком-то северном гноме, из-под Иркутска, который принял образ горбуна. Живет в Москве. Он привык жить в воде. Ему нужна ледяная вода. Тяжело и неприютно ему в Москве, в непривычной атмосфере. Тяжелее климата — люди. Он абсолютно одинок. Его полюбила женщина. Но он держится с ней отчужденно и холодно. Отвергает ее любовь. Он чужд и всему другому. Встретил в Москве такого же, как он, горбуна. Но и он оказался чужим. Напрасно Пхенц надеялся найти в нем родственную душу.
Пхенц — символическая фигура. Это фантастическое существо. Но страдания его не фантастические. Бесприютно и холодно ему в этом мире. И за страданиями его угадывается тот комплекс, который я условно называю комплексом Гамлета, комплексом полного одиночества.
Обаятельный, чудесный Гамлет и безобразный гном из-под Иркутска с отвратительной фамилией Пхенц. «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится». Так всюду. Так и в литературе.
И наконец «Суд идет»! Наиболее значительная из повестей Синявского. Автор ставит перед собой широкую цель — показать привилегированные круги Москвы в послевоенные годы. Он хочет быть Бальзаком Москвы — показать «человеческую комедию». Удалось ли ему это? Только частично. Мешает очерковость. И здесь все образы лишь бегло очерчены. Нет ни одного образа, который был бы раскрыт полностью.
И еще одно. То, о чем говорит Пушкин, сравнивая Шекспира с Мольером. У Шекспира — многогранность; его скупой скуп, чадолюбив, остроумен. У Мольера скупой — только скуп.
Повесть Синявского написана «мольеровским методом»: у него Глебов ограничен и сладострастен. И только. Карпинский подл и сладострастен. И только. Сережа наивен и жалок. И только. Марина развратна, себялюбива, легкомысленна. И только. Сережина бабушка — старая партийка — не от мира сего. Принципиальна. Догматична. И только. Литературовед Синявский здесь забыл, о чем говорит у Достоевского Федька Каторжный: «Я, может быть, только по вторникам глуп, а по четвергам умнее его».
Абрам Терц так же, как Петр Степанович в «Бесах», выдумает человека и с ним живет. В этом отношении повесть Синявского чем-то напоминает творения Ильи Эренбурга — писателя одаренного, блестящего, наблюдательного, но поразительно поверхностного. В его многотомном собрании сочинений вряд ли найдется хоть одна страница, которая выходила бы за пределы злободневности. Может быть, «Хулио Хуренито», да и то «на безрыбье», за неимением лучшего. И повесть «Суд идет» злободневна. В этом ее достоинство и в этом ее недостаток.
Тем не менее повесть великолепна. Вот, например, один отрывок, о котором я узнал еще задолго до того, как услышал имя Синявского. Этот отрывок услышал по Би-Би-Си мой товарищ из глубокой провинции. Он так его поразил, что, приехав в Москву, он его мне тотчас пересказал. Вот это место:
«Владимир Петрович достал Сереже гостевой билет, и военным парадом они любовались вместе.
Площадь в танках и в пехоте была видна хорошо. Но главная трибуна осталась далеко сбоку, и что творилось там, Сережа не мог разглядеть.
— Улыбается! — заметил отец, ухитрившийся каким-то чудом быть в курсе всего. Сережа приподнялся на цыпочки и опять ничего не увидел, кроме голубых пятен с золотой каймой. Ему казалось, что отец выдумывает, но сзади кто-то солидный констатировал откормленным басом:
— Да, улыбается и сделал вот так.
— Не так, а вот эдак, — поправила костистая дама, вооруженная театральным биноклем. И тут же закусила:
— На небо смотрит, сокол ясноглазый! На своих соколят!
Бомбовозы шли сомкнутым строем. В их прямом, тяжелом полете заключалось столько достоинства, что хотелось по-щенячьи опрокинуться на спину в знак покорности и восхищения. Но, прижимая тебя к земле, они были слишком серьезны, слишком заняты своим возвышенным, всепоглощающим делом, чтобы размениваться на мелочи и злорадствовать над тобой. Они, тараня воздух, двигались дальше, к цели, расположенной, Бог знает где, и по сравнению с которой Сережа — как он сразу понял это — был попросту не нужен. Даже вся эта площадь служила им в лучшем случае временным ориентиром.
Отец уже тормошил его за плечо:
— Куда ты глядишь, Сергей? Левее, левее! Видишь? Рукою машет, приветствует демонстрантов.
— Родной! Любимый! — стонала костистая дама, извиваясь в левую сторону. Казалось, у нее с губ вот-вот забрызжет пена, и Сереже стало неловко за свое равнодушие. К собственному стыду, он до сих пор не сумел отыскать в пятнистой кучке, шевелящейся на трибуне, того, чье гордое имя возбуждало всех, как вино.
Про него шушукались в публике. О нем чревовещали репродукторы. Его портреты разных размеров, очень похожие друг на друга, проплывали через площадь, словно парусные корабли. Демонстранты, проходя мимо, не смотрели себе под ноги, а кривились всем телом назад, чтобы еще раз обернуться к нему.
Но сам он, как это представлялось Сереже, странным образом отсутствовал. Все говорило, что он здесь, а его вроде и не было.
— Увидел, наконец? — допытывался Владимир Петрович. — Что ты — слепой, близорукий?
Сережа из последних сил вгляделся и к одному голубому пятну, стоявшему чуть в сторонке, добавил мысленно недостающее лицо.
— Теперь вижу.
И, набравшись храбрости, спросил:
— Он кивает, и улыбается, и машет рукой?
— Да, это — он, это — Хозяин, — подтвердил отец» («Фантастический мир Абрама Терца», сс. 243–245).
Это глубокое и сильное место: «Сокол ясноглазый! На своих соколят». А кто эти соколята? А соколята — это «новый класс», класс надсмотрщиков и рабовладельцев, класс жандармов и генералов, их жен и содержанок. Сталина нет, он миф, миф, созданный «новым классом». Его никто не видит, и все делают вид, что видят. Приписывают ему то, чего нет, но что он должен делать: смотреть, улыбаться, кивать.
Интересно этот отрывок прочесть в свете современной ситуации. Теперь его уже действительно нет. Нигде нет, и даже в мавзолее. Но он есть — есть в виде другого — в виде маразматической посредственности, одряхлевшего сановника, который также смотрит на своих «соколят». Новому классу нужен фетиш, нужна легенда, чтобы одурачивать народ, состоящий из наивных простаков вроде Сережи. И если божества, фетиша нет, его надо выдумать. И его выдумывают.
Повесть называется «Суд идет». Но суда нет. Где же суд?
И он все-таки идет. Трое героев в конце повести попадают в лагерь: скептик Рабинович, идеалист Сережа, осторожный автор. Они осуждены на большие сроки. Но сидеть им осталось недолго. В 1956 году они все вернутся в Москву. Рабинович и автор — зрелые, сформировавшиеся люди, — они вернутся такими же. Сережа вернется другим. Он вырастет.
Лагерь откроет ему глаза на многое. И в нем суд. Он основатель СМОГа, он молодой социалист, он товарищ Леонида Плюща[5] и Вашего покорнейшего слуги. В нем суд и возмездие и для его отца, прокурора, и для его бабки, старой коммунистки. Суд и возмездие. «Юность — это возмездие», — как говорил Ибсен. И как вслед за ним повторял Александр Блок.
И большая повесть «Любимов». Точнее — попытка создать повесть. Это полная неудача. Неудачно здесь все. И попытка воссоздать атмосферу провинциального советского городишки, и сам главный герой Леонид Тихомиров, на какой-то момент давший диктатором. Самое интересное, что эта самая нефантастичная из повестей Синявского как раз и наиболее блеклая. Сюжет несколько напоминает «Историю одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Но какая разница! Там фантастические персонажи кажутся реальнее реальных. Никто из читавших повесть не забудет ни «Органчика», ни «Фаршированной головы», ни Угрюм-Бурчеева, но совершенно не запоминаются ни Леонид Тихомиров, ни другие персонажи Синявского.
Я помню, в шестидесятые годы, во дни полетов в космос Юрия Гагарина, Титова и других, когда американская космонавтика терпела поражение за поражением, кто-то из советских журналистов в припадке показного великодушия сказал. «Неудачи тоже надо уважать».
Маяковский также однажды обронил: «Если даже ты скапустился на этом, то это все же лучше, чем без конца писать на тему „Моя душа полна тоски, а ночь такая лунная“».
Синявского в «Любимове» постигла неудача. Но все же за ним осталась заслуга: он основатель нового жанра. Этот жанр великолепно продолжил В. Н. Войнович в своей замечательной повести «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
Этот завет великого поэта Андрей Донатович Синявский выполнил.
И еще несколько слов об А. Д. Синявском как о литературоведе. На Западе он выпустил два литературоведческих исследования: о Гоголе и о Пушкине. «Прогулки с Пушкиным» вызвали в эмигрантской печати бурные споры. Многие возмущались. Особенно едкую статью написал патриарх русских эмигрантов в Америке Роман Гуль, который опубликовал в «Новом Русском Слове» статью «Прогулки хама с Пушкиным».
Гм! Гм! Во время Пушкина за такие вещи не только в морду били, но и на дуэль вызывали. Почему-то эти господа решили, что Пушкин является предметом религиозного культа и его портрет должен утопать в кадильном дыме, а говорить о нем надо только с почтительными придыханиями. Самое смешное, что все это относится к автору «Гаврилиады». Поистине беда с господами, лишенными чувства юмора. Перефразируя французскую поговорку, можно сказать: «Кого Господь Бог захочет наказать, того лишит юмора».
Какова правда? У Маяковского есть блестящее выражение в его стихотворении «Юбилейное»: «Навели хрестоматийный глянец». Что правда, то правда! «Хрестоматийный глянец».
В прежнее время среднему интеллигенту полагалось знать о Пушкине (об этом говорит А. Блок), что «Пушкин был патриотом, обожал царя».
В 1937 году в посмертной судьбе Пушкина начинается новый период. Я помню, как 10 февраля 1937 года «Известия» вышли с первой страницей, на которой были изображены «руководители партии и правительства» во главе со Сталиным на сцене Большого театра под огромным портретом Пушкина. Далее на трех страницах доклад о Пушкине тогдашнего наркома просвещения А. А. Бубнова. Доклад, в котором Пушкин — это почти «председатель Союза Советских Писателей». Таким остается Пушкин и до сих пор в школьных программах и в официальных советских исследованиях.
И вот А. Д. Синявский задался целью стереть с поэта хрестоматийный глянец вековой давности. Отсюда намеренное снижение образа поэта. «Он вбежал в литературу на тоненьких ножках» и т. д. Для Синявского, как и для Маяковского, Пушкин современник, он пишет о нем, как о живом, полнокровном собеседнике, а не как о мумии. И в этом ощущении живого Пушкина гораздо больше любви и уважения, чем в унылых дифирамбах ученых гробокопателей.
Подобный процесс происходит и в других странах. В Польше, например, смелый писатель Моржек развеивает официальный ореол, созданный вокруг великого Мицкевича:
«А Моржек в своей „Смерти поручика“ не Мицкевича сбрасывает с пьедестала, но специфическую ауру, накопившуюся вокруг мифа Мицкевича и, опасную для рационального мышления, ауру, где здравый рассудок вынужден уступить место патетическим возгласам, а деловой довод можно заменить псевдопатриотической трескотней» (Адам Михник. «Польский диалог: церковь — левые». Лондон, 1980, с. 136).
Синявскому как писателю жить и жить. Поэтому и пишу о нем без приторных комплиментов и без придворных реверансов.
2. Юлий Даниэль
«Почему тема расстрела попов была для вас важна сегодня? С таким вопросом обратился к Юлию Даниэлю судья во время знаменитого процесса („Синявский и Даниэль на скамье подсудимых“. Лондон: Inter-Language Associates, 1966, с. 54)».
А действительно, почему она так важна в шестидесятые годы, в те дни, когда по приказу Хрущева происходило массовое закрытие церквей, осада Почаевской Лавры? Когда верующих били, сажали в сумасшедшие дома, заточали в лагеря?
Даниэль — человек, далекий от религиозных кругов, вряд ли понимал всю актуальность этой темы, но старая лиса Л. Н. Смирнов сразу почуял злободневность и не случайно задал подсудимому этот вопрос.
Речь идет о небольшом рассказе «Руки». Совсем небольшой рассказ. Но огромной впечатляющей силы. Рассказ старого чекиста. С самого начала удивительные художественные находки.
Выводили и расстреливали по одному. Почему не всех вместе? «Оттаскивать необходимо было, а то, бывало, как выйдешь за другим, а он как увидит покойника и начнет биться да рваться — хлопот не оберешься, да и понятно. Лучше, когда молчат» (Николай Аржак. «Руки». Вашингтон, 1963, с. 10).
«Лучше, когда молчат». Это афоризм. Он так и просится в эпиграф. В эпиграф к книге о советской жизни.
И дальше. «Ну вот, значит, Головчинер и латыш этот кончили своих, настала моя очередь. А я уж до того спирту выпил. Не то чтобы боязно мне было или там приверженный я к религии был… а я сижу, пью, и все в голову ерунда всякая лезет: как мать-покойница в деревне в церковь водила, и как я попу нашему, отцу Василию, руку целовал, а он — старик он был, тезкой все меня называл…»
Потом сцена расстрела. Неудача. Оказывается, ружье было заряжено холостыми патронами. Образ священника — пламенного фанатика.
И заключительная реплика: «А там я уже потом узнал, как дело было. И никакой тут божественности нету. Просто ребята наши, когда я оправляться ходил, обойму из маузера вынули и другую всунули — с холостыми. Пошутили, значит. Что ж, я на них не сержусь — дело молодое, им тоже не сладко было, вот они и придумали. Нет, я на них не обижаюсь. Руки только вот у меня… совсем теперь к работе не годятся» (там же, с. 12).
Фраза, от которой мороз по коже. Здесь невольно вспоминается фетовская — про Тютчева:
И этот крохотный рассказик перевешивает многое.
Интересен и рассказ Николая Аржака «Человек из МИНАПа». Как и многие из рассказов Абрама Терца, это — эксперимент. Эксперимент необыкновенно талантливый. Хорошо говорит об этом Борис Филиппов: «Николай Аржак, как и Абрам Терц, как и многие советские писатели среднего и молодого поколения, уже органически не могут писать в манере старого добротного реализма или его социалистического фальсификата. Все они — уже экспериментаторы, уже немного сюрреалисты, сохраняющие при этом органическую связь с высоким русским реализмом — реализмом Достоевского и Лескова, Замятина и Ремизова» (Борис Филиппов, «Вместо предисловия» в книге Николая Аржака «Руки», «Человек из МИНАПа». Вашингтон, 1963, с. 5).
К этому прибавлю, что я не принадлежу к поклонникам этого жанра. В литературе я глубокий консерватор, как и большинство русских (и не только русских) читателей. Однако как сатира на советскую бюрократию, на советских чиновников, «Человек из МИНАПа» великолепен. Одна из самых блестящих в эмигрантской литературе страниц — это конец повести. Хотя бы вот этот отрывок:
«Вот так и превратился Володя Залесский в „Человека из МИНАПа“. Из грандиозных экономических планов ничего, к сожалению, не вышло. Талант юноши оказался уникальным, вроде таланта Паганини. И хотя наверху уже представляли себе заголовки в газетах вроде „Проект поправок к семилетнему плану развития народного хозяйства, принятый на основе достижений советской науки“, „Впервые в истории человечества“, „Советский человек управляет биопроцессом“, „Новое торжество марксистской философии“, — но от всего этого пришлось отказаться» (там же, сс. 37–38).
Самый сюжет повести — возможность определения при совокуплении пола ребенка отцом — дерзкий вызов советской литературе с ее ханжеством и фарисейством.
И наконец, прославленный рассказ «Говорит Москва». Из всех произведений Даниэля этот рассказ самый известный. Его содержание знают буквально все; одни (меньшинство) потому, что прочли, другие (абсолютное большинство) потому, что слышали и по радио, и по газетным отчетам. И даже в этом несовершенном изложении он звучит. Еще бы. День открытых убийств, назначенный на 10 августа за подписью Председателя Президиума Верховного Совета. Такое не скоро забудешь.
И нет повода забывать. В Советском Союзе, в России, за века самодержавной власти, за 63 года советского тоталитарного режима сформировался особый тип человека, уверенного во всемогуществе государства, в том, что все идет от государства, все освящается государством, все должно санкционироваться государством.
Вот как представляет себе, например, торжество христианства в России известный черносотенец Шиманов. В журнале «Вече» он мечтал о том, как было бы хорошо, если в «Правде» в один прекрасный день появилась бы редакционная статья, в которой было бы написано, что по новым научным данным установлено… бытие Божие.
Что было бы потом? Об этом Шиманов молчит. Но и так ясно. Вслед за тем появились бы лекторы, агитаторы, пропагандисты, которые развивали бы это новое положение марксистско-ленинской идеологии. Художники стали бы писать соответствующие картины (впрочем, и сейчас пишут!). Члены Союза советских писателей стали бы писать соответствующие стихи, открылось бы несколько церквей, в которые бы отправились бывшие члены Союза воинствующих безбожников. В газетах появились бы новые лозунги: «По приказу партии и правительства!», «В соответствии с новым этапом!» Малиновым звоном переливались бы кремлевские колокола. Не было бы только одного. Чего не было бы, кого? Довольно известный московский художник В. Д. Линицкий, подвизающийся в кругах Отдела внешних сношений Патриархии, нарисовал лет 12 назад картину. Русские степи, вдали церковки, а впереди с Чашей Даров Патриарх Алексий в мантии и в белом куколе, рядом с ним митрополит Никодим, митрополит Ювеналий и другие деятели Отдела внешних сношений, в белых клобуках, с панагиями, с посохами в руках. Я сказал: «Но где же здесь Христос? Тютчев когда-то писал:
Но ведь Царь Небесный, а не митрополит Петербургский и Ладожский».
Художник ответил: «Да, Вы правы». Через месяц впереди Алексия, Никодима и Ювеналия появился дьячок в белом подряснике с черной бородкой. «Кто это?» — спросил я. — «Христос», — ответил Линицкий. — «Христос? Нет, это не Христос, а дьячок».
Христа нет и не будет ни у Шимановых, ни у Скуратовых, ни у Глазуновых. Потому что нет Христа у них в сердце. У них — человеконенавистников, юдофобов, черносотенцев, мракобесов.
Однако вернемся к этому «Дню религиозной реставрации». Как реагировал бы на эту реставрацию народ? Народ наблюдал бы из окна живописный крестный ход, во главе которого (рядом с Патриархом) шли бы «руководители партии и правительства» рядом с Шимановым и Скуратовым; может быть, кто-нибудь выпил бы по маленькой и остался бы дома. И простые люди были бы вполне правы. Перефразируя слова Энгельса, можно сказать: «Христа не привозят, как Бурбонов, в фургонах». И оттого, что деспотическое государство провозгласит себя христианским, христианским оно не будет.
Ибо Христос — это не государство и не деспотизм. Христос — это свобода.
И хочет Он одного — свободной любви. «Чадо, отдай мне свое сердце», — говорит Христос.
Мы привели пример от противного. Это ассоциация по противоположности. У Аржака другое. Государство официально, открыто провозгласило власть дьявола. День открытых убийств. Это власть дьявола, ибо особенность дьявола в том, что он «человекоубийца от начала».
Аржак находит исключительно яркие краски, чтобы показать трусость советской интеллигенции, ее подлость, официальные штампы чиновников от пропаганды.
А результат? Гора родила мышь. Было убито всего несколько человек, которые могли бы быть убиты и без этого.
Таким образом, повесть «Говорит Москва» — повесть не только о свирепости государства, но и о бессилии государства.
Оно не может служить Христу, — оно, по существу, не может (несмотря на все свое желание) служить и дьяволу. Не может служить по одной причине. «Душа человека, — как говорил Тертуллиан, — по природе христианка», в душу человека вложен образ и подобие Божие. И не «руководителям партии и правительства» это изменить.
Слова о дьявольской сущности государства и слова о его бессилии — раздались в России через 50 лет после Октябрьской революции. И с этими словами пошли в лагеря два свободных русских писателя: Синявский и Даниэль!
Глава третья. Разбег
После процесса Галанскова — Гинзбурга демократическое движение берет разбег. Это было нечто удивительное. Как сказал мне однажды о. Глеб Якунин: «Все вдруг перестали бояться». В движении стали появляться все новые и новые люди. Петиции следовали одна за другой.
В истории демократического движения было много таких приливов и отливов. После драконовского приговора Юрию Галанскову и Александру Гинзбургу появляется совместное письмо Ларисы Богораз и Павла Литвинова с резким протестом против совершившегося акта произвола.
Имя Литвинова, внука прославленного советского дипломата, взбаламутило интеллигенцию как у нас, так и за рубежом. Со всех сторон неслись к авторам письма выражения сочувствия. Под петицией протеста против осуждения Гинзбурга и Галанскова было собрано в одной лишь Москве 180 подписей. В это время я много раз встречался с Литвиновым. Он выгодно отличался от других сыновей знаменитостей тем, что никогда не афишировал своего родства. Человек умеренный, он отнюдь не сочувствовал революционным убеждениям своего знаменитого деда. Помню, я как-то полушутя ему сказал, намекая на его знаменитого родственника: «Ну, ваши же предки Рим спасли». На это он сквозь зубы ответил: «Не знаю, что они спасли».
По своему духовному habitus'y Павел Литвинов — типичный кадет, либерал, умеренный республиканец. Все экстравагантное, экстремистское, как справа, так и слева, ему претит, для него неприемлемо, ему противопоказано. Если бы он жил в начале века, он, вероятно, был бы ярым оппонентом своего деда, молодого еврейского парня, новозыбковского бухгалтера, увлекшегося до самозабвения большевизмом, но в сороковых годах он, возможно, нашел бы много точек соприкосновения с отставным министром, испытавшим на себе тяжелую руку Сталина и каждую ночь клавшему у кровати заряженный револьвер, чтобы пустить себе пулю в лоб на случай, если раздастся стук в дверь опричников.
Впрочем, Павел недаром был внуком революционера: импульсивный темперамент был свойствен и ему. В юности страстный игрок на бегах, он знал всех жокеев Москвы и все тонкости сложной жокейской дипломатии, как настоящий профессионал. Резко выраженный индивидуалист, он не отличался скромностью. Помню, как-то раз я завел речь о частных уроках по математике, которые он, будучи изгнан из Института (где он был доцентом), вынужден был давать готовящимся в институты.
«Я блестящий преподаватель», — кратко резюмировал Павел.
Впоследствии между нами произошел инцидент, отравивший наши взаимоотношения: пораженный трагической смертью Ильи Габая, я написал о нем проникновенный некролог. Это вызвало резкий протест Литвинова. Собственно говоря, я никак не мог понять, чем он недоволен, потому что основная причина недовольства не высказывалась, она подразумевалась: как это не он — первый друг покойного, — а я пишу некролог.
«Но при всем, при том» человек он кристально честный и мужественный. Его присоединение к демократическому движению имело огромное значение: оно значительно повысило уровень движения, его авторитет и в России и за рубежом.
Литвинов — внук европейца, убежденного западника. И это очень здоровое, прогрессивное ядро его деятельности. Но он умеренный «постепеновец», — а это нечто нерусское, чуждое будущим поколениям, чуждое русской молодежи. Помню наш разговор с ним в Париже, в отеле. Я сказал, что являюсь сторонником революции. Четвертой Великой Русской Революции. «Тогда нам говорить не о чем», — кратко ответил Павел.
23 февраля 1968 года. Промозглый февральский день. Сугробы, ветер, но в воздухе сырость. Уже не зима, но до весны далеко. «Зима с летом встретились», как говорят в народе.
Сижу в своей утлой комнатенке, в деревянном домишке, в Новокузьминках. У окна. Вдруг распахивается дверь. В прихожей шаги. Множество шагов. Мужские шаги.
«Кто там?»
«КГБ. Попались», — отвечает знакомый голос.
Это Красин. Вслед за ним Якир, Габай, кажется, и Юлий Ким.
Входят, рассаживаются на диване, который служит мне ложем, на стульях.
Красин: «Мы принесли вам петицию». Петиция в Президиум консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште.
Читаю. Подписываю. Со свойственной мне аккуратностью рядом со своей подписью ставлю кляксу. Так с кляксой и пошла петиция в Будапешт.
Гости, между тем, торопятся. Их ждет такси. Они едут дальше.
Уже на другой день вечером петиция была передана всеми радиостанциями Запада. Напечатали ее и многие газеты. Как это ни странно, она достигла и адресата. Итальянская делегация на заседании в Будапеште заявила: «Вся буржуазная пресса пишет о каком-то документе, адресованном нашему совещанию, а мы ничего о нем не знаем».
Пришлось огласить. Советское радио также вынуждено было прокомментировать петицию. В Москве сенсация. Звоню о. Всеволоду Шпилеру. Он мне говорит: «Итак, ваши силы практически неисчерпаемы».
«Почему?»
«Да вот, на все вас хватает. И петиции какие-то подписываете, и работы академикам пишете, и церковь обновляете».
Вадим меня встретил восклицанием: «Что это ты подписывал?»
«Откуда ты знаешь?»
«Ну как же, мне уже 20 человек об этом говорили».
Эта петиция открыла новый период в истории демократического движения: период «подписантов». Это был новый термин, который быстро попал на улицу и стал широко известен.
Текст петиции от 24 февраля 1968 года следующий:
В последние годы в нашей стране проведен ряд политических процессов. Суть этих процессов в том, что людей в нарушение основных гражданских прав судили за убеждения. Именно поэтому процессы происходили с грубыми нарушениями законности, главное из которых — отсутствие гласности.
Общественность больше не желает мириться с подобным беззаконием, и это вызвало возмущение и протесты, нарастающие от процесса к процессу. В различные судебные, правительственные и партийные органы, вплоть до ЦК КПСС, было отправлено множество индивидуальных и коллективных писем. Письма остались без ответа. Ответом тем, кто наиболее активно протестовал, были увольнения с работы, вызовы в КГБ с угрозой ареста и, наконец, самая возмутительная форма расправы — насильственное заключение в психиатрическую больницу. Эти незаконные и антигуманные действия не могут принести никаких положительных результатов, — они, наоборот, нагнетают напряженность и порождают новое возмущение.
Мы считаем своим долгом указать на то, что в лагерях и тюрьмах находятся несколько тысяч политзаключенных, о которых почти никто не знает. Они содержатся в бесчеловечных условиях принудительного труда, на полуголодном пайке, отданные на произвол администрации. Отбыв срок, они подвергаются внесудебным, а часто и противозаконным преследованиям: ограничениям в выборе места жительства, административному надзору, который ставит свободного человека в положение ссыльного.
Обращаем ваше внимание также на факты дискриминации малых наций и политическое преследование людей, борющихся за национальное равноправие, особенно ярко проявившееся в вопросе о крымских татарах.
Мы знаем, что многие коммунисты зарубежных стран и нашей страны неоднократно выражали свое неодобрение политическим репрессиям последних лет. Мы просим участников консультативной встречи взвесить ту опасность, которую порождает попрание прав человека в нашей стране.
Обращение подписали:
1. Алексей Костерин, писатель, Москва, М. Грузинская 31, кв.70.
2. Лариса Богораз, филолог, Москва, В—261, Ленинский проспект 85, кв. 3.
3. Павел Литвинов, физик, Москва, К—1, ул. Алексея Толстого 8, кв. 7.
4. Замфира Асанова, врач, Янги-Курган, Ферганская область.
5. Петр Якир, историк, Москва, Ж—280, Автозаводская 5,кв.75.
6. Виктор Красин, экономист, Москва, Беломорская ул. 24, кв. 25.
7. Илья Габай, учитель, Москва, А—55, Ново-Лесная ул.18, кор.2.
8. Борис Шрагин, философ, Москва, Г—117, Погодинка 2/3, кв. 91.
9. Левитин-Краснов, церковный писатель, Москва, Ж—377, 3-я Новокузьминская ул. 23.
10. Юлий Ким, учитель, Москва, Ж—377, Рязанский просп. 73, кв.90.
11. Юрий Глазов, лингвист, Москва, В-421, Ленинский проспект 101/164, кв.4.
12. Григоренко Петр, инженер-строитель, бывший генерал-майор, Москва, Г—21, Комсомольский проспект 14/1, кв. 46.
(См. «Архив документов Самиздата», т. 10, сс. 13–14. — Нью-Йорк: Radio Liberty Committee 1972).
Подписи под петицией, направленной в Будапешт, — неплохой адрес-календарь демократического движения. Первое, что бросается в глаза, — резкое различие типов, убеждений, биографий.
Алексей Костерин (к сожалению, не был с ним знаком лично) — старый коммунист, еще с 1912 года, участник гражданской войны, попавший в плен к Врангелю, приговоренный военно-полевым судом к смертной казни, бежавший из тюрьмы накануне казни, затем узник сталинских лагерей, пробывший там около 20 лет, реабилитированный, защитник прав репрессированных народов, друг крымских татар, вышедший из коммунистической партии перед смертью в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.
Лариса Богораз — из интеллигентной еврейской семьи, отпрыск целой профессорской династии; ее первым мужем был Юлий Даниэль, второй муж — старый лагерник Анатолий Марченко.
Замфира Асанова — крымская татарка, как-то меня спрашивала: «Скажите, а что такое церковный писатель? Меня наши в Ташкенте об этом спрашивают, а я не могу объяснить».
Борис Шрагин, философ-диаматчик. Сейчас в Америке. Либерал, атеист, полумарксист (типа легальных марксистов 90-х годов).
Юрий Глазов — лингвист, полуеврей, искатель. Специалист по буддизму, принял православие, потом перешел в католичество. Сейчас в эмиграции, в Канаде. Симпатичный. Простой. Искренний. Душа-человек. Путаник невозможный.
Об остальных (о Павле Литвинове, Петре Якире, Викторе Красине, Илье Габае, Юлии Киме) я уже говорил.
Список заканчивается именем П. Г. Григоренко. Это дает возможность познакомиться и с ним.
Личность Петра Григорьевича настолько популярна и общеизвестна, что не нуждается в подробной характеристике. К тому же о нем уже много и подробно писали. С фактической стороны его биография прекрасно изложена Б. Цукерманом (см. книгу П. Григоренко «Мысли сумасшедшего». В виде предисловия очерк Б. Цукермана «К аресту генерала Григоренко». — Амстердам: «Фонд имени Герцена», сс. 5–27).
Есть, однако, одно обстоятельство, которое заставляет нас несколько углубиться в его биографию. В настоящее время П. Г. Григоренко проживает в Америке и, несмотря на свой возраст, продолжает (и очень активно) общественную деятельность.
За это время убеждения его сильно изменились. Как писала одна американская газета, «из убежденного коммуниста он превратился в ярого антикоммуниста».
Как сказал мне один близкий к нему человек: «Петр Григорьевич оплевывает свое прошлое».
Нам всем приходилось защищать П. Г. Григоренко от многих: от советских «психиатров», от КГБ, от советских борзописцев. Сейчас время защитить его от него самого.
Вряд ли прошлое Петра Григорьевича, его биография и та эпоха, в которой он жил и формировался (в двадцатые годы), заслуживает только оплевывания. Тем более, что оплевывание — это отнюдь не научный метод. Как правильно писал один известный русский историк: «В истории так же, как в физике, химии и других науках, надо не ругать и проклинать, а прежде всего понимать».
Поэтому метод оплевывания мы можем спокойно оставить бульварным политиканам.
В биографии П. Г. Григоренко, как в зеркале, отразилась советская эпоха с ее положительными (да, да, были и такие) и отрицательными сторонами.
Положительная сторона: человек из народа. Никогда в России деревенский парнишка из нищей крестьянской семьи, который в 15 лет начал свою карьеру учеником слесаря в депо на станции Бердянск, не мог бы так сравнительно быстро дослужиться до генерала и к тому же стать профессором Военной Академии.
Петр Григорьевич — человек из народа, сохранивший с ним кровную связь. Это и было основной причиной его выступления на партконференции 7 сентября 1961 года, которое сыграло в его судьбе роль «убийства в Сараево». Сейчас П. Г. Григоренко, вероятно, расценил бы это выступление как своего рода «детскую болезнь». Между тем, как мне кажется, это выступление имеет большее, во много раз большее значение, чем его нынешние украино-фильско-антисоветские выступления. Наиболее впечатляющими в выступлении П. Г. Григоренко были три требования:
1. Восстановление партийного максимума, согласно которому ни один коммунист не может получать более 120 рублей. «Этим, — говорил П. Г. Григоренко, — мы разом отделаемся от примазавшихся и карьеристских элементов».
2. Чистка партии, во время которой должны быть исключены все сталинистские элементы.
3. Восстановление ленинских норм, при которых ни один человек, какую бы он должность ни занимал, не может стоять вне критики.
Эти три требования действительно могли бы стать тем знаменем, которое сплотило бы внутрипартийную оппозицию. А без внутрипартийной оппозиции дальнейшее развитие России (если говорить о реальных перспективах, а не о кликушеских выкриках) совершенно немыслимо: нравятся нам или не нравятся коммунисты, но в России (да и не только в России) они есть, и ни один серьезный человек не может с этим фактом не считаться.
П. Г. Григоренко не теоретик, он практический деятель и талантливый организатор. Поэтому его теоретические попытки оценивать марксизм (как в положительном — в прошлом, так и в отрицательном — теперь — смысле) нельзя принимать всерьез. Но практически его имя, его дело, его самоотверженная деятельность в рамках демократического движения имели ни с чем не сравнимое историческое значение.
Наше знакомство с Петром Григорьевичем Григоренко произошло осенью 1966 года. Инициатором этого знакомства был, как я уже писал, Алексей Добровольский. В воскресный день (кажется, в октябре) мы должны были встретиться с генералом на станции метро «Парк культуры и отдыха». Присутствовали: Владимир Буковский, Владимир Тельников, Евгений Кушев и я. В назначенный час туда должен был привести генерала Добровольский. Встретились. Помню свое первое впечатление: высокий, с военной выправкой человек, говорит мягко, но с начальственной интонацией. Я плохо знаю советское офицерство, но — тон директора крупного завода, советского министра. Чувствуется привычка к власти. Вдумчивый. В то же время в манерах, неторопливых, несколько угловатых, чувствуется человек из народа, из крестьянской или из рабочей среды.
Мы повели генерала в дешевый ресторанчик. Очутившись в этом месте, генерал покачал головой, сказал все тем же мягким тоном грубоватую солдатскую фразу: «Да, из вас конспираторы, как из моего… тяж».
Действительно, ничего лучшего «конспираторы» придумать не могли. Ресторан-аквариум, из стекла, открытый со всех сторон. И, как оказалось потом (мы тогда этого не знали), прямо против его дома в Хамовниках.
Словом, это был такой же «конспиративный» подвиг Добровольского (он ведь был инициатор встречи), как и его проделка с ничего не ведавшими типографскими рабочими.
В этой обстановке разговор не получился. Была назначена следующая встреча. У Буковского. Эта встреча, однако, тоже вышла комом.
Несколько запоздав, я увидел на лестничной площадке Володю Буковского, Вадима Делоне и еще пять-шесть парней, которые с папиросками во рту о чем-то беседовали. С недоумением я спросил: «А где же Петр Григорьевич?»
Мне ответили: «Он в комнате переписывает один документ».
«А почему вы здесь стоите?»
«Вышли на перекур. Нина Ивановна (мать Буковского) не выносит папиросного дыма. Идите к генералу».
Прошел в комнаты. Поздоровался с генералом. Но серьезного разговора не получилось и на этот раз.
В эти годы зимой я всегда был сильно занят. Писал статьи по экстренным поводам: где-то закрыли церковь, где-то произошла несправедливость; правил кандидатские работы ребятам, а иногда и сам их писал. Писал работы и по заказу.
Отводил душу летом. В 1967 году написал большую работу о романе Булгакова «Мастер и Маргарита» — «Христос и Мастер», напечатанную в «Гранях»[6]. Жарким летом 1968 года написал большую работу «Строматы». Работа начиналась гимном храбрости (глава «Орлиная песня»), затем в ней давалась подробная характеристика политической ситуации и всех наиболее важных политических течений. Работа в некоторых своих аспектах устаревшая, но в основном сохраняющая свою актуальность и в наши дни (о ней см. ниже).
Между тем, до нас доходили слухи и о других «крамольных» организациях. Хотя они и не имели никакого отношения к нарождавшемуся демократическому движению, но косвенная связь налицо.
Выступления молодежи в Москве, начиная с конца пятидесятых годов, создали в кругах русской молодежи новый климат, располагали к созданию подобных организаций и в других городах. В 1967 году в Ленинграде была раскрыта крупная организация, законспирированная, под названием «Всероссийский Социал-Христианский Союз освобождения народа».
В феврале-марте было арестовано и задержано в различных городах около 60 человек. Состоялись два процесса.
Первый процесс был в феврале-марте 1967 года над четырьмя руководителями.
Игорь Огурцов — главный руководитель — уникальный лингвист, переводчик с японского языка, был приговорен к 15 годам лишения свободы — и с этого времени начинается его крестный путь.
Затем с 14 марта по 5 апреля 1968 года проходил второй процесс, на котором судили 17 человек. Сведения об этом процессе проникли и в нашу среду.
Меня эта организация заинтересовала вдвойне: во-первых, как первая организация, столь многочисленная, в эти годы, а затем как организация, исходящая из религиозных концепций и считавшая своими вдохновителями религиозных русских мыслителей. В том числе Н. А. Бердяева.
Каково мое впечатление от этих людей?
Я много слышал об Игоре Огурцове. Что я могу сказать о нем? То, что в свое время сказал Горький о Станиславском: «Красавец человек».
Когда-то И. С. Аксаков, русский публицист-славянофил и монархист, которого, разумеется, странно было бы подозревать в сочувствии революционерам, писал о Гарибальди, что это прежде всего высоконравственное явление. Действительно, трудно указать в истории другой пример подобного мужества, глубокой убежденности и нравственной чистоты.
То же можно сказать и об Игоре Огурцове. Его мужество вызывает восхищение, его стойкость порождает глубокое уважение. Личная чистота и бескорыстие заставляют воскликнуть: «Се человек!»
К сожалению, это не относится к другим членам этой организации. Конечно, нельзя им вменять в вину недостаток мужества. Что поделаешь — не все рождаются героями. И на долю их выпал действительно невероятно тяжелый крест.
Из них мне пришлось впоследствии познакомиться с тремя: с Николаем Ивановым, с Леонидом Бородиным, с Евгением Вагиным. Раньше всех я узнал о Леониде Бородине. Я услышал о нем впервые от его отца в доме Людмилы Ильиничны Гинзбург. И по рассказам отца у меня составилось довольно симпатичное впечатление: человек принял христианство, стал религиозным, — чего лучше?
Я познакомился с ним перед самым отъездом из России. В 1974 году. Его привел ко мне Володя Осипов. Личное впечатление менее приятное: сумрачный человек, с поверхностными знаниями, типичный директор провинциальной школы. Этот тип людей мне хорошо известен. И особенного интереса во мне никогда не вызывал. На этом мое личное общение с Бородиным, как я думал, окончено, но оказалось, что нет.
Как-то раз, будучи в Италии, я услышал, что один из руководителей «Russia Christiana» говорил: «Нами получен журнал „Земля“, там статья о Краснове Бородина. Она настолько гнусная, что перевести ее нет никакой возможности». Через несколько лет, будучи в Мюнхене на радиостанции «Liberty», я, просматривая самиздатские материалы, набрел на эту статью. Статья дышит ненавистью и личной злобой. Причем совсем не понятно, по какому поводу она написана. Статья называется «Волосы дыбом», то есть можно полагать, что это ответ на мою самиздатскую статью «Земля дыбом» о Солженицыне. Однако решительно никакой полемики с моей статьей нет. Исключительно личные выпады. Причем главная моя вина в том, что я не проявлял особой охоты выслушивать Бородина, когда он пришел ко мне, а больше говорил сам. Был такой грех. Рад принести ему извинение.
Но, между нами говоря, я думаю, что потерял немного. Статьи Бородина[7] и методы его литературной полемики как будто списаны со статей «Русского знамени», «Земщины» и других органов «Союза русского народа», с «творений» доктора Дубровина, Маркова Второго и других (Пуришкевич и Шульгин писали много лучше — до них Бородину не дотянуться, — где уж). Стоит ли осуждать людей за то, что они, как я, решили ограничиться «Русским знаменем».
Г-н Бородин упрекает меня за пристрастие к цитатам. В моей работе о Солженицыне он насчитал одиннадцать цитат.
Пусть уж будет и двенадцатая!
По словам Чацкого:
Гораздо более серьезное впечатление производил на меня Николай Иванов, который после лагеря поселился во Владимирской деревне (около станции Струнино) и теперь опять подвергается гонениям. Этот производит впечатление тонкого интеллектуала, настоящего, а не мнимого историка (это так редко встречается в советской действительности) и приличного человека.
И наконец, Евгений Ватин. С ним я много раз встречался на Западе, в эмиграции (и в Германии, и в Италии). Глубоко эрудированный, порядочный человек.
Когда он впервые появился в Мюнхене на радиостанции «Liberty», после его доклада о Социал-Христианском союзе, после того как он говорил, что Союз представлял собой демократическое движение, я поставил вопрос ребром: предусматривала ли программа Союза всеобщие выборы? Евгений Ватин ответил, что не предусматривала. «Каким же образом должны были бы формироваться органы власти?» На это я получил весьма неопределенный ответ:
«Россией должны были бы править лучшие люди».
Гм! Гм! Лучшие люди. Но где же критерий? Господин Бородин, верно, себя считает лучшим, а я себя. Так кто же судья? Видимо, кто палку взял, тот и капрал. То есть опять диктатура. Спасибо за такую «демократию». Мы и так ею сыты по горло[8].
Здесь мы подходим к самому узловому вопросу современной политической жизни. Опыт истории показал, что предпосылкой демократии является возможность для народа избирать, формировать, критиковать, контролировать и сменять органы власти. Для этого есть только один путь — парламентская демократия. Свободные выборы.
Из этого не следует, что любой строй, где есть парламент, — идеальный строй. Парламентская система — не идеал, а предпосылка. Ничего ни второго, ни третьего не дано. Социал-Христианский союз с его программой принципиально неприемлем, как неприемлемы и все однотипные организации, потому что здесь не предусматриваются свободные и беспрепятственные выборы. А без этого будут, как любили говорить летом семнадцатого года, те же портки, только назад гашником.
Потому народ и отвергает все эти программы или во всяком случае остается к ним равнодушным: стоит ли бороться за то, чтоб диктатором стал не Брежнев, а какой-нибудь Петров, Иванов или даже Солженицын?
Что касается людского состава Социал-Христианского союза, то Игорь Огурцов, видимо, стоял перед той же трудностью, перед которой стояли мы все: нехватка людей. Не потому, что трудно сагитировать человека, сагитировать нетрудно. Но в условиях грозной диктатуры вовлечь человека в организацию, побудить его к каким-то прямым действиям, когда все знают, что за это придется расплачиваться тюрьмой, годами заключения в лагере или (в лучшем случае) разлукой с родиной, трудно неизмеримо.
Здесь не до того, чтобы кочевряжиться. Берешь всех, кто согласен. И отсюда часто снижение уровня. Таким образом, в организацию попадают и стукачи, и трусы, и капитулянты.
Если бы было из кого выбирать, — уверен, что состав Социал-Христианского союза, да, возможно, и его программа были бы иными.
При этом надо отметить, что непосредственной целью организации было только распространение книг B. C. Соловьева, Бердяева и других.
Чтобы этого испугаться и за это держать людей десятки лет в тюрьмах и лагерях и уцепиться, как сумасшедшие, за Огурцова, — надо быть или садистами, или подлыми трусами, или круглыми идиотами. Или и тем, и другим, и третьим вместе. Так оно, верно, и есть.
Уже совершенно карикатурный характер носила также «организация», возникшая в это время в Москве под руководством некоего генерала Фетисова (их и называли по имени их «основоположника» — «фетисовцы»).
Какого я познакомился с одним из них молодым парнем, удивительно похожим на портреты молодого Гоголя (этим, впрочем, кажется, его связи с русской литературой исчерпывались).
Он мне дал произведения «основоположника». Генерал Фетисов — профессор какого-то чисто технического предмета в Институте путей сообщения; он сидел в это время в сумасшедшем доме.
Я прочел. Боже мой! Что я там увидел! Даже трудно было раскритиковать это «произведение».
Не за что ухватиться. Это даже не эклектика. Какая-то невероятная бурда. Автор пытается соединить Константина Леонтьева, Хомякова, Михайловского и… Ленина. Нападки на космополитов, на евреев, на… митрополита Никодима. Рукоплескания Сталину, который вступил на путь… национализма. Громы против Хрущева и «космополитов, благодаря которым до сих пор не введен… коммунизм, тогда как достаточно нескольких декретов, чтобы его установить». Здесь все характерно: и то, что такой человек (грубый невежда, тип фельдфебеля и погромщика) мог быть преподавателем… Института. Кажется, только у нас возможен такой парадокс.
И главным образом удивительно то, что у этого маньяка нашлись последователи среди молодежи.
Это показывало, с одной стороны, примитивный уровень части нашей молодежи, а с другой стороны, жажду живого слова, жажду истины.
За десятилетия полного вакуума, когда молодежь не слышала ни одного живого слова, когда она вынуждена была питаться мертвечиной из советских газет, ее духовная жажда была столь велика, что она бросалась на всякое новое слово, каким бы оно ни было и из какого бы источника оно ни исходило.
И часто вместо живой воды молодежь поили мутью и тухлятиной.
Несчастная русская молодежь!
И в это время появляется новая звезда на нашем небосклоне.
1968 год принес нам имя Андрея Дмитриевича Сахарова. В это время появляется в самиздате его первая общественно-политическая работа. Появление Сахарова в нашей общественности — историческое событие. Не потому, что он сказал что-то особенно новое. И не потому, что он социальный вождь или крупный политический деятель. Значение Сахарова значительно шире. Его не сравнишь не только ни с одним из нас, но и ни с одним вообще из ныне живущих исторических деятелей.
Первый аспект. «Аристократ, идущий в демократию, обаятелен», — говорит у Достоевского Петр Степанович. Андрей Дмитриевич Сахаров — бесспорный аристократ. Аристократ духа. Это — баловень судьбы. Еще в 21 год, когда другие под крылом папенек и маменек, он — доктор наук. В 25 лет он уже прославленный ученый. Почести, слава, о деньгах уж говорить нечего, — чего еще? И вот он идет к народу. Покидает Олимп.
Другой аспект. Великий гуманист. Заступник за всех. Я писал об этом в своей работе о Толстом. Защитник всех, кто страдает, без различия, каких бы ни был человек убеждений, какой бы ни был нации, к какой бы группе он ни принадлежал, какое бы образование он ни получил. Человек кристальной чистоты.
Это сказано Некрасовым про 27-летнего Писарева. А Сахарову не 27, а скоро (в 1981 году) — шестьдесят.
Я ищу аналогий и не нахожу.
Лев Николаевич Толстой? Но человек он был все-таки трудный. Всю жизнь хотел перестать быть барином. И все-таки барин. Барин до мозга костей.
Ганди? Человек необыкновенного благородства.
Гений. Но человек странных, неожиданных извивов, любивший порисоваться своей экстравагантностью. Во всем, начиная со своей одежды. И его верный ученик и почитатель Неру однажды обмолвился в своих мемуарах: «До чего раздражающий человек Махатма».
С ранней юности мне люб Владимир Сергеевич Соловьев. Хотелось бы сравнить Сахарова с ним. Но Владимир Сергеевич чересчур абстрактен. Он весь в будущем. Он устремлен в заоблачные дали. А этот здешний. В людских делах.
Пожалуй, более всего подходит для сравнения папа Иоанн XXIII. Но он все-таки политик. И иной раз немного с хитрецой. С хитрецой добродушной, не зловредной, но все-таки… ладить умел со всеми, с кем было нужно. Даже с Пием XII. А с ним трудно было ладить.
Андрей Дмитриевич Сахаров не такой. Он всегда и со всеми одинаков: мил, мягок, добр. Душа-человек. И в то же время нет в нем человекоугодия. Он европеец. И даже выговор у него чуть-чуть иностранный, видимо, унаследованный от родителей, которые родились и жили в Прибалтике. Такой выговор я слышал у многих представителей нашей аристократии (между прочим, у Патриарха Алексия), — говорят, такой выговор был и у Николая II. Но человек он до глубины души русский. Представитель той же линии русского гуманизма, к какой принадлежали Л. Н. Толстой и B. C. Соловьев.
Возвышенный русский гуманист и идеалист. И есть в нем особый, внутренний аристократизм. Вот не могу себе представить Сахарова ругающимся матом, дерущимся, мстящим за обиды, мертвецки пьяным. Всех могу, а его нет. Себя, так слишком хорошо могу себе представить в этой роли, а его — нет. Черносотенная публика его не любит. Хамье!
Действительно, это люди с разных планет. Но все остальные его обожают.
Присылал к нему из лагеря воришек. И все уходили от него в восторге.
Это один из самых популярных людей в России. Заговорите на бульваре, на улице, на рынке с любым рабочим парнем, солдатиком, пьяницей. Скажите о Сахарове. Сразу заулыбается, начнет расспрашивать.
Сахаров — народный герой. Его первая политическая работа также выражает мнение простого народа. Поговорите с любым рабочим, колхозником, солдатиком, — он скажет вам примерно то же, что знаменитый профессор, сын профессора, интеллигент чистых кровей, выговаривающий слова на иностранный манер.
Первое программное произведение Сахарова носит название «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».
Эпиграф — слова Гете:
Уже с первых строк читатель чувствует себя как бы погруженным в особую атмосферу, атмосферу, совершенно отличную от произведений эмигрантских деятелей. Совершенно отсутствуют сентиментальные обращения к старой Руси, проклятия в адрес 1917 года. Автор смотрит не назад, а вперед, исходит из той новой России, что существует сейчас (впрочем, не такой уж и новой — она существует уже 60 с лишним лет, а ко времени написания статьи А. Д. Сахарова существовала тоже уже 51 год).
Сахаров, в противоположность некоторым староверам, руководствуется правилом: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
Первый основной тезис Сахарова:
«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций — безумие, преступление» (Андрей Сахаров. «В борьбе за мир». Изд. «Посев», 1973, с. 10. Статья «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»).
Уже этот первый тезис бьет одновременно и по сторонникам «железного занавеса», которые заправляют советским государством, и по сторонникам «своеобразного пути России», от монархистов до тех, кто зовет к установлению в России «авторитарного строя», до неославянофилов, тех, кто видит нечто светлое в «деятелях» типа Маркова-Второго, проклинает не только Октябрь, но и Февраль и идеализирует старую Россию.
Андрей Дмитриевич Сахаров ясно и недвусмысленно отмежевывается от всяких тоталитарных сил: призывая к миру и сотрудничеству всех людей доброй воли, он замечает:
«Читатель понимает, что при этом не идет речь о идеологическом мире с теми фанатичными, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромисса, например с идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской демагогии» (там же, с. 10).
Далее. Чаяния миллионных масс выражены в следующей чеканной формуле:
«Миллионы людей во всем мире стремятся покончить с нищетой, ненавидят угнетение, догматизм и демагогию (и их крайнее выражение — расизм, фашизм, сталинизм и маоизм), верят в прогресс на основе использования в условиях социальной справедливости и интеллектуальной свободы всего положительного опыта, накопленного человечеством» (там же, сс. 10–11).
Второй тезис гласит:
«Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли — единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру» (там же, с. 11).
И сейчас, через 12 лет, можно подписаться под любым из этих утверждений. Здесь говорится правда, только правда, ничего, кроме правды.
Но (увы!) не вся правда. Автор все еще находится в плену тех иллюзий, которыми были заражены мы все, люди, выросшие и сформировавшиеся при советском строе.
Прежде всего. О какой интеллектуальной свободе говорит Андрей Димитриевич? Такой свободы нет и быть не может.
Когда-то, в тридцатые годы, в преддверии второй мировой войны, Максим Максимович Литвинов бросил крылатую формулу: «Мир неделим».
Свобода тоже неделима. Или свобода полная и неограниченная, или рабство.
Мне вспоминается, как в шестидесятых годах, когда мы, церковные люди, начали борьбу за свободу Церкви, один из моих учеников сказал умную фразу: «Не может же Церковь быть свободной, если все остальное не свободно, — не может же одна Церковь быть несвободной, если все кругом будет свободно». Это же относится и к интеллектуальной свободе, о которой говорит Сахаров.
Не может быть интеллект свободен, если нет в стране свободы. Какая свобода информации, если в Библиотеке им. Ленина не выдается «Правда» за тридцатые годы, если я не могу переменить местожительства, если я должен дни и ночи «вкалывать» на производстве, чтобы прокормить жену и детей. Мне уж тут не до информации. Наконец, допустим, я получил всю возможную информацию. Куда мне ее девать? Все равно же выборы без выбора. И никому решительно моя информация не нужна.
Парламентский демократический строй — вот единственная гарантия свободы. Все другое: интеллектуальная свобода, свобода вероисповедания, свобода от нужды, от страха, от произвола — лишь производное.
Часто можно слышать, что в прошлом политическая свобода использовалась во вред самой свободе. Наиболее яркий пример: приход к власти Гитлера легальным парламентским путем. Это возражение похоже на то, как если бы кто-нибудь запретил выделку и продажу ножей, ибо пока они есть в каждом доме, всегда возможно, что они превратятся в орудие убийства; или запретил бы продажу веревок, ибо пока они есть в свободной продаже, всегда остается возможность самоубийства.
Свобода, демократия есть нормальное состояние человеческого общества. А чтобы не было злоупотреблений, чтобы свобода не была использована во вред самой свободе, — должны быть категорически запрещены все партии, группы, секты, стоящие на позициях тоталитаризма: фашисты, черносотенцы, маоисты, сталинисты и т. д. Естественно, самые жестокие кары, вплоть до пуль и веревок, — террористам, фашистам, шовинистам, которые натравливают народы друг на друга. Таковы примерные контуры будущего государственного и общественного устройства, которые вырисовываются в свете всего пережитого человечеством в XX веке.
Далее. Путь к свободе. Андрей Димитриевич Сахаров — убежденный противник революции.
«Я считаю необходимым специально подчеркнуть, — пишет он в своей программной работе „О стране и мире“, — что являюсь убежденным эволюционистом, реформистом и принципиальным противником насильственных революционных изменений социального строя, всегда приводящих к разрушению экономической и правовой системы, к массовым страданиям, беззакониям и ужасам» (Андрей Сахаров. «О стране и мире». Нью-Йорк. Изд. «Хроника», 1976, с. 85).
Это, конечно, так, но это единственный путь к свободе. Свободу не вымаливают, ее не дарят, ее не дают с высот престолов, ибо то, что дают, то могут всегда и отобрать. Свободу завоевывают. Поэтому путь к свободе — это революция.
Из этого, конечно, не следует, что нужна непременно кровь. Возможна и бескровная революция, возможен даже и путь реформ. Однако реформы возможны только в одном случае: если правительство приходит к тому выводу, к которому пришел в свое время Александр II: «Лучше освободить крестьян сверху, чем если они освободятся снизу».
Создание в стране революционной ситуации — необходимость того, чтобы революционные идеи проникли в широкие массы, чтобы правительство почувствовало реальную опасность, — такова предпосылка всяких реформ, действительных, а не мнимых.
Сейчас в России мы стоим на грани этой ситуации. Пока еще революционные идеи только реют наверху, — они еще не овладели массами. Но почва подготовлена. Девяностые годы XX века, видимо, увидят четвертую великую Русскую Революцию. И среди ее предтеч назовут имя смиреннейшего и миролюбивого человека Андрея Дмигриевича Сахарова. Так же, как среди предшественников Великой французской революции, называют смиреннейшего и мирного чудака Жан-Жака, а среди предшественников русской революции фигурирует яснополянский граф и пахарь.
И наконец, третий главный вопрос. О социализме. А. Д. Сахаров стоит на точке зрения социализма. Разумного социализма. Это, конечно, очень правильная точка зрения.
Социализм — это не национализация производства. Когда-то Энгельс иронически заметил по этому поводу, что в таком случае и королевскую почту в Пруссии XIX века надо считать социалистическим учреждением.
Социализм — это есть ограничение произвола богатых, уничтожение власти богатства, отказ от концентрации крупных капиталов в частных руках.
Однако социализация производства должна исходить из органичных предпосылок. Введение социализма путем декретов — это сумасшедшая идея Фетисовых (которым, впрочем, сходить не с чего) и угрюм-бурчеевых. Таким Угрюм-Бурчеевым, гипертрофированным до гениальности, был Сталин.
В вопросе социализма мы должны исходить из евангельской презумпции: «Суббота для человека, а не человек для субботы». «Социализм для человека, а не человек для социализма».
Каков этот лозунг в применении к русской действительности? Совершенно нереально говорить о восстановлении частной собственности в крупной и средней промышленности. Вся крупная и средняя промышленность должна оставаться в руках демократического, соответствующим образом реформированного государства. Должна быть также сохранена государственная монополия внешней торговли.
Однако наряду с этим возможна частная инициатива в сфере обслуживания, ибо незачем превращать чистильщиков сапог в государственных чиновников, а хозяев ресторанов, столовых и магазинов заменять казнокрадами.
Не говоря уже о насильственной коллективизации, с которой надо покончить раз и навсегда.
Таковы выводы, которые я делаю из предпосылок А. Д. Сахарова, за что сам Андрей Димитриевич, разумеется, не несет никакой ответственности, и о его мнениях на этот счет я ничего не знаю, так как никогда на эту тему с ним не говорил.
1967–968 годы — годы разбега. Демократическое движение, тогда еще не расколотое, с каждым днем набирает силу: в Москве, Ленинграде, в провинции оно приобретает все большее число сторонников. Одновременно новые явления наблюдаются на Западе. Одно из самых знаменательных явлений — пражская весна.
Нам видится в реформах Дубчека вступление коммунизма в новую фазу.
В зиму 1968 года Петр Григорьевич Григоренко выступает с проектом организации центрального органа демократического движения. Увы! Этот проект был отклонен, так как многие деятели его просто испугались.
Что касается меня, то я был в это время увлечен этим движением. Мои контакты с Якиром и Красиным стали постоянными. Часто заезжали ко мне в это время гости с Запада. Церковные дела в это время отходят у меня несколько на второй план. Как говорил мне один из моих молодых друзей и учеников: «Ваше увлечение всеми этими революциями переходит все границы: вам представляется пресным все, что не связано с этим».
Летом 1968 года я пишу большую работу, изданную «Посевом» во Франкфурте-на-Майне. Эта работа носит экзотическое название «Строматы» — название многотомных, разноплановых произведений. (Так называли свои произведения учителя Церкви III века: Климент Александрийский и великий Ориген.)
В «Строматах» я пытался дать анализ социальных и политических течений шестидесятых годов этого века. Книга эта распространяется и сейчас. Кое в чем она устарела, кое-какие прогнозы не осуществились, но в целом моя точка зрения не переменилась. Мне часто указывали на то, что мое утверждение о вступлении капитализма в фазу бескризисного развития не оправдалось, так как сразу после написания этой книги разразился страшнейший мировой хозяйственный кризис, который не преодолен и до сих пор. Я, однако, думаю, что тезис организованного капитализма, выдвинутый в свое время Карлом Каутским и Н. И. Бухариным, не поколеблен, ибо современный мировой кризис капиталистической системы не имеет ничего общего с «классическими» (если можно так выразиться) кризисами, о которых писал Маркс. Этот кризис вызван не органическими, а внешними причинами: утратой капиталистической Европой и Америкой колоний и вместе с этим главных источников сырья (нефти и каменного угля). В остальном хозяйственная ситуация изменилась лишь в незначительной степени.
Слава Богу, кажется, не оправдались мои ожидания того, что маоизм надолго останется основой китайской политики, а идеи и культ Мао окажутся более прочными, чем культ Сталина. Оказалось, что культ Мао не более устойчив, чем культ Сталина. Сейчас Китай его успешно преодолевает. Китай сейчас переживает период «хрущевских реформ».
Слава Богу!
Обзор политических течений в книге «Строматы» я оканчиваю главой «Неогуманизм». И оканчиваю эту главу следующими словами:
«Под знаменем неогуманизма находятся многие верующие люди и многие честные коммунисты, многие сторонники социализма и многие сторонники других общественных реформ.
Все мы, однако, имеем ясную и четкую программу. Все мы против бесчеловечности, произвола, жестокости…
Это священное знамя полыхает над миром, развеваемое весенним ветром, предвещая новую жизнь, новое счастье, подлинное возрождение этого старого мира. Это знамя возвещает подлинную мировую революцию — революцию духа.
Неогуманизм как общественное течение характеризуется непримиримой борьбой против всех форм угнетения, против всякого насилия и произвола. Ему, и только ему, принадлежит будущее» (А. Краснов. «Строматы». — «Посев», 1972, сс. 150–151).
Много воды утекло с тех пор. Многие из тех, кто стоял рядом со мной, когда писались эти строки, находятся сейчас в другом, враждебном лагере. «Иных уж нет, а те далече…»
Но про себя я могу сказать словами Герцена:
«И сейчас я стою под тем же знаменем, которому я не изменил ни разу».
И этими словами я оканчиваю эту главу.
Интермеццо
Итак, революция. Зачем? Для чего?
Старая поговорка гласит: «Один дурак может задать столько вопросов, что десять умных ответить не смогут». В данном случае как раз наоборот: каждый дурак на этот вопрос может дать столько ответов, что десять умных дальше спрашивать уже ни о чем не будут.
Разберем эти ответы. Первый ответ. Старая Россия. Реставрация. В форме ли монархии или пока без царя, но с сильной личностью во главе. (Вариант генерала Франко.) Что можно сказать на это?
То, что мы уже говорили: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Мы вовсе не хотим при этом сказать, что в старой России не было ничего хорошего. Было. Но хорошая старая Россия или плохая — ее уже давно нет, и 99 процентов населения России о ней понятия не имеют. Меньше всего о ней что-нибудь знают хорошие мальчики, которые ее воспринимают в романтическом ореоле, подобно тому, как Шатобриан, Бальзак, Альфред де-Виньи, Дюма-отец воспринимали королевскую Францию.
Отец Димитрий Дудко выступал за канонизацию «царя-мученика». Интересно спросить, что он о нем знает? Боюсь, решительно ничего, кроме книжки Жильяра, воспитателя наследника-цесаревича Алексея, которая случайно попала ему в руки. А о других царях, «верноподданным» которых он себя объявлял, знает и того меньше. Однажды, незадолго до ареста, он писал: «Как говорили государи, верноподданным которых я являюсь: тяжела ты, шапка Мономаха». Говорили это, впрочем, не цари, а авантюрист и узурпатор Борис Годунов, и то в воображении Пушкина…
Недавно я получил письмо от одного крещеного еврея, который тоже, оказывается, «любит царя». Так и осталось неизвестным, за что он его любит: за кишиневский погром, дело Бейлиса или черту оседлости.
Второй ответ: менее нелепый. Чтобы было, как на Западе. Либеральный капитализм. Доля истины в этом ответе есть. У Запада много преимуществ.
Первое и самое главное — то, что мне сказала недавно одна женщина: «Здесь не сажают». Правильно, здесь не сажают.
Я живу здесь уже шесть лет. При всяком удобном и неудобном случае объявляю себя социалистом, и меня не только не сажают, но, наоборот, со мной нянчатся, обо мне заботятся, создают все условия для литературной работы.
Далее. Парламентаризм. Это самая совершенная форма государственного правления родилась на Западе и до сего времени существует только на Западе. Законность, которая является гарантией против произвола. Она в настоящее время существует на Западе. И только на Западе.
И в то же время иное. Часто сравнивают современный Запад с Римом времен упадка. И только живя здесь, ассимилировавшись на Западе, я понял, сколько правды в этом сравнении.
Западное общество — это прежде всего потребительское общество. Хозяином современной Европы и современной Америки является мещанин-обыватель. Все подчинено сугубо утилитарным потребностям и интересам.
Воспитание и образование — самое примитивное. Я много разговаривал с юношами в Швейцарии, Германии, Америке — и всякий раз меня поражало дикое невежество в гуманитарных вопросах. Современный западный парень сумеет починить электричество, править автомобилем, он прилично одет, он вежлив, владеет некоторыми навыками культурного человека: умеет держать ложку, вилку, не станет резать рыбу ножом. И точка. На этом его культура оканчивается. Он знает только то, о чем пишут в газетах, и то, что показывают в кино.
Я живу в Люцерне, который в России знают по известному рассказу Л. Н. Толстого. Он здесь бывал. Сохранился отель, в котором он останавливался, и все те места, которые он описывает. Но никто из жителей Люцерна об этом понятия не имеет.
Как-то раз я спросил целую компанию местных парней, учеников технического училища: какой русский писатель останавливался в Люцерне? Они дали странный ответ: Буковский. Который, во-первых, не писатель, а во-вторых, никогда в Люцерне не был. Но газеты в это время о нем писали. Но пусть Буковский не торжествует.
Был и другой случай. Из Флориды приехал ко мне дипломник, который должен был писать обо мне дипломную работу (вот делать людям нечего!). Этот хорошо владеет русским языком и считается специалистом по России. Я спросил: «Каких русских писателей он знает?» Он ответил: «Левитина-Краснова». Этим его знания русской литературы исчерпывались.
В Америке недавно вышла сенсационная книга: «Николай и Александра». Прочтя эту книгу, американский студент спросил: «А кто сейчас царь в России?» Ему ответили: «Там же была революция». Он сказал: «Я слышал об этом, но я думал, что царь все-таки есть».
Число таких примеров я мог бы увеличить до бесконечности.
Примитивным вкусам обывателя-мещанина подчинено буквально все: газеты и журналы переполнены сообщениями об интимной жизни коронованных особ, на киноэкранах и в телевизорах — бульварно-эротические приключения. И даже классики приспособлены к вульгарным вкусам мещанина.
Несколько лет назад здесь, в Люцерне, я видел «Онегина». Боже мой! Я не знал, смеяться или плакать! У меня было такое ощущение, что золотым крестом колют орехи. Ленский с Ольгой валяются в обнимку под кустом. Голые дивы на великосветском балу. Онегин, который при словах Татьяны: «К чему лукавить?», бросается на нее и начинает лапать за все места, так что зрителю непонятно, чем он в конце концов недоволен. Словом, произведение двух гениев (Пушкина и Чайковского), превращенное в кабак (распивочно и на вынос), для потехи буржуа.
Это Люцерн. Провинция. Но вот Англия. Великолепный театр. Прекрасные актеры. Ставят классическую пьесу Ибсена «Гедда Габлер». Главная героиня превращена в бесчестную негодяйку. Ворует и сжигает работу когда-то любимого ею человека. У Ибсена, разумеется, и намека на это нет.
Опять искажение великого писателя в угоду мещанину, ибсеновского тонкого замысла обыватель не поймет.
Мещанскому вкусу подчинена и религия. Этим отличаются произведения прославленного Кюнга. Он хочет и Евангелие максимально примитивизировать и из богословия и догматов Церкви убрать все мистическое, сложное, — он хочет и Евангелие подогнать под вкус и понимание обывателя. Это буржуазное опошление христианства, подобное опошлению «Евгения Онегина».
И так же в политике. Страшное измельчание. Конъюнктурщина. Отсутствие перспектив. И это во всех партиях, без исключения. От правых до коммунистов. Обмельчание Европы и Америки.
Даже к эффективной обороне они неспособны.
И для этого делать революцию?
Нет уж! Несвойственно все это русскому человеку, несвойственно ему копить деньгу, подсчитывать, приплясывать, выпивать по маленькой, — не для него буржуазный строй. Впрочем, и не для Запада. И здесь, на Западе, мало кто доволен этим строем, мало кто хочет защищать его. И главное — молодежь.
И здесь появляются новые — молодые католики в Италии, молодые социалисты, хорошая молодая поросль. Пока еще дети. Ничего, подрастут. И построят новое общество.
Так для чего же революция?
«Душа человека по природе христианка». Можно сказать и другое: душа человека по природе героиня, подвижница, правдоискательница.
И нет ни одной девушки в мире, которая в душе не была бы, хоть немножко, Жанной д'Арк. И нет ни одного юноши, который не был бы в душе хоть немного Спартаком, Вильгельмом Теллем, Желябовым, Гарибальди.
Эта юношеская романтика проявляется по-разному: в писании стихов, в романтике первой влюбленности, в стремлении к подвигам, к героизму, к свободе.
Потом приходит жизнь: двойная власть — денег и правителей — ставит человека на колени, выскребывает то светлое, героическое, что в нем есть. И лишь в редкие моменты выявляется лучшее, высокое, светлое. Таким моментом были события, связанные с вторжением советских войск в Чехословакию, породившие взрыв шовинизма и пошлости, с одной стороны, и героический порыв русской демократической интеллигенции — с другой. Об этом акте героизма и пойдет речь в следующей главе.
И сейчас я, кажется; могу ответить на вопрос, для чего нужна революция. Революция и в России, и на Западе. Чтобы создать такой строй, когда человек будет свободен одновременно и от страха, и от власти денег.
Вадим Делоне говорил на суде: «Я был свободен пять минут. За такое счастье можно заплатить годами страданий».
Так вот: чтобы люди были свободны не пять минут, а всю жизнь. Свободны от деспотизма, от нужды, от пошлости, от грязи, — для этого нужна революция — обновление жизни, обновление строя.
Перманентная (непрестанная) мировая революция. Не обязательно кровавая. Мирная. Но не боящаяся борьбы. Борьбы смелой, жертвенной.
И, если нужно, не останавливающейся (строго в рамках необходимости) во время всенародных восстаний и перед кровью. В деспотических, тоталитарных государствах. Только в этих государствах, где победа народа путем легальным невозможна.
На войне как на войне. Всюду и везде!
В России в первую очередь!
Глава четвертая. Во тьму насилья (Красная площадь)
В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугроб.
Там во тьму насилья,
ликом весела,
падает Россия,
словно в зеркала.
Для ее для сына —
дозу стеллазина?
Для нее самой —
потемский конвой.
(Наталья Горбаневская. «Стихи».Изд. «Посев», 1969, с. 96)
Русский историк с очень одиозной репутацией, но все же умный и талантливый человек, как-то сказал: «История — политика, опрокинутая в прошлое».
Я не знаю, прав ли М. В. Покровский, когда речь идет об отдаленной истории. Но безусловно прав, когда речь идет о недавнем прошлом. И это особенно сильно я ощущаю сейчас, когда начинаю писать главу о варварской оккупации Чехословакии, о суде над благородными людьми, выразившими протест на Красной площади. А в Москве в это время судят моего племянника и близкого друга отца Глеба Якунина. А в Афганистане распоясалась советская военщина, льется кровь, а русские парни гибнут ни за что ни про что в этой далекой, чужой стране, куда погнали их как баранов. Бог знает, зачем и для чего. А в Польше в это время весь рабочий класс восстал против несправедливости, и римский Папа шлет рабочим свое благословение.
И смешанное чувство: любовь к простым людям, полякам, и страх за них (вдруг повторится чехословацкая трагедия), и обида — почему же не русские рабочие, почему не Патриарх Московский и всея Руси.
Тяжелый месяц август. Не любил я его с детства. Жара. Томительная и давящая на нервы. Какая-то пауза во всех делах. Идет на убыль осточертевшее лето.
В 1968 году этот месяц был особенно тягостным. Какие-то неясные слухи. Арест Анатолия Марченко. Неопределенные сообщения из Чехословакии.
Но не хотелось верить. Настраивал себя на оптимистический лад. Один знакомый, старый, умудренный жизнью человек, сказал:
«Это вы думаете так, потому что вас не трогают. Подождите. А с Чехословакией, по-видимому, расправятся».
Так и вышло. Через десять дней я узнал из «Известий», расклеенных на доске, о вторжении советских войск в Чехословакию. Пораженный, я воскликнул: «Фашисты!» Стоящий рядом пожилой рабочий сказал, видимо, неверно поняв мое восклицание: «Это ничего. Наши уже там». Я пояснил:
«Наши и есть фашисты». Он остолбенел. Отойдя, я услышал замечание, брошенное вслед: «Надо на одном хлебе и воде держать».
Меня больше всего в это время возмущали окружающие меня люди. Как ни странно, все очень быстро приняли официальную версию, что в Чехословакию должны были вторгнуться… немцы. Не диво бы простые люди. Но это говорил мой старинный товарищ, кандидат филологических наук.
«Да почему, да из чего вы это берете?»
«Вся Прага была полна немецкими туристами».
«Так ведь и вся Москва полна ими. Пойдемте в „Метрополь“, в гостиницу „Москва“ — сами увидите».
Другой, хороший парень сказал: «Уж этот Дубчек!»
Интеллигентная пожилая дама, моя приятельница, воскликнула: «Суки! Сколько мы крови лили, чтобы их освободить».
В эти дни я не видел никого из наших и не знал, что готовится акция протеста против захвата Чехословакии.
В статье обо мне (очень хвалебной), появившейся в «Вестнике РСХД» осенью 1969 года после моего ареста, говорится, что я выразил сожаление, что не мог принять участия в демонстрации, потому что Павел Михайлович Литвинов, щадя мой возраст, не известил меня. Это и верно и неверно. Что я выразил такое сожаление и непременно бы отправился на Красную площадь, — это совершенно правильно. Но что П. М. Литвинов действовал из столь лестных для меня побуждений, — сомнительно. Верно, просто не вспомнил обо мне.
Я не буду рассказывать обо всех обстоятельствах, связанных с демонстрацией на Красной площади. Они многим известны, а кто о них не знает, тем усиленно рекомендую прекрасную книгу Натальи Горбаневской «Полдень» (Изд. «Посев», 1970), где все обстоятельства, связанные с демонстрацией 25 августа 1968 года на Красной площади, изложены с исчерпывающей полнотой.
Как известно, в этот день, в 12 часов дня (Полдень!) на демонстрацию против оккупации Чехословакии вышли семь человек. Они держали в руках лозунги, провозглашавшие: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» (на чешском языке), «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!» (см. Наталья Горбаневская. «Стихи». — Изд. «Посев», 1969. Приложение: «Открытое письмо о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года», с. 175).
Это были: Константин Бабицкий — лингвист, Лариса Богораз-Даниэль — филолог, Вадим Делоне — поэт, Владимир Дремлюга — рабочий, Павел Литвинов — физик, Виктор Файнберг — искусствовед и Наталья Горбаневская — поэт.
Я знаком со всеми. С некоторыми знакомство шапочное, с некоторыми — очень близкое.
Кто они? Прежде всего, никаких идеализаций. Люди неплохие. Однако все со слабостями и недостатками. Люди всякие и со всячинкой. И вдруг — чудо. Преображение. Осенью 1968 года они выросли в античных героев.
В книге «Полдень» Наталья Горбаневская вспоминает, как в милиции (куда их привезли измученных и избитых после демонстрации) она в коридоре увидела двух: Ларису Богораз и Литвинова.
«Перед опознанием и очной ставкой меня вывели в коридор, и тут я в последний раз увидела Ларису. Ее увозили на обыск. „Ларик“, — окликнула я. Она улыбнулась и помахала рукой. И все время улыбалась.
А после очной ставки я на минуту увидела Павлика. Он тоже был просветлен, но это выражалось не в радостном оживлении, как у Лары, а в какой-то особенно явной мягкости» (с. 92).
Я так хорошо представляю обоих в этот момент, хотя и не был там, в «полтиннике».
Мне всегда было близко понятие, введенное Аристотелем: «катарсис». Как известно, это понятие означает просветление, очищение (катарсис), которое достигается путем страдания. Страдание несет очищение в себе самом, ибо страдание человеческое — это не просто боль, а особое состояние, которое очищает человека от пошлости, от грехов, от всего мелкого, низменного, обыденного.
А с другой стороны, просветляет окружающих, свидетелей этих страданий. Катарсис, согласно Аристотелю, — сущность трагедии.
Высокой трагедией, несущей катарсис, был «полдень». Демонстрация на Красной площади и последующий суд над участниками демонстрации.
Когда-то, когда я спросил вызывавшего меня по другому делу следователя, как чувствует себя Павел Литвинов, он ответил с усмешкой: «Великолепно. Он очень рад, что наконец узнал, что такое тюрьма».
А это было другое. Чекисту, конечно, этого не понять. Это был катарсис. То радостное, просветленное состояние, которое приходит, когда отправляешься в тюрьму с сознанием исполненного долга. С сознанием, что исполнил все, что мог. С сознанием, что идешь на крест.
Я внимательно прочитал «Полдень». И узнал и не узнал всех участников демонстрации и процесса. Узнал. Потому что все они сохранили свои индивидуальные особенности. И очевидец событий был очень точным и сумел передать все их индивидуальные оттенки. И в то же время не узнал. Потому что все они не такие, как в быту: во всем, что они говорят, чувствуется особая просветленность — катарсис.
Процесс пяти (Богораз-Брухман, Литвинов, Делоне, Бабицкий, Дремлюга) — особый процесс (Горбаневская и Файнберг были объявлены невменяемыми).
Прежде всего поражает то, что все пятеро на одном уровне. Трусов и капитулянтов нет. Но это еще не все. Все просветлены каким-то особым огнем. О каждом из них можно сказать: «Се человек».
Это единственный процесс, в котором не было сильных и слабых. Трудно даже определить, кто вел себя лучше. Все на одном уровне. И этот внутренний свет передается адвокатам.
Защита здесь по своему мужеству, яркости, адвокатскому мастерству достойна занять почетное место в истории русского суда.
Но вернемся к индивидуальным характеристикам.
Константин Бабицкий — муж Татьяны Михайловны Великановой, моего будущего коллеги по Инициативной группе защиты прав человека. Его видел впоследствии два раза. Один раз в доме у Петра Григорьевича Григоренко, другой раз на улице: встретил его, когда он шел под руку с женой. У Петра Григорьевича, когда он на гитаре вместе с сыном составили дуэт.
Из материалов дела с удивлением узнал, что он еврей. Вот уж не похож. На меня произвел впечатление провинциального учителя, врача, телеграфиста XIX века. Чеховский тип. Второй раз, на улице, это незадолго до отъезда из Москвы, — впечатление примерно то же. Был любезен. Несколько по-старомодному. По-провинциальному. Вот уж никогда бы не подумал, что он способен на подвиг. Он оказался одним из самых бесстрашных и непримиримых участников демонстрации.
Привожу выдержку из его допроса на суде.
«Судья: Вы не отрицаете, что вы были на Красной площади и держали плакат? Какой плакат вы держали?
Бабицкий: Я называл его уже на предварительном следствии: „At' žije svobodné a nezavislé Československo“.
Судья: Откуда у вас в руках появился этот плакат?
Бабицкий: Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Я полагаю, что задача обвинения — доказать, что был факт преступления, а задача суда — дать оценку этому факту, иначе может быть совершена судебная ошибка.
Судья: Показания подсудимого в совокупности со всеми другими доказательствами помогут суду сделать оценку. Если вы не желаете отвечать, вы можете не отвечать. Вы принесли его с собой?
Бабицкий: Это такой же вопрос.
Судья: Кто изготовил этот плакат?
Бабицкий: Я отказываюсь отвечать.
Судья: Дома вы изготавливали какой-либо лозунг?
Бабицкий: Да, но он не фигурировал на Красной площади.
Судья: Какого содержания лозунг вы изготовили дома?
Бабицкий: Текст известен, поэтому мне ничего не остается, как ответить: „Долой интервенцию из ЧССР!“
Судья: Вы изготовили его с помощью оргалитовой доски, которую у вас нашли при обыске?
Бабицкий: Да.
Судья: Вы договаривались с кем-нибудь из подсудимых?
Бабицкий: Нет, я пришел на Красную площадь по собственному почину. Договоренности не было.
Народный заседатель: Как вы оцениваете, что ваше сборище так быстро, так оперативно разогнали?
Бабицкий: Нас, очевидно, ждали.
Народный заседатель: А с кем вы договаривались идти на Красную площадь?
Бабицкий: Я отказываюсь отвечать.
Прокурор: Когда вы изготовили тот лозунг, который остался у вас дома?
Бабицкий: Отказываюсь отвечать.
Прокурор: Для чего вы его изготовили?
Бабицкий: Чтобы принести на площадь. У меня возникло минутное колебание, и я этот плакат с собой не взял.
Прокурор: Где он?
Бабицкий: Я полагаю, уничтожен. Большего я говорить не желаю.
Прокурор: Был ли у вас с собой лозунг, когда вы пришли на Красную площадь?
Бабицкий: Отказываюсь отвечать.
Прокурор: Почему?
Бабицкий: Потому что этот вопрос не относится к сути дела. Была демонстрация и был разгон демонстрации, а все остальное не имеет значения» (Н. Горбаневская. «Полдень», сс. 176–178).
Далее, адвокат Поздеев: «Пытались ли вы оказать сопротивление?
Бабицкий: Нет, никакого сопротивления я не оказывал: ни милиции, ни гражданским лицам, совершавшим хулиганские действия, — даже тому мерзавцу, который выбил зубы Файнбергу.
Судья: Подсудимый, я вас предупреждала.
Бабицкий: Извините» (там же, с. 180).
Из его последнего слова:
«Я уважаю закон и верю в воспитательную роль судебного решения. Поэтому я призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую — приговор оправдательный. Какие нравы хотите вы воспитать в массах: уважение и терпимость к другим взглядам, при условии их законного выражения, или же ненависть и стремление подавить и уничтожить всякого человека, который мыслит иначе?» (там же, с. 340).
Поведение Бабицкого на суде очень характерно. Среди участников демонстрации на Красной площади, кроме Натальи Горбаневской, не было (насколько я знаю) религиозных людей. Кажется, не является таким и Бабицкий.
Тем не менее я не знаю другого процесса, участники которого в такой степени напоминали бы древних христиан. Непоколебимая твердость в принципиальных вопросах, вежливое и спокойное достоинство, отказ от силы (даже в тех случаях, когда применяют к тебе силу) — разве не так держали себя мученики и исповедники Христовы в первые века христианства?
Это было только начало. Революционное развитие России пока еще далеко не достигло своего «полдня». И в дальнейшем мало вероятно (как я указывал выше), чтобы будущая русская революция воздержалась от насилия. Пусть же в дальнейшем образы героев Красной площади не померкнут в душах революционеров. Пусть их строгость к врагам революции не переходит в свирепость, пусть растворяется любовью, пусть любовь сочетается со строгостью. Этими словами Святителя Иоанна Златоуста хочется проститься с Константином Иосифовичем Бабицким, с которым мы вряд ли еще встретимся на страницах этих воспоминаний, а я вряд ли встречусь вообще в этой жизни.
Следующая по алфавиту идет Лариса Иосифовна Богораз-Брухман. Легендарная «Лариса». Собственно говоря, она (наряду с Литвиновым) была инициатором и главным организатором демонстрации. По сведениям, не проверенным (Павел Михайлович Литвинов может внести исправления), в последний момент он несколько колебался, но Лариса настояла на демонстрации.
Ее биография хорошо известна: дочь профессора, потомок знаменитого этнографа и общественного деятеля Тан-Богораза, кандидат наук, — была женой Юлия Даниэля, прославилась впервые мужественной защитой своего мужа. Выступила в защиту осужденных Юрия Галанскова и Александра Гинзбурга. Ее письмо в их защиту, написанное совместно с П. М. Литвиновым, облетело всю мировую прессу. Как только пришло известие о вторжении советских войск в Чехословакию, выступила с протестом, не вышла в тот день на работу, подав официальное заявление, что она это сделала в знак протеста против интервенции.
Я познакомился с ней много позже, через несколько лет после процесса, когда она уже отбыла наказание (ссылку) и жила вместе со своим вторым мужем — Анатолием Марченко — в Тарусе.
У нее только что родился ребенок, у ее старшего сына Александра Даниэля в это время также родился сын. Они жили вместе в просторной даче, рядом жил ее отец со второй женой, тонкой, высококультурной женщиной, аристократкой. Кажется, титулованной. Несмотря на столь разнообразную семью, собравшую столько разноликих людей, соединившую как бы все эпохи, сословия, состояния, в доме все было хорошо и просто.
Лариса производила впечатление женщины, которая мало следит за собой. Поразило полное отсутствие позы. Держалась легко и непринужденно. Был у нее дважды. Запомнились два ее замечания. Я взял на руки ее сынишку, заговорился. Ребенок заерзал, заскучал. Лариса Иосифовна сказала: «Анатолий Эммануилович, стоит ли держать насильно ребенка?» И прибавила: «Сами стоят за свободу, а свободе других мешают».
Второй раз она сказала, что терпеть не может хулиганов. Бедняга! Насмотрелась она на них в иркутской ссылке. Со своей страстью эпатировать людей (это у меня осталось с мальчишеских лет) я сказал: «А вы знаете, я тоже хулиган».
«Не знаю. Если бы я это в вас подметила, вы бы мне были очень неприятны».
Зашла речь о Павле Михайловиче Литвинове. Лариса сказала, что получила от него письмо из Америки. Он очень скучает по родине.
Все с той же своей невыносимой привычкой к эпатажу я заметил: «Ну, я скоро поеду за границу. Составлю ему компанию». Несколько человек, сидевших за столом, при этом засмеялись: многие знали о наших натянутых отношениях. Но Лариса Иосифовна приняла мое озорство за чистую монету. Сказала: «Да, да, конечно. Ему будет легче». Мне стало стыдно. Я стал серьезным.
Поведение Ларисы Иосифовны на суде было великолепным. Она отказалась от защитника. Защищала себя сама. И защита ее была на профессиональном уровне.
Вообще женщина исключительных способностей, мастерица на все руки: научный работник, на суде — адвокат, в ссылке занималась самой грубой, тяжелой физической работой. Я видел ее в качестве матери, бабушки, хозяйки дома. И здесь мастер своего дела. Она из тех женщин, о которых Некрасов сказал:
Я помню, как-то рассказывал своей мачехе о Вейнингере, который считал, что евреи — женственная нация. Мачеха (чисто русская женщина) воскликнула: «Дурак твой Вейнингер. У евреев даже женщины мужественные».
Лариса Иосифовна тому пример.
О своем участии в демонстрации она рассказывала так:
«25 августа около 12 часов я пришла на Красную площадь, имея при себе плакат, выражающий протест против ввода войск в Чехословакию. В 12 часов я села на парапет у Лобного места и развернула плакат. Почти сразу подбежали люди, мне лично незнакомые, хотя я их не раз видела около себя в разных местах. Подбежав ко мне, они отняли плакат. С левой стороны я увидела Файнберга. У него было разбито лицо. Его кровью забрызгали мне блузку. Я увидела, как мелькает сумка, кто-то бьет Литвинова. Собралась толпа. Я услышала голос: „Бить не надо — что здесь происходит?“. Я ответила: „Я провожу мирную демонстрацию, но у меня отняли плакат“. Остальных я не видела. Ко мне подошел гражданин в штатском и предложил идти к машине. Он не предъявил никакого документа, но я за ним последовала. Я увидела, как вели Литвинова и били по спине. В машине было человека четыре. Меня схватили за волосы и головой впихнули в машину. Я также видела в машине Файнберга с выбитыми зубами. В 50-м отделении милиции, куда нас привезли, мы все потребовали медицинской экспертизы для Файнберга. Ему разбили лицо и выбили зубы. Вечером из милиции меня привезли домой для обыска» («Полдень», сс. 156–157).
К этому могу прибавить то, что слышал от многих очевидцев. По дороге в милицию Лариса Иосифовна высовывалась из милицейской машины и кричала: «Руки прочь от Чехословакии! Да здравствует свободная Чехословакия!»
Имеет историческое значение и защитительная речь Ларисы Богораз. Прежде всего она разоблачила неуклюжий маскарад: выдать наемную сволочь (дружинников) за народ:
«Я не случайно задавала каждому свидетелю вопрос: „Почему вы побежали (или подошли) к Лобному месту?“ Большинство из них формулировало свои показания примерно так: „Я увидел, что другие бегут, — тоже побежал“, „Я увидел, что другие идут, — тоже подошел“. Вполне понятное человеческое любопытство — это мы часто наблюдаем на улицах Москвы. Бегут, кричат, — я тоже побегу, посмотрю, в чем дело.
Определенную группу свидетелей составляют те, кто первыми кинулся к Лобному месту. Это несколько человек — пятеро из них служат в воинской части 1164. Все пятеро показывают, что очутились одновременно на Красной площади случайно, без предварительной договоренности. Именно они отнимали плакаты — по крайней мере, три плаката; кто отнимал остальные лозунги и флажок, следствием не установлено. Именно они оскорбляли нас. Остальные же свидетели показывают, что побежали, увидев, как бегут и кричат эти несколько человек. Таким образом, именно эта группа людей, кричавших, бежавших и отнимавших у нас лозунги, именно они спровоцировали скопление и возмущение толпы. А наши действия вызвали активную реакцию только у этих нескольких человек» (там же, сс. 313–314).
Здесь голос Ларисы Богораз выходит из зала. Она — свидетель перед лицом истории. И, быть может, через столетия ее показания будут представлены перед судом истории защитниками русского народа. Не народ — а продажная сволочь била и оскорбляла героев. Не такая же ли продажная сволочь, купленная еврейскими священнослужителями и фарисеями (а никак не еврейский народ), кричала: «Распни! Распни Его!»
В заключение Лариса Богораз объявляет себя с полным правом последователем русской демократической мысли.
«О лозунге „За вашу и нашу свободу“.
Прокурор спрашивает: „О какой свободе вы говорите?“ Не знаю, известно ли прокурору, а также остальным, что это широко известный лозунг. Я знакома с историей этого лозунга и вкладываю в него исторический и традиционный смысл. Это лозунг совместного польско-русского демократического движения XIX века. Мне дорога идея преемственности совместных демократических традиций» (там же, с. 319).
Далее по алфавиту следует Вадим Делоне. Ему тогда был всего 21 год. А за плечами — уже многое: он был вместе с Владимиром Буковским у самых истоков русского демократического движения. Дебютировал как поэт. Был в заключении в 1967 году в течение семи с половиной месяцев. Как известно, на процессе 1967 года он был приговорен к условному наказанию. После освобождения ему пришлось столкнуться со многим: с фарисейским осуждением тех, кто сами и одного дня в тюрьме не сидели. С тем, что двери многих домов для него закрылись.
Владимир, однако, его не осуждал. Ему Вадим посвятил трогательное стихотворение «Прощание с Буковским». Не в это ли время у него рождаются следующие строки о Христе:
Удивительно, как этот неверующий юноша, вероятно, лишь перелиставший Евангелие, подметил это. То, что Христово горькое предвестие «Горе вам!» относится лишь к фарисеям, и только к фарисеям.
Сам Вадим не был ни фарисеем, ни Иудой, он был лишь Петром. На процессе 1968 года он удивил всех. Я помню, как в августе, когда стало известно, что Вадим принял участие в демонстрации на Красной площади и был арестован, один человек сделал прогноз: «Всех предаст». А он оказался одним из самых стойких подсудимых, и его показания на суде должны занять свое место в истории русского демократического движения.
Уже начало показаний Вадима способно удивить тех, кто считал его неустойчивым мальчуганом. Он дал очень умный и тонкий анализ обвинения:
«Прежде всего хочу сказать, что я не признаю себя виновным. Обвинение должно быть объективным и базироваться на фактах. Я считаю предъявленное мне обвинение несостоятельным, юридически безграмотным и недоказанным. На предварительном следствии я заявил, что я, будучи не согласен с действиями правительства, участвовал в выражении протеста против ввода войск в Чехословакию и держал один из плакатов. Все остальное в обвинительном заключении не соответствует действительности» (там же, сс. 181–182).
Далее следует описание фактической стороны, сопровождаемое очень умным и юридически квалифицированным анализом.
С большим достоинством, отказываясь называть какие-либо имена и фамилии, Вадим Делоне держался во все время допроса. По тому же принципу построено его последнее слово, где есть великие слова:
«Я предполагал, что меня лишат свободы на значительный срок за то, что я выразил свой протест. Я понимал, что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы… Я — человек, которому глубоко противен всякий тоталитаризм…» (там же, с. 335).
Впоследствии я много раз общался с Вадимом. Совместно с ним я праздновал свой последний день рождения в России. Это было 21 сентября 1973 года на Рязанском проспекте, в квартире Якира, где хозяева тогда не жили, а временным хозяином был Вадим. У меня создалось впечатление: прекрасный мальчик, но неустойчивый. Неустойчивость в значительной степени объясняется условиями его детства: его отец бросил семью, когда Вадим был еще совсем мал, и он вместе с братом остался на попечении матери, которая должна была работать, как вол, и воспитывать двоих сыновей.
Вадим метался между домом матери и домом деда, известного физика-академика, который жил в Новосибирске.
Знакомство с богемой, в которую Вадик включился, когда ему было 15–16 лет, положило свои блики на этого хорошего парня. Следы, которые остались у него до сих пор.
По алфавиту вслед за Делоне идет Дремлюга Владимир Александрович. Интересный тип. Парень, который всегда мне напоминал типы из повестей Горького. Пожалуй, в какой-то мере и самого Горького. Из очень простой семьи. Безотцовщина. Романтик. Сидеть на месте никогда не мог. Вел бурную жизнь. Менял профессии, города. Привязался к Якиру. Талантливый. Энергичный. Упорный. Верный друг. И в опасности. И в беде. Такой не подведет. Положиться на него можно. На процессе вел себя превосходно. Во время последнего слова, когда судья стал прерывать, заявил, что в знак протеста против этого и предыдущих политических процессов от последнего слова отказывается.
Если говорить о народе, то более народного типа, чем Дремлюга, и сыскать нельзя.
И наконец, Павел Литвинов. Наряду с Ларисой Богораз организатор демонстрации на Красной площади. Этот остался во все время эпопеи — от Красной площади до последнего слова на суде — верен себе. Спокойный, методичный, не теряющий самообладания. Недаром он внук дипломата, сын инженера, сам физик. Более спокойного человека я в жизни не видел. Во время судебного следствия он спокойно, методично изложил причины, побудившие его организовать демонстрацию. Столь же спокойно он отклонял все вопросы судьи и прокурора, направленные на то, чтобы выведать конкретные детали: кто организовал демонстрацию, с кем конкретно он договаривался, кто изготовлял плакаты. Мотивы своих действий он также изложил кратко и четко, без всякой эмоциональной взвинченности. Он сказал:
«Я был глубоко убежден в правоте своих действий и как советский гражданин был обязан протестовать против грубой ошибки, совершенной правительством» (там же, с. 175).
Заключительное слово Литвинова — шедевр. Оно достойно того, чтобы войти в хрестоматии. Мы не можем удержаться, чтобы не привести его полностью.
«Я не буду занимать ваше время анализом материалов судебного следствия. Я себя виновным не признаю. Наша невиновность в действиях, в которых нас обвиняют, очевидна.
Тем не менее мне так же очевиден ожидающий меня обвинительный приговор. Этот приговор я знал заранее — еще когда шел на Красную площадь.
Я совершенно убежден в том, что в отношении нас была совершена провокация сотрудниками органов государственной безопасности. Я видел слежку за собой. Свой приговор я прочитал в глазах человека, который ехал за мной в метро. Я видел этого человека в толпе на площади. Того, который задерживал и бил меня, я тоже видел раньше. Почти год я подвергался систематической слежке.
Дальнейшие события подтвердили, что я был прав.
Тем не менее я вышел на площадь. Для меня не было вопроса, выйти или не выйти. Как советский гражданин, я считал, что должен выразить свое несогласие с грубейшей ошибкой нашего правительства, которая взволновала и возмутила меня, — с нарушением норм международного права и суверенитета другой страны.
Я знал свой приговор, когда подписывал протокол в 50-м отделении милиции, уже в этом протоколе было сказано, что я совершил, преступление по ст. 1903. „Дурак, — сказал мне тогда милиционер, — сидел бы тихо, жил бы спокойно“. Может, он и прав. Он уже не сомневался в том, что я человек, потерявший свободу.
То, в чем нас обвиняют, не является тяжким преступлением. Не было никаких оснований заключать нас под стражу на период предварительного следствия. Надеюсь, что никто из присутствующих не сомневается, что мы не стали бы скрываться от суда и следствия.
Следствие тоже предвосхитило решение суда. Следователь собирал только то, что могло послужить материалом для обвинения. Вопрос о том, верил я или нет в то, за что выступал, никого не интересовал, он передо мной даже не ставился. Но ведь если я верил, то ст. 1901 — о заведомо ложных измышлениях автоматически отпадает. А я не только верил, я был убежден!
Не удивила меня и абстрактность обвинительного заключения: в формуле обвинения не разъяснено, что именно в наших лозунгах порочило наш общественный и государственный строй. Даже первоначальное обвинение, предъявленное нам в тюрьме на предварительном следствии, конкретнее. В речи прокурора тоже говорится, что мы выступали против политики партии и правительства, а не против общественного и государственного строя. Может быть, некоторые люди считают, что вся наша политика, в том числе и ошибки правительства, определяются нашим общественным и государственным строем. Я так не думаю. Этого, вероятно, не скажет и прокурор, иначе ему пришлось бы признать, что все преступления сталинских времен определяются нашим общественным и государственным строем.
Что происходит здесь? Нарушения законности продолжаются.
Основное из них — нарушение гласности судопроизводства. Наших друзей вообще не пускают в зал, мою жену пропускают с трудом. В зале сидят посторонние люди, которые явно имеют меньшее право присутствовать здесь, чем наши родные и друзья.
И мы, и наши защитники обратились к суду с рядом ходатайств — все они были отклонены.
Не был вызван ряд свидетелей, на допросе которых мы настаивали, а их показания способствовали бы выяснению обстоятельств дела.
Я не буду говорить о других нарушениях — достаточно и этого.
Я считаю чрезвычайно важным, чтобы граждане нашей страны были по-настоящему свободны. Это важно еще и потому, что наша страна является самым большим социалистическим государством и — плохо это или хорошо — но все, что в ней происходит, отражается в других социалистических странах. Чем больше свободы будет у нас, тем больше ее будет там, а значит и во всем мире.
Вчера, приводя статью 125 Конституции, прокурор допустил некоторую перестановку в ее тексте — возможно, и умышленную. В Конституции сказано, что в интересах трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется: свобода слова, свобода печати, свобода собраний, митингов и демонстраций. А у прокурора получилось, что эти свободы гарантируются постольку, поскольку они служат укреплению социалистического строя.
Судья: Подсудимый Литвинов, не ведите дискуссий, говорите только о деле.
Литвинов: Я и говорю о деле. Лариса Богораз частично ответила на это, и я согласен с ее толкованием этой статьи. Правда, обычно ее толкуют так же, как и прокурор. Но если бы даже принять такое толкование, то кто определит, что в интересах социалистического строя, а что — нет? Может быть, гражданин прокурор?
Прокурор называет наши действия сборищем, мы называем их мирной демонстрацией. Прокурор с одобрением, чуть ли не с нежностью, говорит о действиях людей, которые задерживали нас, оскорбляли и избивали. Прокурор спокойно говорит о том, что, если бы нас не задержали, нас могли бы растерзать. А ведь он юрист! Это-то и страшно.
Очевидно, именно эти люди определяют, что такое социализм и что такое контрреволюция.
Вот что меня пугает. Вот против чего я боролся и буду бороться всеми известными мне законными средствами» («Полдень», сс. 328–332).
Выше я говорил о своем знакомстве с Литвиновым. Я отметил, что в течение этого знакомства были и неприятные эпизоды. Сейчас, прощаясь с Литвиновым (мне, вероятно, уже не придется писать о нем), не могу не воздать ему должное.
Он не трибун, не оратор, не глубокий теоретик. Но он прекрасный организатор, великолепный, стойкий человек, прямой и честный. Говоря словами Золя: «Превосходный человеческий тип!»
В процессе не участвовали двое: Наталья Горбаневская и Виктор Файнберг. Но без их характеристики обойтись невозможно: они оба не только принимали руководящее участие в демонстрации, но и сами по себе представляют столь яркие человеческие типы, что без них все дело о демонстрации на Красной площади представляется неполным.
Прежде всего о Наталье Горбаневской. Она поэтесса. Поэт весь в стихах, поэтому прежде всего обратимся к ее стихам.
В ее стихах Москва. Москва студенческая, Москва глазами женщины, Москва глазами интеллектуала, интеллигентного пролетария, как говаривали во времена Писарева.
Вот она в воскресенье. Выходной день после трудной, мучительной недели. Но она не отдыхает.
На мой взгляд, это одно из лучших ее стихотворений. Образность поразительная: вы так и видите зеленое ведро, и веревку посреди двора, и усталую женщину, усталую от стирки и от стихов.
В одном месте она сравнивает себя с Офелией. Она и есть Офелия. Подобно героине Шекспира, она блуждает по Москве. По Москве многострадальной, которая принесла нам всем столько зла. По Москве родимой, без которой нет счастья, нет жизни. По Москве сумасшедшей и милой.
Вот поэтесса опять на Страстной, которая связана с памятью о диссидентах так же, как и Сенатская с памятью о декабристах:
В этом стихотворении вся наша эпоха. Монстр который хочет, чтобы его приняли за человека. Это очень тонко подмечено. Они (чекисты всех сортов — от следователей до стукачей) страшно любят играть в «людей», говорить о литературе, о шахматах, о спорте. На худой конец, и пьяным рубахой-парнем прикинуться. И все-таки — монстр. Каинова печать на лице, в глазах. И никак ее не скроешь.
И обращение к Пушкину, памятник которого, окруженный цепями, высится посреди площади. О том, как он «в свой жестокий век прославил свободу», — говорит надпись на пьедестале.
Его-то век «жестокий», — нас этой жестокостью не поразишь.
Но блуждания по Москве продолжаются. Вот она у Ленинградского вокзала.
Скитания не только днем — и ночью. И все Москва, опять и опять Москва.
Как все это знакомо. Лирика московских мест и отвратительный, столь искусственно пронзающий Москву Новый Арбат. Прозаический и жестокий. Выросший по воле посредственностей, правящих Россией, как любил говорить Троцкий. Невыносимых посредственностей с убогим вкусом, со скудным развитием, с примитивным мышлением. Бездарный Новый Арбат — это их достойное выражение.
Итак, идет Офелия по Москве.
Офелия — девушка умная, с чуткой душой с огромным талантом, труженица и подвижница. Вполне естественно, что она одна из первых вошла в демократическое движение. Она была рождена для него.
После этих панегириков читатель решит, что Горбаневская — мой первый друг. Ошибется. Наше знакомство началось с перебранки (по поводу Солженицына), и всегда наши отношения были очень холодными. Не любит она меня. Не могу сказать, чтобы и я пылал к ней особой любовью.
Как-то я спросил нашего общего друга, хорошую, дельную девушку: «За что меня Наташа так не любит?» Получил оглушительный ответ: «Анатолий Эммануилович, вам может прощать только тот, кто вас любит. А так как она не умирает от любви к вам, то она вам не прощает». Что делать, закон Кармы: всякий получает то, что заслуживает.
Так или иначе, во время демонстрации на Красной площади она ошеломила всех: явиться на демонстрацию с ребенком. Это, вероятно, первый случай в анналах русского политического движения.
Акимова (мой следователь) запальчиво говорила: «Истеричка». Я ответил: «Такая же, как Жанна д'Арк, Софья Перовская и ваша официальная героиня Зоя Космодемьянская». Акимова промолчала.
Нет явления более непонятного для мещанина, обывателя, чиновника, чем подвиг. А Наталья Горбаневская — подвижница. Она — человек порыва.
И в то же время неустанная труженица. С юных лет она работала как вол. За все время своей деятельности в демократическом движении она непрестанно работала.
В то же время тяжелая жизнь, прожитая ею, сказалась. Нервная, вспыльчивая, быстро переходящая из одного настроения в другое…
И в то же время скажу: слава Богу, что есть такие люди. Это одна из семи, без которых не стоит город.
Мужественным было поведение Натальи Горбаневской и в дни после демонстрации. Она была единственной участницей демонстрации, которая не была арестована. Ее отпустили. Вероятно, надеялись, что, выйдя чудом из тюрьмы, она будет сидеть спокойно. Но не таков характер Натальи Горбаневской. Едва освободившись, она тут же пишет письма в редакции ряда иностранных газет, в которых подробно объясняет, как было дело. Выступает в защиту заключенных. Развивает необыкновенную энергию.
Она была основателем и редактором «Хроники текущих событий», по существу, первого неофициального издания, которое выходит уже 12 лет. Она становится затем (в мае 1969 года) членом вновь организованной Инициативной группы защиты прав человека. Разворачивает лихорадочную деятельность, — до тех пор, пока ее деятельность не была прервана бессердечными негодяями из КГБ, заточившими ее в сумасшедший дом.
И наконец, еще об одном герое Красной площади — о Викторе Файнберге. Если попытаться определить одним словом его характер, то это слово будет стремительность. Я никогда не видел столь порывистого человека. Я его знаю уже более 10 лет, виделся с ним и в Москве, и в Ленинграде, и в Париже. Видел его в самых разнообразных обстоятельствах: и у постели тяжело больной, умирающей матери, и у себя, в доме моей няньки на Васильевском острове в Питере, и в московском ресторане, и в Лондоне на вокзале, а в июне 1980 года на гулянье в честь предстоящих выборов французского президента в Париже, — но я никогда не видел его спокойным. Он всегда в движении, он всегда куда-то спешит, он всегда охвачен стремлением немедленно что-то сделать. Глядя на него, я невольно вспоминал определение еврейской нации, сделанное Ренаном: «Евреи — это дрожжи человечества». «Дрожжи» — это сказано как будто специально про Виктора.
Характерно, что как только распространился слух об аресте Солженицына, в тот же самый день в квартиру Григоренко позвонил из Ленинграда многострадальный отец Виктора, всю жизнь спасавший от всевозможных бед своего сына. Зинаида Михайловна попросила меня подойти к телефону. Ужасным, прерывающимся голосом отец Виктора сказал:
«Он хочет идти на Дворцовую площадь демонстрировать против заключения в тюрьму Солженицына».
Я: «Солженицын не в тюрьме, а уже во Франкфурте, так что Виктору нечего демонстрировать. Пусть сидит дома».
Отец (обрадованно): «Как, что вы говорите? Я сейчас позову его к телефону».
Подошел к телефону Виктор. Я сказал: «Виктор, сиди дома. Солженицын выслан за границу и сейчас находится во Франкфурте».
Нет ничего удивительного, что такой человек очутился на Красной площади. Он и пострадал больше других: негодяй дружинник вырвал у него лозунг и выбил ему зубы, разбил ему лицо в кровь. Видимо, в этом гнусном нападении на Виктора, не последнюю роль сыграли и антисемитские мотивы, так как Виктор по наружности типичный еврей. Его не допустили на суд, так как, очевидно, нашли неудобным показывать на суде человека с выбитыми зубами. Его заключили в сумасшедший дом. В страшный сумасшедший дом на Нижегородской улице в Ленинграде, где он провел целые три года.
Но он и здесь остался верен себе. И психиатрам-кагебистам не удалось его поставить на колени: он протестовал всеми силами против окружавшего его варварства. И здесь, в сумасшедшем доме, нашел себе верного друга в лице Владимира Борисова, также заключенного тогда в сумасшедший дом.
Я написал последнюю строчку, подумал, как закончить характеристику героев Красной площади. И неожиданно всплыли в уме слова ныне официального, а когда-то свободолюбивого, ищущего поэта Николая Тихонова:
Этими словами я и заканчиваю повествование об одном их самых волнующих героических эпизодов в истории России.
«Дешевое выходит на дорогое». (Интермеццо)
Эту фразу можно слышать на базарах, на вокзалах, от торговок, спекулянтов, рыночных завсегдатаев. Это перефразировка английской поговорки: «Я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи».
Практический разум народа правильно оценил ситуацию. Как жаль, что политики этого не понимают.
Что можно сказать о вторжении в Чехословакию? Прежде всего то, что это была глупость. Только ограниченные люди (типа Брежнева) могли пойти на эту авантюру.
Прежде всего: зачем?
Военная необходимость? Абсолютно никакой. Когда-то Бломберг (немецкий военный министр в первые годы правления Гитлера) сказал, что для Германии гораздо выгоднее, чтобы Италия выступила против Германии, чем то, что она будет ее союзницей. «Если она выступит против нас, — говорил Бломберг, — нам придется направить туда десять дивизий, и мы займем Италию. Если она выступит как наш союзник, нам придется послать туда тридцать дивизий, чтобы ее защищать».
Нечто подобное можно сказать про наших «союзников», — с той лишь разницей, что в случае войны туда придется послать не 30, а 40 дивизий, чтобы они не стреляли нам в спину.
С точки зрения политической, ничего более глупого нельзя было придумать: теперь уже очень мало кто на Западе питает какое-либо доверие к Советскому Союзу, и даже здешние коммунисты от него открещиваются. Правда, Брежнев и компания ничего не выдумали нового. Хрущев показал путь, вторгнувшись в Венгрию. Но там хоть действительно были (наряду с другими) и крайние реакционеры. Это давало возможность демагогически оправдывать интервенцию борьбой против реакции. Но тут даже и этого не было. Советские армии были двинуты против коммунистического правительства.
Результат ужасный. Чехословакия — традиционно дружественная России страна, стала крайне враждебной. Ненависть к России там надолго.
Все демократические силы с подозрением и опасением смотрят на Советский Союз. Теперь еще остается к Венгрии, Чехословакии и Афганистану прибавить Польшу.
Это будет конец. Коммунистическое движение во всем мире лопнет как мыльный пузырь.
СССР в сознании всех предстанет рядом с фашистской Германией. Конечно, если бы дело ограничилось только этим — распадом международного коммунизма, — мы бы еще примирились как-нибудь с такой потерей. Ужасно другое. За все придется расплачиваться России, нашим русским ребятам, которые гибнут сейчас в далеком Афганистане и которым придется расплачиваться и впредь за безумные затеи выживших из ума стариков. Поистине, дешевое выходит на дорогое.
Глава пятая. На смену декабрям
Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори.
На смену декабрям
Приходят январи.
Булат Окуджава
Помню один из разговоров с моим следователем Акимовой на Кавказе. Ее страшно возмутило мое замечание, что со сталинских времен изменилась лишь форма, а сущность осталась та же. Возмущенно она сказала: «Судим за демонстрацию. Через полгода идут опять».
В этом она права, хотя менее всего это заслуга нынешних правителей России. Когда лента начала раскручиваться, ее уже не остановить. Так было и после августовских дней 1968 года.
Приговор демонстрантам оказался сравнительно мягким. Сыграло роль в этом, видно, громкое имя внука прославленного министра иностранных дел. Как бы то ни было, запугать никого не удалось. Никто от движения не отошел. «Диссидентская» деятельность продолжалась. Включились новые люди. Возвращающиеся из лагерей и не думали о капитуляции. Помню, в октябре в церкви Николы в Кузнецах состоялось скромное торжество. Крестили ребенка — Юрия Галанскова — новорожденного сына сестры нашего Юрия, который находился в это время в лагерях. Я был крестным отцом ребенка. Обменялся по этому поводу письмами с моим новым родственником Юрием Тимофеевичем.
После обедни пришли в дом Галансковых. Скромное рабочее пиршество. Вдруг вызывают Лену Галанскову. Она возвращается несколько смущенная, ведет за собой полного парня, коротко остриженного (сразу видно, лагерник), представляет нам его: «Владимир Осипов. Товарищ Юрия. Только что освободился».
Так началось мое знакомство с Володей Осиповым, будущим моим идейным противником и в то же время другом. Это единственный из людей этого направления, к которому я всегда питал дружеские чувства.
Я не знаю наверное, но тогда ему было лет около тридцати или, может быть, за тридцать. Он парень из простой семьи, коренной москвич. В детстве испытал тяжелое несчастье: лишился отца, мать вышла замуж вторично. Отчим его не переносил, что, вообще говоря, странно, ибо характер Володи мягкий и человек он добрый. Видимо, отчима раздражало, что с детства он шел какими-то своими, необычными путями. Так или иначе, когда Володю первый раз арестовали, отчим говорил его матери: «Вот видишь, я тебе говорил».
Путь его в основном тот же, что и у Галанскова. Школа. Университет. Сближение с кружком взбудораженной молодежи. Площадь Маяковского. Стихи у памятника. Знакомства. Володе, видимо, сильно не повезло. Нарвался на стукачей. Еще в начале шестидесятых годов был арестован. Получил 7 лет лагерей. И вот осенью 1968 года вернулся.
Мать приняла так, как может принять мать, истосковавшаяся по сыне, уже не надеявшаяся его видеть. Одела его с ног до головы, так что вид у него был приличный. Костюм, галстук, шляпа.
О прописке в Москве не могло быть и речи. Не могло быть речи и о Московской области. Мать рыскала по местам, близким к городу, но расположенным не в Московской области. В конце концов прописался он в Александрове Владимирской области. Но в то время еще прописан не был.
С первых же слов я почувствовал к нему симпатию. Хороший, простой парень. Русский, очень русский. Дело здесь не в надуманных схемах, в славянофильских доктринах, скроенных более сотни лет назад московскими барчатами, а в его характере, типе, даже в манере выговаривать слова. И чисто русские скромность, трудолюбие, открытость. Всегда готов помочь товарищу.
В то время, когда я его встретил, он очень интересовался религией. Первая и единственная его просьба — достать Евангелие, Новый Завет. Эту просьбу я исполнил, пригласил его к себе в Ново-Кузьминки.
Он уже тогда был славянофилом, русским националистом, наверное, немного (теоретически) антисемитом. Но ко мне всегда относился (и тогда и после) дружески, хотя знал и о моем полу еврейском происхождении, и о моем социализме.
Как это часто приходилось мне наблюдать, душа у него лучше, много лучше его убеждений. У него в Москве была дочь, выросшая без него (было ей лет 12). Мать не разрешала ему с ней повидаться. Видел ее лишь издали.
Прописавшись в Александрове, поступил на работу пожарником. И тут же окунулся в общественную диссидентскую деятельность.
Каковы особенности Владимира? Прежде всего, в отличие от всех нас, он труженик, «работяга». Если у большинства из нас работа была фиктивная, только чтобы отвязаться от милиции, то Осипов работал не за страх, а за совесть. Пожарная команда Александрова обслуживала целый огромный округ.
Массу деревень и хуторов, местечек при станциях. Вся эта местность сплошь застроена деревянными домами. В том числе и сам Александров. Каменных домов — раз-два и обчелся. Только на главных улицах. Скученность населения страшная, особенно в Александрове. Это ближайший пункт к Москве, где прописывают лагерников. Поэтому город битком набит шпаной. Пьянство процветает. Пожары поэтому непрестанные. Владимир дежурил сутки, двое суток отдыхал. Работа пожарника требует огромной физической силы, смелости, самообладания. Всего этого у Володи в изобилии. Товарищи по работе его любили и уважали. Начальство ценило. Только благодаря этому он держался на работе. Не было предлога, чтобы от него отделаться. Образцовый работник. Да и в пожарную команду мало кто идет.
По внешнему виду Владимир не похож на интеллигента: простое, широкое лицо. Не очень культурная речь. Но поразительно талантлив. Когда начинает писать, становится неузнаваем: пишет великолепно, броско, четко, ясно.
Вы можете с ним не соглашаться (я так почти никогда с ним не согласен), но он невольно вызывает уважение: чувствуется огромная убежденность, искренность, большой духовный порыв. И вот он задумывает издавать журнал «Вече».
Изданию журнала предшествует его программная статья «Три отношения к родине». Эти три отношения вполне соответствуют Апокалипсису: холодное — полное безразличие и даже ненависть к родине. Тепло-хладное отношение — равнодушие, скрытое под казенными фразами. И — горячая любовь.
Меня эта статья задела за живое. Умом я полный и совершенный космополит: понимаю, что люди все совершенно одинаковые, что национальные различия — это нечто надуманное, и ненавижу какой-либо шовинизм (пренебрежение и ненависть к людям иной национальности).
Но сердцем я люблю русский народ до безумия. Я влюблен в него.
Три года назад, будучи в Вене, я попал в гостиницу, где было много русских. Физкультурники, приехавшие на соревнование хоккеистов. Вечером в своем номере лежал на постели. Сквозь раскрытое окно слышался русский говор. И я думал: как хорошо умереть вот так, под русскую речь…
Знаю все недостатки русского человека, и его вину перед другими народами.
Любовь к России — это то, что роднит меня с людьми типа Осипова. Роднит до тех пор, пока они не становятся черносотенцами и шовинистами. Этих я не выношу. Так же, как нацистов, крайних сионистов, шовинистов всех мастей.
Вскоре после освобождения В. Н. Осипову удалось написать две работы: «Площадь Маяковского» и «В поисках крыши». Обе эти работы заслуживают внимания будущего историка. Так как они появились в журналах «Посев» и «Грани» уже 9 лет назад и теперь уже почти забыты, позволю себе на них остановиться подробнее.
Чтения стихов около памятника Маяковского происходили в период 1958–1960 годов, когда я занимался исключительно церковными делами, никаких связей с бунтующей молодежью не имел и, кроме архиереев, священников и бурсаков-семинаристов, ни с кем не встречался. Поэтому о событиях, связанных с митингами около памятника Маяковского, знал лишь понаслышке.
Тем более интересен для меня, да и для других, рассказ Осипова. Встречи на площади Маяковского — это первый этап. Мало того, это в какой-то мере рождение русского диссидентства.
Что можно сказать про этот первый этап? Прежде всего это эмбрион. И, как во всяком эмбрионе, здесь все неясно.
Главные зачинатели движения: «В конце июня 1961 года в лесном массиве Измайловского парка в Москве Осипов, Иванов, Кузнецов… обсуждали проект программы».
Осипов и Кузнецов — сейчас даже как-то странно видеть эти две фамилии, написанные рядом. Эдуард Кузнецов — убежденный сионист, герой еврейского народа. И Владимир Осипов — ярый русский националист, возражавший даже против смешанных браков русских с евреями. (И не думал ты при этом, Володя, что Эдуарда Кузнецова и на свете не было бы, не говоря уж о Левитине-Краснове, если бы русские с евреями не смешивались! Ай-ай! И не грех тебе, Володя!)
И чистый эстет Иванов, который считал, что художник не должен даже думать о политике. Ну и трио!
И так все, без исключения, участники собраний около памятника Маяковского. Винегрет!
Правда, тогда они еще не думали ни о чем из того, что захватило их потом, и, вероятно, очень удивились бы, если бы им рассказали о будущей их судьбе, но все-таки…
Что же их всех связывало? Стремление к свободе. Они еще не вышли тогда из советской, партийной школы, — они полностью были под влиянием марксизма-ленинизма, по крайней мере Осипов.
Но все они знали одно: нужна свобода. Что-нибудь одно из двух: или свобода, или затхлый, смрадный полицейский застенок. А третьего не дано.
Но где искать свободы? Но как? «В спорах мелькали имена Плеханова, Имре Надя, Г. К. Жукова, Мао Цзэдуна, Ганди, возникали схватки по философии: Гегель, Шопенгауэр, Рассел, экзистенциалисты». (В. Осипов. «Площадь Маяковского». «Грани», 1971, № 80, с. 109).
Кажется, Гете однажды сказал, что «хороший человек даже в своем неясном стремлении чует истину». Это было и у Осипова с товарищами.
«То, что Кузнецов, я и некоторые другие „маяковцы“ (в том числе Сенчагов) разделяли взгляды „рабочей оппозиции“ и Союза коммунистов Югославии, — это верно. Но ведь Шляпников и Коллонтай, подвергнутые критике на Х съезде РКП (б), не только не были репрессированы за свои взгляды, но даже оставались в партийном руководстве и продолжали занимать крупные государственные посты. Если бы они знали, что в 1962 году Московский городской суд даст семь лет тюрьмы Осипову за два публичных выступления, проникнутых „синдикалистскими“ настроениями Коллонтай! Если бы они знали, что тот же суд даст семь лет тюрьмы Кузнецову за одно лишь наличие „синдикалистского“ настроения!» (там же, с. 119).
Как известно, деятели рабочей оппозиции во главе с Шляпниковым, Коллонтай, Мясниковым и другими являлись убежденными сторонниками свободы профсоюзов и еще на заре советской власти ратовали за передачу промышленных предприятий в руки рабочих коллективов. То есть их программа примерно совпадала с тем, чего добивается в Польше рабочее движение во главе с Лехом Валэнсой. Интересно об этом вспомнить сейчас, в дни победы героических польских рабочих (3 сентября 1980 года), когда пишутся эти строки.
Из других участников чтений стихов на площади Маяковского я знал Илью Бокштеина. Тоже колоритная личность. Кто видел его хоть один раз, не забудет. Крохотного роста — двенадцатилетний мальчик не ниже его. Говорливый. При разговоре размахивает руками (чисто по-еврейски). И стихи. Человек, не сведущий в поэзии, просто ничего не поймет. Сплошная заумь. Ранний Пастернак — это рациональная поэзия по сравнению с этим. Но вслушайтесь. Это словесная музыка. Музыка изумительная, то бурная, то тихая. Бетховен. Скрябин. Это одно из самых талантливых, оригинальных и иррациональных проявлений поэзии в наши дни.
Алеша Карамазов. Еврейский Алеша. Совершенно бесхитростный. Не от мира сего. Бескорыстный. Притом верующий христианин. Глубоко и искренно верующий.
И этого-то человека заподозрили в… контрреволюции. В этом весь советский бюрократ. Хищник и набитый дурак.
Его осудили на пять лет. В лагере он, как я слышал, сыграл роль примирителя.
В 1961 году в лагерях еще оставались власовцы, бандеровцы, эсэсовцы. Причем самые зловредные — те, которые были замешаны в каких-либо зверствах. (Тех, которые в зверствах замешаны не были, отпустили в 1956 году.)
И вот в конце пятидесятых, в начале шестидесятых годов потекли сюда сионисты, еврейская интеллигенция. Лагерники распались на две враждующие партии. Они ненавидели и презирали друг друга. Не разговаривали друг с другом. И вот Илья пошел к ним в барак. Стал разговаривать с ними. Они его приняли сначала изумленно, потом полюбили. И вот он примирил непримиримое. Смягчил вражду. Соединил людей. Поистине «сила Божия в немощи совершается».
Я знал его потом, когда он вышел из лагеря. Сейчас он в Израиле. Говорят, болеет.
А Осипов очутился в 1961 году в лагере, получил 7 лет. В лагере сделал курбет: стал ярым русским националистом. Антисемитом. И подружился с подонками.
Стал даже в чем-то поклонником «Джугашвили», как он называет Сталина. Тот ему импонирует тем, что дезавуировал историка Покровского, боролся с троцкистами и восстановил в правах квасной русский патриотизм.
Новые товарищи Осипова — это сплошное хамье. Сам он это на себе впоследствии испытал. Когда один из его товарищей по лагерю стал ему публично раздирать рот.
В своей «Площади Маяковского» Владимир Осипов пишет:
«Всю жизнь я — убежденный враг хамья, всю жизнь не устаю повторять, что мат — это пароль плебеев» («Грани» № 80, сс. 116–117). Ну, а антисемитизм и черносотенство чей пароль? Не хамов и плебеев?
Но сердце лучше головы. И большой литературный талант.
В январе 1971 года в «Посеве» появляется очерк Владимира «В поисках крыши». Блестящая зарисовка. С большим реализмом. Описывает, как в городе Александрове он искал после возвращения из лагеря, где поселиться. И всюду отказ: боятся пускать человека, вышедшего из лагеря. Чураются, как от прокаженного. Я тоже знаю этот город. При чтении очерка встретил старых знакомых (заведующую паспортным столом и других). Но я явился в Александров после освобождения, в 1973 году, с рекомендацией от местного популярного батюшки, с просьбой прописать меня всего лишь на один месяц, с заверением, что жить не буду (один лишь раз спьяну, поссорившись с женой, я заявил, что еду ночевать в Александров, и то жена не пустила). А Осипову пришлось испить чашу до дна.
«Опадали листья. Я шел от дома к дому, стучался в дверь, вежливо спрашивал, не сдается ли комната или койка, и после отказа не менее вежливо уходил. Собственно говоря, прописать меня без жилья некоторые соглашались. „Живите в Москве, а здесь мы вас пропишем за червонец в месяц. Ведь все так делают“, — говорили домохозяева. Но я знал, что это называется нарушением паспортного режима и не хотел хитрить перед секретным законом. Домохозяева удивлялись моей щепетильности, а кое-кто посчитал меня за лопуха. Ибо, сунувшись в их дыру, я хотел в ней жить и работать. А хозяевам это было не нужно. Ясно, что удобнее получать десять рублей в месяц за 1 штамп в паспорте, чем те же десять — за штамп плюс койка. У меня было достаточно соперников, готовых жить в Москве, и я терпел поражение» («Посев» № 1,1971, с. 44).
Далее описываются мытарства по хозяевам домов. Различные типы: пьяницы, хитроватые бабенки, ханжащие, злобные старухи. Ни капли идеализации. Как надо любить народ, чтобы любить его даже таким…
Он был верующим, православным. Но православие его чисто книжное. Как выяснилось, он ни разу в жизни не причащался и о Церкви имел лишь самое смутное понятие. Я повел его в церковь, познакомил с отцом Дмитрием. О. Дмитрий Дудко называет его в своем очерке, написанном в январе 1980 года (незадолго до ареста), своим духовным сыном — значит, впоследствии они сблизились.
Так или иначе, он вскоре начинает издавать славянофильский журнал «Вече». Здесь мы вели с Володей яростную полемику. Это был орган, исполненный гнусной черносотенной чепухи. О конце журнала известный писатель и историк советской общественной мысли Григорий Свирский пишет:
«А тут уж В. Осипов и вовсе нарушил „правила игры“. Можно сказать, даже обеспамятствовал. Обозвал секретарей ЦК партии, выпоровших редакцию „Молодой гвардии“, „вельможами“: Едва русские патриоты подали голос в официальном органе, как прозвучало вельможное „Пора кончать с русофильством…“. ГБ тут же прекратило неудавшийся эксперимент. Начались у забывшегося зэка-вольноотпущенника обыски. Принялись готовить процесс и вскоре припаяли несчастному упрямцу второй срок» (Григорий Свирский. «На Лобном месте». — Лондон: 1979, с. 557).
Григорий Свирский, однако, излагает события весьма неточно. На самом деле все было значительно сложнее.
Когда Владимир стал издавать журнал, сразу в редакцию полезла весьма одиозная публика. Среди них особенно выделялся некто Скуратов. Весьма загадочная личность. «Скуратов» — это псевдоним. Настоящая его фамилия «Иванов». Характерен уже самый псевдоним почитателя Малюты Скуратова. Кто для него в русской истории оказался самой симпатичной личностью (на всякий случай можно предложить ему на выбор еще целую серию псевдонимов: Биронов, Аракчеевцев, Салтычихин, Ежовицын, Сталинцов и т. д. и т. п.).
Этот привел с собой в редакцию злополучного журнала еще ряд однотипных приятелей. Их лозунг был следующий: «Одобрять каждый шаг советского правительства». И вести ультрашовинистическую пропаганду.
Перу Скуратова принадлежит «программный документ» под названием «Слово нации», представляющий собой любопытный симбиоз советской фразеологии, черносотенной дребедени и фашистского расизма. Скуратов, в частности, горой за чистоту крови, за крепкое государство, за националистическую непримиримость.
Это было в 1973 году, когда я как раз освободился из лагеря. Я написал в ответ «Живое слово». Моя статья была передана за границу, но почему-то здесь «пропала» («Манифест» Скуратова не пропал; видимо, и здесь есть единомышленники Скуратова.)
Конечно, сейчас, через шесть лет, мне трудно возобновить эту мою статью. Все же постараюсь кое-что вспомнить.
На призыв к чистоте крови и филиппику против смешанных браков я указывал на то, что почти все деятели русской культуры были инородцами или произошли от смешанных браков. Денис Васильевич Фонвизин — наполовину немец. Александр Сергеевич Пушкин — правнук эфиопа («Арап Петра Великого») и шведки — Ганнибал был женат на шведке. Лермонтов гордился своими испанскими и шотландскими предками. Гоголь — чистой воды хохол. Жуковский — сын турчанки. Тургенев — потомок татарских ханов так же, как Аксаковы, Юсуповы, Рахманинов. Герцен — наполовину немец. Даже Достоевский — увы! — потомок литовцев. Даль — наполовину датчанин. О Левитане и Айвазовском я уж не говорю. Даже Бердяев наполовину француз так же, как Станиславский. У Александра Блока предки — шведы.
Как назло, чисто русскими оказываются такие деятели, с которыми Скуратовым уж никак не по пути и которые его к себе на порог бы не пустили. Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Желябов, Перовская. И, конечно, Лев Николаевич Толстой.
Зато династия Романовых, у которой в «Вече» было много поклонников, — все наперечет после Петра Великого немцы. Ничего удивительного здесь нет: примерно так же обстояло дело и в других государствах Европы. Например, Англию уже триста лет возглавляет немецкая династия — потомки ганноверских курфюрстов. Но как же здесь быть с расовой чистотой?
На попытки прикрыться православием согласно триаде: «Православие, самодержавие и народность» — я ответил стихотворением Державина, являющимся переложением псалма 82:
Державину, как известно, один из вельмож писал: «Что тебе вздумалось писать противные Творцу якобинские стихи?» Державин на это ответил: «Царь Давид якобинцем не был, и его стихи никому противными быть не могут[9]».
Что касается меня, то я могу сказать Скуратову и компании: Державин, уж во всяком случае, инородцем не был. Его стихи, уж во всяком случае, русскому человеку противны быть не могут.
Идея Царствия Божия на земле, перед которым все земные царства и государства лишь смешная и глупая подделка, — идея, которая проходит красной нитью через всю историю России от Нила Сорского до Аввакума, от Державина до Александра Блока, от Новикова до Владимира Соловьева. И я с детских лет захвачен этой русской идеей. И потому именно я, а не Скуратовы, законный наследник и последователь русской общественной мысли.
А дружба с Осиповым не прерывалась, хотя я и непосредственно ему однажды написал полемическое открытое письмо.
Он мне не раз говорил, что он не отделяет себя от демократического движения и ему очень тяжело, что демократы смотрят на него как на своего противника. Он никогда не сомневался, что придется ему снова быть в тюрьме.
Однажды я со свойственной мне фамильярностью, хлопнув его по брюху, сказал: «А располнел ты, Володя».
Он ответил: «Ну вот, скоро попаду в лагерь, похудею».
Вскоре он женился на Машковой. Ждал ребенка. Всегда страшно нуждался. Жил в утлой избушке. Между тем его отношения с членами редакции (главным образом, с пресловутым Скуратовым) все более обострялись. Наконец он объявил о прекращении издания журнала «Вече». Он имел на это право. Ведь он основатель и издатель этого журнала. Это был сильный удар по группе Скуратова. Правда, они попытались продолжать «Вече», но ничего из этого не вышло. Вышел всего один номер (как раз тот самый, в котором была напечатана статья, цитировавшаяся в книге Гр. Свирского «На Лобном месте», с. 559).
А за Осиповым в это время началась непрестанная слежка: стукачи ходили за ним буквально по пятам. Затем его стали вызывать на допросы. Стало ясно: арест неминуем. Он успел еще основать журнал «Земля».
Мы простились с ним перед моим отъездом за границу тепло, по-дружески. А через несколько месяцев (1 декабря 1974 года) я узнал о его аресте. Так была прервана деятельность Владимира Осипова, идеалиста и романтика, влюбленного в русский народ.
Прервана, но не прекращена. Через два года ему выходить на волю. И я верю, что он еще скажет свое слово.
Володя! Я в тебя верю!
Зима 1968–1969 годов — время расцвета демократического движения. В это время появляются все новые и новые люди. Усиливается активность прежних участников движения. В это время обостряется национальная проблема. И, между прочим, проблема крымских татар.
В ноябре умер патриарх демократического движения Алексей Костерин. Как я уже писал, я не был с ним знаком лично. Но те эманации, которые шли от этого человека, я ощущал и до и после его смерти.
Несгибаемое мужество, благородство, честность и правдивость — его основные черты.
Похороны Алексея Костерина вылились в волнующую демонстрацию. Бывают люди и события, которые трудно оценить современникам, которые являются прообразом будущего. К таким людям относился Алексей Костерин. К таким событиям принадлежит день его похорон.
14 ноября 1968 года происходили похороны Алексея Костерина. Власти всячески пытались предотвратить прощание с Алексеем Костериным. Обо всем этом читатель может подробно узнать из книги Петра Григорьевича Григоренко «Мысли сумасшедшего» (Амстердам: «Фонд имени Герцена», 1973, сс. 154–168).
Во время похорон я в Москве не был, слушал отчет о похоронах в Пскове по радио из Лондона. Тем не менее с похоронами Алексея Костерина связан ряд событий, которые коснулись и меня.
Когда я вернулся в Москву, все мои друзья были под впечатлением проводов Алексея Костерина. Из уст в уста передавались сообщения о речи Петра Григорьевича Григоренко. Особенно запечатлелись у всех в памяти заключительные слова его речи:
«Прощаясь с покойником, обычно говорят: „Спи спокойно, дорогой товарищ“. Я этого не скажу. Во-первых, потому, что он меня не послушает. Он все равно будет воевать. Во-вторых, мне без тебя, Алеша, никак нельзя. Ты во мне сидишь. И оставайся там. Мне без тебя не жить. Поэтому не спи, Алешка! Воюй, Алешка Костерин, костери всякую мерзопакость, которая хочет вечно крутить ту проклятую машину, с которой ты боролся всю жизнь! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя.
Свобода будет! Демократия будет! Твой прах в Крыму будет!» (там же, с. 160).
Последние слова речи знаменательны. Ибо значение Алексея Костерина в том, что он, русский человек, отец героини, повешенной немцами за партизанскую деятельность, был другом, другом действенным и энергичным, всех угнетенных народов.
Едва выйдя из лагеря, будучи реабилитирован и восстановлен в партии, он тотчас окунулся с головой в деятельность по восстановлению в правах репрессированных Сталиным народов. Он очень много сделал для возвращения в родные места чеченского, балкарского, ингушского и других кавказских народов, ставших жертвами сталинского разбоя. И наконец, крымскотатарский народ, о котором он пекся, за который стоял. Последние годы своей жизни Костерин — символ. Его значение в том, что он спас честь русского народа.
Известно, как много злых чувств накопилось последнее время у угнетенных народов против их угнетателей. И увы! Народы, которые плохо различают, где их друзья и где их враги, часто приписывают все злое тому народу, от имени которого их угнетают.
И в ответ мы можем молча указать на образ Алексея Костерина. Его похороны превратились в манифестацию всенародной дружбы, братства народов. Здесь были и крымские татары, и чеченцы, и ингуши. Украинец Григоренко и русский дворянин Подъяпольский, еврей Якир и чистокровный русак Ковалев. Их общая скорбь, общие слезы скрепили братство народов больше, чем все на свете декларации и документы. Речь Григоренко тотчас вышла из стен крематория, стала известной всей Москве, перешла через границы, потрясла весь мир.
Отреагировало на эту речь и столь почтенное учреждение, как КГБ. 19 ноября на квартиру Григоренко нагрянули с обыском представители Узбекского КГБ и их московские товарищи. Особенно усердствовал Березовский, следователь КГБ из Ташкента. Мне потом также пришлось с ним познакомиться. Препоганый тип. При воспоминании о нем чувствую, что лицо складывается в гримасу отвращения, как при воспоминании о холодной ползучей гадине, которую взял в руки.
Во время обыска в квартире Григоренко был молодой крымский татарин Мустафа Джемилев — самый смелый, самый отчаянный из деятелей крымско-татарского освободительного движения. При нем были все документы движения. И вот Мустафа совершил поступок, героизм которого равен его изобретательности. Уходит в другую комнату и спускается с пятого этажа на длинной веревке. Веревка не достала до земли, и Мустафа должен был спрыгнуть с высоты четырех-пяти метров. Он упал на колено, сломал ногу. Но и со сломанной ногой добежал до реки и успел уничтожить все документы. Самое интересное, что все это проделал отважный Мустафа в тот момент, когда вся квартира была полна кагебистами. Почти на их глазах. И никто из них ничего не заметил. Заметил «внешний надзор». Стукачи, которые дежурили во дворе.
Когда Мустафу приволокли обратно в квартиру, Березовский, руководивший обыском, устроил истерику. Он кричал на своих подручных: «Мерзавцы, лодыри! При вас человек прыгает с пятого этажа, и вы ничего не видите!»
Со своей точки зрения, он был прав.
Я познакомился с Мустафой и был первый раз в доме Григоренко в январе 1969 года. В этот день в квартире у Якира было много гостей. Не помню, по какому поводу, кажется, день рождения. Когда я пришел, Юлий Ким мне сказал: «Вас очень хочет видеть Григоренко. В конце вечера я напишу вам адрес Григоренко и положу его вот сюда», — он показал мне на жилетный карман. Но ему не пришлось класть мне адрес в карман. Вскоре пожаловал сам Петр Григорьевич с женой Зинаидой Михайловной. Здесь я с ней и познакомился.
Петр Григорьевич мне объяснил, что речь идет о подписании каких-то двух документов. Было решено, что от Якиров поедем к Григоренко.
У него был не совсем еще поправившийся, с ногой в гипсе, Мустафа Джемилев. Видел я его в первый раз. Он был очень бледен. И это придавало особый колорит его красивому восточному лицу. Он сразу заговорил со мной о религии, сказал, что очень хотел бы познакомиться с моими апологетическими статьями. Он на меня произвел очень хорошее впечатление.
Впоследствии я встречался с ним несколько раз, хотя особого сближения у нас не получилось. Мы все время чередовались, то он в тюрьме, я на воле, то я в тюрьме, он на воле.
Парадокс: я подарил правоверному мусульманину Коран, вышедший в русском переводе.
Мы, разумеется, не могли с ним сойтись в исторической оценке русского народа, но никакой ненависти к русским ни в нем, ни в других представителях крымско-татарского народа я не видел. Вообще говоря, можно поздравить крымских татар с тем, что в их среде находятся такие люди. Почти античные герои. Рыцари без страха и упрека.
Если после всех гнусностей и жестокостей, которые они испытали, они не ненавидят русских, то и за это спасибо и земной поклон.
С крымскими татарами у меня складывались прекрасные отношения. К сожалению, не могу этого сказать про украинских националистов. Здесь, конечно, в первую очередь сказывается эмоциональное отталкивание.
Я мало бывал на Украине, но на Украине родился мой отец. Он учился в Киеве. Со стороны матери все мои предки с Украины: дед — сын священника из Могилев-Подольска, мой двоюродный прадед — архиепископ Анатолий Мартыновский — коренной украинец.
С детства я любил Киев. Все свое детство я провел около подворья Киево-Печерской Лавры в Петрограде, среди монахов этой древней обители.
Поэтому для меня почти невозможно представить себе, что Украина — иностранное государство, что Киев не наш, не русский город. И даже в своих молитвах я ежедневно с детства привык поминать три города: Петроград, Москву и Киев.
В этом мое коренное расхождение с украинскими националистами, которые стремятся доказать, что украинцы и русские — разные нации.
В мае 1969 года я имел продолжительную дискуссию с Вячеславом Чорновилом на квартире у Григоренко. Как сейчас помню: теплый майский день, воскресенье, — это было перед самым арестом Петра Григорьевича. Он меня пригласил к себе по телефону.
Подхожу к его дому. Проходя через церковный двор (около церкви Николы в Хамовниках), увидел группу людей (человек пять-шесть мужчин и женщин). Стоят и о чем-то оживленно беседуют. Присматриваюсь. И вдруг замечаю кожаное пальто Габая.
Подхожу ближе, вижу «знакомые все лица»: Якир, Красин, Габай и две девушки из наших. Подхожу. Здороваемся.
«Что вы тут стоите?»
Красин: «Нас выгнали».
Я: «Откуда?»
Красин: «От Григоренок».
Впоследствии оказалось, что у них действительно произошел какой-то инцидент с хозяевами на личной почве, и они демонстративно покинули дом.
Прихожу. Открывает дверь Зинаида Михайловна. В столовой много народа: кроме хозяев и двоих сыновей, Вячеслав Чорновил, Наталья Горбаневская, А. С. Есенин-Вольпин, жена Валентина Мороза.
Усаживаюсь. Оказывается, это встреча с Вячеславом, приехавшим из Львова. Начинается беседа. Слава Чорновил говорит об Украине.
Я попросил разрешения сделать несколько замечаний. Так как они не утратили (во всяком случае, для меня) своей актуальности, повторяю их вновь.
1) Мой отец, проведший половину своей жизни на Украине, говорил: «Кому могло прийти в голову, что между тверским и киевским мужичком есть какая-нибудь разница. Меньше всего это могло прийти в голову им самим».
2) Когда в двадцатые годы была искусственно создана Украинская автокефальная церковь, народ ее не принял и с негодованием отвернулся от автокефалистов.
Петр Григорьевич здесь подал реплику: «Это могу подтвердить: „автокефалист“ считалось ругательным словом».
3) Чем объяснить, что украинское националистическое движение (от Шевченко до Петлюры) запятнало себя грубым антисемитизмом?
4) Чем объяснить, что великие украинцы: Николай Васильевич Гоголь, Григорий Саввич Сковорода, митрополит Стефан Яворский, Николай Костомаров, Квитка-Основьяненко, Анна Ахматова, Димитрий Сергеевич Мережковский и другие — никогда не отделяли себя от России?
5) Отделение Украины от России не только будет границей, проведенной по живому телу (между городами Харьковом и Курском), но и нанесет экономический ущерб самой Украине.
6) Граница между Россией и Украиной пройдет через каждую семью. Ибо нет почти ни одной семьи, где не было бы украинцев и русских (если муж украинец, жена у него русская, и наоборот).
Вячеслав дал на каждое мое замечание развернутый ответ. Говорил спокойно. Ответы были четкие, ясные, и — каюсь — кое в чем он меня ставил в тупик. Мне нечего было ему ответить.
1) Отвечая на замечание, он согласился со мной, что до революции многие украинцы не отличали себя от русских. Однако, говорил Вячеслав, — о чем это свидетельствует: только о том, что национальное сознание было искусственно притушено. Как только (в 1917 году) украинцам было позволено самим решить свою судьбу, плебисцит высказался за отделение от России.
2) Украинское автокефальное движение являлось в те времена (в двадцатые годы) искусственным порождением. Власть его поддерживала с целью расколоть Церковь, видя главную опасность в объединении Церкви вокруг Патриарха Тихона. Народ стоял за Патриарха Тихона, — и это было протестом против советского произвола.
3) Антисемитизм был свойствен некоторым слоям украинцев, однако не в меньшей степени он был свойствен русским националистам. Достаточно назвать хотя бы одно имя: Достоевский.
4) Многие украинцы действительно не отделяли себя от России. Но это ровным счетом ничего не доказывает, кроме того, что вековое воспитание оказывает влияние и на великих людей.
Далее Вячеслав сказал, что сейчас необходим плебисцит. При этом вовсе не обязательно, чтобы Украина отделилась от России. Может быть, народ выскажется за автономию.
Вячеслав закончил риторическим вопросом: если вы все так уверены, что украинцы не хотят отделяться от России, почему вы так против плебисцита?
На это мне нечего было отвечать: если бы это зависело от меня, я высказался бы за то, чтобы плебисцит проведен был завтра. К сожалению, его не хотят не только советское правительство, но и украинские националисты (типа Мороза). Во всяком случае, с Чорновилом я договорился бы в один день.
Наш спор прервала Наталья Горбаневская, провозгласив лозунг: «За вашу и нашу свободу». После этого большая серебряная чарка стала переходить из рук в руки. Пригубив от чарки, я передал ее своему соседу — Александру Сергеевичу Есенину-Вольпину. (О нем речь впереди.) Приняв от меня бокал, Александр Сергеевич сказал: «За это я готов пить даже с христианином».
Я спросил: «Чем же это вам так насолили христиане?»
Он ответил: «Я не могу простить им Джордано Бруно».
Я: «Джордано Бруно был тоже христианин. Не вмешивайтесь в чужие семейные дела».
Генерал подтвердил мои слова. Прощаясь, я перекрестил Чорновила и сказал: «Храни тебя Бог, Слава» и трижды поцеловался с ним.
И сейчас, когда он томится в заключении в далекой Сибири, я снова повторяю эти слова.
Разговор с Чорновилом имел, однако (независимо от личных симпатий), неважные последствия. Вернувшись во Львов, он рассказал своим друзьям, каковы настроения русских диссидентов, а это сильно затруднило сотрудничество единомышленников.
Как говорил мне впоследствии, шутя, мой крестник Андрей Григоренко: «Как жаль, что вас не выгнали (подобно Якиру и Красину). Это была политическая ошибка».
Из других украинских националистов я знал Леонида Плюща. О начале нашего знакомства он рассказывает в своих воспоминаниях.
Но встреча, о которой он рассказывает, была не первой, а второй. Первый раз я его видел в доме Григоренко, когда он пришел с вокзала, мрачный, взъерошенный. Его задержали на перроне, забрали в кутузку и обыскали. Мы слушаем, стараемся ободрить. Все мы такие разные: Зинаида Михайловна — чистая русачка и старая коммунистка. Андрей, ее сын. И я, человек, с пяти лет «чокнутый» на церкви. Церковник до мозга костей. Как все-таки сближают людей страдания.
И второй раз, также в доме Григоренко, когда я, по поручению хозяйки, будил его, чтобы завтракать. Никто из нас тогда не думал ни о философских дискуссиях, ни о спорах на религиозные темы, ни о территориальных спорах вековой давности. Думали о нависшей над нашими друзьями опасности. О грядущих страданиях. И увы! Страдания пришли. Назревали страшные и отрадные события.
Встреча с Вячеславом Чорновилом в мае 1969 года на квартире Петра Григорьевича Григоренко была последним радостным событием в семье Григоренко. Через несколько дней после этой встречи Петр Григорьевич поехал в Ташкент для выступления на суде в защиту крымско-татарских деятелей, а через несколько дней в Москве узнали о его аресте. (Как оказалось, телеграмма, данная Григоренко из Ташкента с просьбой приехать, была фальшивкой, исходящей от КГБ.) Арестовать широко известного человека, генерала, героя Отечественной войны, в Москве не хотели. Известие об аресте генерала произвело на нас впечатление разорвавшейся бомбы. Стало ясно, что наступает новый период репрессий.
Каковы причины ужесточения советской политики?
Видимо, непосредственной причиной был выстрел лейтенанта Ильина в правительственную машину, в которой, как он предполагал, ехал Брежнев; на самом деле там ехали космонавты с аэродрома в Кремль после одной из «побед в космосе».
Этот выстрел страшно испугал правителей, и они решили перейти к испытанным сталинским методам. Одним из первых проявлений этого нового периода в советской политике был арест генерала Григоренко. Однако наиболее глубокой причиной было очевидное крушение официальной пропаганды, ее неумение справиться с маленькой, но все растущей группой диссидентов. Кстати, именно в это время в западной прессе появляется этот термин для обозначения оппозиции в Советском Союзе.
Ко мне, в мой маленький домик в Ново-Кузьминках, печальное известие об аресте генерала принес Женя Кушев. Тотчас я отправился в Хамовники на квартиру Григоренко к Зинаиде Михайловне. Там я застал многих взволнованных людей. В том числе Есенина-Вольпина.
С этого времени мой контакт с семьей Григоренко становится тесным. Я становлюсь другом дома.
Здесь время рассказать об этой семье. Жена Петра Григорьевича Зинаида Михайловна («генеральша») во всех отношениях колоритная личность. Она родилась до революции в небольшом городке Рязанской области — в городе Раненбурге. Урожденная Егорова.
Петр Григорьевич Григоренко — украинец, сейчас ходит в украинских националистах. Но ничего более русского, чем Зинаида Михайловна, и представить себе нельзя. Сейчас ей уже за семьдесят. Но красива она и до сих пор. Высокая, статная, широкая в плечах. Настоящая русская краса.
Родилась она в семье железнодорожника, станционного рабочего. Детство и юность приходятся на революционные годы. В семье был разброд. Отец — старый коммунист, вступивший в партию еще до революции. А дочка Зинаида пошла в церковь, записалась в церковные певчие, пела на клиросе.
Но вскоре все стало на свои места: Зинаида Михайловна с обеими сестрами вступила в комсомол, а потом в партию. По-разному сложилась жизнь у трех сестер. Одна из сестер — работница Коминтерна — стала отчаянной троцкисткой, скиталась по тюрьмам, умерла где-то в Сибири в заключении, быть может, от чекистской пули. Другая сестра осталась «твердокаменной большевичкой», сейчас на пенсии и знать не хочет сестру.
Тяжел путь Зинаиды Михайловны. Начало, впрочем, было блестящим. Она окончила «коммунистический вуз». Хорошо знала Мартынова (Пикеля) — старого социал-демократа, лидера так называемых «экономистов»; его именем начинаются все, без исключения, книги по истории партии. Он основатель первой «антиленинской» группировки. Всю жизнь спорил с Лениным. Был много правее меньшевиков. И вот после революции неожиданное сальто-мортале: вступил в коммунистическую партию, стал деятелем Коминтерна. Он, однако, вряд ли был беспринципным приспособленцем. Его логика, видимо, такова. Он всегда был «бернштейнианцем» — сторонником хождения в рабочий класс, глубинного рабочего движения.
И вот революция произошла. Рабочий класс с большевиками (этого, к сожалению, отрицать нельзя). Значит, надо быть там, где рабочий класс.
Как говорят, был веселым добродушным стариком. Зину Егорову любил. Играл с ней в горелки. Между тем «товарищ» Егорова делает блестящую карьеру. Уже в 21 год читает лекции по политической экономии в Университете им. Свердлова. В том самом университете, где подвизается Бухарин, где читают лекции все руководящие деятели коммунистической партии. И Ленин и Сталин.
В это время она знакомится с молодым преуспевающим партийным работником. Писаным красавцем. Выходит за него замуж. Это была большая удача. Все знакомые говорят: «Какие должны быть красивые у них дети».
Вскоре рождается сын. И вот тут начинается полоса неудач и несчастий. Сын Олег — неизлечимо больной. Дебил. Он считался нежизнеспособным. Врачи думали, что дни его сочтены. Сейчас ему уже под пятьдесят. Это старейший в мире дебил (обычно дебилы живут до 20–25 лет). То, что сделала Зинаида Михайловна, поразительно. Сколько надо было усилий, чтобы научить его держать язык во рту. Чтобы развить самые обычные рефлексы. Через много лет, когда она была замужем уже за Петром Григорьевичем, генералу пришлось говорить с профессором, специалистом по болезням такого рода. Профессор сказал: «Ваша жена, видно, тоже нездорова. Постоянное общение с больным сыном сказывается. Представьте себе, она мне говорит такую дикость, что ее сын читает газеты».
«А вы знаете, он действительно читает газеты».
«Как? Не может быть».
«Да, ежедневно он прочитывает газету, от первой строки до последней, и даже переписывает оттуда статьи».
Профессор взял Олега к себе в кабинет, говорил с ним два часа, а потом дважды демонстрировал его студентам. Он говорил: «Смотрите, что может сделать героическая мать. Так развить дебила. Это чудо. Это настоящее чудо!»
После этого он предложил Зинаиде Михайловне соавторство в его работе о дебилах с тем, что она будет писать об Олеге. Ученая степень доктора должна быть присуждена им обоим.
Зинаида Михайловна ответила: «Извините, профессор, делать трагедию моей жизни средством для получения докторской степени я не могу и не буду».
Между тем первый муж Зинаиды Михайловны делает блестящую карьеру: он становится первым секретарем Оренбургского, а затем Саратовского обкома партии. Он фанатичный коммунист, но кристально честный человек. Как-то раз в Оренбурге Зинаиде Михайловне (жена секретаря обкома — «губернаторша») один из местных работников принес модельные туфли (в тридцатые годы достать такие туфли была проблема). Муж Зинаиды Михайловны сделал по этому поводу скандал и тут же вернул туфли. Никаких привилегий. Проходит несколько лет, и он нарком (министр). Зинаида Михайловна «госпожа министерша» — жена наркома, как их тогда называли. И вдруг — трах! 1937 год — ее мужа арестовывают. Арестовывает и ее саму. Ее муж погиб в страшных стенах Лубянки. Сначала его осудили на 10 лет. Повезли в лагерь. Потом затребовали обратно. Возобновили дело. Видимо, кто-то захотел сделать на нем карьеру. Избивали страшно. И во время одного из допросов следователь нанес ему страшную рану в голову каким-то тяжелым предметом. Через два часа он умер в камере.
А Зинаида Михайловна провела целые два года в этих страшных стенах. Лишь в 1939 году, после снятия Ежова, когда наступила «бериевская оттепель», ее выпустили.
И вот она на свободе. Она возвращается к своим родителям, к своему больному сыну. Все рухнуло. Надо все начинать заново.
Но неистощима энергия этой женщины. Необыкновенна ее работоспособность. И не меркнет ее красота.
Она восстанавливается в партии. Принимается за работу. И вскоре знакомится с молодым, бравым, высокого роста полковником, со своим будущим мужем — Петром Григорьевичем Григоренко.
Он из украинских крестьян. Отец его коммунист. Он боевой офицер. Участвовал в боях и под Хасаном, и под Халхин-Голом, но в личной жизни не повезло. Жена у него тяжело больна. А семья большая, четверо сыновей. Вскоре жена умерла. Полковник влюбляется в красавицу Зинаиду Михайловну. Остальное известно. Сам генерал описал свою жизнь в своих воспоминаниях, вышедших по-французски. Вскоре, надеюсь, они выйдут и на русском языке.
Укажу здесь лишь основные даты их жизни. Отечественная война. Полковник на фронте. Его сопровождает его молодая жена. Она работает сестрой. Несколько раз выносит мужа из-под огня. Он тяжело ранен. Она его выхаживает, смертельно раненного. В конце войны его производят в генералы. После войны он профессор Военной академии.
Между тем семья растет. В 1945 году у Зинаиды Михайловны рождается сын Андрей. Семья, как выражается Зинаида Михайловна, сборная. В одной квартире — генерал с женой, родители Зинаиды Михайловны, Олег — сын Зинаиды Михайловны от первого брака, четверо сыновей Петра Григорьевича от первой жены, и вот Андрей. Как успевала Зинаида Михайловна вести такое семейство? Это снова чудо.
Скажем и о Петре Григорьевиче. То, что я ценю в нем больше всех его военных и гражданских подвигов: первое место Олегу — больному приемному сыну. У него лучшая комната. Он на первом месте. Но и другие ребята не забыты. Как говорил мне Андрей: «На всех она хорошо повлияла». И образцовая жена. И снова хочется повторить не раз приходившие мне на ум слова: «Превосходный человеческий материал».
Петр Григорьевич считает и неоднократно об этом заявлял, что в перестройке его мировоззрения он во многом обязан жене. Она привлекла в дом старых друзей — друзей ее первого мужа, — старых коммунистов еще «ленинской гвардии», вернувшихся из тюрем и лагерей. И Петр Григорьевич, поклонник Сталина, постепенно становится на путь оппозиции. Правда, и до этого у него были сомнения в том, что называется «генеральной линией партии». Но война погасила эти сомнения. Как я от него однажды слышал: «1937 год поколебал мое уважение к Сталину. Война вернула мое уважение к нему. Умнее руководить было нельзя». Ум действительно никто не отрицал у Сталина, но разве в уме дело?
Вероятно, главную роль, помимо личных влияний, сыграла также изменившаяся ситуация. До войны «недостатки», как мягко выражались советские люди, списывались на ситуацию: военная опасность, фашизм, а во время войны и вообще все оправдывалось войной. Надо бить фашистов — остальное потом. Даже Рузвельт и Черчилль были под влиянием этой концепции.
И вот наступило «потом» — 1945 год. И оказалось, как говорится в одной эпиграмме Ильи Сельвинского:
Это отрезвило многих. Затем смерть тирана и XX съезд.
Генерал как честный человек должен был сказать режиму решительное «нет!». Основание оппозиционной группы коммунистов и дальнейший крестный путь.
Жена всегда рядом с ним. Обивает пороги в Ленинграде, в психиатрической больнице им. Фореля. Потом, когда его выпускают из «психушки», работает вместе с ним на вешалке. Нуждается. Ходит мыть полы потихоньку от мужа. Четверо сыновей уходят из дома. Андрею, когда его вызывают на допрос, она говорит: «Если ты что-нибудь скажешь про отца, то имей в виду, ты не будешь иметь ни отца, ни матери».
Потом вновь деятельность Петра Григорьевича в рамках демократического движения. И новый арест мужа.
Я познакомился с ней в один из самых критических моментов ее жизни. Под впечатлением происшедшего я написал статью о генерале. Привожу ее здесь.
Свет в оконце
Арестован генерал Григоренко.
Петр Григорьевич Григоренко — честнейший, бескорыстнейший русский человек. В чьем сердце не откликнулось горестным эхом это известие? Кто не вздрогнул, услышав эту весть?
Не вздрогнул и остался равнодушным тот, в ком окончательно заснула совесть, кто окончательно потерял чувство чести.
Петр Григорьевич Григоренко происходит из простой крестьянской семьи. Украинец по отцу, великоросс по матери, он родился в 1907 году, почти вместе с XX веком. И вся жизнь его прошла в гуще этого трагического и величавого века. Крестьянский сын, он вступил в комсомол в ранней юности и был комсомольским активистом у себя в деревне. Он в двадцатых годах по глубокому внутреннему убеждению вступил в коммунистическую партию; ревностным коммунистом он остается и до сего дня. С его письменного стола на вас смотрит Ленин, портрет которого стоит, прислоненный к углу, точно икона. А говорит он о коммунизме с такой горячей верой, что даже люди, наиболее далекие от коммунизма, на какое-то мгновение начинают верить в него. Петр Григорьевич в молодые годы избрал себе профессию военного, — и вся его жизнь прошла под боевыми знаменами. Кадровый офицер, боевой генерал, проделавший весь путь Отечественной войны — от 22 июня до Дня победы, ученый артиллерист, профессор Академии, он сросся с армией.
Он — генерал до кончиков ногтей. Генерал и в штатском платье, которое не может скрыть его военной выправки и которое так не идет к его богатырскому росту. Осенью прошлого года я слышал передачу по иностранному радио, в которой нашего генерала называли старым, вздорным служакой, какие имеются во всякой армии. Какой глупый образ, и как не похож Петр Григорьевич на тот тип старого бурбона, о котором говорит радиообозреватель. Нет, армия не убила в генерале ни ума, ни сердца. Мягкий, все понимающий, снисходительный к любым человеческим слабостям, тонко чувствующий и внимательный к каждому человеку, генерал представляет собой тип настоящего интеллигента. Откуда усвоил крестьянский сын деликатность, чувство такта, изящество манер? Не знаю. Вероятно, ниоткуда. Он таким родился и таким дожил до 62 лет. Вспоминаю его и сейчас, в своей комнате, в той самой комнате, в которой я принимал его месяц назад, на Пасху. И не верю: неужто действительно он арестован, брошен в какую-то вонючую камеру?
Не верю, но не верить нельзя. Не мужское дело предаваться сентиментам. Давайте разберемся в том, что произошло.
Четыре года назад меня принял (вследствие моего заявления, поданного в ЦК) зав. отделом агитации и пропаганды Московского горкома Шумилов (кажется, Анатолий Петрович, — я запомнил имя, потому что он мой тезка).
От него я услышал следующую фразу: «Насколько я понимаю, вы сделали целью своей жизни защиту религии. Ну, и защищайте ее себе на здоровье. Почему вы все время лезете в политику?»
Я вспомнил этот эпизод потому, что подобные советы я слышу каждый день от самых разных людей: от друзей и от врагов, от церковников и от коммунистов, от семинаристов и от убеленных сединами протоиереев. Я хочу, однако, выслушать совет главы моей Церкви. Главы живого и вечного. Открываю Евангелие. Читаю: в Евангелии так: «…некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
Кто из троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк.10:30–37).
Таков ответ Господа.
Я видел с детства людей, скованных страхом, страхом, который овладевает людьми, парализует их способности, превращает их в идиотов. Я видел с детства уйму несправедливости, жестокости, мерзости. Как только ни издевались над людьми, как только ни мучили их, как только ни плевали им в душу! Потом эти несправедливости были осуждены. Но на смену им пришли новые несправедливости, новые страдания, новая ложь.
И кто поможет страждущим, обремененным, обиженным судьбой. Может быть, священники?
Они проходят мимо: они заняты повседневной работой[10], а многие из них целиком уходят в быт, становятся мещанами и эгоистами.
Но, может быть, левиты (активные работники Церкви), которые шмыгают по заграницам, обжираются черной икрой на банкетах, получают бешеные оклады в Иностранном отделе при Патриархии и пишут бездарные статейки в ЖМП[11]? Может быть, они помогут израненному? Нет, эгоистичные и продажные, они тоже проходят мимо.
Я принадлежу к Православной церкви и вовсе не хочу бросить в нее камень, хотя я критикую пиявок, присосавшихся к ней и питающихся ее соками. Но в настоящее время я вижу больше Христова духа в людях, пришедших со стороны, — самарянах.
Разве не милосердным самарянином был П. Г. Григоренко, когда в 1961 году он, преуспевающий молодой генерал, выступил на партконференции с резкой критикой Хрущева и поплатился за это своей карьерой, обрек себя на скитания по тюрьмам и сумасшедшим домам, на обыски и аресты, на унижения и оскорбления? Разве не милосердным самарянином явился он сейчас, когда шел на помощь чуждому ему по крови крымско-татарскому народу, и за это поплатился свободой? Разве не милосердными самарянами являются Петр Якир, Павел Литвинов, Лариса Богораз, Владимир Буковский, Виктор Красин, Александр Гинзбург, Виктор Хаустов, Юрий Галансков, Ирина Белогородская, вся жизнь которых отдана людям, ибо они отдали народу все — все без остатка, ничего не оставив себе?
Я преклоняюсь перед душевной чистотой арестованного сейчас Ильи Габая, скромного, честного, веселого человека, всю жизнь страдавшего за свои убеждения.
Я с волнением прочел письмо Ивана Яхимовича, написанное за два часа до ареста, полное достоинства, беззаветной любви к народу и смелости. И я воскликнул об этом коммунисте: «Се человек».
И я иду к этим людям, поднявшим знамя борьбы за правду и свет… Ни в чем не поступясь своими убеждениями, оставаясь верующим христианином и сыном русской Православной церкви, я иду вместе с ними и буду счастлив разделить их судьбу.
В быту до сих пор неверное представление о политике. Считают политику чем-то грязным, надувательским, чем занимаются хитрые честолюбцы, жаждущие власти. Зачастую это так и бывает. Но есть и другие политики — политики, прототипом которых является Данко, сердце которого — огненный факел, освещающий путь народу.
В шестидесятые годы прошлого века жил в Москве человек крайне консервативного образа мыслей, монархист и славянофил И. С. Аксаков. Но он был верующим христианином. И неожиданно для всех он приветствовал бунтаря Гарибальди, потому что, как писал он: «Гарибальди не только политическое, но глубоко нравственное явление».
Политика из ремесла становится подвигом, когда человек отдает себя народу и жертвует собой за народ. Политика становится глубоко нравственным явлением, когда человек идет за нее на страдания. Церковь в Страстную неделю, говоря о Христе, желая подчеркнуть особую высоту Его подвига, указывает, что на страдания Он шел по своей воле. Она говорит словами отпуста: «Христос, грядый на вольную страсть, истинный Бог наш». Но и все вышеперечисленные нами люди грядут на вольную страсть, и в этом они уподобляются Иисусу Христу, становятся (независимо от своих убеждений) причастниками Его страданий.
Недавно я стал крестным отцом девушки-еврейки, поэтессы, вольнолюбивого человека, которая написала перед крещением следующие строки:
Петр Григоренко и его товарищи идут по жизни прямой дорогой, и я верю, что она приведет их к Богу, как привела уже многих вольнолюбивых людей, которые принимают крещение и присоединяются к Церкви в эти дни.
Но они дороги мне и сейчас, какие они есть, и неверующими. И я считаю их братьями своими во Христе — во Христе, грядущем на вольную страсть.
Среди верующих людей есть представление о политике, что она является чем-то низменным, слишком земным, отдаляющим от Бога. «Я не могу без отвращения слышать о политике», — сказал мне недавно один молодой священник, встретившийся со мной в вагоне электропоезда. Так говорят мещане в рясах, но не так говорит истинно церковное сознание. Церковное мировоззрение хорошо выражено в известной русской легенде о святом Касьяне и о святителе Николае, архиепископе Мир Ликийских.
Шли однажды два святителя к Богу в белоснежных ризах, символизирующих их душевную чистоту, а по дороге им попался мужичок, который вытаскивал завязшую в грязи телегу. Глянул на него святой Касьян и прошел мимо, ибо не захотелось ему марать в грязи свою чистую ризу. А святитель Николай помог мужику и пришел к Господу в одежде, облепленной грязью. И Господь сказал святителям: «Ты, Касьян, за то, что не помог мужику, будешь праздноваться раз в четыре года, а ты, Николай, за то, что помог, будешь праздноваться не один, а два раза в год».
И действительно, святитель Николай не боялся грязи, и он не боялся вмешиваться в политику: он спасал невинных людей, осужденных на смертную казнь, посещал тюрьмы, вступался за обиженных, боролся со всякой несправедливостью, откуда бы она ни исходила… И потому ставит его наша Церковь на одно из первых мест среди святых угодников Божьих «Друг Христов и вторый Петр явился еси, отче…», — восклицает она словами песни шестой канона святителю.
А эгоистичных и теплохладных, которые равнодушны к людским страданиям, изблюет Господь из уст Своих и прогонит прочь от Лица Своего и в этой жизни и в будущей.
Но чего хочет Григоренко, чего хотят его товарищи, из-за чего они страдают?
Начнем со второстепенного — с того, что послужило непосредственным поводом для ареста П. Г. Григоренко и И. Я. Габая, — с дела крымских татар. Скажу для начала несколько слов о своем восприятии этой проблемы. Мой отец был до революции мировым судьей в г. Баку, и ему была присуща психология колониального чиновника со всеми его слабыми сторонами — и прежде всего великоросский шовинизм, сопровождавшийся пренебрежительным отношением ко всем «инородцам» (не исключая и евреев, из которых он сам вышел). Особенно пренебрежительно Эммануил Ильич относился к татарам. И, к своему стыду, должен признаться, я воспринял от него подобное же отношение к татарам. Я помню, с каким неприязненным чувством я, будучи молодым учителем, отнесся к вновь назначенному директору школы только потому, что она была татарка. О крымских татарах я имел самое смутное представление и никогда о них не думал. Но в 1944 году произошел случай, который заставил меня остро почувствовать горе крымских татар.
1 мая 1944 года я поехал в дом отдыха под Ташкент в качестве корреспондента последних известий при Узбекском радиокомитете. Администрация приняла меня хорошо и поместила в одну комнату с начальником крупного строительства какого-то предприятия. И вот что рассказал мне начальник:
— Плохо у меня было с рабочей силой. Совсем плохо. Местность безводная, проклятая. Пустыня. Кто поедет? Совсем я горел, но выручили крымские татары.
— Как так?
— Да так. Привезли несколько эшелонов. Мужики, бабы, старухи, маленькие дети. Я им говорю: «Идите работать». — «Не пойдем». — «Ах, так. Ладно. Помещения не даю. Карточек не даю. Ничего не даю». А там ни сельсовета, ничего нет. Я — хозяин. Посидели три дня — половина пошла работать. Посидели неделю. Все пошли. Ну, тут я их и запряг. План выполнили. И орден получили.
— Ну, а крымские татары как?
— Да ничего… Впрочем, перемерла половина.
И тут я почувствовал, что дрогнуло мое сердце и комок подступил к горлу. Я почувствовал острую жалость к этому чуждому для меня народу. И как я был счастлив, когда через много-много лет я смог поставить свою подпись под петицией, требующей справедливости к этому многострадальному народу. Но это не только многострадальный народ; это свободолюбивый и благородный народ. Из его среды выходят честные и смелые борцы за справедливость. Такими людьми являются Гомер Баев (чью мужественную речь на суде в Симферополе, произнесенную в конце апреля этого года, читал я вчера), а также героические защитники своего народа, которые должны предстать перед судом в Ташкенте.
И русский народ побратался с крымцами, протянув им руку в лице лучших своих сынов — недавно умершего писателя Алексея Костерина и генерала Петра Григоренко, которые отдали столько сил за возвращение крымцев в родные места. И теперь я спокоен: подленький писатель Первенцев в сталинские времена оплевывал крымский народ, но Костерин и Григоренко спасли честь русского народа, и отныне татаро-русское братство нерушимо вовеки.
Борьба за возвращение крымцев на родину — это, однако, лишь часть единой великой проблемы. Проблемы борьбы за демократию и за человечность в нашей стране.
За демократию. Очень много ругали и ругают буржуазную демократию. И действительно, она, как и все на свете, не является идеалом. Она не смогла предотвратить власти золотого тельца над душами людей. Однако не следует забывать, что демократия — величайшее достижение человечества. Свобода слова, свобода печати, свобода совести, свобода гражданской деятельности, завоеванные сначала в Англии (вследствие двух революций), а затем провозглашенные на весь мир Великой французской революцией, являются основой человеческого общества; только эти свободы поднимают человеческое достоинство, дают возможность людям отстаивать свои права, обеспечивают справедливость. Только при соблюдении этих свобод — общество является обществом. Без них — не общество, а баранье стадо, бегущее за первым попавшимся пастухом, которому посчастливилось взять в руки палку. И тем не менее одной политической демократии мало — нужна еще (в этом великая идея Сен-Симона, Фурье, Прудона и Маркса) и демократия экономическая.
Октябрьская революция разрушила капитализм, — она заложила основы социализма. Однако, в силу исторических причин, она вырвала те слабые побеги буржуазной демократии, которые имелись в феодальной царской России.
Говоря языком Гегеля, Октябрьская революция была антитезисом по отношению к тезису — буржуазному обществу.
Антитезис, как известно, означает отрицание. И действительно. Октябрьская революция отрицала буржуазное общество целиком и полностью, перечеркивала в нем все как отрицательное, так и положительное, что в нем было. В том числе и политическую свободу. Вряд ли можно будет за это судить кого-либо. К сожалению, все революции всегда впадали в крайность.
Общество, построенное Октябрем, является также антитезисом капитализма. Оно отрицает не только власть золотого тельца, но и политическую свободу. Если из отрицания частного предпринимательства выросла грандиозная промышленность, не знающая частных хозяев, что является несомненным достижением, то из отрицания политических свобод выросла сталинщина, стоившая бесчисленных жертв, задержавшая историческое развитие нашей Родины на десятилетия и отнюдь не преодоленная до сих пор.
В данное время наш народ хочет синтеза — отрицания отрицания.
Таким синтезом может быть только социалистическая демократия — строй, в котором органически сочетается социалистическая собственность на средства производства с неограниченной свободой убеждений (исключение должно быть сделано лишь для человеконенавистнических идей — расизма, фашизма, деспотизма), с уважением человеческой личности, с полным отсутствием беззакония и произвола.
В нашей стране нет сторонников капитализма — мы все сторонники социалистической демократии.
Социализм и свобода. Свобода и социализм. Вот чего мы хотим, и мы этого будем добиваться до конца своей жизни и, если нужно, за это умрем.
Когда я говорил, что мы боремся за демократию, я не случайно прибавлял: И за человечность. Ибо сталинщина — это не только произвол, но прежде всего бесчеловечность.
О том, как бесчеловечность при Сталине пронизывала всю жизнь, говорить не приходится. Достаточно обратиться хотя бы к произведениям Солженицына, Евгении Гинзбург и Дудинцева, — если у кого-нибудь ослабла память.
Но долой имперфекты, — будем говорить о настоящем. Впрочем, все-таки вспомним историю.
Когда княгиня М. Н. Волконская, собираясь ехать в ссылку за своим мужем — декабристом С. Г. Волконским, обратилась с просьбой к Николаю I, то он, как известно, ответил ей письменным разрешением. Как излагает Некрасов письмо Николая, царь, «не смея противиться чувствам высоким таким, давал он свое позволенье, но лучше б желал, чтобы с сыном своим осталась бы я…» (Некрасов очень точно воспроизводит смысл письма Николая I.)
Так было, а что мы видим теперь? Невеста Александра Гинзбурга, которая только ввиду неожиданного ареста жениха не успела зарегистрировать свой брак (заявление в ЗАГС уже было подано), 14 раз подавала заявления с просьбой разрешить ей оформить брак, и 14 раз ей было в этом отказано. Сейчас она не может получить свидание с любимым человеком. Она бьется как рыба об лед, кидается во все инстанции. Она не ставит перед собой никаких политических целей, она хочет только одного — позволения видеть раз в несколько месяцев любимого человека. Увы! Никто не ценит ее высоких чувств. Это ли не бесчеловечность? И куда же идти дальше, если приходится учиться человечности уже у Николая I — самого деспотичного из русских царей.
А вот другой факт, происшедший на днях. На этой неделе, как известно, судили математика Бурмистровича за то, что он прочел какую-то повесть Даниэля. Председательствовала член коллегии городского суда Лаврова, красивая молодая женщина. И вот во время перерыва она сказала следующую фразу: «Подсудимый, я лишу вас отдыха: вы его используете неправильно — вы все время смотрите на свою мать». Даже конвоиры опешили от этой реплики, и кто-то из них сказал в коридоре: «Верно, она не замужем, верно, у нее нет детей».
Мы привели два мелких факта. А сколько их можно привести еще: мы ведь ничего не сказали о сажании здоровых людей в сумасшедшие дома, о тяжком режиме лагерей, о выбрасывании с работы людей за их религиозные (пишущий эти строки) и политические убеждения.
И вот мы поднимаем знамя борьбы за человечность. Мы заявляем, что никто не смеет унижать, обижать, оскорблять людей за их образ мыслей. За свободу, равенство и братство между людьми мы боремся. И, если нужно — за это умрем.
Тяжело плестись в пургу одному: завывает вьюга, увязаешь в снегу, ветер валит с ног.
Но вот вдали забрезжил свет, совсем крошечная огненная точечка — свечечка в чьем-то оконце.
И легче становится на душе, и бодрее шагает путник. И дальний свет зовет и манит. И вот сейчас мы завидели свет — теплоту, благородство, доброту, — свет в оконце старого генерала и его друзей. И тепло и радостно на душе. Не погаснет этот свет.
А. Э. Левитин-Краснов
Москва, 24 мая 1969 г.
(Архив Самиздата, Собрание документов Самиздата, т. 4 А, АС № 269. — Мюнхен, «Liberty»)
Глава шестая. Жаркое лето
Лето 1969 года осталось у меня в памяти как жаркое, беспокойное лето. За ним последовала еще более беспокойная осень — мой арест в сентябре.
В конце мая произошло событие, явившееся поворотным пунктом в истории демократического движения: сформирование Инициативной группы защиты прав человека. Значение этого события выходит далеко за пределы местного. Прежде всего, это первая в СССР с 1917 года организация — оппозиционная, но действующая открыто. И просуществовала эта организация почти десять лет, явилась важным центром для демократических оппозиционных сил, и волна, поднятая этой организацией, не улеглась и в наши дни, и ее действие еще скажется в будущем.
Далее. С этого времени демократическое движение окончательно оформилось и из литературного клуба превратилось в действенное боевое течение — течение, бросившее вызов самой могучей в мире власти. За одиннадцать лет своего существования оно знало много кризисов (тяжелый кризис оно переживает и в эти дни — лето 1980 года), эти кризисы порождались в основном давлением власти, арестами и высылками за границу главных деятелей, но подавить его все-таки не удавалось до сего времени; каждый раз оно возрождалось, как феникс из пепла.
Надо знать ту атмосферу, которая существовала в СССР всего за какие-нибудь десять-пятнадцать лет до 1969 года, чтобы понять все значение этого события. А в 1949 году две-три встречи близких друзей за чайным столом с безобидными политическими разговорами уже квалифицировались как антисоветская организация со всеми вытекающими отсюда последствиями — арестом всех участников и десятью-пятнадцатью годами лагеря.
Правда, демократическое движение началось, как я указывал выше, с юношеской организации (так называемого «СМОГа»). Но, во-первых, эта «организация» носила характер литературного кружка молодежи, а затем по своему составу эта «организация» имела столь несерьезный характер, что только в советских условиях кто-то мог обращать на этот кружок какое-либо внимание. Это была богема в советском издании — с вечными попойками и постоянной матерщиной, хотя из этой организации все же вышли потом некоторые серьезные люди.
В Инициативную группу входили взрослые, вполне зрелые люди (большей частью научные работники и литераторы). Хотя в этой группе участвовали два заядлых «богемщика» — Якир и Красин, — тем не менее вовсе не они играли здесь ведущую роль. С самого начала они были оттеснены на задний план: я, например, не помню ни одного заседания группы (после 1969 года), в котором они участвовали бы.
Наконец, Инициативная группа — это первая серьезная организация, которая, громко выражаясь, вышла на «мировую арену» — стала известной за границей. О ней писали, ее документы попадали в мировую прессу, ее заявления комментировались солидными органами печати европейских стран. Инициативная группа была наконец чисто гуманистической организацией, ставящей целью помощь инакомыслящим, преследуемым за свои убеждения.
Инициативная группа сыграла большую роль в прорыве железного занавеса, что является главной заслугой демократического движения. Сейчас, например, уже невозможны такие деятели, как Ромен Роллан и Лион Фейхтвангер, которые в самый разгар сталинского разбоя говорили о «советской демократии».
Всем все известно. И даже иностранные коммунисты стыдливо отмежевываются от постыдного родства с кремлевским режимом.
У меня в памяти запечатлелся день 20 мая 1969 года — день рождения Инициативной группы. Это было воскресенье. Стоял не по-московски жаркий, уже не по-весеннему, а по-летнему жаркий день. Накануне я был у Якира, и меня просили прийти на другой день в 2 часа дня.
Пришел. Дверь открыла Валентина Ивановна — жена Якира. В квартире что-то невероятное. Прохожу в большую комнату (столовую). Стучат две машинки. На одной что-то печатает жена Габая, 30-летняя моложавая нервная женщина, на другой — Ира Якир. В столовой — несколько человек, взволнованно разговаривают, что-то пишут. В передней непрерывные звонки. Телефон также непрестанно звонит. Разные люди приходят и уходят. Большей частью мне не знакомые. Кого только здесь нет. Люди с восточной внешностью, крымские татары, молодежь: какие-то парни весьма пролетарского вида и девушки. Несколько растерянный, я спрашиваю: «А где же Петр Ионыч?» Мне отвечают: «Садитесь и ждите. Он придет».
Я: «А Красин?» (Красин тогда дневал и ночевал у Якира.)
«Тоже придет. Они поехали вместе».
«Куда поехали?» Неопределенные ответы. Сажусь и жду. Через два часа появляются Якир и Красин. Подбегают ко мне. Суют мне под нос документ с громким названием: «Обращение в Организацию Объединенных Наций». Под ним подпись: Инициативная группа, двоеточие, 14 подписей. 15-я подпись — пропущено место, в скобках на машинке моя фамилия. Мне говорят: «Мы сейчас бегали по Москве, собирали подписи. Вас включили сразу. Уверены, что не откажетесь. Быстрее, читайте и подписывайте. Сейчас бежим в Дом журналиста. Вручать. Скорее».
Во мне они не ошиблись. Быстро просматриваю. И подписываю. Пожимаю им руки. Желаю успеха.
Так родилась Инициативная группа. Надо сказать, что идея такой организации выдвигалась еще зимой Петром Григорьевичем Григоренко. Переговоры были длинные, тягучие и не привели ни к чему. И вот то, что невозможно было тогда, осуществилось в один день.
Здесь необходимо сказать о роли Красина. Как это часто бывает, последующая слабость и даже предательство этого человека затмили его выдающуюся роль в этом деле. Между тем Инициативная группа — в значительной мере его детище. Якир дал свое имя. Но действовал в основном Красин: он подобрал возможных кандидатов в члены Инициативной группы, он как угорелый носился по Москве, собирал, уговаривал, убеждал. Разумеется, на каждого человека, согласившегося вступить в Инициативную группу, приходилось, вероятно, четверо кандидатов, отказавшихся принять участие в этом рискованном предприятии. Рискованном вообще. Особенно рискованном в эти дни, в мае 1969 года, когда начались аресты.
О начале деятельности Инициативной группы «Хроника текущих событий» сообщает следующее.
20 мая 1969 года в Комиссию прав человека ООН было направлено письмо[12] с просьбой поставить на рассмотрение вопрос о нарушении в Советском Союзе одного из основных прав человека — права иметь независимые убеждения и распространять их любыми законными средствами. В письме указано, что на политических процессах в нашей стране людей судят «по обвинению в клевете на советский государственный и общественный строй, с умыслом (ст. 70 УК РСФСР) или без умысла (ст. 1901 УК РСФСР) подрыва советского строя», — на самом же деле никто из обвиняемых не стремился оклеветать и, тем более, подорвать советский строй, и людей осуждают по вымышленным обвинениям, практически — за убеждения. «Вас судят не за убеждения», — эту излюбленную судейскую фразу письмо разоблачает на примере ряда судебных процессов: Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, Хаустова и Буковского, участников демонстрации 25 августа, Анатолия Марченко, Ирины Белогородской, Юрия Гендлера и Льва Квачевского, ряд украинских процессов, в том числе процесс Черновом, процессы крымских татар, прибалтийские процессы, в частности дело Калныньша и др., процессы советских евреев, требующих выезда в Израиль, например осуждение Кочубиевского, процессы над верующими.
Письмо говорит о недавних арестах: Виктора Кузнецова, Ивана Яхимовича, П. Г. Григоренко, Ильи Габая. Письмо также указывает на «особенно бесчеловечную форму преследований: помещение в психиатрические больницы нормальных людей за политические убеждения».
Письмо подписала инициативная группа по защите прав человека в СССР: Г. Алтунян, инженер (Харьков), В. Борисов, рабочий (Ленинград), Г. Великанова, математик, Я. Горбачевская, поэт, М. Джемилев, рабочий (Ташкент), С. Ковалев, биолог, В. Красин, экономист, А. Лавут, математик, А. Левитин (Краснов), церковный писатель, Ю. Мальцев, переводчик, Л. Плющ, математик (Киев), Г. Подъяпольский, научный сотрудник, Т. Ходорович, лингвист, П. Якир, историк, А. Якобсон, переводчик. Кроме того, под обращением стоит 39 подписей в его поддержку.
Служащие представительства ООН в Москве отказались принять письмо, заявив, что они не принимают ничего от частных лиц. Письмо было отправлено по почте и передано иностранным корреспондентам.
30 июня инициативная группа направила дополнительное письмо с сообщением о «новых, особенно болезненных фактах нарушения прав человека»: о новом деле, возбужденном против Анатолия Марченко, и о предстоящих судах, задача которых — упрятать инакомыслящих в стены тюремных психиатрических больниц.
(«Из „Хроники текущих событий“ № 3 (8), напечатано в ж. „Посев“, 2-й спец. выпуск, декабрь 1969 г., с. 33.)»
В тот же день Якир и Красин поехали на такси в помещение Центрального телеграфа на ул. Горького, отослали обращение Генеральному секретарю ООН в Нью-Йорк; оттуда, так же на такси, сопровождаемые целым эскортом автомобилей КГБ, в которых ехали шпики, в Дом журналиста. Вошли туда и на глазах у шпиков раздали иностранным журналистам около двух десятков экземпляров нашего обращения. КГБ, видимо, было ошарашено такой, как они говорили, наглостью. Задержать их на глазах иностранцев не посмели.
Результат превзошел все ожидания. Радиостанции всего мира передавали текст обращения. Крупнейшие газеты Европы и Америки напечатали текст обращения на видном месте. И наступило жаркое лето.
Лето 1969 года характеризуется невиданным размахом протестов общественности против действий правительства. Наше обращение в ООН разбудило многих. Со всех сторон посыпались протесты.
Особенно впечатляющими были события, происходившие в г. Владимире, где возник Союз независимой молодежи. Перепечатываем сообщение об этом из «Хроники».
Из двух номеров машинописного информационного листка «Молодость» стало известно, что 16 декабря 1968 года в г. Владимире организовался Союз независимой молодежи, действующий легально на основе ст. 126 Конституции СССР. Организаторы Союза подали в горисполком заявление о его регистрации.
Согласно уставу, «Союз независимой молодежи — самостоятельная, независимая молодежная организация, хозяином которой является сама молодежь, самостоятельно направляющая всю деятельность Союза в рамках советской законности и самостоятельно руководящая этой деятельностью… Основная цель Союза независимой молодежи — всемерно способствовать развитию социалистической демократии и общественного прогресса в нашей стране».
Союз требует: «ввести подлинно свободные и демократические выборы», «настоящей свободы слова, печати, собраний, митингов, демонстраций и союзов де-факто», «не преследовать за убеждения», «издать все произведения, написанные советскими писателями», «ликвидировать незаконную, антиконституционную цензуру», «усилить борьбу с уголовной преступностью».
Кроме сообщения об организации Союза, листки содержат информационные сообщения из жизни страны и г. Владимира.
«Хроника» приводит отрывок из листка «Молодость» № 2:
«Во Владимире сотрудники КГБ тоже продолжают бесславные „традиции“ сталинизма. Сотрудники Владимирского управления КГБ несколько раз угрожали лагерем Председателю Союза независимой молодежи В. Борисову и распускали про него гнусную клевету.
Владимирские КГБ-шники не брезгуют даже воровать. Правда, они сами не воровали, а заставили двух малодушных людей выкрасть у В. Борисова два его рассказа (один рассказ был закончен, другой нет).
Даже среди партийных работников еще жив вредный дух сталинизма. Так, первый секретарь горкома КПСС Лапшин, от имени КГБ и партийных властей, в присутствии секретаря парткома химзавода Афанасьева, запретил В. Борисову вообще говорить о политике, пригрозил ему концлагерем и сказал, что КГБ будет следить за ним всю жизнь.
Первый секретарь Владимирского обкома КПСС Пономарев отказался беседовать с В. Борисовым после того, как он узнал о том, что В. Борисов сказал, что он — Пономарев — „отгородился от народа МВД — высокой стеной, и народ видит только из окна машины, когда проезжает куда-нибудь“. Обидчивый оказался Пономарев — не любит, когда его критикуют.
В мае этого года Владимир Борисов, рабочий, по образованию филолог, подвергся обыску, после которого был насильственно помещен в городскую психиатрическую больницу. Через некоторое время в городе распространились листовки, рассказывающие о Союзе независимой молодежи и о судьбе его председателя. Гласность оказала некоторое действие. Одного из организаторов Союза вызвали в горисполком и провели довольно мирную беседу о Союзе. Друзьям Борисова разрешили видеться с ним в больнице. Как они узнали при свиданиях, Борисову делали какие-то сильно действующие уколы, хотя он был положен в больницу „на обследование“. Администрация больницы, испуганная тем, что это стало известно, обещала выпустить Владимира Борисова 30 июня. Сведений о том, выполнено ли это обещание. Хроника не имеет».
(Из «Хроники текущих событий» № 8, напечатано в журн. «Посев», 2-й спец. выпуск, декабрь 1969 г., с. 34.)
Печальна была участь Владимира Борисова. (Не путать с его однофамильцем и тезкой — членом Инициативной группы, ныне находящимся в Париже).
Владимира, когда он был в психиатрической больнице, кололи разными медицинскими препаратами, поместили его с буйными помешанными, избивали и издевались над ним так, как может издеваться грубое хамье в провинциальной больнице, уверенное в своей безнаказанности. Нервы Борисова были напряжены до последней крайности. И вот последняя капля. Ему дали свидание с матерью, простой, деревенской женщиной, которую уверили, что сын ее… американский шпион, продавшийся американцам за миллион долларов.
Когда мать допустили к сыну, она упала перед ним на колени и с рыданиями стала умолять: «Сынок, оставь, зачем тебе эти деньги».
Нервы Владимира Борисова не выдержали. В ту же ночь он повесился.
Мир праху твоему, добрый, хороший русский молодой человек. Да падет и его кровь на головы палачей.
В это же время продолжается активность крымско-татарского движения. В начале июня 1969 года в Москве состоялось Международное совещание коммунистических и рабочих партий, где Брежнев пытался замазать щели, образовавшиеся между советской и западноевропейскими коммунистическими партиями. Ему частично это тогда удалось.
6 июня, на второй день Совещания, в самом центре Москвы, на площади Маяковского, крымские татары устроили демонстрацию. Наряду с обычными лозунгами крымско-татарского движения о возвращении в Крым, во время демонстрации был развернут плакат надписью: «Свободу генералу Григоренко». К этому плакату была пришпилена фотография генерала. Демонстрация получилась довольно внушительная.
Я о ней услышал на совершенно противоположном конце Москвы, в Коптеве, от людей, не имеющих никакого отношения не только к нашему движению, но и вообще к какой бы то ни было политике. Это было знаменательно. Стало быть, демонстрация достигла своей цели.
Услышав о демонстрации, я поспешил к Якирам, но не на их московскую квартиру, а в квартиру на Рязанском проспекте, где проживала тогда дочь Якира Ирина с мужем Юлием Кимом (это совсем недалеко от моего домишки — почти через дорогу).
Захожу. Там переполох. И здесь я увидел то, о чем уже упоминал раньше. С Якиром истерика. Вместе с крымскими татарами была задержана его дочь Ирина. Когда он узнал об этом, им овладело неистовство. Он бился, кричал, рыдал. Ударил Красина, который уговаривал его успокоиться. К счастью, в это время пришла отпущенная Ирина. Виктор подвел ее к Пете: «Ну вот, вот твоя дочь. Перестань психовать. А арестуют нас всех. Мы шли на это. Всех».
К сожалению, он оказался прав. Якир обессилел. Его уложили. Дали снотворного. Когда я пришел, он спал. Виктор шепотом мне рассказывал о происшедшем. Пили чай. Настроение было у всех подавленное, но не капитулянтское.
Нервы расшатались и у меня… Через две недели я (что мне, вообще говоря, несвойственно) устроил на улице скандал жене моего молодого друга (к ним обоим я относился по-отечески) за то, что она сказала: «Крымские татары — изменники. Их репрессировали правильно».
В это время у меня произошли бытовые перемены. Мой утлый домишко в Ново-Кузьминках был снесен. Я переехал в июле в просторную однокомнатную квартиру во вновь отстроенном 12-этажном доме на новом Кузьминском проспекте. В советских условиях — это очень большой рубеж.
У меня со старым домишкой был связан ряд воспоминаний. Остался он для меня памятен на всю жизнь. Здесь были написаны все мои произведения, здесь прошли бурные 11 лет моей жизни. Жизни тяжелой и радостной, беспокойной и полной глубокого содержания. Трудные одиннадцать лет.
Но если бы их не было, я бы считал, что жизнь прожита напрасно.
16 июля 1969 года, в день моих именин, последний раз собрались у меня друзья. Электрического света не было. Провода были обрезаны. Сидели при свечах. Было уютно. Настроен был лирически. Оканчивалась целая эпоха жизни. Опять подводилась какая-то черта.
В это время многие старые друзья, с которыми дружил годами, меня покинули.
Бывали грустные минуты. В одну из таких минут написал следующие строки:
В это время у меня появляются новые друзья, принадлежащие к верхам московской интеллигенции. Это, во-первых, известный в Москве профессор Леонид Ефимович Пинский[13].
Изумительно талантливый и обаятельный человек. Когда вспоминаешь Пинского, невольно чувствуешь обиду на судьбу. Какого-нибудь Суслова, Громыку, Пономарева или даже Демичева (не говоря уж о самых главных) знает весь мир. Все знают этих посредственных чиновников, скроенных по одному шаблону. Леонида Ефимовича Пинского — интереснейшего, талантливого, эрудированного человека — не знает решительно никто за пределами Москвы.
Он родился в начале века, и теперь ему уже под восемьдесят. У него в кабинете портрет, сделанный лет 65 назад. Пинский — гимназистик. В мундире, коротко остриженный, с мальчишеским лицом, которое еще не покинуло детское выражение. С живыми, умными, пытливыми глазами.
Он окончил гимназию перед самой революцией. Поступил в Московский университет. Филолог по призванию, филолог Божьей милостью, он получает литературную известность своими великолепными статьями о Шекспире и о других писателях Елизаветинского времени. Но самое главное, он получает известность как лектор. Лектор, как я слышал от его многочисленных слушателей, изумительный. Он буквально переносит вас в минувшую эпоху, говорит о давно умерших людях, точно о своих знакомых.
Когда-то В. С. Соловьев говорил о переводе Фетом «Энеиды» Виргилия, что тот «преодолел двойную грань пространства и веков». Это можно сказать и о лекциях Пинского. Он специалист по западноевропейской литературе, и благодаря ему десятки тысяч москвичей побывали в другом мире, познакомились с закрытыми для них сокровищами.
В то же время это не узкий специалист. Человек живой, любознательный, любящий людей, необыкновенно тонко улавливающий оттенки, он всегда имел десятки друзей, сотни знакомых, огромное количество поклонников. И жена его сродни ему: веселая, энергичная, с сангвиническим характером женщина.
Молодым доцентом он завоевал себе признание в академических кругах. Во время войны был в эвакуации. Но вот окончена война. Возвращение в Москву. Защищена диссертация. Он профессор Московского университета. Связи расширяются. Множество знакомых. И среди его знакомых появляется некий ученый муж, о котором мне уже приходилось упоминать, — пресловутый профессор Эльсберг, недавно умерший. Профессор Эльсберг дает своим знакомым о Пинском блестящие отзывы, говорит о нем, как о восходящей звезде. И в то же время регулярно докладывает о всех разговорах с Пинским в некое высокое учреждение, находящееся на площади Дзержинского (по-старому Лубянка).
Результат этих полезных, многоученых разговоров сказался в 1951 году, когда Леонид Ефимович был арестован и ему была предъявлена статья 58–10. Причем в качестве обвинительного материала фигурировали все высказывания, которые делались Леонидом Ефимовичем в разговорах с его весьма ученым другом. Через некоторое время Леониду Ефимовичу пришлось сменить Москву на один из лагерей за Уралом, а профессорскую кафедру заменила ему не менее ответственная должность санитарного инструктора (главная обязанность — гонять людей в баню, проверять вшивость, следить за бельем). Лишь в 1956 году профессор возвращается в Москву.
Познакомился с ним летом этого года в квартире моего друга Евгения Львовича Штейнберга. Мы встретились с ним через очень много лет в квартире Людмилы Ильиничны Гинзбург, когда она праздновала день рождения своего сына Александра, находившегося в лагере.
Профессор Пинский не постарел, — от него веяло добродушием, молодостью, энергией; он был вместе со своим другом Наталией Ивановной Столяровой. Эта дама под стать ему.
Европейски образованная, выросшая во Франции, вернувшаяся, на свою беду, в Россию в 1936 году, а затем проведшая многие годы в лагере. Затем она секретарь Эренбурга и один из самых блестящих переводчиков с французского, какие есть сейчас в Москве.
О ней писали и Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг», и Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях.
Леонид Ефимович — человек особый. Мне вспоминается такой случай. Однажды Людмила Ильинична, мать арестованного антисоветчика, должна была встретиться с Леонидом Ефимовичем. Она позвонила к нему не без робости. Далеко не все желали поддерживать отношения с нашим братом — опальными. Позвонив, она робко спросила: «Не нашли ли бы вы время, Леонид Ефимович, уделить мне во вторник несколько минут?» В трубке послышалось: «Вы не так выражаетесь. Вы, верно, хотите сказать, что во вторник вы могли бы меня принять и уделить мне некоторое время». В этом весь Леонид Ефимович Пинский. Джентльмен до мозга костей.
Другой раз я просил его взять в качестве литературного секретаря моего крестника. Стал его характеризовать. Тут же получил ответ: «Никакой характеристики не надо. Вы его рекомендуете, для меня этого достаточно».
Изумительна способность Леонида Ефимовича быть всегда естественным, живым, искренним.
Скрывать, притворяться он органически не способен. Поистине «израильтянин, в нем же льсти несть».
В эти дни, когда я жил в нервной, напряженной атмосфере, среди так называемых диссидентов, я отдыхал в обществе этого высококультурного, благородного, неизменно дружественно настроенного человека.
Как раз в это время выходит его книга о Шекспире. Книга необыкновенно умно и тонко написанная. Автор показывает, как шекспировские типы (Лир, Отелло, Гамлет) перерастают, как он выражается, «во всякого человека» — в общечеловеческие типы. Вообще Леонид Ефимович очень тонкий психолог.
Еще во время моей первой беседы с ним у Евгения Львовича мне запомнилось его очень интересное наблюдение:
«Для того чтобы определить поэта, надо вычесть из его поэзии все, что идет от эпохи, от его философских, политических воззрений, все, что идет от его национальных свойств. То, что останется, будет поэзией».
Как мне кажется, в своей книге о Шекспире Пинский пытается проделать подобную же работу над шекспировскими образами. Вычесть все временное, идущее от эпохи, то, что останется, это и есть «всякий человек».
В тот день у Евгения Львовича зашла речь о религии. Леонид Ефимович предложил и с религиозными течениями произвести тот же анализ. В результате этого анализа остается лишь очень небольшой процент религиозных людей. Люди с чистой религиозностью (по Леониду Ефимовичу) встречаются довольно редко. Реже людей, чувствующих литературу, искусство и т. д.
С этим, разумеется, можно согласиться лишь отчасти.
Но все-таки кое в чем Леонид Ефимович прав: не считать же религиозными людьми черносотенных громил, арабских головорезов или оголтелых сионистов, ненавидящих все и всех.
И с другим литератором, сыгравшим роль в моей судьбе, свела меня жизнь в это время. С Марком Александровичем Поповским.
Когда-то в лагере я читал книги Александра Поповского об ученых. Книги, написанные увлекательно и талантливо, хотя в рамках официальной идеологии. Потом я случайно познакомился с автором в Союзе советских писателей.
Дело было так. Мы зашли туда, в знаменитое здание на Поварской, вместе с Вадимом Михайловичем Шавровым, у которого было там какое-то дело. В комнате около дверей секретаря Союза писателей сидел какой-то человек. На вопрос, когда будет принимать секретарь, он ответил:
«Сегодня принимает Ажаев» (автор известной тогда, печально знаменитой книги «Далеко от Москвы»).
Я: «Ну, Ажаев лучше бы сидел дома».
Мой собеседник (с необыкновенной живостью): «Нет, лучше бы он лежал в гробу».
Это был Александр Поповский. Думал ли я, что встречусь с его сыном через 12 лет?
В связи с моим переездом на новую квартиру передо мной встал все тот же извечный «проклятый» вопрос: «Где вы работаете?»
Здесь начинается целая лестница знакомств. Мой молодой друг «Верки» (так я называл Верочку Лашкову) познакомила меня с одним молодым автором фантастических романов. Тот познакомил меня с Марком Александровичем Поповским. Оба литератора приехали ко мне в Ново-Кузьминки. Марк Александрович меня всегда удивлял. Первое впечатление — практичнейший, деловой человек. Кто бы мог подумать, что он всю жизнь занимается самыми непрактичными делами из всех возможных. Пишет вещи, которые явно печатать нельзя в советских условиях, и даже весьма опасно. Его главные работы — две монографии: об архиепископе Луке (Войно-Ясенецком) и о расстрелянном при Сталине академике Вавилове. Это не просто две книги, которые он написал, сидя за письменным столом, и поехал отдыхать. Чтобы написать такие работы, надо посвятить им десятилетия. Так, для того чтобы написать работу об архиепископе-хирурге, ему пришлось обрыскать всю Россию, побывать во всех местах, где бывал владыка: Киев, Питер, Ташкент, Сибирь (причем самые глухие углы, где владыка бывал в ссылке), Тамбов и Крым, поговорить с самыми разнообразными людьми, начиная с ученых хирургов, кончая папертными старухами, провинциальными старичками. Изучить уйму источников: начиная от богословских трудов, кончая специальными книгами по хирургии. Словом, это был сизифов труд. Причем все это делалось без всякой конкретной надежды напечатать этот труд когда-нибудь и где-нибудь.
Так же обстояло дело и с книгой о Вавилове — опальном ученом, чье имя долгое время было окружено официальным «табу». И здесь пришлось рыться в архивах, говорить с сотнями людей, прочесть десятки специальных книг — монографий, общих трудов по ботанике на разных языках, освоить специальные курсы по этому предмету.
С виду Марк Александрович производит суховатое, сугубо деловое впечатление. На самом деле это энтузиаст, человек с большим, добрым сердцем. В этом я убедился, когда он тотчас согласился взять меня в свои литературные секретари (из ста литераторов сто десять этого бы не сделали, так как я считался опальной личностью, — и это отнюдь не сулило моему патрону почестей и похвал со стороны официальных органов).
Марк Александрович поехал со мной в так называемый группком Союза лиц, работающих по частному найму, и провел там со мной два часа, добиваясь моего официального оформления. Там мы говорили с самыми различными людьми, преодолевали всякие формальные препятствия, проваландались нескончаемое время, показавшееся вечностью, среди кухарок и нянек, которые были также в ведении этого учреждения. Я помню, как председатель группкома (довольно симпатичный простой мужичок) сказал своим владимирским говорком: «Да мне кажется, что вы никогда отсюда не уйдете».
Правда, не долго мне пришлось пользоваться почетным званием литературного секретаря. Зато, когда меня через неделю после оформления арестовали, из рук следствия и суда выпал их главный аргумент, направленный против меня, — обвинить меня в «тунеядстве». Во всех официальных документах я числился как «литературный секретарь писателя М. А. Поповского».
Так же много и усердно хлопотал Марк Александрович о Галанскове, пытаясь его спасти: он обивал пороги во всех официальных инстанциях (от КГБ до министра здравоохранения), добиваясь его перевода в Питер, в главную тюремную больницу, где есть квалифицированные хирурги, умеющие делать операции, а не сапожники, которые зарезали в далекой Мордовии бедного Юрия.
И снова вспоминается Евангелие — притча о милосердном самарянине: священники и левиты проходят мимо, профессиональные церковники боятся подойти близко, а два «самарянина» — совершенно нецерковные люди, Пинский и Поповский, возливают елей на раны.
У Марка Александровича та же специальность, что у его отца, — история науки. Но они представляют собой два противоположных писательских типа: отец его «хохмит» в приемных Союза писателей и в то же время всю жизнь плывет в официальном фарватере; сын не «хохмит» (ему это не свойственно) и всю жизнь плывет против течения.
Опять притча. На этот раз притча о двух сынах. О том, кто говорит, а не делает, и о том, кто делает, но не говорит.
Я остановился столь подробно на характеристике этих двух людей — Пинского и Поповского, — ибо, помимо личной дружбы и личных симпатий, эти два человека очень характерны для эпохи.
Мы действовали (мы — так называемые диссиденты) на свой риск и страх, — могло показаться, что мы совершенно одни, но мы были не одни. С нами были лучшие. Лучшие люди из советской интеллигенции, которые сохранили то, что М. Е. Салтыков-Щедрин называет «забытыми словами» — честь, совесть, человечность — все то, что пытаются вытравливать в советских людях на протяжении десятилетий.
Между тем наступление остервенелого КГБ продолжалось.
В июне пришло печальное известие: в Вятке был арестован церковный писатель Борис Владимирович Талантов.
Я познакомился с ним за год до этого, когда он приезжал в Москву вместе с монахиней Афанасией.
Наружность Бориса Владимировича была на редкость простой. Маленький, сухенький, с жиденькой бороденкой, одетый в затрапезный архалук. Кто бы мог подумать, что под этой простой наружностью скрывается талантливейший математик, а также стойкий борец за веру, за Церковь и эрудированнейший человек. Он поднял борьбу за веру совершенно независимо от нас, москвичей, и даже почти не зная о нас. Он действовал в труднейших условиях провинциального захолустья, где каждый человек на виду. Причем ему приходилось бороться сразу на два фронта: против безбожников и против труса и капитулянта, местного архиерея, который выступал как прямой пособник КГБ. Среди вятской молодежи Борис Владимирович нашел верных сторонников, и они вместе с ним отстаивали правое дело; до самой его смерти были его верными друзьями. Добрые, религиозные русские молодые люди. Последствия были трагические: монахиня Афанасия была зверски убита «бандитами», которые, разумеется, остались неразысканными. А Борис Владимирович, больной и старый, был арестован в июне 1969 года.
В Москву приезжал следователь, который вызывал нескольких человек, знавших Бориса Владимировича (в том числе и меня), для допроса.
Я хлопотал об адвокате. Нам удалось договориться с адвокатом Швейским, который выехал в Вятку, а я написал о Борисе Владимировиче статью, которую привожу здесь полностью.
Драма в Вятке
Есть на свете такой город — Вятка. Теперь он называется Киров. Хороший спокойный русский город. Всегда он считался захолустьем. И в этом городе живет человек: Борис Владимирович Талантов. Я видел его всего один раз в жизни. Маленького роста старичок, с седенькой бородкой, сгорбленный, с котомкой в руках, разговорчивый. С виду типичный человек из захолустья.
Но это мужественный и одаренный человек. Человек сложной и трагической судьбы. Сын священника, питомец духовной династии, он родом из Костромы.
Фамилия «Талантов» — типично бурсацкая фамилия; она была получена дедом Бориса Владимировича: в семинарии, как известно, фамилии давал обычно отец ректор, исходя из свойств ученика. И фамилию «Талантов», конечно, дали не зря. Верно, предки Бориса Владимировича были талантливые русские люди — истые представители того сословия, которое дало России Добролюбовых и Павловых.
Он родился в 1903 году. Уже 14 лет от роду попал в революционный водоворот. В этом водовороте погиб его отец — священник и все его братья, пошедшие по стопам отца, — также священники. Борису Владимировичу пришлось покинуть родные места. Навсегда. Он переезжает в Вятку. Здесь он кончает Педагогический институт, впоследствии становится преподавателем института. Он — математик; и, как говорят, математик необыкновенно одаренный. Прекрасный преподаватель. Даже в местной газете автор одной из пасквильных статей о Талантове говорит, что он напоминает волшебника, когда мелом на доске вычерчивает формулы. Борис Владимирович работает много, с увлечением, с огоньком. У него много забот; он отец большой семьи, у него несколько детей. И всех он вырастил, всех вывел в люди.
Но Борис Владимирович никогда не превращался в обывателя, в мещанина, он никогда не мог замкнуться в свою скорлупу. И всегда в его сердце жили два образа: образ Христа, увенчанного терновым венцом, и образ родины, России…
Он напряженно искал правды, думал о путях родной страны и родной Церкви.
Я мало знаю Бориса Владимировича, но думаю, что во многом мы с ним расходимся, как расхожусь я с большинством церковных людей, которые не всегда могут понять моего бунтарства и моей глубокой неприязни решительно ко всякому государству и решительно ко всякой власти. Но наши пути скрестились. Скрестились они в 1966 году.
Церковным людям памятен этот год. В этот год впервые услышал мир слово правды о Русской Церкви сначала из уст двух московских священников, подавших петицию патриарху[14], а затем из статей о положении русской православной Церкви, публиковавшихся в мировой прессе в то время.
И в конце года пришло известие из далекой Вятки (не думаю, чтобы покойнику Кирову понравилось, что древнее название города сменили на его фамилию, — он был человек скромный и очень неглупый). 12 верующих христиан в Вятке обратились к патриарху с петицией, в которой требовали предать духовному суду своего епископа, нарушившего все церковные каноны и оказавшегося волком в овечьей шкуре. Инициатором этой петиции был Борис Владимирович Талантов. Тогда мы в Москве услышали его имя и одновременно узнали о трудном пути этого человека. Оказывается, он давно, уже очень давно борется за православную Церковь.
В тяжелые времена, когда за какие-нибудь два-три года (в хрущевский период) было закрыто более десяти тысяч церквей, когда каждый день приносил все новые и новые известия об очередных актах разбоя — в Почаевской обители, в других обителях Молдавии и Украины, когда все газеты и журналы были переполнены вонючей клеветой в адрес верующих, а иерархи сидели на своих местах, боясь замолвить словечко в защиту Церкви, — в это время, оказывается, скромный учитель из Вятки боролся за Церковь, он боролся пером, писал яркие письма во все инстанции; он боролся словом, обличая произвол местных властей и преступное попустительство иерархов. Тяжело ему было, старику. Ведь в провинции он был совершенно один: вокруг него не было ни культурных людей, ни смелых соратников. Ведь в провинции люди более робкие, чем в Москве, власти более самоуправные, произвол более циничный. В провинции… Но скажем несколько слов о провинции.
Десять лет назад, находясь в своем родном городе — в Ленинграде, я зашел в «подвальчик» — небольшой ресторан у Казанского собора, в котором бывал студентом. Ресторан этот разделен на кабинки, и стулья там поставлены впритык, так что сидя за столом, вы слышите все, что говорят ваши соседи. И вот я неожиданно очутился в компании солидных приезжих товарищей в штатском, но отнюдь не штатских, и стал участником их разговора.
Когда они заговорили о том, что надо «бить попов», я со свойственной мне бесцеремонностью вмешался в разговор и начал яростно возражать. Разговор закончился следующим обменом реплик: «Ваше счастье, что вы живете в Ленинграде». — «Я живу в Москве». — «Ну, тем более в Москве. А жили бы вы у нас в провинции (товарищи приехали с Украины), мы бы вас в порошок растерли». Увы, это не были только слова — за этими словами стояли дела, тысячи дел, тысячи расправ с неугодными людьми, которых тогда травили как «религиозных фанатиков». И «фанатик» Талантов испытал на себе всю тяжесть провинциального произвола: его травили в местной газете, печатали о нем клеветнические фельетоны, вызывали в различные инстанции для «воздействия» и «увещеваний» и грозили; мотали нервы, хотели запугать, поставить на колени, заставить отречься от своих убеждений, прекратить свою деятельность, но в этом тихом, кротком старичке оказалась железная воля, титаническая энергия и (что самое главное) большое сердце. Все попытки запугать старика оказались тщетными, — он выстоял, он не сдался. Не сломили его ни болезни, ни тяжкое личное горе (в прошлом году он потерял жену). Талантов — тип русского человека. Глубинный, исконный тип. Он герой, но герой скрытый, не навязчивый, тихий; он отдает свою жизнь просто, без аффектации, без позы, — говорит правду ровным, спокойным голосом, и ровным тихим шагом пойдет на Голгофу.
И вот Борис Владимирович на Голгофе. 12 июня 1969 года 67-летний больной человек был арестован и ввергнут в Кировскую тюрьму.
Основание? Никаких оснований. Если его писания считать клеветой на нашу действительность, то, очевидно, еще в большей степени это относится к писаниям других писателей, которые во много раз более известны и более широко распространены, чем письма Бориса Владимировича Талантова. Это относится в первую очередь к моим писаниям. Каковы бы ни были мои различия с Борисом Владимировичем Талантовым, мы безусловно сходимся в одном — в резко отрицательном отношении к ряду явлений нашей действительности и в резкой критике этих явлений. Если преступник он, — преступник и я. Если нахожусь на воле я, — должен находиться на воле и он…
Когда бросают в воду камень, то по воде, как известно, идут круги.
Когда арестовывают человека, это вызывает резкую реакцию в обществе. Особенно сильна эта реакция в столице, где имеется уже сформировавшееся общественное мнение. Иное дело провинция. Там реакция приглушенная, медленная. Поэтому и весть об аресте Б. В. Талантова дошла до нас с опозданием.
Я узнал об этом аресте лишь через две недели, когда был вызван 26 июня для дачи показаний в Московское управление КГБ — на Малую Лубянку. Для этого допроса из Кирова прибыл старший следователь Кировской области Бояринов.
Мы беседовали с Бояриновым около двух часов, и так как я не мог сообщить следователю решительно ничего такого, что ему было бы нужно и что ему хотелось бы получить, разговор принял частный и довольно мирный характер. Я спросил: «Чего вы хотите добиться арестом семидесятилетнего старика? Если его писания были известны лишь сравнительно малому кругу людей, то теперь его имя станет известно во всем мире. Вы сделали из него мученика. Какая от этого польза?» Следователь ответил: «Мы управляем государством и не можем руководствоваться тем, что наши действия не нравятся какой-нибудь Марье Петровне».
Нет, Бояринов, не только Марья Петровна осудит и заклеймит ваши действия. Эти действия — арест старого человека за критику произвола и самоуправства — заклеймят и осудят решительно все честные люди во всем мире — люди русские и нерусские, коммунисты и некоммунисты, верующие и неверующие. Все до одного!
Миллионы людей во всем мире осуждают сейчас произвол и беззаконие, сотни миллионов осудят завтра. А сотни миллионов — это огромная сила. Вот почему произвол и беззаконие будут сметены с такой же легкостью, с какой, по словам Маркса, землетрясение сметает курятник.
Так будет!
28/VI 1969 г.
А. Э. Краснов
(Собрание документов Самиздата, том 2 А. «Liberty», AC № 262, 1–5)
Борис Владимирович Талантов держал себя на суде превосходно, как рыцарь без страха и упрека. В своем заключительном слове простился с друзьями, завещал им быть верными хранителями веры Христовой и сказал, что он не надеется их больше увидеть, так как состояние его здоровья не позволяет ему ожидать, что он вновь увидит свободу.
Выступавшие в качестве свидетелей его друзья также держались с исключительным мужеством, особенно один молодой вятский парень, бывший семинарист, исключенный за свою дружбу с Борисом Владимировичем из семинарии, чья подпись стоит в числе других двенадцати подписей вятичей под петицией с протестом против действий местного архиерея, пляшущего под дудку властей. Он начал свои показания обращением к обвиняемому: «Здравствуй, Борис Владимирович, отважный воин за веру Христову!»
Я имел с Борисом Владимировичем дело после этого всего один раз: в 1970 году после моего выхода из тюрьмы на свободу, на кратковременную свободу, длившуюся 9 месяцев; я получил от него письмо — письмо с того света, ибо, когда я получил его, Бориса Владимировича уже не было в живых. Он умер в первых числах января 1971 года в лагере.
Тело его было отдано его родным, и он был отпет при большом стечении народа в соборе города Кирова и похоронен на местном кладбище.
Приводя здесь факсимиле его письма, я вместе с его молодым другом, в ожидании теперь уже близкой встречи, говорю: «Здравствуй, Борис Владимирович, отважный воин за дело Христово!»
Между тем деятельность демократического движения продолжалась. 20 августа на квартире Якира в обстановке энтузиазма было составлено письмо «К годовщине вторжения в Чехословакию». Письмо составил Красин, а последние строки принадлежали мне. Это был последний документ, который был подписан мною в 1969 году, так как дни моего пребывания на воле были сочтены. Через три недели я был арестован. А сейчас мы, 16 демократов, подписали это письмо: через два дня оно было передано всеми радиостанциями мира.
Текст письма следующий:
20 августа 1969 года группа советских граждан сделала следующее заявление:
«21 августа прошлого года произошло трагическое событие: войска стран Варшавского пакта вторглись в дружественную Чехословакию.
Эта акция имела целью пресечь демократический путь развития, на который встала эта страна. Весь мир с надеждой следил за послеянварским развитием Чехословакии. Казалось, что идея социализма, опороченная в сталинскую эпоху, будет теперь реабилитирована. Танки стран Варшавского договора уничтожили эти надежды. В эту печальную годовщину мы заявляем, что мы по-прежнему не согласны с этим решением, которое ставит под угрозу будущее социализма.
Мы солидарны с народом Чехословакии, который хотел доказать, что социализм с человеческим лицом возможен.
Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой.
И мы твердо убеждены в том, что не может быть свободен и счастлив народ, угнетающий другие народы».
Г. Баева, Ю. Вишневская, И. Габай, Н. Горбачевская, 3. М. Григоренко, М. Джемилев, Н. Емелькина, В. Красин, С. Ковалев, А. Левитин (Краснов), Л. Петровский, Л. Плющ, Г. Подъяпольский, Л. Терновский, И. Якир, П. Якир, А. Якобсон.
(«Посев» № 9,1969, с. 7)
В этот же вечер мы обсуждали вопрос о будущем Инициативной группы защиты прав человека. В мае 1969 года, когда группа была сформирована, мы все ожидали ареста с часа на час и думали, что деятельность группы ограничится только одним документом — нашим обращением в Организацию Объединенных Наций.
Но в августе из членов группы был арестован лишь Генрих Генрихович Алтунян (в Харькове). Остальные члены группы были на свободе. И вот возник вопрос: должна ли группа действовать или нет? Этот вопрос поставил Виктор Красин. Помню, я (со своей склонностью к шутовству) сказал, цитируя «Бесов»: «Я предлагаю, господа, вотировать, — заседание мы или не заседание». Красин ответил: «Вы изволите шутить, а дело серьезное».
Дело, действительно было серьезное. Ставился вопрос — может ли действовать в Советском Союзе совершенно открыто неофициальная гуманистическая, фактически антиправительственная организация.
Жизнь показала, что это возможно. Инициативная группа просуществовала 11 лет, ее пример породил ряд однотипных организаций.
Необходимость продолжения деятельности Инициативной группы была решена в этот вечер. Однако ее окончательное оформление, ее широкая деятельность начинаются в то время, когда я был в заключении. Выйдя из тюрьмы, я нашел ее полностью стабилизовавшейся.
Между тем нас стали вызывать в прокуратуру для допросов по делу Г. Г. Алтуняна. Я был вызван в здание «Областного КГБ» на Малой Лубянке 8 сентября 1969 года. Я предстал перед следователем Мочаловым, приехавшим из Харькова. Мой разговор с ним носил довольно беглый характер. Зато с другими, как мне говорили, наглый солдафон (фельдфебельского типа) распоясывался, грубил и сыпал угрозами.
Мне вспоминается, как 11 сентября 1969 года вечером, будучи у Якира, я встретил там ныне покойного Анатолия Якобсона. Якобсон был на днях также вызван к Мочалову. Разговор его с Якобсоном очень характерен. Особенно следующий обмен репликами:
Мочалов: «Хватит! Поиграли в демократию. И довольно. Начинаются другие времена».
Якобсон: «Играли в демократию вы действительно недолго».
Этот обмен репликами очень актуален именно сейчас (в сентябре 1980 года). Ведь Мочалов лишь по глупости выболтал то, что является затаенной мечтой всех представителей господствующего слоя. «Покончить с игрой в демократию», начатую на XX съезде коммунистической партии. Покончить как можно скорее и как можно решительнее.
Тогда это не удалось. Слишком далеко зашел процесс демократизации за 13 лет, прошедшие с XX съезда, — и силенок не хватило. Сейчас (в 1980 году) опять делаются господствующим слоем те же попытки. «С детантом покончено», — говорят партийные работники. Тюрьмы вновь наполняются свободомыслящими людьми.
«Поиграли в демократию. И хватит», — раздается голос высокопоставленных бюрократов. Будут ли мочаловы успешнее теперь, чем в 1969 году, покажет будущее. Я сомневаюсь в этом и вспоминаю фразу, которую очень выразительно произносил другой Мочалов в здании Малого театра (недалеко от Малой Лубянки): «Ты хорошо роешь, старый крот».
Старый крот — история, совесть человеческая, подземная, подпольная работа; она хорошо роет, — так утверждал своим зычным голосом «другой Мочалов» — Павел Степанович Мочалов, играя Гамлета, в той же Москве в тридцатые — сороковые годы XIX столетия.
Глава седьмая. Тюремная осень
После жаркого лета наступила осень.
Не скажу холодная, не скажу — и жаркая. Тюремная осень. Уже летом начались предвестия. В июне вызвали в КГБ моего молодого друга Вячеслава.
Парень он неустойчивый и богемный, а впоследствии попавшийся в уголовном деле. Но любил он меня искренне и глубоко, как и многие из молодежи. (Собственно говоря, не знаю, за что.) По вопросам, которые ему задавали, понял: готовится арест.
В это время как-то зашел ко мне старый знакомый, отец Владимир Введенский (сын моего шефа), с которым я изредка встречался. Он мне сказал, что его старший брат, агент КГБ, явный и дипломированный, в свое время меня посадивший, с которым я, разумеется, не имел никаких отношений, у него спрашивал про меня и сообщил: «Говорят, он опять арестован». (Верно, слышал об этом от своих начальников.)
Наконец в это время появился у меня подозрительный парень, некто Мишка Максимов, сыгравший некоторую роль в моем аресте. Появление его было случайным.
Однажды Вадим Шавров (мой старый друг) попал в неприятную историю. В автобусе, находясь в разгоряченном состоянии после некоторых тяжелых обстоятельств личной жизни, поспорил с каким-то человеком и сгоряча дал ему по морде.
Тут же вмешалась милиция. А оскорбленный гражданин оказался довольно крупным коммунистическим бюрократом, чуть ли не управляющим трестом, который ехал с партсобрания вместе со своим подчиненным.
Над Вадимом нависли черные тучи. За такой инцидент можно было получить довольно солидный лагерный срок. После некоторых прелиминарии нам, друзьям Вадима, пришла в голову мысль объявить его психически ненормальным (ранение на фронте).
Как говорится у Грибоедова: «В боях изранен в лоб, сошел с ума от раны».
Поместили его на экспертизу в больницу им. Кащенко. Увы! Его признали абсолютно здоровым. Впоследствии состоялся суд, — и, к счастью, все обошлось благополучно: дело ограничилось штрафом.
Но в психиатрической больнице Вадим (на мою беду) познакомился с Мишкой Максимовым, о котором упоминалось выше. Этот решил принять крещение. Вадим привел его ко мне.
Познакомились. Парень этот до того лживый и вместе с тем неуравновешенный, что я до сих пор не знаю, что из его рассказов правда и что ложь.
Он уверял, что якобы он внук известного генерала Самсонова. Его отец будто бы перешел на службу в Красную армию и был товарищем Тухачевского. Затем он был арестован. Мать его будто бы вышла замуж за советского генерала Максимова (работника разведки), и он стал пасынком эмгебистского генерала, приняв его фамилию. Это, кажется, правда. Парень рано женился. Имел дочь. Профессия — неопределенная. Образования, кажется, не получил. Про себя говорил: «Я пустоцвет». Правильна, впрочем, в этом определении, кажется, только первая часть слова, — какой он увидел в себе цвет, — не знаю.
Собственно говоря, любой здравомыслящий человек немедленно показал бы ему на дверь. Но у меня принцип: всех людей считать хорошими, пока они меня не уверят в противном. Теперь, на пороге смерти, скажу: глупый принцип. Не надо крайностей. Истина пролегает где-то между Маниловым и Собакевичем.
Познакомил Мишку с отцом Димитрием. Он принял крещение. Крестили и его пятилетнюю дочь.
Через некоторое время мне его поведение стало казаться все более и более подозрительным. Вадиму также позвонил какой-то неизвестный. Сказал его матери, Екатерине Димитриевне, загадочную фразу: «У вас появился Мишка Максимов. Он вас всех посадит».
Выгнать его, моего нового крестного сына, у меня, однако, пока оснований не было. Но я решил его остерегаться.
В это время появился и другой крестник, Олег Воробьев, впоследствии долгое время сидевший в лагере, а сейчас проживающий в эмиграции, в Вене.
С этим я познакомился в доме Григоренко. Также несколько богемный, но кристально честный человек. Он из уральских казаков, из Перми, где проводил довольно интересную работу среди местной молодежи.
В начале сентября, приехав в Москву, гостил у меня. В один из четвергов (приемных дней) у меня было много гостей. Исключительно молодежь. Парни и девушки. Среди них Мишка Максимов и Олег Воробьев. Олежку я также предупреждал, чтобы он Мишку остерегался. А Олег в это время задумал следующее: он с несколькими ребятами разбросает на станциях метро листовки с протестом против оккупации Чехословакии (в связи с исполнившейся первой годовщиной оккупации и самосожжением Яна Палаха).
Вечером, когда мои гости разошлись, вдруг говорит мне Олежка: «Сейчас время испытать Мишку. Я ему рассказал о своем плане, и завтра он придет за прокламациями».
В ответ я обозвал своего крестника дураком. Но что я мог еще сделать. Утром приходит Вадим. Завтракаем втроем. Зашла речь о каком-то нелегальном документе. Олег говорит: «Сейчас я вам покажу». Открывает папку с документами, которая лежала у меня на письменном столе. Папка пустая. «Это Мишка!» — воскликнули мы все втроем. И в это время звонок. Приходит Мишка.
Страшно фальшивым тоном ко мне: «Здравствуйте, папенька!»
Олег к нему: «Где документы? Это ты увел!» (Диалектное выражение сибиряка.) В ответ Мишка начинает лепетать какой-то вздор. Сваливает вину на трех девушек, которые были накануне. Олег угрожающе придвигается к Мишке. Вадим также. Вижу, сейчас начнется драка. Говорю ребятам: «Уходите. В моем доме не дерутся».
Вадим с Олегом уходят. Олежка унес и прокламации. Тут же на улице их уничтожил.
Я (спокойно) Мишке: «До свиданья».
Мишка: «Я зайду вечером».
Я: «Нет, вечером заходить не надо. И вообще больше ко мне не приходи. До свиданья».
Он ушел. С тех пор я его больше не видел.
В тот же вечер меня арестовали. Олега задержали в метро. Искали прокламации. Не нашли ничего. Потом Акимова (следователь) сообщила мне явно провокационную версию: «Вашего крестника Олега Воробьева задержали в метро. У него нашли пачку энтеэсовских прокламаций». Я сделал удивленное лицо.
Глупость эмгебистского агента — дегенерата Мишки — спасла и меня и Олега от неприятнейшего инцидента, который стоил бы нам обоим очень многих лет жизни.
Как я уже сказал, в тот же вечер меня арестовали. Историю моего ареста и первого одиннадцатимесячного пребывания в тюрьме я описал в 1970 году под свежим впечатлением пережитого.
Очерк «Мое возвращение», в котором я описал свои злоключения, был напечатан в журнале «Грани» (1971 год, № 79, сс. 23–82). Привожу его здесь полностью.
А. Краснов
Мое возвращение
Итак, я вернулся. Вернулся, к радостному изумлению друзей. Вернулся, к горестному недоумению врагов. Уже почти месяц прошел со дня моего освобождения, а сенсация не уменьшается, а количество вопросов, обращенных ко мне, не становится меньшим.
Пора дать отчет моим друзьям о всем пережитом. Начинаю.
I. Как это было
С января 1969 года для меня стало ясно — меня арестуют. Трудно сказать, на чем основывалось это убеждение. Но убеждение было ясным и определенным. Интуиция?
Не только. Еще и умение быстро схватывать политическую ситуацию, приобретенное десятками лет политической одержимости (только так можно назвать напряженный интерес к политике, который был мне свойствен всю жизнь).
В конце января 1969 года произошло очередное качание политического маятника, качание вправо — к сталинским временам. Таких качаний после 1956 года было несколько, все они были кратковременны (давно известная истина — колесо истории не поворачивается вспять), но каждое такое качание стоило какому-то количеству людей свободы. Сейчас не время подробно анализировать создавшуюся ситуацию — это дело историков. Сейчас мы лишь констатируем факт.
Политическая интуиция меня не обманула. В марте 1969 года был арестован Иван Яхимович (председатель колхоза в Латвии), прекрасный человек и убежденный демократ. В мае был назначен в Ташкенте суд над крымскими татарами. В мае началась эпопея с арестом генерала Григоренко и Габая.
Я не случайно сказал — «эпопея». В моей памяти остались навсегда эти жаркие (как редко бывает в мае в Москве) дни. Жарища, лихорадочно прыгающее по бумаге перо, остервенелое стуканье машинисток, взволнованные лица товарищей, неутомимый, крикливый, темпераментный Якир, никогда не унывающий и не знающий усталости и отдыха; сдержанный, нервно напряженный, как бы готовый к прыжку, с фосфорически сверкающими глазами Красин, бледные, по-видимому, спокойные (но чего стоило это спокойствие) жены пострадавших.
Особенно ярко запомнился один эпизод. Позвонив по телефону одной из наших женщин, я узнал о стихийной демонстрации у памятника Маяковскому крымских татар и об опасности, нависшей над дочерью нашего близкого друга. Стремглав я направился на квартиру, где рассчитывал узнать все во всех подробностях. Мне открыла дверь несчастная мать. Помню кухню, взволнованных людей; из комнаты выходит бледный, сдержанный, но с лицом, перевернутым от пережитого волнения, Красин. Подходит ко мне, кладет руки мне на плечи, рассказывает о происшедшем. Скрывать нечего — все кончилось благополучно. Но он говорит шепотом. Шепот прерывающийся, лихорадочный. Я слушаю молча, и ощущение какой-то особой близости охватывает меня; я чувствую, что эти люди сейчас для меня дороже родных, близких, дороже всех на земле.
Я никогда не забуду этих дней. Я не только подписал обращение в защиту П. Г. Григоренко и И. Я. Габая и вошел в Комитет борьбы за права человека, но и сам написал статью о Григоренко «Свет в оконце», хотя и совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что меня за это арестуют. Не мог не написать, все во мне переворачивалось при мысли, что я буду сидеть в хорошей квартире (мне как раз в это время предоставили квартиру вместо сломанного дома в Ново-Кузьминках), писать никому не нужные теоретические статьи и редактировать еще менее кому-либо нужные «кандидатки» студентам Академии в то время, когда люди мучаются за правду. И я не колебался ни минуты — я написал.
Между тем тучи сгущались: в июне был арестован в Вятке (Киров) церковный писатель, своеобразный, даровитый шестидесятисемилетний старик Б. Талантов, а затем начали тягать моих знакомых, стали распространяться слухи о моем аресте, меня стали предупреждать о том, что осенью я буду арестован…
И вот двенадцатого сентября в пять часов вечера раздался звонок, резкий, нахальный, — я сразу понял, в чем дело, ко мне никто никогда так не звонил. Открываю дверь. Офицер в милицейской форме, и за ним — гурьба людей. Милицейский офицер быстро улетучивается. Входят штатские. Какая-то дамочка средних лет мило шутит:
— Сколько гостей сразу! — и сует мне под нос книжечку. В книжечке фотография, фамилия и звание: «Акимова. Старший следователь Московской прокуратуры». Говорю:
— Слышал про вас.
Несколько удивлена: — Даже?
Я действительно слышал про нее, что ей иногда поручают политические дела, что она любит корчить из себя либералку, но очень проворно выполняет все задания стоящих за ее спиной.
— Что вам угодно!
Мне предъявляют ордер на обыск. Гости рассаживаются. Начинается. Я разглядываю гостей. Сама Акимова — суетливая, разбитная, типичная московская деловая дама. Вначале говорит раздраженно, как бы делая сцену мужу, потом «входит в норму», начинает говорить обыкновенным бытовым тоном. Ей помогает мужчина средних лет (с серой, незапоминающейся наружностью) — это оперуполномоченный. Около них вертится какой-то женственный парнишка, который всем мешает, повсюду шныряет, пытается вступить в разговор со мной. Видимо, мелкий шпик. Двое понятых — пожилые люди, в шляпах, сидят как идолы, совершенно молча, с выпученными глазами, напряженно смотрят прямо перед собой. Так продолжается четыре часа.
Далее начинается длинное совещание Акимовой с опером в ванной комнате, куда они удаляются. Натянутым тоном она обращается ко мне:
— Анатолий Эммануилович! Вам придется проехать с нами.
— Вы предъявили только ордер на обыск.
Акимова (поспешно поправляя прическу): Нет, нет, я вас не арестовываю, что вы! (Опер тоже издает какой-то протестующий звук). Я приглашаю вас для беседы.
Я: Что за беседы в одиннадцать часов?
Акимова (вкрадчиво): Мы работаем и ночью. Просим вас проехать вместе с нами, Анатолий Эммануилович. Мы имеем право задержать вас до трех дней.
Спорить бесполезно. Одеваюсь. Спускаемся на лифте. Садимся в автомобиль. Приезжаем в милицию, в семьдесят второе отделение — на Волгоградском проспекте. Акимова светским тоном роняет замечания:
— Вам придется здесь остаться, Анатолий Эммануилович. Я приеду завтра утром. Опер поясняет:
— Нам же надо разобраться в материалах обыска.
Молча прохожу в дверь, ведущую в арестантское отделение. Прохожу коридором, милиционер открывает с лязгом дверь, — вхожу. Она с шумом захлопывается за мной.
Совершилось! Я снова в тюрьме.
Это уже третий раз.
24 апреля 1934 года — восемнадцати лет — ГПУ, Ленинград — Шпалерная.
8 июня 1949 года — тридцати трех лет — МГБ, Москва — Лубянка.
12 сентября 1969 года — пятидесяти четырех лет — милиция — Москва.
Ко всему на свете привыкаешь. В восемнадцать лет я держал себя с аффектацией. В душе я был доволен. Передо мной носились образы всех на свете знаменитостей, сидевших по тюрьмам, — от Жанны д'Арк до Льва Давыдовича Троцкого (я ведь вырос в двадцатые годы). В 1949 году я — что греха таить — волновался и боялся. Что я чувствую сейчас? Ничего. Вспоминаю, что не попал на именины, здороваюсь с парнишкой, который находится в камере, ложусь рядом с ним на нары и вскоре засыпаю. В милиции я пробыл трое суток. (Как на другой день объяснила Акимова, ввиду прекрасной погоды все начальство на даче, 13 и 14 сентября — суббота и воскресенье.) В понедельник мне вручили следующий документ:
«На протяжении многих лет Левитин Анатолий Эммануилович, 1915 г. рождения, уроженец г. Баку, прож. в Москве, Кузьминская ул., д. 20, корпус 1, кв. 418, занимается изготовлением, размножением и распространением материалов, порочащих советский государственный и общественный строй, и систематически подстрекает граждан к нарушению законов об отделении церкви от государства. (Далее следует перечисление 16-ти моих работ.) Таким образом, Левитин А. Э. совершил преступления, предусмотренные ст. 190 и ст. 142 ч. 2. В связи с этим против Левитина А. Э. возбуждается уголовное дело. Мерой пресечения назначается арест».
Я ответил на это обвинение и на соответствующий допрос следующей формулой, которую повторял на всех этапах следствия с упорством маньяка (по существу, ничего другого я и не говорил):
Виновным себя ни в чем не признаю. Никакой клеветы ни на кого в моих произведениях нет, а есть правда, одна только правда, ничего, кроме правды. Мой арест — лучшее подтверждение правильности моих утверждений о том, что в нашей стране все еще существуют произвол и беззаконие. Никаких законов я никого нарушать не подстрекал, а критиковал отдельные законы, добиваясь легальным путем их изменения. Я категорически отказываюсь называть имена каких-либо лиц, которым я давал читать мои произведения или которые мне помогали в их распространении.
II. Ночь скитаний
Как неприятно писать о моем деле, как хочется писать о людях, о тех людях, с которыми меня столкнула судьба.
15 сентября начались люди: еще в милиции я получил передачу. Передачу принесли, как мне сказали, высокий красивый мужчина с орденскими ленточками и девушка. Сразу понял: Вадим Шавров и Люда. Через несколько дней в Бутырках получил денежный перевод — сорок рублей с необычной надписью: «От друга Вадима Шаврова». (Как правило, переводы принимаются только от близких родственников: но есть ли что-нибудь невозможное для Вадима? Он всегда добьется всего, чего захочет.) Разумеется, вряд ли было благоразумно для Вадима Шаврова подчеркивать в этот момент свою дружбу со мной (я первый не посоветовал бы ему это делать), но разве Вадим Шавров когда-нибудь и в чем-нибудь руководствовался благоразумием, тем мещанским благоразумием, которое создало столько трусов и подхалимов, но никогда не создавало героев. В это же время В. М. Шавров обратился к Брежневу с заявлением по поводу моего ареста. Характерно, что его престарелая мать, которой он рассказал об этом, сказала: «Да, Дима, ты должен это сделать. Если не ты, то кто же?»
Вадим много раз обращался в ЦК по поводу этого заявления. Он говорил с работниками аппарата ЦК Богдановым и Мишениным. Из ЦК ему сухо ответили: «ЦК существует не для того, чтобы заступаться за всяких преступников (сановник замялся), за гражданина Левитина».
И рядом с Вадимом молодая женщина, почти девочка, Людмила Кушева. Впоследствии, в Бутырках, я не раз получал от нее передачу как от племянницы. Кто не знает Люды среди честных людей Москвы? Она везде и всюду, где требуется дружба, участие, тепло. Она везде и всюду, где требуется ум нежность, решительность, смелость.
«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго…» Как отрадно встречать в мире хороших, добрых людей.
И женщины… В одном из своих последних произведений, в «Строматах» (1968 г.), я сказал несколько горьких слов о женщинах, хотя тут же привел примеры героических женщин в нашей среде… И вот снова слово о женщинах. Женщины. О них говорят все революционеры, все мистики, все вдумчивые люди. У Герцена в его «Былом и думах» есть лирическое место, где он вспоминает женщин, стоящих у плахи, у виселицы. «И у креста были женщины…» — заканчивает он эту страницу. Да, были. Об этом говорит Иоанн: «при кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин.19:25).
И Лука: «…И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» (Лк.23:27).
И Марк: «Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломея, которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим» (Мк.15:40–41).
И Матфей: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему» (Мф.27:55).
И я во время моего заключения все время чувствовал женскую ласку, женскую заботу, женскую любовь[15].
Тут была и жена отца моего, заменившая мне мать, и многие другие, которые не позволяют мне говорить о них.
Но спустимся с лирических высот; спустимся, чтоб сойти в очень мрачное место — в отделение милиции на Волгоградском проспекте, из которого в ночь с 15 на 16 сентября меня повезли в тюрьму. В первом часу ночи меня вывели из милиции и втиснули в «воронок». Боже! Что это было за зрелище: мрачные субъекты с небритыми перекошенными физиономиями, в шляпах с отломленными тульями, воры, бандиты, развратители малолетних. Среди них мне предстояло жить одиннадцать месяцев.
Здесь время остановиться на одной важной проблеме — на проблеме политических заключенных. Прежде всего, чтобы устранить всякие личные моменты, отмечу: от того, что я был среди уголовников, я нисколько не страдал. Я был со всеми ними в лучших отношениях. Когда меня спрашивали, не обижали ли они меня, — я отвечал: «Нет, скорее, я обижал их». Действительно, мне часто бывало стыдно за то, что я не могу платить им тем же уважением, вниманием и заботой, которые я видел с их стороны, не говоря уже о том, что некоторым из них приходилось испытывать вспыльчивость и раздражительность, представляющие тяжелые и неприятные стороны моего характера.
И тем не менее: позволительно ли сажать политического заключенного вместе с уголовниками?
На этот вопрос юристы всего мира единодушно отвечают: нет. Нет — потому что пребывание честного человека в среде уголовных преступников — подонков общества, с их своеобразными чертами: грубостью, жестокостью, полной интеллектуальной и нравственной неразвитостью, — является, по существу, замаскированной пыткой. Нигде люди до такой степени не бывают близки друг другу, как в тюрьме или в лагере, — здесь люди делят и стол, и работу, и даже ложе, потому что спят почти все вповалку. И вот все время вы видите рядом с собой страшных людей — людей, способных на все, с которыми избегают встречаться на улице ночью. Кроме духовной пытки, политический заключенный чувствует себя униженным: его поставили на одну доску с ворами, бандитами, убийцами. В царской России все политические заключенные, кроме присужденных к каторге, содержались отдельно от уголовников. Так было и во всех цивилизованных странах. Исключение составляет Россия при Сталине. Тому, что Сталин, который не признавал никаких человеческих норм, нарочито смешивал политических с уголовниками, — удивляться, разумеется, не приходится. Это было (наряду с пытками, побоями заключенных) одним из проявлений реставрации средневековья. Можно не удивляться также и тому, что в 1956 г. (при Хрущеве) политические были отделены от уголовников. Сейчас также политические официально отделены; однако для того, чтобы их все-таки сажать вместе с уголовниками, проделан следующий удивительный фокус: политическими заключенными считаются обвиняемые или осужденные по ст. 70, привлеченные же по ст. 1901[16] рассматриваются как уголовные преступники. Между тем нет ничего более глупого, чем подобная «классификация». В самом деле, кого считать политическим или государственным преступником? Того, действия которого направлены непосредственно против государства. Того, кто идеологически противопоставляет себя государству. Но разве лица, обвиняемые по ст. 1901, не относятся именно к идеологическим, идейным противникам государства? Относятся в не меньшей степени, чем лица, привлеченные по ст. 70. Чем же объяснить, что содержат их вместе с уголовниками?
Никаких других причин, кроме желания нанести им нравственную травму, нет и быть не может. А ведь не всякий так легко, как пишущий эти строки, находит контакт с людьми. Как, например, должен чувствовать себя Борис Владимирович Талантов — шестидесятисемилетний учитель математики, находящийся в настоящее время в лагерях за свои писания, вверженный в среду уголовников, — и тысячи других, подобных ему людей?
Поэтому настоятельной необходимостью является в настоящее время — отделение всех заключенных, арестованных по идеологическим мотивам (религиозным, политическим и др.) от уголовников. Это есть самое элементарное условие всякого цивилизованного (несредневекового) права. Обо всем этом я думал, сидя в «воронке», рядом с какой-то странной личностью, которая ловила все время воображаемых мух (алкогольный психоз).
Наконец привезли нас в тюрьму на Матросской Тишине (вместо Бутырок, как обещала Акимова). Подъезжаем. Первая тюремная ночь. Как трудно описать тюрьму тому, кто никогда не был в ней. Представьте себе огромное здание вроде вокзала, в котором целые ночи напролет горит свет, в котором, как в гигантском муравейнике, круглые сутки снуют взад и вперед люди, — и вы получите представление о тюрьме большого города.
И вот — ночь. Электричество. Толпы людей. Десятки процедур. В это время людей все время перебрасывают из камеры в камеру в ожидании очередной процедуры. Камеры небольшие, метров на двадцать каждая, с голыми двухъярусными железными койками, спускным клозетом; всюду спертый воздух, матерящиеся мужчины, грязь… Вас ведут к врачу, вас ведут от врача, вас ведут сдавать вещи, вам дают квитанции: всюду вас заводят в камеры, вас выводят из камер; всюду оклики, команды, брань, — и всюду люди, люди, люди… «Откуда вас столько»? — вырвалось у одного офицера, встречавшего нас на Матросской Тишине. Действительно, откуда?
Здесь я имел свое первое столкновение с представителем администрации. Это был начальник изолятора № 1 майор Иванов. Очень неприятно вспоминать личный обыск, когда несколько десятков раздетых мужчин стояли перед обыскивающими нас и матерящимися не хуже любого мужика женщинами. Обыскивающие нас сотрудницы отбирали ключи, деньги и все личные вещи, которые тут и вносились в опись. На мне был крест. Крест обычно снимается с заключенного, вносится в опись и выдается при переводе в другую тюрьму или при освобождении. На этот раз молодая шустрая девчонка, отобрав у меня крест, заявила:
— В опись вносить не будем — выбросим. — И снова повторила: — Мы его выбросим.
В ответ я поднял скандал. Девчонки смутились. Одна из них начала меня убеждать:
— Вы думаете, он поможет вам скорее выйти отсюда?
Другая сказала:
— Ну я не знаю. Ну как же мы будем вносить в опись крест? Ну разве это можно? Поговорите с начальником тюрьмы. Он как раз здесь.
Ко мне вышел высоченный майор. Между нами произошел следующий диалог:
— Чего тебе? Зачем тебе крест?
— Во-первых, не тыкай. Говоришь с человеком, который старше тебя.
— А ты почем знаешь? Может, я старше. (Ему не было и сорока.)
— По уму вижу. Ум у тебя как у пятилетнего ребенка. Крест принадлежит мне и как все личные вещи должен быть внесен в опись.
— Не тебе, а — попу! Не вносите крест, — выбросьте.
Так и пропал мой крест. Впрочем, в одном я уверен: его не выбросили, — кто же станет выбрасывать золоченый крест на серебряной цепочке?
Недолго мне пришлось быть в тюрьме на Матросской Тишине — всего несколько часов. Успел только помыться в бане и побывать в общей камере.
Тут же меня вызвали и сказали (очень вежливо): «Произошла ошибка. Сейчас вы поедете в другой изолятор». Посадили меня в автомобиль с эмблемой Красного Креста и повезли в Бутырки.
III. Бутырки
И вот ровно через двадцать лет я в Бутырках. В 1949 году я был здесь как раз в сентябре. Странное ощущение — я обрадовался, увидев эти стены, боксы из зеленого камня, широкие лестницы. Видимо, прошлое (даже самое паршивое прошлое) имеет необыкновенную власть над человеком. Здесь снова был обыск. Но Бутырки — старая тюрьма. Здесь все размеренно, слаженно, четко. Старые бывалые надзиратели. С одним из них я вступил в разговор. Он сказал мне:
— Ну зачем вам было все это писать? Все равно же ведь никто не прочтет. Я вот, например, не прочту. Прочтут все такие же ученые, как вы, а они и так все знают.
В ответ я сослался на Лермонтова, на известный афоризм об искре и т. д. Пример Лермонтова, видимо, произвел впечатление:
— Да, Лермонтов — человек. Хорошо писал.
Другой надзиратель спросил:
— Да что они пишут-то?
Мой седовласый собеседник неожиданно дал довольно квалифицированное объяснение:
— Они пишут, критикуют, — потом это попадает за границу. Они вроде как раньше были революционеры.
После обыска — баня, знаменитая Бутырская баня, воспетая Солженицыным в его «Круге первом». И наконец опять камера. Сначала меня посадили с хулиганами. Пожилые пропойцы, которых посадили жены. Все они проклинают жен, и ко всем проклятиям — рефрен: «Семью разрушают, сволочи!» Но попадают и иные: так, на прогулке ко мне подошел молодой человек, который спросил, не знаю ли я о судьбе Бурмистровича. Я уже знал о том, что Бурмистрович получил три года лагерей, и сказал об этом собеседнику, а затем спросил, откуда он знает о Бурмистровиче. Оглядевшись по сторонам, мой собеседник шепнул: «Я кандидат математических наук и товарищ Бурмистровича по аспирантуре. Только никому не говорите. Неудобно, я сижу по такому делу…» А сидел он за ограбление магазина. Он оказался сыном крупного работника-коммуниста; когда пришла ему передача, он отказался ее принять, так как она была от имени мачехи, а не отца. К сожалению, мне не пришлось с ним поближе познакомиться. Вскоре меня перевели в «спецкорпус». Спецкорпус — это особое отделение в Бутырках. Раньше там сидели (с 1925 г. по 1938 г.) меньшевики и эсеры, которым расстрел был заменен долголетним заключением. В старое время это было отделение для политиков. В тридцатые годы там сидели троцкисты. Сейчас там сидят крупные расхитители. Камера похожа на гостиничный номер: больше четырех человек там не бывает. Имеется даже умывальник и зеркало. Есть и еще одна принадлежность, о которой меня предупредил еще в милиции один парнишка: «Если посадят в спецкорпус — держите ухо востро: там всегда стукачи». В моей камере было три человека, знакомство с которыми произвело на меня впечатление. Представляю их читателю.
Один из них: Михаил Федорович Ленский. Высокий, сухощавый, пятидесяти семи лет. Начальник отдела капитального строительства Министерства просвещения РСФСР. Украинец. Женат. Имеет трех взрослых детей. Имущественное положение: зарплата — 230 руб. Распределитель (продуктами самыми высококачественными на 200 руб.) — до знакомства с ним я не знал, что в Москве существуют распределители. Его жена — работник Президиума Верховного совета СССР. Имущественное состояние — такое же; два сына — лейтенанты КГБ, дочь студентка Педагогического института им. В. И. Ленина. В ведении Ленского 130 педагогических институтов. Каждое лето начинает работать телефон; товарищ Ленский обзванивает ректоров: «Я тебе отремонтирую отопление, — устрой мне двух парней, устрой мне девчонку». С каждого «парня» и с каждой «девчонки» берется 1500–2000 рублей. Клиентура в основном набирается в Грузии через двух агентов. Каждый год устраивается, таким образом, больше сотни человек. За двадцать лет накопилась какая-то поистине астрономическая сумма. Достаточно сказать, что дело Ленского насчитывало сто двадцать томов, и закрывал он его около двух месяцев.
Затем Толстов: литератор, редактор журнала «Строитель» (впрочем, был он также одно время сотрудником журнала «Наука и религия», этого, как всем известно, «Ноева ковчега» проходимца). Толстов сидел за «литературные дела»: он присваивал себе гонорары сотрудников. У него насчитывалось четыреста восемьдесят эпизодов, сто тридцать томов; следствие длилось два года.
И наконец — № 3 (фамилии не помню): снабженец, тридцати двух лет, с пузом, наружность трактирщика. Однажды подходит ко мне на прогулке, говорит:
— Анатолий Эммануилович! Дело мое хорошо оборачивается: через два-три года буду на воле, но с партией — кончено. Как сделаться священником?
— А в Бога вы веруете?
— В Бога? Да я могу поверить и в Бога.
Чувствую, что нехорошо пишу об этих людях, с желчью. Но что поделаешь? Вызывают они во мне недобрые чувства. Были все мои «расхитители» убежденные «сталинисты», все они боготворили Сталина и ненавидели Хрущева. Особенно много говорил Толстов; хвастун и всезнайка, он утверждал, что уже есть решение: «К 1979 году реабилитируют полностью Сталина и всех его соратников (и даже Берия) и торжественно отпразднуют столетие со дня сталинского рождения». Был он якобы дружен с Василием Сталиным и рассказывал про него всякие небылицы. Разумеется, Сталин не ответствен за таких поклонников; сам он никого не учил воровать казну и даже очень жестоко преследовал за это. И все же не случайно все трое — поклонники Сталина.
Л. Н. Толстой однажды сделал очень глубокое замечание: «Петр Первый показал жестокость, безумие, распутство власти. Он расширил рамки. Появилась Екатерина. Если можно головы рубить, то почему любовников не иметь?[17]»
В самом деле, — деспотизм есть распутство власти (это очень здорово сказано). А одно распутство порождает другое; отсюда и казнокрадство: если можно головы рубить, миллионы людей в тюрьмах гноить, почему нельзя казенные деньги воровать?..
IV. Поездка на Кавказ
Девятого октября 1969 г. в шесть часов утра открылась кормушка (так называется по-тюремному отверстие в двери, через которое подают пищу), и голос надзирателя произнес:
— Левитин!
Я ответил, что дежурил накануне (в тюрьмах существуют дежурства по уборке помещения), но надзиратель сказал:
— На этап.
Всеобщее удивление: этап? какой этап? Однако делать нечего: собираю вещи, выхожу в коридор. Вижу: конвоир сам несколько удивлен — заглядывает в дело.
— Вы где жили? В Москве?
— В Москве.
Осторожная пауза.
— А то, что вы делали, где делали?
— Тоже в Москве.
— А едете вы далеко… на курорт.
Я не обратил внимания на эти слова, решив, что это шутка, «курорт» — какая-то другая тюрьма. Однако и внизу мне снова сказали, когда я не хотел брать хлеб на три дня: «Берите, берите, ехать далеко, на курорт». Наконец симпатичный паренек лет двадцати, в очках, подсмотрев в бумагах, шепнул:
— Вы — Левитин? Нам ехать в одном направлении. Мне — в Краснодар, вам — в Сочи. Давайте знакомиться: я — Жорка.
И неожиданно я отправился на Кавказ.
Почему и зачем на Кавказ?
В жизни все смешано: трагедия и комедия, свет и тень. И особенно изобилует жизнь анекдотами.
Поездка на Кавказ, о которой пойдет сейчас речь, — это юридический анекдот, скверный, но и забавный анекдот.
Среди моих многочисленных знакомых есть некто Михаил Стефанович Севастьянов — очень своеобразный человек. Выходец из старообрядческой семьи, он с ранней юности был помешан на древних рукописях, иконах и тому подобных редкостях, которыми сейчас увлекаются многие (и даже, как это ни странно, ультрасовременный Якир). Михаил Стефанович заглядывает в самые глухие углы, где еще сохранились старообрядцы — в Сибири, в Горьковском крае и так далее, — и всюду находит древние книги. Должен сказать, что объективно им проделана большая культурная работа: ведь многие из этих рукописей, свято чтимые дедами, ныне валяются у внуков на чердаках; выдранными из них листами накрывают крынки, делают из них кулечки, растапливают печки. И вот сотни ценных книг М. С. Севастьянов спас от истребления; достаточно сказать, что среди его коллекции имеются экземпляры книг, изданных первопечатником Иваном Федоровым, а также рукописи XV–XVI вв. Я не знаю в точности почему и как, но при собирании этих рукописей М. С. Севастьянов вошел в столкновение с какими-то законами. Я познакомился с Михаилом в доме одного протоиерея, и несколько раз он бывал у меня в доме, ночевал и фотографировался вместе со мной, будучи у меня в гостях на именинах. В мае 1969 года он был арестован в г. Сочи, и при обыске, наряду с древними рукописями, у него были найдены и рукописи, так сказать, не столь древние — мои статьи и работы.
Это и дало следствию формальную возможность объединить мое дело с делом Севастьянова и увезти меня из Москвы.
Чтобы понять всю анекдотичность этого эпизода, следует учесть, что в Москве у десятков людей находили при обысках мои работы и никто не привлекал за это к ответственности; еще в мае никто не привлекал к ответственности за это и Севастьянова, и только через четыре месяца, в сентябре, когда дело Севастьянова было уже передано в суд, вдруг «спохватились» и выдвинули против него обвинение по ст. 1901, приплюсовав ее к другим его статьям, и объединили его дело с моим. Так началась моя кавказскаяя «Одиссея».
«Одиссея» началась с того, что меня посадили в элегантно отполированный снаружи, блещущий свежей краской «воронок» и повезли по московским улицам. Бутырки всегда, во все времена считались наиболее либеральной из тюрем. Эта традиция сохранилась, видимо, и сейчас. Бутырская карета не похожа на «воронок»; обычный тюремный «воронок» представляет собой настоящее орудие пытки; в крохотное помещение втискивают около тридцати человек, которые стоят впритык друг к другу, точно сельди в бочке; потные, ошалевшие от жары, они пребывают в каком-то полубессознательном состоянии; «воронок» герметически заперт, и рассмотреть из него ничего нельзя.
В противоположность этому из Бутырок возят в просторной карете по шесть-семь человек, которые сидят на скамейках; сквозь едва прикрытую дверь вы видите московские улицы. Ровно двадцать лет назад по этим же самым улицам меня везли на Ярославский вокзал, откуда я отправился на Север, в лагерь. Так и сейчас, по Садовой улице, мимо Колхозной площади, мимо с детства знакомых мне Спасских казарм, от которых остался теперь только кусочек, меня привезли на площадь трех вокзалов, — только не на Ярославский, на этот раз на Казанский вокзал. Там я снова сел в знаменитый «столыпинский» вагон[18] (поездил я в этих вагонах в свое время). Но не всем, может быть, известно, что такое «столыпинский» вагон. В свое время П. А. Столыпин очень обиделся, когда Ф. И. Родичев — известный думский оратор, член Государственной Думы от кадетской партии закончил свою речь восклицанием «Столыпинский галстух!» и нарисовал рукой в воздухе виселицу. Столыпин послал Ф. И. Родичеву вызов на дуэль; думал ли тогда знаменитый государственный деятель, что его имя сохранится в России только в связи с арестантскими вагонами? Знаменитые столыпинские «отруба» (наделение крестьян землей), основание Земельного банка, «третьеиюньская» Дума — все забыто. Одни лишь арестанты продолжают до сего времени склонять его имя в связи со страшными его вагонами.
Какая ужасная судьба, но и какой урок! Урок для многих государственных деятелей. Но, как говорил Бернард Шоу, «уроки истории отличаются тем, что их никто никогда не извлекает». Я назвал столыпинские вагоны страшными; это не мое выражение — в стихах моего крестного сына Евгения Кушева встречается такое выражение: «Столыпинские страшные вагоны». Они действительно страшные: содрогание чувствуешь уже тогда, когда входишь в этот вагон. Вагон разделен на две половины, причем разделяет их решетка от пола до потолка. Первое впечатление — клетка для диких зверей. В той части, которая предназначена для заключенных, нет окон, — и разделена эта часть на маленькие клетушки (купе-камеры), имеющие три яруса. В эти купе иногда бывает по пятнадцать-двадцать человек. Самое неприятное здесь — гигиена. Хочется пить — конвоир не дает воды. Только после очень долгих напоминаний он подает алюминиевую кружку воды — одну на пятерых-шестерых заключенных. Кружка переходит от уст к устам (кстати сказать, сифилис — весьма распространенная болезнь среди уголовников, и медицинский осмотр всюду в тюрьмах очень поверхностный). Здесь уместно вспомнить наших антирелигиозников двадцатых и тридцатых годов, любимым пропагандистским козырем которых были ссылки на «негигиеничность» причастия. Имеется и еще ряд очень больших неудобств при переездах в «столыпинских» вагонах, о которых не хочется писать. Тем не менее люди не унывают. Как и все пассажиры, через полчаса совместной поездки люди знакомятся, разговаривают, привыкают друг к другу. Здесь завязываются кратковременные арестантские знакомства.
Об одном из таких знакомств мне хочется рассказать. Еще в Бутырках, как я сказал выше, ко мне подошел парень, который отрекомендовался моим спутником — Жоркой. Знакомство с Жоркой оказалось одним из самых интересных знакомств в моих тюремных скитаниях. Георгий Супрун (Жорка) — студент из Краснодара, двадцати трех лет, был приговорен к расстрелу и только что, перед нашим знакомством, провел девять месяцев в одиночке, ежеминутно ожидая приведения приговора в исполнение.
История его такова. Сын краснодарского экономиста Георгий неплохо учился, любил читать, после окончания десятилетки поступил в Юридический институт (на заочное отделение). Отпечаток интеллигентности сохранился на нем и в заключении: хороший литературный язык, отсутствие матерщины (в тюрьме — это невероятная редкость у молодого парня), очки — все это создавало впечатление культурного молодого человека. Он рано женился и имел уже четырехлетнюю дочурку. Однажды его жена уехала из Краснодара в деревню к своим родителям. А он (грешный человек) отвел свою дочку в детский сад и отправился к своей знакомой, о которой он говорил, что она была «хорошей сводней». У нее он застал двух парней, которые выпивали вместе с хозяйкой. Присоединившись к этой теплой компании, Жорка остался и тогда, когда двое парней ушли. Через час ушел и Георгий. Что именно делали Георгий и хозяйка во время этой часовой беседы — дискутировали о Гегеле или обсуждали проблемы абстрактной живописи, — я не знаю, но только в одиннадцать часов вечера Георгий Супрун был арестован в своей квартире, так как его знакомая была найдена убитой в своей комнате (ей были нанесены четыре ножевые раны).
Убийство было обнаружено в девять часов вечера. Георгий же ушел от своей знакомой не позже четырех часов (это подтверждается тем, что в половине пятого он взял свою дочку из детсада). Единственная улика против Георгия — кровяная точка на манжете рубашки; Георгий, однако, объясняет происхождение этой точки тем, что он порезал палец (палец действительно был поранен), когда резал хлеб. Кровь на манжете была подвергнута анализу.
Выяснилось, что это — вторая группа крови. Такая группа была и у убитой, и у самого Супруна. В комнате, где произошло убийство, на столе стояла опорожненная бутылка из-под водки; на ней — кровавые отпечатки чьей-то руки. Это — не рука Супруна. Тогда, может быть, рука убитой? Увы, следствие обратило внимание на эту улику слишком поздно: убитая уже похоронена. Выкапывают труп. Труп разложился; установить, ее ли это рука, невозможно. Страшная беда! Если бы отпечаток не совпал ни с рукой Супруна, ни с рукой убитой, это значило бы, что убийца — не Супрун.
Итак, ничего не обнаружено. Надо искать, искать и искать. Но следствию надоело искать. Принимается версия: убийца — Супрун. Главный аргумент: «Кроме тебя, больше некому». Появляется статья в местной газете: «Хулиган убил честную работницу». (Убитая работала буфетчицей, и о второй ее профессии, в которой, по словам Супруна, она подвизалась, никто не знал). Показательный процесс. Публика наэлектризована. Во время речи прокурора раздаются крики: «Убить его, гада. Убить! Убить!» Приговор — расстрел.
Его переводят в одиночку. Здесь — полная изоляция: ни радио, ни газет, ни передач. Питание ухудшенное. Единственная надежда — адвокат. Он обещал обжаловать приговор.
И вот в тюрьму, в камеру смертника, приходит весть: генеральный прокурор РСФСР вошел в Верховный суд с протестом по поводу приговора Краснодарского краевого суда. Счастье! Радость. Жизнь. Увы! Через два месяца приходит новая весть. Верховный суд РСФСР постановил: протест прокурора отклонить, приговор оставить в силе. Снова тьма. Снова безнадежность. Снова смерть. Администрация тюрьмы предлагает ему писать прошение о помиловании. Это — надежда на жизнь. Но для этого надо признать себя виновным. Он отказывается сделать это. Через некоторое время — новое известие: адвокат написал жалобу генеральному прокурору СССР. Опять долгие месяцы ожидания и снова крах — генеральный прокурор отказался опротестовать приговор. И лишь через месяц — новое известие: Верховный суд СССР отменил приговор как необоснованный и дело передал на новое рассмотрение.
Прошло девять месяцев. Его переводят в общую камеру. Смерть отступила. Но следствие продолжается. Его везут в Москву, в институт им. Сербского для обследования. Видимо, следствие втайне надеется, что его признают психопатом. Это — лучший выход для всех: не надо будет с ним больше возиться, и он останется в живых. Признают нормальным и вменяемым. И вот он едет в компании с церковно-политическим преступником на новое следствие. Мы расстались с ним 12 октября в Армавире, — он поехал дальше, в Краснодар. За эти три дня мы переговорили обо всем, и нам казалось, что мы знакомы много лет.
При прощании я перекрестил его трижды и трижды поцеловался с ним. Внутренне я уверен, что он не виновен. Через несколько месяцев я услышал, что и следствие приходит к тому же выводу. О его окончательной судьбе я ничего не знаю.
V. «Земных страданий решето»
Ты, что по морю, яко посуху,
Прошел, ступая широко,
Не отпусти меня без посоха
В земных страданий решето…
Наталья Горбаневская[19]
Двенадцатого октября 1969 года я прибыл в Армавир, в местную тюрьму. В Сочи тюрьмы нет, как нет ее и в Адлере, в Хосте и в других курортных городах. Туда лишь возят на следствие. А тюрьма в Армавире — одна на десять городов. Здесь мне предстояло прожить десять месяцев.
Здесь я узнал многое. Здесь я многое пережил и перечувствовал.
Но прежде, чем описывать Армавирскую тюрьму, я должен остановиться на главном, на самом главном.
В тюрьме заключенные меня любили. И все они называли меня «наш батька-революционер». Один заключенный, чуть-чуть тронутый цивилизацией, меня называл «Дон-Кихотом». Ошибались ли они? Нет, не ошибались. Я действительно сторонник активной борьбы за правду, сторонник непрерывного, непрестанного обновления жизни, а следовательно, — я революционер. Я и Дон-Кихот, ибо Дон-Кихот — это прототип всех на свете революционеров и правдолюбцев. У нас часто считают имя «Дон-Кихот» оскорбительным прозвищем, но не так воспринимал это слово, например, Достоевский. В одном месте «Дневника писателя» он говорит: если Бог на Страшном суде спросит человечество, что оно сделало хорошего за все время пребывания на земле, то оно может, заливаясь слезами, протянуть Ему книжку Сервантеса «Дон-Кихот».
Но прежде всего я — христианин. Я чувствовал себя в тюрьме легко и хорошо и вышел оттуда, как это ни странно, — с окрепшими нервами, хотя и находился все время в очень плохих условиях.
И с моей стороны было бы страшной неблагодарностью, если бы я не сказал, чему я обязан своим хорошим самочувствием. Здесь я произнесу только одно слово — молитва. На свете — все чудо, и только близорукие люди могут не видеть этого: и творчество — чудо, и память людская — чудо, и совесть — чудо. Ибо во всем проявляется иррациональная, непонятная сила. Творческий импульс, как называл ее Бергсон. Мой отец когда-то говорил про своего любимого писателя: «Чудное дело! Пожилой солидный человек, с бородой, садится за письменный стол и пишет какие-то глупости о каком-то студенте, который убил какую-то старуху, — и все это очень неправдоподобная выдумка, потому что никто никогда так не убивает и никто так следствие не ведет, — а получается что-то настолько сильное, что и через сто лет нельзя оторваться.». Нельзя оторваться, потому что это чудо — откровение Божие. Бог здесь, в романах Достоевского, Л. Н. Толстого и других открывает человеку его сущность и сущность жизни. И память людская — чудо, ибо с материалистической точки зрения никак нельзя объяснить, почему мельчайшие частицы все время изменяющейся материи, все время отмирающие клеточки могут задерживать прошлое с такой ясностью и силой, что оно переживается более реально, чем тогда, когда было настоящим. Л. Н. Толстой сказал однажды, что величайшее чудо — это то, что небольшое количество съедаемой мной ежедневно пищи превращается в мысль.
И самое главное чудо — молитва. Стоит мне мысленно обратиться к Богу, — и я сразу чувствую силу, которая врывается откуда-то в меня, мне в душу, во все мое существо. Что это такое? Психотерапия? Нет, не психотерапия, ибо откуда возьмется у меня, ничтожного, усталого от жизни пожилого человека, эта сила, обновляющая, спасающая, поднимающая меня над землей. Она приходит извне, — и нет в мире никакой силы, которая могла бы ей противиться.
Я по натуре — не мистик, никакие сверхъестественные явления, особые переживания мне не свойственны и недоступны. Мне доступно лишь то, что доступно решительно всякому человеку — молитва. Так как я вырос в Православной Церкви и был воспитан ею, то молитва моя изливается в православных формах (хотя я, разумеется, не отвергаю и всяких других форм).
Основой всей моей духовной жизни является православная литургия, поэтому, находясь в тюрьме, я каждый день мысленно присутствовал на литургии. В восемь часов утра я начинал ходить по камере, про себя повторяя слова литургии. В этот момент я чувствовал себя неразделимо связанным со всем христианским миром, поэтому на великой ектений молился всегда и о папе, и о вселенском патриархе, и о нашем (пока он был жив) святейшем патриархе Алексии, — впоследствии о патриаршем местоблюстителе. Дойдя до середины литургии, я читал про себя евхаристический канон, — и после слов пресуществления, стоя перед лицом Господа, ощущая почти физически Его израненное, истекающее кровью тело, я начинал молиться своими словами и поминал всех своих близких, заключенных и находящихся на воле, живых и умерших. И память подсказывала мне все новые и новые имена, и я поминал всю русскую литературу (от Ломоносова до Паустовского), и весь русский театр (от Мочалова до Станиславского, Мейерхольда, Москвина и Качалова), и всех пострадавших на нашей земле за правду (от Радищева и декабристов до Алексея Костерина), и всех православных иерархов, и многочисленных священнослужителей, которых я знал с детства, и своих многочисленных учителей и учительниц…
Стены тюремные раздвигались, и моим пребыванием становилась вся вселенная, видимая и невидимая, за которую приносилось в жертву это израненное, избитое Тело. И после этого с особой силой для меня звучал в моем сердце «Отче наш» и молитва перед причастием: «Верую, Господи, и исповедую…» И весь день после литургии я чувствовал необыкновенный подъем духа, ясность и духовную чистоту. И не только моя молитва и не столько моя молитва, сколько молитва многих верующих христиан помогала мне. Я ее чувствовал непрерывно, она на расстоянии действовала — поднимала меня как бы на крыльях, давала мне воду живую и хлеб жизни — покой душевный, мир и любовь.
А жизнь между тем шла своим чередом.
Условия были, как я сказал, очень тяжелые: камера (комната в двадцать метров) была заполнена народом: в ней помещалось от восемнадцати до двадцати пяти — двадцати шести человек. Непрерывное курение и клозет, находящийся в камере, отравляли воздух, непрерывное стуканье домино и рев громкоговорителя создавали оглушительный шум, не прекращающийся ни на минуту с шести часов утра до десяти часов вечера.
Питание — очень скудное, но для меня в моем возрасте, в общем, достаточное: шестьсот граммов ржаного хлеба и — утром — две ложечки сахара, утром же — баланда: суп с лапшой; днем — обед: щи отвратительные (я их почти никогда не ел), каша обычно пшенная; и вечером — кипяток без сахара и опять похлебка.
Наиболее тяжким были страшно антигигиенические условия: заключенные лежали на двухъярусных нарах (спаянные металлические койки) почти впритык друг к другу на матрасах, которые никогда не меняются (в банный день их лишь выносят на тюремный двор и посыпают дустом); белья нет — заключенным лишь выдаются матрасовка, одеяло и подушка; меняются во время бани только лишь полотенце и наволочка. Белье брали в стирку до января месяца, а потом почему-то перестали брать, следовательно, белье приходилось мыть самим в камере под краном, холодной водой.
Баня в Армавирской тюрьме — это какой-то кошмар: заключенные несут на себе матрасы с постелями, которые оставляются на дворе. Затем заключенных вводят в предбанник, где их неизменно встречает пожилая крикливая женщина, о которой говорили, что она выросла в тюрьме на этой должности (и, как говорят, ее мать также занимала эту должность). Надо было самому видеть эту женщину, оглушительно кричавшую среди десятков голых мужчин, — дать об этом представление трудно. На баню давался каждому заключенному ломтик черного мыла, нарезанный так тонко, как гастрономы режут сыр, причем душ, под который становились заключенные, работал не больше десяти минут. Вымыться за это время невозможно.
В тюрьме существовал ларек; заключенный мог раз в две недели получить (при наличии у него денег) продуктов на пять рублей — сахар, масло, мыло; некоторые получали также и передачу. Однако большинство заключенных денег на текущем счету не имели и никаких передач не получали. Обычно в камере «брали ларек» всего четыре-пять человек, а были случаи, когда «ларек брал» только один человек — пишущий эти строки. Впрочем, и я, хотя у меня были на текущем счету деньги, в течение четырех месяцев (с октября по февраль) был исключительно на тюремном довольствии, так как деньги все никак не могли прийти из Москвы в Армавир.
Однако все эти условия — сущий рай по сравнению с поездками из Армавира в Сочи, на следствие. После утомительной поездки в «столыпинском» вагоне, условия которых я уже описывал, вас привозят в Сочи, в местную милицию (на главной улице города), так как тюрьмы в Сочи нет. Здесь вас ожидает комната предварительного заключения (КПЗ) — каморка метров на десять, в которой валялись на голом полу семь-восемь человек, одетые, вповалку. Теснота иной раз была такая, что невозможно было вытянуть ноги. В таких условиях я пробыл по восемнадцать дней: между 15 октября и 4 ноября 1969 г. и второй раз — с 10 января по 29 января 1970 г. Когда после первого пребывания в Сочи я обратился с заявлением к местному прокурору, то получил ответ от зам. прокурора г. Сочи Гончарова, что условия, в которых я нахожусь, соответствуют закону.
Комментарии, вероятно, излишни. Мы и не будем комментировать. Мне хочется обратить лишь внимание вот на что. Сочи — чудесный городок-здравница, в который со всего мира люди приезжают лечиться, отдыхать, развлекаться. Здесь десятки шикарных гостиниц, ресторанов, кафе. И здесь же рядом в таких невыносимых условиях содержатся люди. Люди! Что могут сказать в свое оправдание те, кто допускает это? Ничего.
VI. Люди
На протяжении одиннадцати месяцев я не видел ни одного по-настоящему интеллигентного человека (если не считать мимолетной встречи в Бутырках с математиком и еще одного человека — опустившегося архитектора; «хозяйственников» из спецкорпуса вряд ли кто-нибудь может причислить к интеллигентам, у них и знания, и интересы, и лексикон — все совершенно как у блатных). Я не видел ни одного верующего человека. Большинство людей, с которыми мне пришлось сидеть, — это люди преступные, преступные с любой точки зрения.
Но все это люди, не упавшие с неба и не выросшие как грибы из земли. Все они плоть от плоти, кость от кости русского народа. По ним можно судить о русском народе в наши дни.
Какой вывод напрашивается сам собой даже при самом беглом знакомстве с русскими людьми в тюрьме?
Прежде всего, вывод следующий: русский человек до смешного не переменился со времен Достоевского и Л. Толстого. «Записки из Мертвого дома» и страницы из «Воскресения», посвященные тюрьме, вспоминаются каждую минуту. Это все тот же русский человек — матерщинник, пьяница, драчун, а в груди у него золотое сердце. Это все тот же русский человек, безграмотный и невежественный (школа не научила его ни сколько-нибудь грамотно писать, ни бегло читать), но в голове у него — светлый ум, быстрая сметка, острая наблюдательность, живой интерес ко всему новому, честному, героическому.
Да, широк, широк русский человек, — как говорил Достоевский.
Этот русский человек ничего не читал, ничем никогда не интересовался, — а понимает и стихи Пастернака о Христе, которые недоступны среднему интеллигенту, и быстро схватывает главное в философии Канта и Гегеля, и умеет оценить истинную гражданскую доблесть. Это ли не широта и глубина? Но перейдем к конкретным примерам.
Поедем для этого в Сочи в воскресный день в октябре 1969 г., войдем в одну из камер предварительного заключения; камера состоит из помоста — семь шагов в длину, четыре шага в ширину. На помосте пятеро: высоченный верзила с Дальнего Востока, косая сажень в плечах, судится за «гоп-стоп» — ограбление человека ночью; симпатичный парнишка лет двадцати пяти в солдатском кителе, Славка, сидит за воровство; худой местный житель лет за сорок, невропат, с подергивающимся тиком лицом, — мой тезка, как и верзила; в камере, таким образом, из пяти — три Анатолия. Пятый — русский парнишка, родившийся и живший в Литве, изъясняется ломаным языком, весь в татуировке от шеи до пят, несмотря на свой возраст — двадцать один год, — сидит уже третий раз. Преступление, за которое он сидит, обозначается по-европейски, красивым термином «хулиганизм».
Я прикорнул у стенки — сплю. Сквозь дрему слышу, как невропат с тиком говорит:
— Старик сегодня спит.
Верзила с другой стороны замечает:
— Разбуди батьку, пусть расскажет чего-нибудь: скучно. Отец, расскажи нам.
Я: А чего это я должен вас увеселять? Расскажи ты что-нибудь, а я послушаю.
Верзила: Ну и что вам рассказать? Я уже все рассказал, что мог. Вот пускай Славка рассказывает.
Славка: А что мне рассказывать?
Я: А за что сидишь.
Славка: Да за чемодан.
Я: А зачем тебе, ребенки (мой обычный термин, — во множественном числе), нужен был чемодан?
Славка: Ну, денег же у меня не было.
Я (под дурачка): А зачем тебе, ребенки, деньги нужны были?..
Недоумение, молчание.
Верзила: Не всякий же может жить одними божественными молитвами, как вы.
Я: Ну, есть люди и без божественных молитв, а чемоданов не воруют.
Парень в татуировке: Ну так что-нибудь другое воруют.
Я: И ничего не воруют. Вот я вам расскажу про одного генерала и его жену-генеральшу.
И я подробно рассказываю историю Петра Григорьевича Григоренко и его жены Зинаиды Михайловны. Слушают как зачарованные. В тот момент, когда я рассказываю, как генеральша ходила потихоньку от мужа мыть полы, — раздается крепкая матерщина, у одного — на глазах слезы, все взволнованы. Я продолжаю рассказ. Когда узнают, что генерал и сейчас в тюрьме, — напряжение нарастает; снова раздается мат. Верзила Толик восклицает:
— Да! Вот это — человек! За такого — в огонь и в воду…
Молчание. Неожиданно парень в татуировке спрашивает:
— А кто такой Пастернак?
Рассказываю. Читаю его стихотворение «Магдалина» из стихов доктора Живаго. И перехожу к разговору о Христе. Тысячи вопросов. Даже караульный за дверью слушает. Так проходит вечер. (В КПЗ нет отбоя, говорить можно сколько угодно). Постепенно некоторые засыпают. Не спим мы с верзилой. Верзила рассказывает свою жизнь, жизнь отвратительную и ужасную. Но рассказывает с такой бесстрашной откровенностью, на которую не каждый интеллигент способен, не каждый верующий на исповеди. А потом, видимо, желая выразить мне свое уважение, вынимает из кармана пайку белого хлеба и протягивает мне.
— На, ешь, батька. Это я лежал в больнице. Там мне дали белый хлеб.
Я разламываю хлеб пополам, и мы начинаем есть вместе… В темной камере храпят люди, малюсенькая лампочка из коридора, заделанная решеткой, тускло светит, точно лампадка, — не верится, что это XX век. Вспоминается келья в Николо-Угрешском монастыре, в котором был заточен при Грозном митрополит Филипп… Так же точно сидели по темным каморкам вместе с разбойниками исстари на Руси люди, ищущие правду, — и стригольники, и жидовствующие, и староверы всех и всяческих толков, и сектанты всех мастей и направлений.
Я чужд всяких национальных пристрастий: русский народ я люблю больше всякого другого народа (хоть я только наполовину русский). Однако я люблю и все другие народы (не говоря уж о евреях, с которыми меня связывает кровное родство); ничто меня не возмущает так, как пренебрежение к какому бы то ни было народу; и незадолго до ареста я поссорился с близкими друзьями из-за того, что они посмели пренебрежительно отозваться о крымских татарах.
Однако факты — прежде всего. Великоросс удивительно отличается от украинца, прибалта, кавказца (это я наблюдал на тысяче примеров) своей щедростью, великодушием, широтой. Украинец, получив передачу, положит сало под подушку и будет его держать там, пока оно не провоняет[20]. Прибалт будет резать сало тоненькими кусочками, точно рассчитав, сколько времени оно может лежать и не испортится; кавказец поделится со своими близкими друзьями. Русский (великоросс) сразу, с ходу, раздаст всю посылку, щедро одарив каждого (в том числе и того, кому вчера морду бил и кто ему морду бил) встречного и поперечного, — и к вечеру посылки как не бывало. Русскому совершенно чужда мелочность, осмотрительность, расчетливость. Русскому точно так же чужда злопамятность: я видел, будучи в лагере и в тюрьме, очень много русских парней, бьющих друг другу физиономии, лупящих друг друга кружками (это называется, «давать банок»), осыпающих друг друга самой отборной бранью, но я не видел двух русских парней, которые бы дулись друг на друга и не разговаривали более одного дня. Разумеется, национальный характер — это закон больших чисел, в любом случае могут быть исключения в ту и в другую сторону, но общее явление именно таково.
Часто говорят о русской грубости, о русском хамстве.
Русская грубость — да! Но не хамство. Русский человек очень редко бывает хамом. Измываться над слабым, издеваться, над униженным, проявлять неблагодарность — это русскому не свойственно. Я никогда не льстил блатным, — я всегда говорил им то, что я о них думаю. Я говорил им:
— Ребятенки, я к вам ко всем очень хорошо отношусь и очень всех вас люблю, — и я не выпустил бы из тюрьмы ни одного из вас, потому что выпусти вас из тюрьмы — вы снова пойдете воровать, выпустить вас — это людей не жалеть.
Ничего, слушали и ухмылялись.
Самая матерная ругань, для многих непереносимая (я к ней привык с детства, и на меня она не производила никакого впечатления), не носит в устах простого человека оскорбительного характера: она слетает у него с уст машинально, бессознательно, «для связки слов». Она стала настолько привычной, что когда хотят кого-нибудь оскорбить, то произносят совершенно другие слова; так, всякий блатной вам охотно простит, если вы обругаете его матом (это на него просто не произведет никакого впечатления), но придет в ярость, если вы назовете его «козлом». «Козел» — это почему-то самое оскорбительное с недавнего времени словечко. Причем и здесь русский человек соблюдает меру: он никогда не станет ругать того, кто сам не ругается матом (я, например, за все время ни разу не услышал мат по своему адресу). Мало того, зная, что я верующий, в камерах, где я сидел, никогда не ругались в «Бога». А если кто выругается, немедленно того туркали.
— Если кто ругнется в Бога, тому морду набью, — заявил категорически Ковалев, самый отчаянный и самый хороший парень из шестьдесят восьмой камеры, в которой я сидел больше всего — в течение полугода.
И по-прежнему живет в народе русская удаль, и рука об руку с ней шагает русская бесшабашность.
В этом отношении поразительна живучесть в наши дни такого явления, как бродяжничество.
Для меня было неожиданностью наличие такого огромного количества бродяг (в тюрьме их называют «скирдятники» — от слова «скирда»). Должен сказать, что во время своего пребывания в лагере (1949–1956 гг.) я их почти не видел. Что из себя представляют скирдятники? Хотите познакомиться с одним из них? Рекомендую: Железнов Валентин, тридцати лет, местожительство — отсутствует, место работы — никогда нигде не работал, был в детдоме, но окончил только пять классов; был женат, имел двух детей. Потом вдруг бросил их и пошел бродяжить. Бродяжит уже десять лет. Главным образом в Грузии. Вам нужно отремонтировать дом, покрыть его новой крышей? Вам нужен сторож на дачу? Пожалуйста, пойдите в Тбилиси на Баржу (место, где собираются бродяги, — там его увидите и легко с ним договоритесь). Парень он вспыльчивый, но добрый. Один раз обругал «последними словами» тюремную надзирательницу за то, что она назвала его скирдятником, и за это угодил в карцер, но зато с каждым неимущим поделится куском хлеба. Выпрашивать любит до крайности и выпрашивает в следующих выражениях: «Ванька, не в хипеж (т. е. без спора), всыпь в чай сахарку». Но если вы у него тут же попросите этого самого сахарку, даст без всякого разговора. Безграмотен и невежествен до крайности, но однажды, разъясняя своими словами, почему он не работает, неожиданно сформулировал теорию прибавочной стоимости Карла Маркса. Он изложил ее так:
— Вин меня обкрадывает (он из великороссов, но воспитывался в детдоме под Киевом, поэтому все время мешает русский и украинский языки), потому я думаю, откуда у него деньги, чтоб купить «Волгу»? Значит, он мне недодает; коли платили мне бы, как я зробил, так не мог бы он получать таку зарплату, чтоб «Волгу» покупати, — стало быть, вин мне полдня оплатит, а остальное в карман себе берет.
А вот и другой скирдятник, — это уже не просто скирдятник, а трутень, паразит, никогда нигде не работавший, всю жизнь промышляющий воровством и попрошайничеством.
Когда я его видел, он только что освободился из лагеря для того, чтобы, пробыв на воле неделю, снова попасть в тюрьму за мелкую кражу. Он много и охотно, лежа со мной рядом на милицейских нарах, рассказывает о своих приключениях. Все его рассказы поразительны по своему бесстыдству: он рассказывает о подлейших поступках с совершенно невинным видом, как бы и не догадываясь, что речь идет о чем-то предосудительном. Это, к примеру, выглядело так: однажды он познакомился с женщиной, которая «бомбит поезда», — это означает, что она обходит поезда с ребенком на руках, выпрашивая милостыню. Познакомившись с этой женщиной, наш проходимец совершил с ней турне по югу: она «бомбила» поезда, а он обворовывал пассажиров. Приехали в маленький южный городок, заночевали где-то в «скирде» на свежем воздухе втроем, — он, она и ребенок. Рано утром мадам проснулась и сказала: «Ну вы (он и ребенок) пока отдыхайте, а я пойду куплю что-нибудь поесть». Ушла. Когда вернулась, разбудила. Оказалось, исчез ребенок. Искали, искали — нет ребенка.
— Ну и что же вы сделали? — взволнованно спрашиваю я.
— А ничего. Хотели в милицию заявить, потом решили — не стоит, и поехали дальше.
Таким же веселым и простодушным тоном он рассказывал о том, как он обокрал влюбившуюся в него даму из Ленинграда, как он пошел в костел в Вильно выпрашивать у ксендза деньги. Там он видел «какого-то мужика, распятого на кресте», слышал орган, но все это его мало интересовало; его интересовали деньги. Ксендз дал ему сто рублей, разжалобившись его рассказом о том, что он только что вышел из лагеря, и дал ему указания, уходя из костела, дать ему перед Распятием обещание, что он больше не будет пить. Он дал обещание… а потом тут же пошел и пропил деньги — все до копейки. Точно так же он поступил и в Сочи в церкви, выпросив деньги у местного священника.
Через несколько дней я рассказывал о Христе и, обернувшись к бродяжке, сказал:
— Ты знаешь, почему тебе верующие давали деньги? Потому что Христос сказал: если вы откажете кому-нибудь из находящихся в несчастье, вы это Мне отказали. Поэтому очень страшно не дать.
И бродяжка сказал:
— Неужели? Так Он, значит, об этом знал? — и на глазах у него мелькнули слезы.
И наряду с бродяжкой — хороший парнишка Коля Черный, солдатик. Озорник. Подрался с группой однополчан. А были они чеченцы — и не простили, подняли бучу. Оказывается, он мало того что дрался, — выхватил у одного чеченца из кармана ваксу: «Вот теперь и мы сапоги почистим». Бедняга! Получил четыре года за разбой.
В тюрьме я видел многих людей трагической судьбы, — хороших и неглупых, но пропащих, безнадежно пропащих.
Вот перед нами Геннадий — двадцатилетний парень, получивший год за бродяжничество. Его жизнь началась драматически: когда ему было два года, пьяный отец убил его мать и бабушку и сам был расстрелян за это. Геннадий воспитывался в детдоме в Казахстане. Детдом был хороший, и относились к нему там хорошо; вспоминает он о директоре детдома, об учителях очень тепло. Однако, окончив семь классов, он ушел из детдома и пошел бродяжничать. Где только не побывал. У него есть тяга к религии, и он даже принял крещение, любит справедливость и ненавидит национальные пристрастия, — однажды чуть не подрался с парнем, который ругал казахов, называя их «узкопленочными» (он сам чистокровный русак); в то же время считает, что «куркулей» надо грабить. Ко мне питал самые теплые чувства и даже сшил мне чулки из тряпок. Разговариваю с ним о его будущем, советую ехать в Казахстан и там устраиваться. Соглашается, но по глазам вижу: освободится, пойдет немедленно вновь бродяжничать и вновь попадет в тюрьму… и так до конца своих дней.
Точно так же поступил и Юрка — «алкаган», моряк торгового флота, любящий и понимающий музыку (он мне, а не я ему, читал лекции о Чайковском, Глинке, Шуберте и Шопене). Интересуется всем на свете. С нежностью вспоминает о сыне, который где-то там у него есть. Есть и семья. Он ее любил, а потом вдруг бросил и пошел бродяжить.
А вот среди бродяг — вдруг совершенно неожиданная фигура, бывший главный архитектор города Сочи Воскресенский. Сын петербургского присяжного поверенного, интеллигент старой формации. Воскресенский много читал, хорошо знает старый Питер. В Сочи его почти все знают: он выстроил главный кинотеатр, ряд зданий. Но поругался с начальством, начал пить, его выгнали с работы, выселили из казенной квартиры, лишили прописки. Полгода ходил по городу, не имея постоянного жительства (он — старый холостяк), опустился, оборвался и — получил год за бродяжничество. Отбыв год, вернулся в Сочи, — и все повторилось вновь: скитания по городу, случайные ночлеги, случайные заработки… Окончилось грандиозным скандалом: в одиннадцать часов вечера оборванный старик хотел проникнуть в ресторан «Каскад» самое фешенебельное увеселительное заведение Сочи, так же, кстати сказать, выстроенный по его проекту. Его не пустили, он поднял отчаянный крик, был доставлен в милицию. Через два месяца был осужден на три года лагерей за бродяжничество и хулиганство.
Вспоминаю этих людей и отчетливо сознаю, что им уже не подняться, не выбраться из трясины. И если бы они знали Блока (Воскресенский, впрочем, наверное, знает), то они сказали бы о себе его словами:
Мы процитировали Блока, но что Блок… Есть поэт, которого все они знают наизусть, которого они без конца перечитывают, которого они обожают, — это Есенин. Есенин — это, конечно, самый народный поэт, другого такого не было и нет; он более популярен и более любим, чем Пушкин и Лермонтов, — о других уж нечего и говорить. Стихи Есенина «В том краю, где желтая крапива…» поются во всех тюрьмах, во всех камерах; и действительно, нет стихотворения, которое в большей степени выражало бы душу этих людей. На всякий случай, если кто из читателей забыл это стихотворение, напомню его, пусть воображение читателя само нарисует темную камеру и представит себе заунывную мелодию этого стиха, превратившегося в народную песню:
Каковы религиозные взгляды моих товарищей по несчастью? Решительно никаких. Говоря с ними, я испытывал странное чувство: точно князя Владимира на Руси еще не было. Это — не отрицание христианства, это — полное неведение о нем. Они знают (из соответствующего кинофильма), что Спартак был распят, но не знают, что распят был Христос. Они знают, что йоги творят чудеса, но не знают, что чудеса творил Христос. Когда им рассказываешь о Христе, слушают затаив дыхание. Все почему-то слышали про Библию и считают, что в ней предсказана война и то, что будут летать железные птицы (сведения эти идут от бабушек).
Однако христианство живет где-то глубоко запрятанное, притаившееся в народной душе. Это легко проследить, между прочим, в той легенде о Ленине, которая создалась в народе.
Имя Ленина — это единственное имя, которое пользуется уважением в народе (единственное — других имен нет). Однако образ Ленина претерпел своеобразную христианскую трансформацию. Образ Ленина, живущий в народном сознании, совершенно лишен той жгучей нетерпимости, революционной страстности, которая всегда отличала исторического Ленина и которая иногда придавала такой яркий колорит его статьям. Ленин в народном сознании — это всепрощающий добрый старик («дедушка Володя», — как его часто называют в народе). В течение тридцати с лишним лет ходила легенда о том, что Каплан якобы не была расстреляна по просьбе Ленина. Эту легенду повторяли буквально все — от профессоров и директоров школ до блатных парней. Легенде этой сокрушительный удар, как известно, нанесла книга Мальцева «Записки коменданта Московского Кремля», вышедшая в 1959 году.
Однако народное сознание и здесь нашло выход: я слышал от многих тюремных парней, что Каплан была якобы расстреляна вопреки приказу Ленина.
В народе все еще живет, к сожалению, идеализация Сталина. Объясняется она тем, что простой народ очень мало знает истину о зверствах Сталина. После пяти — десятиминутного рассказа о зверствах Сталина мгновенно исчезает всякая его идеализация. Во всяком случае, я не видел ни одного человека, который после моего рассказа о ежовских и бериевских временах решился бы его защищать.
К сожалению, очень не любят Хрущева и не хотят знать его исторических несомненных заслуг; имя Хрущева ассоциируется у простого человека главным образом с продовольственными трудностями.
О всех других деятелях вообще ничего не говорят.
Выше я говорил о среднем типе русского человека, как он мне представляется под свежим впечатлением тюрьмы. Есть, однако, в тюрьме и другие люди, люди испорченные до мозга костей, и о них тоже нельзя умолчать, ибо их появление представляет страшный симптом — симптом глубокой болезни, разъедающей общество.
А теперь мы приглашаем читателя вновь войти с нами в камеру шестьдесят восьмую Армавирской тюрьмы, — в камеру, в которой я провел последние полгода моего заключения (с 28 января по 10 августа 1970 г.).
Летний день. В камере жарко и душно. Ребята возбуждены. Из сумасшедшего дома (из Краснодара) приехал парень, которого туда возили на исследование: Колька из Ленинграда. Странный парень! С виду интеллигентный, говорит грудным голосом с модулирующими интонациями, среднего роста, шатен, любит стихи, двадцати трех лет; говорит, что сын инженера; слушает радио, что-то краешком уха слышал о «политических процессах» и любит сообщать всякие выдумки о «высокой политике». (Меня он раз заставил обомлеть, сообщив, что Солженицын и Якир арестованы, ему это будто бы говорил какой-то арестованный дьякон из Сочи, Николай Карпенко. При проверке оказалось, что никакого дьякона Карпенко в природе не существовало.) Сидит уже второй раз: в первый раз ограбил аптеку, во второй — ограбил в Сочи товарища. Наркоман с четырнадцати лет. Кроме того, у него странное извращение: он «вампирист», пьет кровь — свою и чужую; на вопрос, какие он чувства испытывает при этом, отвечает: «Пьянею, это кайф…»
Его товарищ — Иван из Ростова — среднего роста, плечистый парень, может быть очень тихим, вежливым, культурным; и вдруг… преображается в блатного со всеми аксессуарами и лексиконом лагерника. Тоже «вампирист» (впрочем, кажется, только на словах), — со смаком рассказывает, что якобы в крематориях видно, как растопленный человеческий жир стекает из желобка, и якобы он этот жир пил. На мой вопрос, где это было, отвечает: «В Ростове». Долго спорит со мной, когда я сообщаю, что единственный крематорий в СССР находится в Москве, и сожжение трупов производится так, что никакого жира при этом не стекает.
Третий товарищ — Серега из Сочи — рослый, атлетического вида парень, тихоня, молчаливый, замешан в ограблении магазина. Почему-то одержим страстью к французским словам; все время у меня спрашивает, как по-французски «я вас люблю», «вы прелестная девушка» и т. д.
Все они трое представляют «вампирный» трест. Ничего они не делают, — только треплются. Но трепотня, все время вертящаяся вокруг человеческой крови, тоже достаточно противна.
Ленинградский Колька приехал — сразу все приходит в движение, сидеть спокойно он не может: то делает кресты из ложек (их для этого плавят на огне), то делает наколки; на этот раз, пошептавшись с кем-то, начинает ломать потолок. Разломав потолок, когда остается пробить крышу, вдруг внезапно оставляет мысль о побеге. Потолок остается развороченным, никаких же попыток к побегу не предпринимается. Всех охватывает страх: что теперь будет? Один Николка беззаботен: «Не заметят», — хоть не заметить развороченный потолок никак нельзя.
Действительно, на другой же день замечают. Начинается «хипеж». Всех по очереди вызывают к начальству. Никто ничего не говорит. Тогда забирают в изолятор Алексея Ковалева, который не имеет к этому происшествию ни малейшего отношения.
Ленька — колоритная фигура. Местный армавирский парень, озорник и забияка. Сидит за угон автомобиля. В тюрьме остался таким же озорником, каким был на воле. Вечно матерщинит, вечно препирается с администрацией. Особенно любит переговариваться через открытые окна с другими камерами. Кричит обычно ничего не значащие фразы, вроде: «Здорово, Ванька!», «Здорово, Колька!» и т. д., а чаще всего кричит бессмысленный, но лихо звучащий клич: «Гай гуй!» Как-то раз подошел ко мне и потихоньку попросил:
— Напишите мне «Отче наш».
— А зачем тебе?
— Выучу и буду читать.
— А ты верующий?
— Верующий.
Вскоре его посадили в изолятор на пятнадцать суток, вышел оттуда бледный, осунувшийся, но такой же бравый, лихой, задиристый, наводящий страх на сокамерников и на администрацию. Я потихоньку спросил:
— «Отче наш» читал?
— Читал, — ответил он шепотом. Этого-то Леньку забрали снова в изолятор, а Николка молчит и принимает все как должное. Но тут уж мы все встали стеной за Леньку и так дружно, что Леньку выпустили. Не знаю, чем окончилась эта история, ибо как раз в этот день меня неожиданно вызвали на этап. Когда я быстро собирал свои вещи и никак не мог найти казенное полотенце, Ленька мне отдал свое.
— А ты как же?
— Ну, мы с Толиком (его товарищ) одним утираться будем.
И вот нас вывели на двор.
— Гай гуй! — услышал я крик на весь двор.
На меня нашел озорной стих.
— Гай гуй! — закричал я.
— Сдурел, дед? — сказали ребята.
— Вам-то как не стыдно? — только развел руками надзиратель. Как бы то ни было, это было мое последнее впечатление от Армавирской тюрьмы.
VII. Патетическое интермеццо
Это было осенью 1965 года. Я только что отпраздновал свое пятидесятилетие и написал статью:
«Больная Церковь». В ноябре в метро «Охотный ряд» я увидел двух солидных людей в приличных шубах и высоких меховых шапках (я их сразу не узнал), которые издали мне кивали. Подошел. Это оказались отец Николай Эшлиман и Феликс Карелин.
— Не понравилась нам ваша статья, — сказал Феликс.
— Чем это?
Безукоризненно воспитанный о. Эшлиман сказал:
— Мы об этом поговорим как-нибудь потом, Анатолий Эммануилович.
А более непосредственный Феликс шепнул мне на ухо:
— Не понравилась — эсерством.
Что было правильным в этом полушутливом обвинении? Я вряд ли был бы когда-нибудь эсером, хотя бы потому, что никогда не мог бы одобрить террор в какой бы то ни было форме, — однако доля истины в этой шутке имеется. Доля истины состоит в том, что я всегда тяготел к революционному народничеству шестидесятых — семидесятых годов. Еще в детстве меня поразили фигуры самоотверженных людей, стоявших за народ. И долгое время моим любимым поэтом был Некрасов — именно потому, что у него народничество сочетается с христианством. Критики всех мастей и направлений не заметили в Некрасове этой специфической черты — христианского народничества. Возможно, не заметил этого и он сам, ибо это сочетание христианства и народничества возникает у Некрасова интуитивно, — не как доктрина, а как настроение, как эмоциональная окраска всей его поэзии. Может быть, в этом разгадка того парадоксального факта, что Некрасова (единственного из народников) любил до конца своей жизни Достоевский.
Недавно мне пришлось прочесть в новом выпуске философской энциклопедии статью «В. С. Соловьев» — беспрецедентную, великолепно написанную, впервые за сорок лет отражающую объективно образ великого философа земли Русской. Меня очень обрадовало, между прочим, то обстоятельство, что авторы статьи (их несколько) констатируют близость Соловьева к его славному современнику, последнему великому народнику Н. К. Михайловскому.
Это так. И в этом имеется глубокий провиденциальный смысл, ибо последним словом Руси будет (я в этом глубоко убежден) — христианское народничество.
Народ обновленный, вольный, единый, спаянный любовью в одну великую общину, — таков идеал, живущий в самых сокровенных глубинах, в русских сердцах.
Народ обновленный, — ибо, несмотря на пьянство, на разврат, на грязь, на матерщину, всегда живет в нем стремление к нравственному обновлению, к очищению, к покаянию…
Народ вольный, — ибо любит волю русский человек, волю широкую и бескрайнюю, как русские широкие и бескрайние поля. Не любит народ чиновника, не любит начальника, не любит милиционера, — поэтому, как говорил когда-то Горький, Русь будет самой яркой демократией на Земле.
Народ единый — единый в многообразии, — ибо народ русский терпим ко всем взглядам и воззрениям; он многогранен, широк, умен и сердечен. Он может все понять и все соединить. И недаром чисто русский человек патриарх Тихон сказал однажды: «Православие тем и хорошо, что может все вместить в своем широком русле»; а другой русский человек — Ф. М. Достоевский говорил, что русский человек — это всечеловек по преимуществу.
И кто как не русский человек мог произнести такие строки:
Единство — во множестве, в многообразии, в любви… А любовь — в Евангелии, у Христа, у обновленной грядущей Церкви. Во Христе Иисусе Единородном Сыне Божием и первородном Сыне Человеческом — истинное преображение, истинная свобода, истинная жизнь Русского народа.
Это — в будущем, и к будущему этому долгий путь, путь упорной тяжкой борьбы за Правду.
А что делать сейчас? Идти в народ, просвещать народ, любить народ, отдавать жизнь свою за народ, за его счастье, за его грядущее обновление. Разумеется, было бы совершенно глупой идеей реставрировать народническую идеологию целиком и полностью. Дело историков и социологов — отделить омертвелое от живого.
А мы здесь укажем на следующие черты народнической идеологии, которые представляются нам актуальными:
1. Идея долга интеллигенции перед народом и вера в особую миссию интеллигенции.
2. Нравственная оценка исторических явлений (Лавров и Михайловский).
3. Изучение специфических особенностей русского социализма и т. д.
И еще осталось сказать немногое и не очень приятное: рассказать о своем деле.
VIII. Мое дело
Собственно, рассказывать о нем еще рано, ибо оно пока не окончено. Мы остановились на том, что меня перевезли на Кавказ, соединив, вопреки всякой логике, мое дело с делом Севастьянова.
В октябре меня вызвали на этап в Сочи. Там меня ждала милейшая Людмила Сергеевна Акимова. С очаровательной улыбкой она со мной поздоровалась и сообщила мне, что прокуратура постановила назначить литературную экспертизу по моим произведениям для определения их преступности.
«Ввиду того, что работы Левитина Анатолия Эммануиловича, — гласило определение прокуратуры, — охватывает широкий круг вопросов религиозных, философских, политических, прокуратура постановила назначить литературную экспертизу для оценки работ Левитина в пределах специальных знаний».
Тут же мне объявили состав комиссии экспертов:
Никонов — зав. кафедрой научного атеизма в Московском университете; доцент-биолог Горюнов и Курочкин.
Я тут же написал следующее заявление на имя прокурора РСФСР:
«1. Я, Анатолий Левитин, категорически протестую против моего перевода на Кавказ, т. к. я никогда в Сочи не бывал, никого здесь не знаю, а вся моя деятельность проходила в Москве. Единственной причиной моего перевода на Кавказ является желание затруднить мою защиту и скрыть происходящее беззаконие от глаз общественности.
2. Всем членам экспертизы предъявляю отвод, т. к. все они являются профессиональными антирелигиозниками, группирующимися вокруг журнала „Наука и религия“, который травит меня в течение десяти лет и является главным виновником моего ареста. Курочкин, кроме того, недавно опубликовал статью, в которой моя деятельность рассматривается в нарочито искаженном виде.
3. Со своей стороны, предлагаю экспертную комиссию в следующем составе: акад. Лосев, член союза писателей А. И. Солженицын и Б. Григорян.
А. Левитин (Краснов)».
Вскоре, находясь уже в Армавирской тюрьме, я получил следующий ответ от прокуратуры:
«Прокуратура РСФСР частично удовлетворила ходатайство гр. Левитина А. Э., постановив вывести из комиссии экспертов Курочкина и ввести в комиссию Григоряна. В отношении академика Лосева и А. И. Солженицына Прокуратура отклонила ходатайство Левитина А. Э.».
Проходит после этого два месяца. И вот передо мной лежит заключение экспертов. Это поистине классический документ. Остановимся на нем подробнее.
Первый вопрос, который был задан экспертам, следующий: «Какова религиозная принадлежность автора?»
Ответ: «Автор принадлежит к экстремистской группе, имеющейся в Русской Православной Церкви. Эта группа ставит перед собой целью неограниченную религиозную пропаганду, отмену всех законов, регулирующих отправление религиозного культа, религиозное обучение (в том числе открытие воскресных школ) и воспрещение антирелигиозного воспитания».
Прочтя это, я на миг остолбенел от удивления. Скажу при этом, что изумить меня трудно. Я помню и сталинские, и ежовские, и бериевские времена; хорошо знаком с абсолютной бессовестностью и лживостью антирелигиозной пропаганды хрущевских времен, но такой наглой лжи я все-таки не ожидал.
Прежде всего, никакой экстремистской группы в Православной Церкви нет. Есть просто Православная Церковь, и только. Вся она требует одного: точного соблюдения действующей конституции, в которой говорится об отделении Церкви от государства, о свободе совести и о свободе отправления религиозного культа. Но эта конституция нарушается, ибо как соединить со свободой отправления религиозного культа — закрытие десяти тысяч храмов в период 1958–64 годов? Факт до сих пор не исправленный. Или закрытие в этот же период ряда обителей, духовных семинарий и т. д.? Как соединить с этой статьей в конституции факты варварского насилия и произвола в отношении почаевских монахов? Всем этим и была возмущена вся (вся без исключения, слышите, Никонов, Григорян и другие, как вас там еще!) Русская Православная Церковь. Я в своих статьях явился лишь выразителем мнения всей Русской Церкви и огласил все эти факты к всеобщему сведению.
Далее. Как совместить с отделением Церкви от государства (которое предполагает, конечно, полное невмешательство государства в церковные дела, так же, как невмешательство Церкви в государственные дела) обязательную регистрацию всех священнослужителей, невозможность без санкции государственного чиновника назначить ни одного священнослужителя от патриарха до псаломщика? Как совместить с принципом отделения Церкви от государства обязательную регистрацию крещений, с обязательной проверкой паспортов у родителей и восприемников, с подачей списков крещаемых в райисполкомы и т. д.?
Тут не только вся Церковь, но и всякий здравомыслящий человек выступит против таких порядков. Выражая мнение всех здравомыслящих и честных людей, используя свое конституционное право на свободу слова, я выступал в своих статьях за отмену этих порядков, противоречащих конституции. При этом я не призывал никого самочинно их нарушать (такие анархические действия ничего бы не дали), а призывал Русскую Православную Церковь легальным путем, через соответствующие органы добиваться отмены антиконституционных постановлений. И хотя нам не удалось пока еще добиться их полной отмены, но уже удалось достигнуть некоторых результатов: произвол уполномоченных сильно смягчился; гласность — великая вещь.
Далее. Как совместить со свободой совести увольнение многих верующих людей с работы по религиозным мотивам? Так, например, пишущий эти строки вот уже одиннадцать лет не может работать по своей специальности. Против этого я протестовал много раз в своих статьях, выражая точку зрения всех без исключения честных людей.
Затем экспертам был задан следующий вопрос:
«Выходит ли Левитин в своих статьях за круг чисто религиозных вопросов?»
На этот вопрос эксперты ответили утвердительно, приведя ряд цитат из моих статей, в которых я утверждаю, что религиозный человек может заниматься политикой.
Да, господа хорошие, тут вы правы: политикане является прерогативой каких-то особых лиц, — решительно всякий гражданин имеет право высказывать свое мнение по любым политическим вопросам. Мало того, он не только имеет такое право, но и обязан это делать, обязан, разумеется, нравственно. Что ж это за гражданин, если ему безразлично, что делается вокруг него! И я полностью использовал и использую это право.
И, наконец, третий вопрос:
«Имеются ли в произведениях Левитина клеветнические высказывания, порочащие советский общественно-политический строй?»
Я сейчас оставлю в стороне юридический ляпсус, допущенный следствием, на что впоследствии указал суд, потому что здесь, по существу, перед экспертизой поставили вопрос, на который должны были бы ответить суд и прокуратура.
Посмотрим, как ответили на этот вопрос наши эксперты, превратившиеся одновременно в судей и прокуроров. Это небезынтересно для характеристики умственного и нравственного уровня корифеев нашей антирелигиозной пропаганды. Прежде всего — умственный уровень. Прямо не верится, что это писали люди, имеющие ученые степени. Документ написан безграмотно, с дикими утверждениями, — любой управдом написал бы лучше.
Ответ начинается с фразы, достойной того, чтобы быть напечатанной в «Крокодиле». Так, эксперты предлагают не рассматривать моей «Истории обновленчества», так как «Церковь отделена от государства, и их не интересует борьба группировок, борющихся в Церкви: сторонники патриарха Тихона и обновленцы; сторонники патриарха Алексия и сторонники Левитина, — для нас одинаковы».
Ах вы, халтурщики, халтурщики!
Ах вы, невежды, невежды!
Беретесь писать и сами не знаете, о чем пишите. Патриарх Тихон, патриарх Алексий и Левитин… Ну разве с чем-нибудь сообразны такие сопоставления? Вы хоть народ не смешите, умники-разумники. Остальное в таком же роде: так, они считают клеветой мое утверждение о том, что в Швеции достигнут высокий уровень жизни. Вы хоть в какой-нибудь статистический справочник когда-нибудь заглядывали? Они считают клеветой мое утверждение о том, что во многих западноевропейских странах (в том числе в Швеции) рабочие не голосуют за коммунистов. Да вы хоть газеты-то читаете, граждане? Видимо, нет. Иначе бы вы знали, что на последних выборах в Швеции коммунисты получили несколько тысяч голосов, в Англии — несколько тысяч, тогда как рабочий класс в этих странах насчитывает в своих рядах миллионы людей.
Далее моих горе-экспертов смущает то, что я говорил о том, что христианин одинаково не может одобрить ни «кровавого воскресенья», ни «убийства пяти невинных детей в Екатеринбурге». Ну найдите мне, ученые знатоки христианства, хоть какой-нибудь текст в Евангелии, согласно которому можно убивать детей (каких бы то ни было — царских, дворницких, кузнецких, пролетарских). Это — интеллектуальный уровень моих экспертов. А теперь — их уровень моральный.
Весь акт экспертизы построен исключительно на грубых искажениях текста. Так, в статье «Католичестно и фашизм», входящей в сборник «Огненная чаша», говорится о том, что папа Пий XI и его преемник папа Пий XII боролись против фашизма и против коммунизма. Факт бесспорный, подтвержденный многочисленными документами и историческими свидетельствами. На этом основании эксперты делают вывод, что я ставлю на одну доску эти два явления.
Это все равно, что обвинить какого-нибудь литературоведа, работающего над исследованием творчества Л. Н. Толстого, в том, что он ставит на одну доску Шекспира и Столыпина. (Ведь должен же он будет указать, что Л. Н. Толстой относился отрицательно как к тому, так и к другому.)
Далее мне ставится в вину, что я в своей статье «Вырождение антирелигиозной мысли», входящей в сборник «В борьбе за свет и правду», высказывал пожелание, чтоб были восстановлены ленинские формулировки конституции, согласно которой все граждане имеют право на «свободу религиозного исповедания», вместо сталинской формулировки права на «свободу отправлений религиозных культов». Пожелание тем более уместное, что в то время (в 1961 году) работала комиссия по пересмотру конституции, не ликвидированная официально и по сей день. Любопытно, что один из членов комиссии экспертов Григорян сам выдвинул подобное же требование в 1965 году (об этом он говорил мне сам), но как у всех прелестных, но падших созданий, у Григоряна короткая «девичья» память.
Самая коренная ошибка «ученых» может состоять в том, что они, видимо, не понимают, что такое клевета. Клевета, господа халтурщики и невежды, означает заведомо ложное утверждение. Если я, к примеру, утверждаю, что Иванов бросил жену, тогда как я только вчера пил у него чай и видел, что жена его находится на своем месте, — это клевета. Так, например, если журнал «Наука и религия» утверждает, что я принадлежу к старинному дворянскому роду Левитиных, заведомо зная, что Левитины (евреи) не могут быть дворянами, — то это клевета.
В моих статьях имеется целый монблан фактов. Если экспертиза действительно хотела уличить меня в клевете, то не было бы ничего более простого. Надо было лишь доказать, что все факты, сообщаемые в моих статьях, не соответствуют действительности. Но экспертиза не только не сделала этого, она даже не попыталась опровергнуть хотя бы один факт, содержащийся в моих работах. Почему? Да очень просто: потому что все факты полностью соответствуют действительности, опровергнуть их невозможно, и никакой клеветы в моих произведениях нет.
Вторая ошибка моих экспертов состоит в непонимании того, что, согласно Декларации прав человека, ни одному человеку не могут быть инкриминированы его убеждения; всякий человек обладает правом иметь свои убеждения и их защищать. Такова непререкаемая норма международного права. Эксперты так увлеклись незаконно присвоенными ими судейскими функциями и так вошли в роль, что в конце своего акта вынесли мне приговор:
«Левитин должен наряду с вреднейшими сектантами находиться в заключении».
Таково категорическое заключение экспертов комиссии. Итак, тюрьма, заключение, лагерь — вот последнее слово современной антирелигиозной пропаганды в ее полемике с идейными противниками. Еще бы. При такой бездарности и никчемности — что еще остается делать? Нечего говорить, что Л. С. Акимова, благоговея перед учеными мужами, механически переписала весь этот полуграмотный бред в обвинительное заключение, на основании которого я должен был быть приговорен, по ее мнению, к трем годам заключения в лагере.
Чем, однако, объяснить такую беззастенчивость Никонова, Горюнова и Григоряна? Ведь до этого они все корчили из себя идейных людей, говорили, что они против каких-либо репрессий. Объясняется эта метаморфоза тем, что долгое время они вынуждены были скрывать свою сущность. Ведь нет уже Сталина, нет Берия, сотрудники которого и до сих пор имеются в редакции «Наука и религия», — приходится маскироваться, говорить умильным ласковым тоном. Но вот арестован Левитин, их позвали принять участие в расправе над ним, — и, как боевой конь, услышавший звук трубы, антирелигиозники бросились на добычу. Наступил и на их улице праздник, — трубит рог на охоту, слетаются со всех сторон гончие, раздуваются жадно ноздри, почуявшие запах крови. Ату его! Травите беззащитного! Лягайте упавшего, торжествуйте! Только не рано ли торжествовать?
Оказалось — рано.
В январе состоялось закрытие дела (это последняя стадия следствия), — дело после этого передается в суд. Мое дело было действительно передано в Краснодарский краевой суд. При закрытии дела Л. С. Акимова (мой следователь) и Шатов (следователь Севастьянова) сообщили мне, что судебное разбирательство состоится в феврале 1970 г. Возвращаюсь из поездки в Сочи в Армавирскую тюрьму. Жду вызова на суд. Проходит февраль, март, апрель, май… Ни слуху ни духу. Лишь в июне получаю документ, из которого узнаю о происшедшем. Оказывается, Краснодарский краевой суд в своем распорядительном заседании от 4 марта 1970 г. постановил дело направить к доследованию в виду того, что следствие проведено явно незаконно. Это был для следствия гром средь ясного неба; никто из них не предполагал такой возможности.
Прокурор Краснодарского края подал следующий протест в Верховный суд РСФСР:
март 1970 года
В СУДЕБНУЮ КОЛЛЕГИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР
На определение распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда по делу ЛЕВИТИНА А. Э., обвиняемого по ст. 1901, 142 ч. II. УК РСФСР, СЕВАСТЬЯНОВА М. С. по ст. ст. 1901, 147 ч. II, 196 ч. I УК РСФСР.
ЧАСТНЫЙ ПРОТЕСТ
Определением распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 4 марта 1970 г. названное дело возвращено к доследованию. В определении указано:
1. Органами следствия нарушена ст. 144[21] УПК РСФСР. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемых ЛЕВИТИНА и СЕВАСТЬЯНОВА не конкретизирована их вина. В постановлении о привлечении ЛЕВИТИНА указано, что он с 1962 по 1969 г. написал 15 работ, в которых содержатся заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный строй, без указания, какие именно измышления в них содержатся и в чем они заключаются.
2. В обвинительном заключении формулировка изложена так, что можно понять, что ЛЕВИТИН обвиняется в антисоветской агитации и пропаганде.
3. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ЛЕВИТИНА указано, что он подстрекал своими статьями и письмами к организационной деятельности с целью нарушения закона об отделении церкви, но не указано, какой именно закон нарушен.
4. Допущена неправильная формулировка, вопроса экспертам, имеются ли в произведениях ЛЕВИТИНА ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Это компетенция самого следователя.
5. Следователь Акимова, отклоняя ходатайство адвоката, не конкретизировала мотивы отказа.
6. СЕВАСТЬЯНОВУ вменено в вину, что он мошенническим путем брал у граждан церковные книги, иконы якобы для молельных домов, а фактически продавал их, вырученные деньги расходовал на личные нужды, но у кого он брал книги и иконы, кому продавал, в постановлении не указано.
Определение распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам крайсуда является неправильным и подлежащим отмене по следующим основаниям.
В постановлениях о предъявлении обвинения ЛЕВИТИНУ от 25/К-69 г. и от 8/12 января 1970 г. подробно перечислены и поименованы все книги и письма ЛЕВИТИНА, с приведением краткого содержания ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй и подстрекающих граждан к нарушению закона «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
Приведение текстуальных выдержек из каждой его работы и письма в постановлении о предъявлении обвинения не вызывается необходимостью, т. к. к делу эти книги и письма приложены в качестве вещественных доказательств и по своему содержанию они являются однородными (л. д. 69, 189–190,198–199 т. З).
В постановлении о привлечении Левитина в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении не указано, что он в своих письмах и книгах проводил агитацию или пропаганду в целях подрыва или ослабления советской власти или распространял в этих же целях клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Обвинительное заключение составлено в соответствии с предъявленным обвинением.
Назначение экспертизы по работам и письмам ЛЕВИТИНА не противоречит требованиям ст. ст. 184 и 189 УПК РСФСР. К оценке названных книг и писем были привлечены научные работники, обладающие специальными познаниями в области атеизма и философии. Заключение дано в пределах их знаний (л. д. 142–188 т. 3).
Постановление следователя Акимовой об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Залесского не обжаловано (т. 3 л. д. 244–245).
В постановлении от 29 сентября 1969 г. о предъявлении обвинения СЕВАСТЬЯНОВУ М. С. подробно изложено, когда, где, у кого именно СЕВАСТЬЯНОВ приобрел церковные книги и иконы, указаны фамилии этих граждан, их местожительство и кому были переданы и за какую цену. Все эти лица допрошены. В деле имеются переводы денежные на имя СЕВАСТЬЯНОВА (т. 2 л. д. 247–282, 5–118; т. 3 л. д. 37–78). На основании изложенного, руководствуясь ст. 332 УПК РСФСР,
ПРОШУ:
Определение распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 4 марта 1970 года о возвращении к доследованию дело по оба. ЛЕВИТИНА А. Э. и СЕВАСТЬЯНОВА М. С. отменить и дело возвратить в тот же суд для рассмотрения со стадии придания суду.
Государственный советник юстиции III класса
В. КОРСАКОВ
Верховный суд РСФСР в своем заседании от одиннадцатого июня 1970 года отклонил протест прокурора и вернул дело к доследованию.
Об этом я был извещен 26 июня 1970 г. Еще полтора месяца сидки, — и вот 10 августа меня после полугодового сидения вызывают снова на этап — в Сочи.
11 августа мне вручает Шатов — старший следователь г. Сочи — следующий документ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Прокуратуры Краснодарского края
12 сентября 1969 г. Левитин Анатолий Эммануилович был привлечен к ответственности по ст. 190 и по ст. 142 ч. II.
Так как, находясь на свободе, Левитин А. Э. мог оказать влияние на ход следствия, мерой пресечения был избран арест. Ввиду того, что теперь такая необходимость отпала, прокуратура считает возможным освободить Левитина Анатолия Эммануиловича 1915 г. рождения из-под стражи, предоставив ему возможность проживать по адресу: Москва Ж-378, Кузьминская ул., корп. 1, кв. 418, взяв с него обязательство явиться по первому требованию следствия и никуда не выезжать с места жительства до конца следствия.
В тот же день я был освобожден и 22 августа 1970 г. прибыл в Москву.
Заключение
11 августа 1970 г., при моем освобождении, следователь Шатов меня спросил:
— Удовлетворены ли вы таким результатом?
С таким же вопросом обращаюсь сейчас к себе я. На этот вопрос я мог бы ответить: и да и нет.
Да, я удовлетворен тем, что законность и справедливость восторжествовали, а две судебные инстанции отвергли порочные выводы следствия.
Да, я удовлетворен тем, что общественное мнение было все время на моей стороне; это выразилось особенно ярко 21 сентября 1970 года в день моего пятидесятипятилетия, когда я получил столько знаков любви и уважения, сколько не получал за всю свою жизнь.
Но я и не удовлетворен. Не только потому, что следствие не кончено и каждый день все может начаться сначала. Есть и другая, более глубокая причина для того, чтобы чувствовать себя неудовлетворенным. Многие прекрасные люди все еще остаются в узах. Я почувствую себя полностью удовлетворенным только тогда, когда я смогу поздравить и обнять Петра Григорьевича Григоренко, Бориса Владимировича Талантова, Илью Габая, Наташу Горбаневскую, Александра Гинзбурга и многих других. А самое главное — я буду удовлетворен тогда, когда все поймут, что с идеями можно бороться только идеями, что слово можно отражать только словом, что мысль можно отражать только мыслью.
И взойдет тогда над землей Русской Солнце Правды, Свободы и Любви. И преобразится земля наша преображением света разума и просияет лицо ее, как солнце, и одежды ее сделаются белы, как снег, — и это будет предвестием иного светлого преображения, которым преобразится весь мир.
Москва, 12 сентября — 12 октября 1970 года
В этом очерке, написанном под непосредственным впечатлением пережитого, я, однако, не сказал о многом.
Прежде всего я совершенно ничего не сказал о некоторых мистических моментах, которые я переживал в тюрьме.
Будучи на Кавказе, я непрестанно ходил по камере и молился. Ребята знали, что в это время меня беспокоить нельзя. Не беспокоили. Раз я вспомнил глубоко мною почитаемую великую княгиню Елизавету Федоровну. Это, кажется, единственный член царской семьи, который возбуждает у меня не только сожаление, но и благоговение. Для людей, мало сведущих в истории предреволюционных лет, расскажу вкратце о ее жизни.
Она принцесса Гессен-Дармштадтская, старшая сестра несчастной государыни Александры Федоровны. Так как она намного старше своей сестры, то вышла замуж задолго до нее за великого князя Сергея Александровича, младшего брата Александра III и дядю последнего царя. Сергей Александрович, как известно, в течение очень многих лет был московским генерал-губернатором. И заслужил славу ярого реакционера, борца с революционным движением и всяким свободомыслием. В Москве его не любили (до него губернатором был либерал князь Долгорукий).
Не так относились к его жене. Елизавета Федоровна была любимицей Москвы. Глубоко религиозная, одухотворенная женщина, она была благотворительницей: строила приюты, богадельни, больницы, — из тех, кто к ней обращался, никто не знал отказа.
Очень скромная, бережливая в быту (про нее рассказывали, что она самолично стирала свои воротнички), она была безудержно щедра, когда надо было помогать людям.
И вот однажды (было это в 1903 году) великий князь получает по почте письмо, где его просят никуда не ездить вместе с женой и нигде с ней не показываться. Он понял. И перестал выезжать с женой куда бы то ни было. Через некоторое время великий князь был убит при въезде в Кремль бомбой, которую бросил в его карету Иван Каляев.
Каляев был пойман и заточен в Бутырскую тюрьму. Далее история переходит в легенду. Легенда — быль, и быль — легенда.
К заключенному узнику в тюрьму приходит великая княгиня. Войдя к нему в камеру, она говорит: «Зачем вы убили моего мужа?» И начинается единственный в мире разговор: разговор жены убитого с убийцей.
Этот диалог был подслушан и записан, и его приводит в своих воспоминаниях Морис Палеолог, последний французский посол в царской России.
Каляев, мужественный и убежденный человек, отстаивает свои идеи, — великая княгиня спорит с ним не как жена убитого, а как христианка. После беседы она обращается к царю с просьбой помиловать убийцу своего мужа. (Этот мотив был использован Л. Н. Толстым в его повести «Фальшивый купон».)
Николай II кладет на прошении великой княгини резолюцию: «Это ни с чем не сообразно».
Великая княгиня вновь приходит в тюрьму к Каляеву с тем, чтобы склонить его к покаянию и приготовить к смерти. Он встретил ее сурово, со словами: «Прошлый раз я согласился говорить с вами как с женой убитого мною человека, но я не просил вас подавать за меня прошение о помиловании. Я ни о чем не прошу и ни в чем не каюсь». И происходит последний диалог — диалог двух сильных личностей. Двух пламенных идеалистов, двух глубоко верующих людей.
После казни Каляева Елизавета Федоровна решает основать особую монашескую общину — Марфо-Мариинскую.
Эта община имеет особенность, дотоле невиданную в Русской церкви: сестры этой общины дают монашеские обеты, однако живут они не в обители, — они занимаются богоугодными делами: помогают бездомным, престарелым, больным, умирающим, вдовам, сиротам. Великая княгиня жертвует на эту общину все свое огромное состояние (19 миллионов). По ее заказу возводится храм и главное здание Общины в Замоскворечье. Храм расписывает великий Нестеров. Но приходит препятствие с другой стороны. Когда потребовалось утверждение этого проекта Синодом, неожиданно выступил против фанатичный, хотя и искренний епископ Саратовский Ермоген. Особенно протестовал он против восстановления древнего церковного звания диаконисы, которое предполагалось присвоить великой княгине. Однако в конце концов проект Синодом был утвержден, великая княгиня стала диаконисой, а строптивый епископ, впоследствии также принявший мученическую смерть, был отправлен на покой.
И вот начинается широкая благотворительная деятельность новой диаконисы. Ее романтический образ запечатлен впоследствии Буниным в его рассказе «Чистый понедельник».
Но приходят суровые времена. Наступает война. Великая княгиня и ее монахини устремляются к раненым. Между тем ползут зловещие слухи о Распутине. И великая княгиня обращается к царской чете с просьбой удалить зловещего «старца».
Ответ царя: «Вы ушли от мира и не должны вмешиваться в политику».
Александра Федоровна возмущена. Между сестрами происходит разрыв. Затем революция. Ссылка в Сибирь. В Нижний Тагил. Она там вместе с великим князем Иоанном Константиновичем, после революции в 1918 году принявшим от митрополита Петроградского Вениамина сан диакона (факт мало известный, — о нем сообщалось в последнем номере «Петроградских епархиальных ведомостей», вышедшем весной 1918 года), сербской королевой Наталией и другими.
Все они были зверски расстреляны в шахте перед занятием города войсками Колчака. Тело мученицы сохранилось; решено было погребсти его в Иерусалиме, так как муж ее — Сергей Александрович — был основателем Палестинского Православного Общества.
Я чтил ее память с детства, всегда верил в силу ее молитв.
И вот она снова пришла в тюрьму, в тюрьму к человеку, во многом единомышленному Каляеву, единомышленному во всем, кроме террора, кроме убийства.
10 августа 1970 года я в камере вспомнил о великой княгине и мысленно присутствовал при панихиде, горячо молился за страдалицу. Потом прилег на нары, задремал. И вдруг вижу в легком тонком сне: входит в камеру монахиня. Все вскочили смотрят, а она подходит ко мне и говорит: «Ты за меня помолился, и я помолюсь за тебя!»
На другой день меня, ко всеобщему удивлению, освободили. А я дал обет написать книгу о страдалице. Если Бог даст мне окончить эту книгу, то следующая будет о великой княгине.
И еще один светлый образ предстал мне в тюрьме.
Я всегда, с детства, тянулся к подвижникам, монахам. И еще в детстве я узнал о святом Франциске I Ассизском. Его «Цветочки» мне подарил архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни под Питером.
Впоследствии я узнал день его памяти — 4 октября. И этот день — 4 октября 1969 года — я был в Бутырской тюрьме. В этот день я много думал о том, как разрешить проклятые вопросы, как найти выход из проклятого тупика, в который зашла вселенная, в который зашла Церковь. И вот я задремал и услышал чей-то голос: «Франциск». Я подскочил, стал спрашивать: «Кто сказал Франциск?» Соседи ответили: «Какой Франциск? Вам приснилось что-то?»
А я, попросив карандашик, написал на клочке бумаги тропарь и кондак преподобному на славянском языке. Привожу их здесь.
«Тропарь святому Иоанну Франциску»
(настоящее имя Франциска — Иоанн, Франциск (французик) — это прозвище).
«Яко луна пресветлая, слава Твоя, отче преподобие, приде с Запада даже до Восток.
Нищете бо святей, яко невесте, обручился еси, мирскую славу презрев и богатство, яко тлен, вменил еси. И страстей Христовых причастник явился еси.
Тем же молитвами Твоими Запад с Востоцем примири и соедини. И Церковь во всей вселенной сохрани. Отче преподобие Иоанне, Франциско пречудне и прехвальне, благодати Святого Духа сосуде благоуханне».
«Кондак»
«Земли Италийския славо и молитвенниче со Бенедиктом и Антонием был еси, — и Землю Российскую молитвами Твоими сохрани, со преподобными Антонием и Феодосием, Сергием и Серафимом радующеся на небесах, отче преподобие.
Всем страждущим и чтущим тя молитвами твоими помози, Иоанне-Франциско, преподобие отче наш».
Я стал размышлять и увидел, что Франциск указывает выход: он как бы живая икона Христа, он истолкователь и путеводитель во Христе.
Социальный вопрос. Ненависть к богатству, к благосостоянию, к приобретательству. Это точное и живое исполнение евангельских слов о невозможности богатому войти в Царствие Божие. Этим отвергается всякая власть богатства над душами людей. Этим отвергается всякий строй, основанный на богатстве: и капиталистический строй, основой которого является приобретение сокровищ, и власть большевистских нуворишей. Призывом святого Франциска перечеркиваются и все рассуждения буржуазных идеологов, главным аргументом которых является возможность при капитализме развития частной инициативы в целях приобретения благосостояния, и марксистских идеологов, которые молчаливо допускают, что главным стремлением людей является приобретение богатства.
Для последователя Христа — святого Франциска — самым лучшим состоянием является не богатство, а нищета. С полным отказом от собственности. И с этой точки зрения, одинаково нелепы и капитализм и марксизм.
Святой Франциск хорошо знает об испорченности Церкви. В этом он совпадает со своими современниками — альбигойцами.
Но, в противоположность альбигойцам, он не уходит из Церкви, он организует движение внутри Церкви — движение, которое обновляет Церковь, вносит в нее истинно евангельский дух.
Но именно в созидании таких братств есть спасение Церкви, ее подлинное обновление. Святой Франциск не знает границ, не знает понятия «национальность» и даже вероисповедные грани его не удерживают. Природный итальянец, он проповедует французам на их языке (отсюда прозвище «французик»).
В самый разгар крестовых походов он совершает путешествие в сарацинские страны. И проповедует сарацинам. И они отпускают его с любовью.
Космополитизм — гражданство вселенной — таково первое и последнее слово ученика Христова.
И любовь к природе. Проникновение в самую сущность природы. Любовь, которая выливается в чудесном гимне, где луна — это брат, вода — это сестра, и воздух — сестра, и огонь — брат, и рыбы слушают благовестие Христово. Эта всеобъемлющая любовь к природе — как она нужна людям сейчас, когда во всех странах говорят о покорении природы, когда всюду и везде происходит ограбление земных недр, варварское истребление земных богатств по принципу: «После нас хоть потоп».
И наконец, последнее — отношение к Христу.
Сейчас появился новый тип богословов, адвокатов Господа Бога, которые просят просвещенную публику быть снисходительными к Христу и, так и быть, признать Его историческое существование и позволить Ему жить в виде бедного родственника где-нибудь в мансарде из милости. Наиболее ярким представителем этой линии является современный властитель дум Кюнг, а у нас в России его подражатель о. Сергий Желудков.
Я недавно прочел книгу Кюнга о Христе. Я там нашел много талантливых страниц, оригинальных рассуждений, — не нашел я там одного — любви к Христу, ощущения близости к Христу, близости, которая заставляет забыть для Христа решительно все — и отца, и мать, и весь мир, — которая переполняет сердце, ощущение Христа самым близким из всех, более близким к нам (по слову Афанасия Великого), чем мы сами. Это истинное причастие Христово, которое выразилось у святого Франциска в стигматах, в полном отожествлении со Христом. Оно, и только оно, — основа Евангелия, основа Церкви.
И еще один момент: женский вопрос. Л. Н. Толстой как-то сказал: «Эмансипация женщины не в кабинете, а в спальне». Только тогда, когда женщина из чувственной игрушки превратится в сестру. Только тогда будет полное равноправие. Полная свобода.
И в этом учитель — святой Франциск, духовный брат святой Клары.
Так думал я, сидя в вонючей камере Бутырской тюрьмы, во время этапа, и там, на Кавказе, в огромных камерах, вмещавших десятки самых разнообразных людей — и убийц, и воров, и разбойников, — среди которых было много и хороших парней. Хорошее то было время.
И сейчас я могу про себя сказать словами чудесного Сергея:
Зарезать, убить я могу, впрочем, кого-нибудь только словом. И почему бы кого-нибудь не убить мне словом. Например, Брежнева, Суслова и их подручных. Например, Моргана, Рокфеллера, Форда и их подручных.
«Полусумасшедший истерик, к тому же страдающий манией величия», — скажет солидный человек, прочтя эту главу.
«Типичный мелкобуржуазный идеолог и демагог», — скажет, прочтя эту главу, ученый марксист.
Диалог с КГБ:
— Тебя за это в тюрьме сгноим.
— Мы есть, мы будем, мы победим.
Писал это в дни моего заключения мой крестник и ученик Евгений Кушев. Кто прав? Не знаю. Знает Бог.
Интермеццо
В тюрьме я был один, но изредка долетали до меня вести с воли. Однажды в Армавирской тюрьме меня вызвал оперуполномоченный: в общем неплохой парень (тюрьма ведь была неполитическая). Окончив деловой разговор (речь шла о получении посылки), он сказал: «Эх, Эммануилович, и выпускать вас нельзя, и держать вас нельзя».
«А почему меня выпускать нельзя?»
«Пострадают те, кто вас посадил».
«А почему держать меня нельзя?»
«А это уж вы сами догадайтесь!»
Догадался!
На воле меня не забывали друзья, ни в Москве, ни на Западе. О чем свидетельствуют следующие документы.
«Хроника» № 11
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ЧЛЕНОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ И ПОДДЕРЖАВШИХ ОБРАЩЕНИЯ В ООН (с мая по декабрь 1969 г.)
Члены инициативной группы:
1. Г. АЛТУНЯН, инженер, Харьков, осужден на три года лагерей (ст. 190–1).
2. В. БОРИСОВ, рабочий, Ленинград, арестован, ст. 190–1, мед. экспертизой признан невменяемым.
3. Н. ГОРБАНЕВСКАЯ, поэт, арестована, ст. 190–1.
4. М. ДЖЕМИЛЕВ, рабочий, Ташкент, арестован, ст. 190–1.
5. В. КРАСИН, экономист, 5 лет высылки за «тунеядство».
6. ЛЕВИТИН-КРАСНОВ, церковный писатель, арестован, ст. 190–1.
7. Ю. МАЛЬЦЕВ, переводчик, находился на обследовании в психиатрической больнице им. Кащенко.
Поддержавшие:
1. О. ВОРОБЬЕВ, рабочий, Пермь, находился на обследовании в 15-й психбольнице г. Москвы.
2. В. ГЕРШУНИ, каменщик, арестован, ст. 190–1, медэкспертиза ин-та им. Сербского признала невменяемым.
3. А. КАЛИНОВСКИИ, инженер, Харьков, частное определение о возбуждении уголовного дела (суд над Г. Алтуняном).
4. Д. ЛИФШИЦ, инженер, Харьков, частное опред. о возбужд. уголовн. дела.
5. С. КАРАСИК, инженер, Харьков, частное опред. о возбужд. уголовн. дела.
6. В. НЕДОБОРА, инженер, Харьков, частное опред. о возбужд. уголовн. дела.
7. С. ПОДОЛЬСКИЙ, инженер, Харьков, частное опред. о возбужд. уголовн. дела.
8. А. ЛЕВИН, инженер, Харьков, арестован, ст. 190–1.
9. В. ПОНОМАРЕВ, инженер, Харьков, арестован, ст. 190–1.
«Хроника» № 10
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В СССР
Факт обращения группы советских граждан в международную организацию ООН с протестом против нарушения в Советском Союзе основных гражданских прав и советских законов стал предметом расследования со стороны КГБ и прокуратуры.
Хроника уже сообщала в связи с этим об аресте и следствии по делу члена Инициативной группы Генриха Алтуняна[22]. Следствие по его делу закончено, обвинение, предъявленное ему вначале по ст. 62 УК УССР (соотв. 70 УК РСФСР), переквалифицировано на ст. Украинского кодекса, соответствующую ст. 190–1 УК РСФСР.
Однако КГБ и прокуратура не ограничились делом Алтуняна, и в начале сентября на допросы в УКГБ г. Москвы был вызваны члены Инициативной группы Великанова, Краснов-Левитин, Лавут, Мальцев, Подъяпольский, Ходорович.
Допросы проводились следователем Мочаловым с нарушением ст. 158 УК РСФСР (отказ сообщить дело, по которому вызваны свидетели). Следствие интересовалось причинами и целью создания Инициативной группы. Допросы всех свидетелей сопровождались руганью, криками и угрозами в адрес допрашиваемых: «Шваль!», «Отребье!», «Хватит, поиграли с вами в демократию!», «Пора к ногтю!», «По вас давно тюрьма плачет!», «Посягаете на советскую власть!», «Партию хотите ликвидировать!», «Колхозы разогнать!», «Вернуть частную собственность!», «С фашистами связались! Продались белогвардейцам!» «Люди кровь проливали!»
Все вызванные на допрос отказались отвечать на вопросы, не относящиеся к делу, заявили, что обращение в ООН не может и не должно быть предметом расследования. Поправки и дополнения свидетелей — в нарушение УПК РСФСР — следователь отказался внести в протоколы допроса, в связи с чем большинство из допрашиваемых отказались подписать протоколы допроса.
12 сентября был арестован церковный писатель Анатолий Краснов (А. Э. Левитин). Семь лет — с 1949 по 1956 год — Левитин провел в сталинских лагерях. Впоследствии был реабилитирован. Глубокие религиозные убеждения и деятельность А. Э. Левитина в качестве церковного писателя привели к тому, что его, талантливого педагога-словесника, лишили права преподавать в школе.
А. Краснов — автор ряда статей в «Журнале Московской Патриархии». Кроме того, он автор трехтомной истории обновленческой церкви.
Начиная с 1959 года Краснов (Левитин) написал большое число работ, в которых, в частности, выступал против нарушения религиозной свободы в Советском Союзе: «В борьбе за свет и правду», «Топот мирный», «Огненная чаша», «Натянутая тетива», «О монашестве»[23], «Больная церковь» и др. В последние годы он написал две крупные философские работы «Строматы» и «Христос и Мастер», о которых Хроника сообщала в 5-м выпуске. О Левитине-Краснове дважды писал журнал «Наука и религия» (ст. Васильева «Богослов-подстрекатель», 1966 г., № 10, и главка «Современный „светский богослов“ в статье Н. Семенкина „От анафемы к признанию“, 1969, № 8).
В течение всех последних лет Краснов (Левитин) постоянно выступал также в защиту гражданских свобод, в защиту арестованных и осужденных по политическим обвинениям. Его подписи стоят под многочисленными коллективными протестами, в том числе под обращением к Будапештскому совещанию. Он является участником Инициативной группы Защиты прав человека в Советском Союзе. Своей публицистикой он откликнулся на арест Б. В. Талантова („Драма в Вятке“) и П. Г. Григоренко („Свет в оконце“).
12 сентября на квартире у А. Э. Левитина следователь прокуратуры Л. С. Акимова произвела обыск. При обыске изъяты работы А. Э. Краснова-Левитина „История обновленческой церкви“, „О монашестве“, „Строматы“, письмо Папе Римскому, письмо Патриарху в поддержку письма священников Глеба Якунина и Николая Эшлимана, „Свет в оконце“, „Драма в Вятке“, „Слушая радио“[24], „Топот медный“ и др. Кроме того, были изъяты материалы Самиздата и пишущая машинка.
Перед обыском у А. Э. Левитина были его друзья Олег Воробьев[25] и Вадим Шавров[26]. Обыск начался, как только они вышли из дома, сами они вскоре были задержаны милицией по подозрению в „краже чемоданов“. Шаврова выпустили из милиции после того, как обыск кончился и А. Э. Краснова-Левитина уже увезли. Воробьева в милиции обыскали — без предъявления постановления на личный обыск — отобрали у него „Письмо членам Политбюро“ В. И. Ленина (о событиях в Шуе)[27] и отправили в буйное отделение психиатрической больницы № 15, откуда он был выпущен только 20 октября. Олег Воробьев — один из тех, кто выступил в поддержку обращения Инициативной группы в ООН.
А. Э. Левитина три дня продержали в камере предварительного заключения в милиции, затем перевели в Бутырскую тюрьму. Следствие начала вести прокуратура г. Москвы (следователь Акимова, известная как руководитель следствия по делу о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 г., по делу демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г., по делу Ирины Белогородской). Левитину предъявлено обвинение по ст. 142 УК РСФСР (нарушение законов об отделении церкви от государства) и по ст. 190–1 УК РСФСР. Свидетелей допрашивали о произведениях Краснова-Левитина, главным образом о „Строматах“.
9 октября дело Левитина внезапно было передано в Краснодарскую прокуратуру, и А. Э. Левитина отправили в Краснодар.
Вскоре после ареста А. Э. Левитина в Самиздате распространилось письмо „К общественности Советского Союза и зарубежных стран“[28], подписанное 32 гражданами Советского Союза, в том числе шестью бывшими политзаключенными (Леонид Васильев, Зинаида Григоренко, Александр Есенин-Вольпин, Виктор Красин, Вадим Шавров, Петр Якир). В письме говорится, что А. Э. Левитина „все больше волновали проблемы гражданской свободы, ибо свобода неделима и не может быть религиозной свободы, если попираются основные права человека. В после-сталинские годы он первый религиозный деятель в нашей стране, который утвердил эту истину и поднял свой голос в защиту гражданских прав и в защиту людей, ставших жертвами в борьбе за гражданские свободы“.
Во Всемирный Совет Церквей (копия Патриарху Афинагору, Папе Павлу VI и в Международный комитет защиты христианской культуры) направлено письмо шестерых верующих христиан[29], посвященное церковно-религиозной деятельности А. Краснова (Левитина). „Мы, — говорится в этом письме, — глубоко сожалеем о том, что своих защитников Русская Православная Церковь находит в лице мирян и рядовых священников, а не в лице епископата Русской Церкви, многие представители которого являют собой бесплодную смоковницу и находятся в полнейшем подчинении у Совета по делам религии.
…Анатолий Эммануилович исполнял свой христианский долг, и вся его деятельность, направленная в защиту веры Христовой, не противоречит советским законам… Мы, верующие христиане и граждане Советского Союза, возмущены арестом церковного писателя А. Левитина-Краснова и преподавателя Б. Талантова, присоединяемся к их протесту против ненормальных отношений между церковью и государством и требуем открытия насильственно закрытых церквей, монастырей, семинарий, молитвенных домов“. Письмо подписали: Ю. Вишневская, Б. Дубовенко, В. Кокорев, В. Лашкова, Е. Строева, Ю. Титов.
(„Посев“, 3-й спец. выпуск, апрель 1970 г., сс. 7-в.)
„Хроника“ № 15
ДЕЛО ЛЕВИТИНА-КРАСНОВА
22 августа 1970 года в Москву вернулся А. Э. Левитин-Краснов, церковный писатель, освобожденный из-под стражи в г. Сочи (подробно об А. Краснове см. в „Хронике“ № 10). Он пробыл в заключении 11 месяцев, содержался в Армавирской тюрьме вместе с уголовниками.
Следователь по делу — Акимова. А. Э. Краснову инкриминировались ст. 190–1 и ст. 143 (клевета на советскую действительность и подстрекательство к нарушению законов об отделении церкви от государства). Дело А. Э. Левитина-Краснова искусственно было связано с делом М. О. Севастьянова (г. Сочи), у которого при обыске были обнаружены некоторые работы А. Э. Левитина.
Следствие располагало экспертизой произведений А. Э. Левитина-Краснова, проведенной профессиональными антирелигиозниками. Комиссия „экспертов“ (в состав которой входили проф. Новиков, зав. кафедрой научного атеизма МГУ, Григорьян, бывший зам. редактора ж. „Наука и религия“), произвольно вырывая фразы из произведений Левитина, посчитала клеветой на советский государственный строй такие его высказывания, как: В Швеции — высокий уровень жизни», «В Англии рабочие не голосуют за коммунистов», «Христианин одинаково не может одобрить ни „кровавого воскресенья“ в 1905 году, ни убийства пяти невинных детей в Екатеринбурге в 1918 году». Заключение экспертизы: Левитин является злостным антисоветчиком и должен, подобно некоторым сектантам, находиться в заключении.
А. Э. Левитин-Краснов на все обвинения отвечал: «Ни в чем виновным себя не признаю. В моих произведениях есть лишь правда, одна только правда, ничего, кроме правды. Мой арест лишь подтверждает мои утверждения о наличии у нас в стране беззакония и произвола. Я категорически отказываюсь назвать имена каких бы то ни было лиц, которым я давал читать свои произведения».
В середине января 1970 года следствие было закончено, при подписании ст. 201 присутствовал московский адвокат А. Л. Залесский. Дело было передано в Краснодарский краевой суд и назначено к слушанию в феврале. Однако краевой суд отказался принять дело и передал его на доследование, мотивируя свое решение тем, что обвинение Левитина в клевете не конкретизировано, а также непонятно, какой именно закон и кем был нарушен вследствие подстрекательства Левитина. Суд заявил также, что экспертиза проведена с нарушением юридических норм: она неправомочна решать вопрос о наличии в произведениях Левитина клеветы на советский общественный строй — это дело следствия и суда.
Прокуратура Краснодарского края обратилась в Верховный суд РСФСР с «частным протестом» против решения краевого суда, требуя обязать Краснодарский краевой суд принять к рассмотрению дело Левитина.
Верховный суд РСФСР решением от 9 июня 1970 года отклонил протест и утвердил решение Краснодарского краевого суда.
11 августа А. Э. Левитин-Краснов был освобожден из-под стражи, но ему было заявлено, что следствие будет продолжено. Изменена лишь мера пресечения.
В Москве А. Э. Левитин-Краснов был тепло встречен своими друзьями, верующими и неверующими, и заявил им о верности всем своим убеждениям и неизменности своей идейной позиции.
(«Посев», 6-й спец. выпуск, февраль 1971 г., сс. 17–18)
Глава восьмая. Между тюрьмами
Я освободился 11 августа 1970 года после 11 месяцев, проведенных в тюрьме. Через 9 месяцев — 8 мая 1971 года — я вновь был арестован. Таким образом, на воле я пробыл девять месяцев. Знаменательные девять месяцев.
Сразу после того, как меня освободили из помещения милиции в городе Сочи, — начальник сочинской милиции, сорвав с моего дела арестантскую фотографию, сунул мне ее в руки, сказав: «На память!»
Привожу ее здесь.
Вид у меня был такой, что, когда я выходил из милиции, милиционер соболезнующе заметил: «Да ведь как же вы пойдете по городу: вас же опять приведут к нам».
Но никто меня не привел обратно, хотя путь был долгий, через весь город. Я решил пойти в дом моего однодельца Михаила Стефановича Севастьянова. Чтобы до него добраться (он жил на окраине), пришлось пройти через весь город. Все встречные, у которых я спрашивал дорогу, видели, что я из тюрьмы. И все особо обстоятельно и любезно разъясняли мне, как пройти. А одна женщина сказала: «Вы, верно, из Армавирской тюрьмы. У меня муж там сидит». А потом долго и настойчиво приглашала меня к себе: обещала и накормить, и оставить переночевать. Спрашивала, есть ли у меня деньги.
Традиционно доброе отношение к «несчастненьким» — к заключенным — так и не удалось истребить на Руси, вопреки всем стараниям.
Наконец, добрался. Встретила меня хозяйка, хорошо знавшая меня по Москве (бывала она у меня еще в первое время после замужества со своим тогда еще молодым мужем, — было это за 8 лет до этого).
А через несколько минут пришел и отпущенный, как и я, под подписку ее муж. Обнялись и расцеловались. 10 месяцев сидели рядом, — и не видели друг друга. Слава Богу, у него все окончилось благополучно, и в тюрьму он больше, подобно мне, не попал.
Между тем хозяйка постирала мне белье. Я переоделся в костюм, выглаженный и вычищенный, и на другой день пошел к Шатову (следователю из Сочи) за документами. Но лишь через неделю я получил паспорт.
Звонил в Москву. Оттуда посыпались на мое имя телеграммы. Наконец уехал.
Остановился в Армавире. Пошел в тюрьму, получил деньги, которые были на моем личном счету.
Жуткое впечатление производит тюрьма, когда на нее смотришь снаружи.
Покупаю билет. И 22 августа я в Москве.
Приехав в Москву, тотчас окунулся в привычную для меня обстановку. Уже в день приезда увиделся с Якирами. Обо мне всё знали от моего адвоката Залесского. Прибыл в свою новую квартиру, в которой мне в свое время пришлось пожить немногим больше месяца.
Встретился с адвокатом. Он мне сообщил от имени Акимовой: «Она меня попросила сказать вам, но только чтобы я вам не говорил, что это от нее: не согласились бы вы в дальнейшем прекратить свою деятельность. Тогда можно было бы дело закрыть». Я ответил одним словом: «Нет».
Тут же я вошел в контакт со всеми старыми друзьями: побывал у Григоренок (генерал еще томился в заключении), — узнал, что у меня новый крестный сын: Андрей Григоренко принял за это время крещение, я был заочно его крестным отцом. Побывал у очаровательной Людмилы Ильиничны Гинзбург, — увидал много, много старых друзей.
И началось мое девятимесячное пребывание на воле. Что вспомнить об этом времени?
Прежде всего — это было время моего наиболее активного участия в Инициативной группе защиты прав человека. Выше я приводил первоначальный состав Инициативной группы. К этому времени состав группы значительно поредел. Многие сидели в тюрьме; томилась в страшном сумасшедшем доме в Казани Наталья Горбаневская. В сумасшедшем доме был ленинградец Владимир Борисов. В лагерях был Илья Габай. Не принимал никакого участия в работе группы Юрий Мальцев, так как он был под дамокловым мечом: над ним висела угроза привлечения к суду за тунеядство.
За тунеядство был осужден и отбывал ссылку организатор группы Виктор Красин. Якир, который в это время был главным руководителем движения и, конечно, членом Инициативной группы, никакого участия в повседневной работе группы не принимал.
В ссылке были также П. М. Литвинов и Мустафа Джемилев; Замфира Асанова в это время в Москве почти не бывала.
Из членов группы оставались в Москве фактически семь человек:
1. Т. С. Ходорович
2. Т. Н. Великанова
3. С. А. Ковалев
4. Г. С. Подъяпольский
5. А. П. Лавут
6. А. А. Якобсон.
К ним присоединился и я, вернувшись из заточения.
Надо сказать, что А. А. Якобсон из состава группы в это время вышел. И его уход чуть не повлек за собой развал группы.
Дело было так. Работники НТС довольно часто посещали некоторых из членов группы; в частности, с ними имели дело Красин и я. Им мы передавали некоторые документы; от них получали книги. Других членов группы мы об этих контактах не извещали, и о том, как осуществляются контакты с заграницей, они имели самое туманное представление.
И вот в один прекрасный день в Москве появляется один из членов НТС, который является к Якобсону[30]. Логика его была такова: Якобсон — член группы. Следовательно, он знает о наших контактах с НТС.
Якобсон пришел в ужас. Он считал, что вступил в гуманитарную организацию, которая действует в полном соответствии с законом. И вдруг оказывается, мы поддерживаем связь с такой страшной антисоветской организацией, как НТС. К страху перед подпольной деятельностью примешивалось еще одно обстоятельство: А. А. Якобсон и многие другие считали, что НТС инфильтрирован агентами КГБ. И общение с ними нас всех сразу приведет в тюрьму[31].
Вслед за Якобсоном заявили о своем выходе из Инициативной группы также С. А. Ковалев и А. П. Лавут. Потом они, правда, взяли свои заявления о выходе из состава группы обратно и решили вернуться. Но вопрос об их дальнейшем пребывании в группе все еще оставался открытым.
Как правило, заседания Инициативной группы защиты прав человека собирались в квартире Татьяны Сергеевны Ходорович, в великолепном, недавно выстроенном привилегированном доме на Большой Мещанской, около станции метро «Ботанический сад». Может быть, поэтому у меня понятие «Инициативной группы» ассоциируется в основном с этой квартирой и с ее хозяйкой Татьяной Сергеевной.
Обычно каждые две недели я открывал парадную дверь великолепной лестницы, нажимал кнопку лифта, взбирался на верхотуру, входил в эту квартиру, где от всего веяло благоустройством, уютом вас еще в передней охватывала атмосфера старинного московского дворянского особняка.
Для довершения сходства дверь всегда открывал добродушный, милый старичок Сергей Кононович Глазов, удивительно похожий на управляющего имением, на ученого агронома в барской экономии.
Это старый друг семьи, пенсионер, очень долгие годы живший в этой квартире.
Из передней проходим в просторную комнату, где стол, накрытый белой скатертью, где вас встречает улыбающаяся хозяйка. Аккуратная, моложавая, всегда подтянутая, в хорошей форме. Энергичная, с манерами деловой дамы.
Тон дружелюбный, но без фамильярности, веселый, но без развязности, теплый, но без интимности. У меня всегда была ассоциация: высокообразованная помещица, беседующая с соседями по имению о деловых вопросах. Она решила купить у вас отрезок земли. С увлечением, но спокойно обсуждает предстоящую сделку, спорит серьезно, по-деловому, — и в то же время ни на минуту не забывает об обязанностях хозяйки, о предстоящем чаепитии и о пирожках.
Пирожки бывали в этом доме всегда действительно на славу.
Чего, однако, стоил весь этот уют и дворянская атмосфера! Татьяна Сергеевна не любит жаловаться на жизнь. Очень скупо сообщает о себе. Но кое-что все-таки выходит наружу, кое-что угадывается интуитивно.
Она действительно происходит из хорошей дворянской семьи — ее дед с материнской стороны, в доме которого она воспитывалась, известный русский адмирал Сергей Аполлонович Нимиц, бабушка — сестра великого Врубеля. Нимиц известен как «красный адмирал», адмирал, который, подобно Брусилову, пошел на службу к советам.
Мой друг Вадим Шавров рассказывает в своей биографии, что с ним был хорошо знаком его отец — один из первых красных командармов.
Я первое время не особенно твердо знал, в каких именно родственных отношениях находится адмирал с Татьяной Сергеевной. Как-то раз, когда мы говорили с ней об Октябрьской революции и о гражданской войне, я заикнулся: «Не ваш ли отец…»
Ответ: «Во-первых, не отец, а дед, а затем он ненавидел всех коммунистов, начиная с Ленина; служил потому, что… Россия, Родина… куда же от этого уйдешь!»
Когда рассказал об этом разговоре Вадиму, тот заметил: «Да, он всегда говорил с отцом только о технике и о практических делах».
У Татьяны Сергеевны три дочери и сын. Она научный работник — филолог. Старший научный сотрудник в одном из институтов при Академии наук. Специальность — история русского языка. Научной степени не имеет, следовательно, оплата очень и очень средняя. Она всегда и во всем демонстративно беспартийная. Такой ее знают на работе. Но ценят. Великолепный, трудолюбивый работник. Работоспособность необыкновенная; надо знать советские условия, чтобы понять, чего стоило одинокой женщине вырастить четырех детей и поддерживать порядок в доме. Любящая мать. Но не из тех, кто балует детей. Строгость у нее в характере. В этом я убедился много позднее.
Итак, мы пришли в этот гостеприимный дом в 7 часов вечера. Сейчас начнется заседание Инициативной группы. Собираются участники этой первой в СССР открытой, но неофициальной организации. Обычно первой приходит Татьяна Николаевна Великанова — интимный друг хозяйки дома.
Происхождение Татьяны Николаевны также примечательно. Дочь известного академика, уже покойного, умершего в преклонном возрасте. Собственно говоря, его фамилия не «Великанов», а «Велиханов»; он по национальности армянин, но очень обрусевший, — и даже фамилия была переделана на русский лад. Женат на очень милой женщине Марье Александровне, бывшем московском адвокате, милой общительной даме. Видимо, от нее дети унаследовали интерес к общественным вопросам, а от отца — деловой, решительный характер.
Татьяна Николаевна, вероятно, больше всех в отца. Замкнутая, мало общительная, сдержанная.
По специальности биолог. В это время ее муж — Константин Бабицкий, о котором шла речь выше, участник демонстрации на Красной площади, был в лагере.
У нее, как и у Татьяны Сергеевны, несколько детей. Восточное происхождение угадывается в смуглом, несколько кавказского типа лице. Мы с ней сотрудничали долгое время. Отношения были ровные, корректные, но дружба не устанавливалась. Когда я впадал, по обыкновению, в многословие, то ловил на ее лице почти страдальческое выражение и сокращал свои речи.
Мне однажды был передан ее отзыв: «Он хороший человек, но говорить с ним я никогда не могла».
Вслед за Татьяной Николаевной приходит третий.
Сергей Адамович Ковалев — мой постоянный, неутомимый оппонент. По-моему, не было ни одного заседания группы без наших споров. Однако, как и двое вышеназванных, внушает мне чувство самого глубокого уважения.
У Лермонтова сказано: «Полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром». Это относится ко всем троим, перечисленным выше: решатся на какое-то дело, свяжут себя с кем-то, вступят куда-то нескоро. Но вступив на какой-то путь, с него не сойдут. Останутся верными избранному делу до конца.
Особенно ясно это сейчас, когда Татьяна Сергеевна в эмиграции, а Татьяна Николаевна и Сергей Адамович попали в лагеря, потряся весь мир героизмом (своей стойкостью и принципиальностью во время суда и пребывания в лагере они превзошли многих, очень многих из нас и вписали свое имя в историю нашей родины).
Сергей Адамович по профессии биолог. Очень скромный, одетый просто и даже бедно, деловой, решительный, на редкость пунктуальный (когда надо было подписывать какой-то документ, это было сущее наказание: спорил из-за каждого слова, из-за каждой запятой). Помню, однажды, когда мы проспорили с ним битых два часа из-за нашего заявления о деле «Якира — Красина», я должен был уйти на именины, оставив товарищей; я сказал провожавшей меня в переднюю Татьяне Сергеевне: «И кто его только пригласил в группу и зачем?»
Как я был неправ! Такие-то люди и нужны: те, кто слов на ветер не бросает, а не говорливые интеллигенты адвокатского типа.
И наконец, Александр Павлович Лавут. Его хорошо знают по отцу. Все советские интеллигенты помнят со школьных времен следующие строчки из поэмы Маяковского «Хорошо» (глава об оставлении Крыма войсками Врангеля):
Павел Ильич действительно был хорошо знаком с Маяковским: он был его импрессарио — устроителем его выступлений по провинциальным городам. Его сын — наш коллега Александр Павлович.
Физик, научный работник. Тоже, как и отец, тихий еврей. Более скромного, более деликатного человека я не знаю. За все время нашего знакомства я ни разу не видел его потерявшим равновесие, вспылившим, сказавшим резкое слово. Моложавый. Симпатичный. Но неласкова была и к нему жизнь.
В 1973 году произошло у него большое несчастье; я узнал об его горе от следователя. Привезли меня в ту пору из лагеря в тюрьму, в Лефортово, в качестве свидетеля по делу Якира — Красина. Зашла речь об Инициативной группе. И следователь сказал: «Большое несчастье у вашего коллеги Лавута: двенадцатилетний сын упал с крыши и разбился насмерть». И голос у него дрогнул. Они ведь тоже все-таки люди…
Когда я прощался с ним перед отъездом из Москвы, он был, по обыкновению, уравновешенный и спокойный. Сейчас он в тюрьме. Предстоит суд. Верю в него. Такой не подкачает[32].
И наконец, Григорий Сергеевич Подъяпольский. Один из самых умных, благородных, деятельных участников не только нашей группы, но и всего нашего демократического движения. Он уже покойный. Умер в 1976 году. Царство ему Небесное!
О биографии Григория Сергеевича говорить много не приходится: он сам описал свою жизнь в посмертно вышедшей книге с предисловием А. Д. Сахарова.
Уже прошло 4 года со дня его смерти. Но каждый раз, когда я произношу это имя, я чувствую жгучую скорбь. Это был единственный из членов нашей группы, к которому я чувствую не только уважение и товарищеское чувство, но и глубокое чувство дружбы.
Как живой стоит он у меня перед глазами: среднего роста, с блондинистой бородой, с добродушным, открытым лицом. С великолепными манерами московского барина, с несколько иностранным выговором, — он как будто пришел сюда из XIX века. И вся его домашняя жизнь в этом роде. Жена, чудесная Марья Гавриловна, гостеприимная, интеллигентная, добродушная, великолепная хозяйка, умеющая и рассуждать на самые отвлеченные темы, и в то же время готовить замечательные пирожки, которые таяли во рту.
У них был открытый дом, всегда полно гостей. Как успевала Марья Гавриловна одновременно работать, принимать гостей и обслуживать большую и трудную семью, — для меня до сих пор загадка.
А семья была действительно тяжелая: помимо мужа и дочки, чудесной пятнадцатилетней девочки, хорошо воспитанной и развитой не по летам, были две парализованные старушки: тетушка Григория Сергеевича и мама Марьи Гавриловны. Обе старушки имели каждая свою комнату. Всегда были чистенькие, вымытые, аккуратно одетые, улыбающиеся, в благодушном настроении, — говорить они не могли: у обеих была парализована речь и отнялась половина тела.
В квартире Подъяпольских — море добродушия, гостеприимства, веселья. И если мне скажут, что русский народ утратил эти свои исконные черты, я могу лишь указать на Григория Сергеевича — доброго Гришу, как его называла вся Москва.
Но это был не просто добрый дядя Гриша: это был, во-первых, крупнейший ученый; достаточно сказать, что таким его считал всегда такой компетентный судья в этом вопросе, как Андрей Димитриевич Сахаров. Он был авторитетом в редкой специальности: долго работал в Институте истории Земли при Академии наук и был крупнейшим геологом. И в то же время — вдумчивый и глубокий социолог — он был серьезным политическим мыслителем.
Плодом его раздумий над судьбами родной страны является изданная уже после его смерти «Посевом» книжечка: «О времени и о себе». Тоненькая книжка в 217 страниц небольшого формата. Но про нее можно вполне сказать словами Фета:
С необыкновенной проницательностью он анализирует экономическое состояние советского общества. Понятие «нового класса», которым он оперировал задолго до Джиласа, раскрывается с большой глубиной. Он находит великолепную формулу для определения советского так называемого социализма: «Высшая стадия капитализма». Показывает, как еще в ленинские времена формировался «новый класс». И совершенно правильно говорит о «беспомощных попытках Ленина» бороться с бюрократией.
Его книга — это не ворчание эмигрантов на советский строй, это не ворчание политического неудачника. Это трезвый и спокойный анализ.
Как жаль, что Григорию Сергеевичу не удалось воплотить свои мысли в серьезном, фундаментальном исследовании.
И еще одна черта, поразительная в интеллигенте старой формации, каким был Григорий Сергеевич: необыкновенная смелость.
Он никогда не боялся прямых и решительных действий, не боялся самых рискованных политических связей с заграницей. Готов был на любые поступки, за которые можно было поплатиться головой или, во всяком случае, свободой.
Эта черта сразу проявилась в полной мере в эти дни. Почти все заседания группы вращались вокруг одного вопроса: возможность контактов с НТС. Здесь наблюдалось диаметральное расхождение:
Татьяна Сергеевна Ходорович, Татьяна Николаевна Великанова, Сергей Адамович Ковалев и Александр Павлович Лавут занимали по этому вопросу четкую и ясную позицию: никаких контактов, нигде и никогда.
Противоположную позицию занимали мы с Григорием Сергеевичем: «Не нужно передавать информацию за границу? Да в этом все наше спасение: не допустить того, чтобы „железный занавес“, разбитый такой тяжелой ценой, был бы восстановлен. Какие цели для этого лучшие: те, которые лучше приводят к цели. Информационные контакты с НТС ни к чему не обязывают, вовсе не означают нашего согласия с этой организацией, с ее программой и с ее целями».
На все эти доводы мы с Григорием Сергеевичем слышали один ответ: «Нет! Нет! Нет!»
Однажды я сказал: «Но тогда вообще невозможна передача информации для ознакомления западной общественности со всем, что творится здесь: с незаконными арестами, нарушениями прав человека и т. д. Информации не будет!»
«Ну и не надо!» — ответили в один голос Сергей Адамович и Татьяна Николаевна.
«Но тогда зачем же наша группа?» — возразил я.
Для того чтобы успокоить боязливых и предотвратить раскол группы, Якир предпринял решительный шаг.
Как раз в это время председатель американского отдела НТО г-н Болдырев выступил с речью на съезде Северо-Американского отдела НТО[33], в которой, в частности, сказал: «Мы должны с удесятеренной энергией искать в России Гавриловых и Ильиных» (лейтенант Ильин — террорист, стрелявший в Брежнева весной 1969 года. — А.К.).
Однажды вечером пришла ко мне в Ново-Кузьминки Юля Вишневская, игравшая роль связной между мной и Буковским, и принесла мне документ, авторы которого, комментируя слова г-на Болдырева, заявляли, что с НТС демократическое движение не имеет и никогда не будет иметь ничего общего и с проникновением в его среду агентов НТС будет бороться. Под заявлением стояли подписи Якира и Буковского. От имени этих двух мне предложили поставить и мою подпись. Я подписался, не задумываясь. Это было необходимо, во-первых, чтобы отмежеваться от опасного для нас заявления г-на Болдырева. А во-вторых, это было совершенно необходимо, чтобы предотвратить выход из группы большинства ее членов и, таким образом, ее полный развал.
Надо сказать, что вопрос о связях с НТС был лишь частью проблемы. Вопрос стоял гораздо глубже: помню, как-то раз я на заседании группы заявил, что инициативная группа должна стать центром демократического движения, боевым и действенным. Татьяна Николаевна Великанова ответила: «То, что говорит Анатолий Эммануилович, приводит меня в ужас: какой боевой центр? Какой организационный центр? Инициативная группа — это чисто гуманитарное объединение».
В этом заявлении Татьяны Николаевны — ключ к позиции ряда членов группы: Т. С. Ходорович, Т. Н. Великанова, С. А. Ковалев и А. П. Лавут были абсолютно чужды какой-то политике. Они выступали против репрессий и самоуправства органов КГБ с чисто гуманитарных позиций.
Характерный момент: когда много позже, уже в 1973 году, я информировал группу о том, что я решил обратиться с заявлением к Социалистическому рабочему Интернационалу в Амстердаме, все члены группы выразили недоумение: никто из них даже не слышал о существовании Интернационала.
Вторым вопросом, из-за которого возникли разногласия в эту зиму, был вопрос о принятии в группу Владимира Буковского. Принять его в группу предложил я; Григорий Сергеевич Подъяпольский, разумеется, меня поддержал. Все остальные члены группы долго колебались: их смущали связи Владимира с Западом. Несколько заседаний происходили бурные дебаты. Наконец (это заседание происходило на квартире Г. С. Подъяпольского), Ковалев предложил: «Отправимся сейчас все in corpore к Буковскому. И выясним все интересующие нас вопросы».
Отправились. Однако обошлось без вопросов.
После пятиминутного разговора Сергей Адамович протянул Буковскому руку.
Прием нового члена в группу состоялся. Одновременно по его рекомендации была принята Ирина Белогородская. Это, впрочем, имело чисто теоретическое значение. Владимир участвовал, насколько я помню, только в одном заседании группы: примерно через месяц он был арестован. Белогородская также. После своего освобождения она в группе не участвовала. Однако этот акт имел принципиальное значение: он означал, что группа действует и развивает свою деятельность, принимая в свою среду новых членов. В том единственном заседании группы, в котором участвовал Буковский, он выступил с интересным предложением: в мае в Москве должен был открыться явочным порядком неофициальный съезд ученых с участием их иностранных коллег, которые должны были приехать в качестве туристов.
Г. С. Подъяпольскому было предложено сделать на импровизированной конференции доклад.
Увы! Доклад не состоялся. 30 марта 1971 года Владимир Буковский был арестован.
Арест Владимира меня сильно поразил, хотя недостатка в предостережениях не было и его арест можно было ожидать каждую минуту.
Выше я много писал о Буковском. Я его знал в течение нескольких лет. Однако наиболее тесный контакт у меня с ним был в эту последнюю зиму.
Когда я освободился (11 августа 1970 года), Владимира в Москве не было. Он был где-то на Дальнем Востоке, в экспедиции, куда завербовалась на лето вся наша молодежь.
Я увидел его в первый раз после возвращения в Москву 20 сентября 1970 года, накануне дня своего рождения. Под вечер, часов в 5, раздается звонок. Вбегает запыхавшаяся Верочка Лашкова, говорит: «Мы решили подарить вам к 55-летию книжный шкаф. Сейчас втащим на лестницу. Ждите». Через десять минут действительно ко мне на шестой этаж тащат шкаф. Впереди всех Володя. Так я увидел его впервые через три года после того, как слышал его заключительное слово на суде.
Он был у меня также и на другой день; привел корреспондента «Вашингтон Пост» Астрахана. В этот день у меня было много народа. Человек около пятидесяти. Кого только не было! Диссиденты всех мастей, церковники, просто хорошие люди. Многие увидели Володю впервые. Решительно на всех он производил хорошее впечатление. Помню отзыв одного из моих друзей, довольно мизантропического господина, не любившего хорошо отзываться: «У него хорошее, открытое лицо. Великолепный парень».
Я помню, как в день своего появления со шкафом он известил меня, что он объявил «сухой закон». Это было не лишним среди нашей богемной молодежи. Но он при этом добавил: «Вы, говорят, тоже этим стали грешить».
Я усмехнулся. Перед этим действительно я однажды был навеселе в день рождения моего крестника Андрея Григоренко. Пьян я бывал в жизни очень редко. Но редко, да метко.
Всю зиму 1970/71 года я видался с Владимиром очень часто: два-три раза в неделю. Много было общих дел: передавать некоторые материалы за границу, принимать их оттуда и т. д. Работник он был великолепный. Иметь с ним дело было одно удовольствие: все делалось четко, аккуратно, быстро. Он всегда был вежлив, вдумчив, — лишь иногда находило на него облачко грусти. Особенно печален, сумрачен он становился, когда приходилось ему выпивать. Видимо, в это время перед ним проходила его жизнь. Жизнь, как тогда могло показаться, неудачника. Тюрьмы, лагеря, этапы, сумасшедшие дома. Печальная жизнь.
Из общения с ним остались в уме фрагменты. Я говорил о них в одной из статей, напечатанных в «Новом Русском Слове» в сентябре 1977 года, когда он переживал наиболее тягостное время своего заключения.
Расскажу об этом еще раз.
Якир в больнице. Решено его посетить. Захожу к Владимиру, собираемся на Большую Пироговку. Собираясь, он говорит: «Вы часто говорите о будущей революции. Сейчас прочел книгу о 1917-м. ужас! Прежде всего: нападение на винные склады, разбивают бочки, утопают в вине».
Я отвечаю: «Qui medicamenta non sanat, ferrum sanat, qui ferrum non sanat, ignis sanat» (Чего не излечит лекарство, излечит железо, чего не излечит железо, излечит огонь).
Это было начало моего спора с диссидентами, спора, который длится до сих пор.
Затем собираемся. Садимся на трамвай. С нами еще кто-то третий (уж не помню, кто). Владимир сосредоточен, сдержан. Едем. Кондукторша называет остановки. Говорит: «Неопалимовский».
Я (громко): «Володя! Откуда такое название „Неопалимовский“»?
Сумрачный ответ: «Не знаю».
Тут на меня находит мой обычный озорной стих: начинаю со всеми подробностями рассказывать об иконе Божией Матери «Неопалимая Купина». (Нашел чем дразнить людей!) О церкви, которая была в этом переулке. В разговор вступает какая-то старушка. Весь трамвай слушает с любопытством.
Вижу, что Владимир готов меня разорвать на части. Сумрачно молчит. Наконец трамвай останавливается на Большой Пироговке против больницы. Владимир, который вышел первым, помогает мне сойти. На меня не смотрит, заговаривает с Верочкой.
Очень мне запомнился почему-то один день, проведенный в обществе Владимира. Мы встретились у Людмилы Ильиничны в Замоскворечье. Вышли вместе. Я предложил: «Зайдем на Павелецкий вокзал. Время есть. Пообедаем».
Обедаем. Заказали бутылку. Пока мы обедали, подошли к нам один за другим три человека (вокзальная шпана). К Владимиру: «Можно выпить рюмку?» Уж очень у него располагающая внешность.
Мы всех угощали. Потом пошли к одной даме, жившей в центре, адвокатесс, советоваться с ней по каким-то очередным делам. Выходим из метро на Арбатской. Там много цветочниц.
Володя: «Может, купить нашей даме цветы?»
Цветочницы к нам кинулись со всех сторон. Едва от них отделался.
«Володя! Ну, что ты говоришь! Ты же знаешь, что у нас всего лишь 2 рубля. Боялись, что в ресторане не сможем рассчитаться».
«А разве мало?»
«Володя! Да неужели ты никогда не подносил никому цветы?»
«А зачем их подносить?»
Потом у адвокатесы. У нее мы застали моего адвоката, ныне покойного, Александра Александровича Залесского. Зашла речь о демократическом движении. Залесский задал вопрос в упор Владимиру: «Каковы цели демократического движения?» В ответ послышалось нечто невразумительное. Я вмешался в разговор и попытался нечто сформулировать.
После этого мы вышли на улицу. Владимир простился со мной. Отправился на дело, требующее ловкости, умения, находчивости и смелости, какие бывают у одного на тысячу.
Другой раз, день его рождения, 30 декабря 1970 года. В этот день разбирается кассация еврейских героев-самолетчиков Эдуарда Кузнецова и Дымшица. Мы все с утра у здания Верховного суда. Хорошо помню Зинаиду Михайловну Григоренко. Мы с ней под ручку. Здесь и Владимир. Стоим, пробиваемся в зал. Увы! Не пускают. Приходит Сахаров. Академика пропускают.
К вечеру известие: результат кассации будет известен позже. Идем на именины. Застаем бездну гостей. Но настроение у всех невеселое. В километре от нас решается вопрос о смертной казни двух человек. Начинаем писать петицию протеста. Как раз в это время в Испании приговорены к смертной казни шесть юношей-басков. Поэтому решаем писать сразу в два адреса: в Президиум Верховного совета СССР и генералиссимусу Франко.
Пишет Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Начинается спор о формулировках. Спор нудный и утомительный. Мне это быстро надоедает. Решаю уходить, заявив, что ставлю подпись под любой формулировкой.
Буковский (с раздражением); «Мы ищем приемлемую для всех формулировку, а вы уходите».
Я: «Ну, хорошо».
Остаюсь. Поздно ночью подписываем. На другой день, в канун Нового года, узнаем: и в Москве и в Мадриде праздник — всех помиловали.
31-го одна из наших девочек звонит по телефону к Володе, поздравляет. Я также подхожу к телефону.
«Володя! Поздравляю тебя. Желаю тебе плодотворного года и целый год быть на воле».
Ответ: «Спасибо, Анатолий Эммануилович! Вам не кажется, что оба ваши пожелания исключают друг друга?»
И вот наступил новый, 1971 год.
И опять фрагменты воспоминаний.
Один из февральских дней. Опять с Владимиром кочуем по Москве. Он заводит меня к Цукерману, руководителю сионистов, женатому, однако, на русской женщине, да еще из дворян. У Буковского была установка — объединять диссидентов, знакомить их, перебрасывать мосты. Не знаю, как в других случаях, — на этот раз получилось неудачно. Зашла речь об эсхатологических настроениях у некоторых из наших знакомых верующих людей. Цукерман (как о чем-то само собой разумеющемся): «Ну, понятно, что у русских могут быть такие настроения. Русский народ — народ конченый».
Я вспыхнул. Почувствовал себя русским до глубины души. Точно так же, как чувствую себя евреем, когда слышу антисемитские выпады. Стал спорить. Спор был очень жарким. В какой-то момент Цукерман провозгласил: «Таких вещей эти стены еще не слышали».
Я: «Тем более. Для разнообразия не мешает».
И спор продолжался. Буковский во время спора хранил мертвое молчание.
И наконец март. Узнаем, что некоторых из наших посадили в сумасшедший дом. В один день были отвезены в психиатрическую больницу им. Кащенко супруги Титовы (художник и его жена) и моя крестница Юлия Вишневская. Это была подготовка к XXIV съезду КПСС, который должен был открыться через несколько дней.
Как говорил мой покойный отец: «Из всего они делают застенок».
Действительно, из всего. От спортивной Олимпиады до партийного съезда.
В ближайшее воскресенье мы все пошли навещать ввергнутых в психиатрическую тюрьму: Юрия Титова, его жену Елену Васильевну, Юлю Вишневскую. На лестнице множество диссидентов. Среди них Владимир.
В этот день я видел Владимира в Москве в последний раз. На другой день звоню к нему по телефону. Никто не подходит. Почему-то сразу почуял что-то неладное. Иду к Людмиле Ильиничне. Спрашиваю: «Что с Володей?» Лаконичный ответ: «Вчера в 11 часов вечера арестован».
Далее было, как всегда. Собрались у Якира. Весь цвет московского диссидентства. Решили составить петицию на имя открывающегося XXIV съезда. Петиция была составлена в нарочито каучуковых выражениях. Чтобы все могли подписать. Никто бы не испугался. Однако тотчас начались возражения, поправки. От этого петиция стала еще более водянистой.
Я понял: ничего из этой петиции не выйдет. Со свойственной мне стремительностью провозгласил: «Надо, чтобы выступил Солженицын».
Все ахнули. «Что вы: он же ничего не подписывает».
Я: «Не подписывать, а выступать. Выступит».
Здесь находился Юрий Штейн, свойственник Солженицына: муж двоюродной сестры его первой жены. А Солженицын в это время жил под Москвой, на даче своего друга — известного виолончелиста Ростроповича.
Я к Юрию Штейну: «Дайте мне телефон Ростроповича».
Он: «Не могу. Меня просили никому не давать».
Я: «Ну, сейчас я беру такси и еду к нему на дачу. Ворвусь, несмотря на поздний вечер».
Взглянув на меня, Юрий Штейн, видимо, понял, что я не шучу. Помявшись, сказал: «Ну, хорошо, я вам дам телефон Ростроповича, но только не говорите, что это я вам его дал».
Мы пошли звонить с одной из наших девочек к автомату. Перед этим зашли к Нине Ивановне (матери Буковского). Она потрясена. Говорит: «Бедный мальчик, опять он в этих сырых стенах».
Выйдя от Нины Ивановны, звоним. Говорит девушка (моя духовная доченька). Подходит сторож. Она говорит: «Попросите Александра Исаевича. Скажите, что с ним хочет говорить Анатолий Эммануилович». (С Солженицыным я был немного знаком.) Долгая пауза. Наконец, подходит Солженицын. Девочка передает трубку мне.
Солженицын (любезно): «Здравствуйте, Анатолий Эммануилович».
Я: «Александр Исаевич, мне надо экстренно вас видеть».
Пауза. Затем недовольный голос: «Я знаю, о чем вы хотите говорить. Только нужно ли? Что ж это мы все пишем, пишем».
Я: «Вы не знаете, о чем я хочу с вами говорить. Но надо непременно».
По голосу Александр Исаевич, так же, как перед этим его свояк, видимо, понял, что я шутить не собираюсь.
«Есть ли у вас телефон в Москве?» (Он знал, что я живу за городом, в Ново-Кузьминках.)
Я: «Есть», — и дал ему телефон жены.
«Я вам позвоню».
Был уверен, что не позвонит. Сказал, чтобы отделаться. Нет, позвонил. Ни меня, ни жены в этот момент дома не было. Подошла соседка. Услышала в трубку: «Это говорит Солженицын». Бедная соседка при этих словах чуть не грохнулась в обморок.
«Передайте Анатолию Эммануиловичу, чтобы он позвонил мне по такому-то номеру».
Через два часа я позвонил. Это была Вербная суббота. Александр Исаевич сказал: «Можете ли быть сегодня у всенощной у Ильи Обыденного» (это популярная московская церковь, в которой он незадолго до этого крестил сына).
К шести часам иду к церкви.
Отчетливо помню, как ехал на метро. На станции «Кропоткинская» вышел. Когда шел по коридору, заметил впереди какую-то необыкновенную фигуру. Первая мысль: «лагерник». Сразу вспомнил старые лагерные типы. Высокий мужчина, плечистый, в какой-то кацавейке, напоминающей бушлат. Широкие шаги. И в манерах, в походке что-то неуловимо лагерное. Помню свою мысль: «Символично. Иду на встречу с Солженицыным и встречаю лагерника». И в этот момент замечаю, что это и есть Солженицын. Пытаюсь его догнать. Невозможно. Уж очень широкие у него шаги. Выходим из метро. Переходим через площадь. Он впереди, я позади, шагах в сорока от него. Обогнули площадь. С ходу он в телефонную будку. К кому-то звонит. Тут я его и догнал. Поравнялся с будкой. Жду, пока он кончит разговор. Выходит из будки. Здороваемся.
Я: «Ну, давайте походим вокруг бассейна».
Спускаемся. Ходим на том месте, где когда-то был Храм Христа Спасителя. А теперь бассейн. (Опять символизм — во всем символизм.)
Разговор начал я: «Знаете ли вы Владимира Буковского?»
Ответ: «Лично не знаком, но знаю».
Я: «Какого вы о нем мнения?»
«По-моему, очень достойный человек. Его заявление насчет людей, посаженных в психиатрические больницы, великолепно. Слышал по радио».
«Сейчас он в ужасном положении. Они давно его ненавидят и за ним охотятся. И его не выпустят. Надо его спасать. Выступите в его защиту».
Пауза.
«Когда вы ко мне звонили, я понял, о чем вы будете говорить. Но все-таки не думал, что вы мне предложите подписать петицию съезду партии. Ну, вот они бросили вашу петицию в мусорный ящик. Передали в комиссию. Сейчас наблюдается инфляция подписей. Вот летом я выступил в защиту Жореса Медведева. Его через две недели выпустили, а я заклеймил их на века (сказал он скромно). А когда мы подписываем петиции каждые две недели, на них перестают обращать внимание. И вообще петиция — это нечто коллективное. Вот вы заявляли о том, что вы социалист и принимаете революцию. С вами я уже не могу подписывать никаких петиций. Я человек индивидуального опыта. Вы же тоже человек индивидуального опыта (прибавил он любезно). То, что вы сделали индивидуально (ваша история Церкви) имеет ценность; то, что вы сделали коллективно (Инициативная группа, петиции), особой ценности не представляет. Если где-то пробоина, это вовсе не значит, что все мы должны бросаться ее затыкать. Каждый из нас делает свое дело, это и есть наш ответ».
«Скажите, пожалуйста, Александр Исаевич, если бы, когда судили Синявского и Даниэля, мы не подняли такой шум на весь мир, как вы думаете, кто был бы следующий?»
«Не знаю. Может быть, я».
«Да, это были бы вы. Вы же знаете, что тогда Шелепин потребовал 20 тысяч голов, чтобы покончить со свободомыслием. В этом списке вы, безусловно, были бы первым. Только широкая кампания в защиту Синявского и Даниэля заставила их отступить. Синявского и Даниэля мы не спасли, но дальнейших арестов не последовало. И Егорычев на XXIII съезде вынужден был забить отбой. Мы знаем ваши установки, и никто из нас не думал вас просить подписывать какие-либо петиции. Мы хотели вас просить (и мать Буковского и мы все) об одном: чтобы вы выступили в защиту Буковского. Неужели мы должны вас учить, как это сделать. Выступите! Надо спасать человека, который, безусловно, является самой крупной личностью среди нашей молодежи».
Он: «Видите ли, может быть, в свое время я выступлю, но сейчас не время». И опять те же рассуждения об инфляции подписей.
Я увидел, что дальше говорить на эту тему бессмысленно. Перевел разговор на нейтральные темы.
Мы пошли в церковь. Я взял свечку, прошел несколько вперед. Когда потом оглянулся, Солженицына в церкви уже не было.
Тогда я принял решение самому написать статью о Владимире. Когда пошел к его матери за биографическими справками, она мне сказала: «Я не хотела бы, чтобы вы этим занимались. Вы сами на волоске».
Это я знал, но все-таки написал.
Перед тем, как начать писать, открыл Библию. Вышел текст: «Не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа» (это про юного Давида).
Эти слова меня поразили. Взяв перо, написал: «Не мечом и копьем». И выписал библейские слова в эпиграф.
А затем написал следующую статью.
А. Краснов
Не мечом и копьем (К аресту Владимира Буковского)
«Не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа».
(1Цар.17:47)
Война Господа идет во всем мире, во всей вселенной, на всем протяжении мировой истории, ибо не было такого времени, когда правда не боролась бы с ложью. Что это? Арестовали священника? — спросит читатель, прочтя это вступление. Нет, не священника, — самого что ни на есть мирского человека. Так тогда сектанта, проповедника, религиозного фанатика? Нет, арестовали неверующего человека. Так к чему тут библейский эпиграф и высокопарное вступление? Ответом на эти вопросы могла бы быть биография арестованного Владимира. Но вряд ли.
Уж очень она коротка.
Владимир Буковский родился 30 декабря 1942 г. Следовательно, сейчас ему 28 лет. Из этих 28 лет — один год учебы на биологическом факультете в Московском университете и 6 лет мытарств по тюрьмам и сумасшедшим домам. 1 год и 2 месяца на воле. 29 марта 1971 г. — новый арест. Такова биография, биография трагическая и краткая. Что же скрывается за ней?
Когда умер папа Лев XIII, знаменитый французский писатель, влюбленный в биологию и уверенный, что личность — это комбинация наследственных признаков, написал следующие слова: «Покойный папа был замечательным человеческим типом». Эти слова Эмиля Золя приходят мне на ум каждый раз, когда я думаю о Буковском. И не мне одному. В 1967 г. следователь, закончив дело о демонстрации, главным инициатором которой был Владимир, сказал: «Если бы я мог выбирать сына, я выбрал бы Буковского». Великолепен он даже внешне. Высокий, прекрасно сложенный, шатен, лицо простодушного деревенского парня — открытое, мужественное, русское лицо. Легкая, танцующая походка, четкие движения, слова все свои, ничего заимствованного, чужого, выставленного напоказ. Храбрость! Однако никакой аффектации. Ему никогда, вероятно, не приходилось преодолевать страха. Он ему просто неведом и, вероятно, непонятен.
В этом я всегда завидовал ему. Воля. Концентрированная, несгибаемая, непреклонная. Но никакого упрямства. Наоборот, в быту он уступчив, легок, неприхотлив. Абсолютный бессребреник. Именно в то время, когда появился в «Правде» подвал, где Буковского обливали грязью и говорили, что он получает деньги у иностранцев… именно в это время у него часто не бывало 5 копеек на метро. Денег у него не было никогда, но он любил их давать. «Не знаешь ли, Володя, у кого можно занять 5 рублей?» — спросил я его однажды. «Я могу», — с какой-то детской важностью сказал Володя и протянул мне последнюю пятерку.
Резкий и смелый, когда речь идет о защите идейной позиции, Владимир до странного мягок, когда имеет дело с личным врагом. Он принял у себя дома 2 месяца назад парня, который дал на него ужасные показания в 1967 году. По мнению Владимира, личная месть была бы недостойна.
Он хорошо воспитан и имеет хорошие манеры (этим он обязан своей высококультурной матери), но в тоже время удивительно быстро находит общий язык с людьми из народа, с людьми негуманитарными, с люмпенами, с лагерниками, все они считают его «своим в доску».
Кто он все-таки и почему так трагически сложилась его биография? Он родился в 1942 году, следовательно, ему было 10 лет, когда шел 1952 год. Быть может, самый ужасный после 1937-го год русской истории. В этом году, как в фокусе, отразился весь ужас, вся гниль сталинского самовластия, сервилизм и подхалимство литературы, наглость и лживость официальной пропаганды, трусость интеллигенции — все достигало своего апогея.
Бывают характеры: приспосабливающиеся, пружинистые, мягкие. Бывают характеры: легко ранимые, травмируемые, нежные, бьющиеся, как стекло. И бывают характеры резкие, упругие; гонения их только закаляют подобно железу. Из первых выходят дипломаты, карьеристы, дельцы. Из вторых — поэты, невропаты, истерики, а иногда и просто салонные болтуны. Из третьих — революционеры-борцы.
Владимир — несомненный борец. Он и революционер, хотя очень не любит этого слова и никогда не признавал себя таковым. Во всяком случае, еще на школьной скамье он очень тонко чувствовал фальшь и иронически улыбался; его возмущала всякая несправедливость, и он смело протестовал против нее; он не мог видеть унижения человека и не броситься на помощь. На этой почве он иногда имел сильные недоразумения со школьной администрацией. Владимир — не теоретик, не мечтатель, он — практик. Может быть, поэтому он по окончании школы избрал себе не гуманитарную (как у его родителей), а весьма практическую специальность. Он занимался ею лишь один год, во время учебы в университете, а потом в тюрьме и в лагере, когда была возможность. Но даже в этих отрывочных занятиях проявлялась необыкновенная одаренность Владимира. По отзывам специалистов, посвяти он себя целиком биологии, из него вышел бы крупный ученый.
Но не это стало призванием Владимира. Эпиграфом к этой статье мы избрали библейские слова. В Книге Царств их произносит юноша Давид, пастух и певец, неожиданно превратившийся в воина. И произносит он их перед тем, как вступить в битву с Голиафом.
Владимир был в 19 лет именно таким богато одаренным, смелым, глубоко верующим в свое дело юношей. Что это, однако, было за дело и кто был тот Голиаф, с которым он решился вступить в бой? Как ухватится за эти строки следователь или прокурор и как быстро и категорически он ответит: «Голиафом Владимира была советская власть». И в день ареста Владимира кто-то из милиции именно так сказал девушке, случайно оказавшейся при его аресте. Что ответим на это утверждение мы? Мы ответим: «Нет» и еще раз «нет».
Голиафом, с которым вступил в борьбу Владимир, был не тот или иной режим, — а несправедливость, произвол, беззаконие, откуда бы они ни исходили. И в этом смысле Владимир является типичнейшим представителем того гуманистического демократического движения, которое возникло в последнее десятилетие среди русской интеллигенции и которое с каждым годом все ширится и набирает силу. Владимиру, как и всем нам, не нужны ни фабрики, ни заводы, ни деньги (он и цвета-то их не знает и в руках держать не умеет), — ему, как и всем нам, нужна свобода и справедливость, справедливость и свобода.
Буковский никогда не писал, насколько мне известно, стихов, хотя он автор нескольких очень талантливых рассказов. Но его общественная деятельность началась с поэзии. В 1961 году, по вечерам, у памятника Маяковскому, собиралась молодежь читать стихи. Чего бы, кажется, естественнее и проще? Но и такое простое дело организовать оказалось нелегко. Уж слишком отвыкли люди в сталинскую эпоху от всякой нерегламентированной деятельности. Организовали это дело трое студентов: Юрий Галансков, Владимир Осипов и третий — Владимир Буковский. Весть о вечерах у памятника Маяковскому пронеслась по Москве, молодежь повалила валом. Привлекли они и неблагосклонное внимание консерваторов. В 1963 г. собрания у памятника были разогнаны, инициаторы этих сборищ поплатились свободой. 1 июня 1963 г. — новый арест Буковского. На этот раз за печатание книги Джиласа «Новый класс». После ареста и суда Владимир был переведен в Ленинград, в тюремную психиатрическую больницу, помещавшуюся в бывшей женской тюрьме, на Арсенальной улице. В ужасной атмосфере, среди сумасшедших, провел он 1 год и 4 месяца — с ноября 1963 по 26 февраля 1965 г.
Если можно себе представить тип наиболее уравновешенного, гармоничного человека, — то это Владимир. Я никогда не видел его вышедшим из себя, произносящим какие-либо необдуманные слова, действующим в состоянии аффекта. Я никогда не замечал в нем ни малейшей «маниакальной одержимости». Он человек широкий, спокойный, обладающий чувством юмора. Всякая экстравагантность ему органически чужда, как совершенно чужда пошлость, грубость, задиристость. Если он сумасшедший, то следует признать сумасшедшими 99,9 % всех окружающих нас людей. Владимир, однако, не только был признан сумасшедшим услужливыми психиатрами, — он был первым или одним из первых, признанным сумасшедшим по политическим мотивам.
Откуда, однако, взялся этот новый метод в расправе с политическими противниками?
В разгар борьбы с культом личности Никита Хрущев не раз заявлял, что в СССР нет ни одного политического заключенного. И действительно, с 1956 по 1959 год их не было или почти не было. Когда же они все-таки стали появляться, то Хрущев ничего лучшего придумать не мог, как объявить их сумасшедшими, — и вот тысячи религиозных людей, юношей, выступавших с критикой темных сторон действительности, коммунистов, недовольных половинчатостью и самодурством главы тогдашнего правительства, попали в сумасшедшие дома. Таким образом, знаменитая серия хрущевских анекдотов пополнилась еще одним анекдотом. Жаль только, что испытать этот анекдот пришлось на себе живым людям. Владимир был одним из таких людей. И только такой абсолютно душевно здоровый человек, с железными нервами, как Владимир, мог пробыть в такой атмосфере почти полтора года и не свихнуться. Однако он приобрел в сырых камерах тюрьмы-больницы ревмокардит, болезнь, которой он страдает до сих пор. Освобожденный в феврале 1965 г., он в сентябре 1965 г. вновь попадает в заключение — за попытку помочь арестованным писателям Синявскому и Даниэлю. Начинается «учебный год»: время с сентября 1965 по июль 1966 года Владимир проходит в кочевке по сумасшедшим домам; за это время он переменил 3 сумасшедших дома: в Люблино, Столбовой, институте им. Сербского. Он вышел и на этот раз крепким, сильным, здоровым духовно.
С этого времени начинается мое знакомство с ним. Летом 1966 г. гонения на почаевских монахов достигли апогея, и я обдумывал, как им помочь. Я обратился к В. К. Буковскому с просьбой съездить в Почаев. И хотя его поездка не состоялась, но знакомство с Владимиром произвело на меня сильное впечатление. Уж очень он отличался от неврастенической, безалаберной, разбросанной молодежи из СМОГа. Затем мы встречались с Владимиром еще несколько раз. И наконец, я увидел его в «деле» — во время организации 22 января 1967 г. демонстрации на Пушкинской площади в защиту арестованных Галанскова, Добровольского, Лашковой и Радзиевского. Здесь не место говорить о делах Владимира (это дело будущих историков). Скажу только, что слово «талант» звучит слишком слабо, когда речь идет о его организаторских способностях.
Через несколько дней после демонстрации Владимир был арестован. На этот раз объявить его сумасшедшим оказалось слишком даже для наших психиатров.
Он был признан вменяемым, и 31 августа — 1 сентября над Буковским, Делоне и Кушевым состоялся суд. Я был на суде в качестве свидетеля и мне посчастливилось присутствовать при произнесении Владимиром его двухчасовой речи на суде 1 сентября 1967 года.
Речь эта была записана и широко распространялась в свое время. Я ее здесь цитировать не буду. Укажу только на то, что речь эта — одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Дело тут не только в том, что Буковский — один из самых замечательных ораторов, которых я слышал (и это говорит много лет работавший с митрополитом Александром Введенским, слышавший в детстве Троцкого, в юности Михоэлса и знавший лично почти всех замечательных проповедников своего времени, а в 20-х, 30-х годах их было немало). Самое главное — это то впечатление силы, уверенности в своей правоте, несгибаемой воли и достоинства, которые производил Буковский на суде. Содержание речи характеризует его мировоззрение.
Владимир выступал как сторонник строгой законности, гуманистических принципов, соблюдения справедливости. Он был осужден к 3 годам лагерей и вышел на волю лишь в январе 1970 г., когда я находился в заключении. Я увидел его лишь в сентябре прошлого года и виделся с ним почти ежедневно по самый момент его ареста. Я, конечно, не знаю, что именно ставится в вину Буковскому. Однако я совершенно уверен, что во всей его деятельности нет ничего криминального. Он думает лишь о правах людей, о торжестве законности, о борьбе против всякого проявления произвола. Он отдает свою жизнь борьбе за правду, помощи страдающим людям, и в этом смысле он, неверующий, в тысячу раз ближе к Христу, чем сотни так называемых «христиан», христианство которых заключается лишь в том, что они обивают церковные пороги. И я, христианин, открыто заявляю, что преклоняюсь перед неверующим Буковским, перед сияющим подвигом его жизни.
«В январе 1970 г., во время закрытия моего дела в Сочи, у меня произошел следующий разговор со следователями Акимовой и Шаговым (при этом разговоре присутствовал и мой адвокат А. А. Залесский). Я сказал следующее: „Мой арест напоминает мне известное изречение Тайлерана по поводу зверского убийства Наполеоном герцога Энгиенского: это было хуже, чем преступление, это была глупость. В тюрьме я много опаснее для моих врагов, чем на воле. Если же вы уморите меня в лагерях, тогда еще хуже: я буду еще опаснее“.
Это относится и ко всем арестам по политическим и религиозным мотивам последних лет. Прежде всего они не достигают цели: они лишь создают мученический ореол вокруг ряда лиц и этим увеличивают их популярность. Так будет и с Буковским. Следовательно, хорошо, что он арестован? Да, так в теории, но не так в жизни.
Буковский — исключительная, героическая личность. Крупнее его в настоящее время в России, может быть, никого нет. Но он — человек. И прежде всего человек, с нервами, с сердцем, с живой человеческой плотью и кровью. И у него есть мать.
Что должна чувствовать мать? Я могу лишь приблизительно представить себе это по той щемящей боли, которую я чувствую, когда думаю о том, что Владимир в тюрьме. Если я так чувствую, что же должна чувствовать сейчас мать? Какой ад у нее в душе! И поэтому я обращаюсь ко всем, от кого это зависит — не делайте лишней жестокости, освободите отважного молодого витязя — замечательного русского человека. Это будет больше чем справедливый поступок, это будет государственная мудрость, и это будет первый шаг к примирению с молодыми демократическими силами России, шаг, который будет должным образом оценен.
Я обращаюсь ко всем моим друзьям и читателям: присоединитесь к моему требованию об освобождении Владимира Буковского. И я твердо верю, что увижу его свободным и его гуманистические идеи торжествующими, ибо „не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа“».
7 апреля 1971 года
Благовещение Пресвятой Богородицы
Перепечатываю эту статью сейчас, через десять лет. Спрашиваю себя, не преувеличил ли я? Не перехвалил ли его так же, как генерала Григоренко за два года перед тем.
Думаю, что нет. И у того и у другого в характере есть и другие черты. Оба они весьма тяжелые люди и, уж во всяком случае, не ангелы.
Но в те времена они переживали героический период своей деятельности, шли на страдания, на подвиг. И это поднимало их над жизнью, смывало, сглаживало все те пошловатые, отрицательные черты, которые есть у каждого. Есть и у них.
Катарсис, о котором писал Аристотель как о существенной черте трагедии, существует не только на сцене, но и в жизни. И в эти моменты и у Григоренко и у Буковского происходил «катарсис» — очищение духовное, — и у них и у их близких. Коснулся этот катарсис и меня.
В 1969 году я написал статью о Григоренко, тронутый его подвигом. Это было главной причиной моего ареста.
В апреле 1971 года я написал статью о Буковском. Это было главной причиной моего ареста в следующем месяце.
Мой адвокат Залесский передал мне слова следователя: «Может быть, мы прекратили бы дело. Но его статья о Буковском носит такой вызывающий характер, что оставить ее без последствий мы не можем».
Сейчас они оба (и Григоренко и Буковский) на свободе. Оба опубликовали свои воспоминания. Воспоминания небезынтересные. Мне в них не нашлось места. Я для них обоих оказался слишком незначительной величиной. Чем это объяснить? Ответ дает И. С. Тургенев.
Однажды Верховное Существо вздумало задать великий лир в своих лазоревых чертогах.
Все добродетели были позваны им в гости. Одни добродетели… мужчин он не приглашал… одних только дам.
Собралось их очень много — великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих, но все казались довольными и вежливо разговаривали между собой, как приличествует близким родственникам и знакомым.
Но вот Верховное Существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, не были знакомы друг с дружкой.
Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел к другой.
«Благодетельность, — сказал он, указывая на первую. — Благодарность», — прибавил он, указав на вторую.
Обе добродетели несказанно удивились. С тех пор как свет стоял — а стоял он давно — они встретились в первый раз.
Декабрь 1878 г.
Обе прекрасные дамы не встретились и за письменным столом Григоренко и Буковского. Пора катарсиса осталась у них обоих далеко позади.
В эту зиму происходит еще одно событие: основание так называемого Сахаровского комитета. Помимо самого академика, туда вошло двое членов: Андрей Твердохлебов и Валерий Чалидзе.
Первоначально я отнесся к этому известию неодобрительно. Мне казалось, что наличие двух однотипных организаций распылит и без того недостаточные силы движения, вызовет нежелательное соперничество, которое может перейти в конкуренцию. Сама идея «профессорского» комитета мне не очень нравилась, — для меня это ассоциировалось с П. Н. Милюковым и заправилами кадетской партии.
В этом духе я дал в декабре 1970 года интервью представителю НТС.
Однако в апреле мне пришлось сблизиться с Валерием Яковлевичем Чалидзе (секретарем комитета — наполовину грузином). Общение наше произошло на почве судебного дела верующих Нарофоминска (простых, хороших русских людей), которые требовали открытия храма в этом подмосковном городе, где не было ни одного храма. Местная газета облила их грязью. Они подали в суд за клевету. Первоначально это дело вел мой недавний оппонент г-н Цукерман, а после его отъезда выступал в суде я. Сын старого юриста, я быстро вошел в роль.
С Валерием Чалидзе, или (как его тогда называла вся Москва по титулу его отца) с князем, я находился в тесном контакте. И он на меня произвел прекрасное впечатление. Впоследствии, совершенно неожиданно, ему пришлось сыграть некоторую роль в моей судьбе.
А 8 мая 1971 года прозвонил звонок!
В это утро я в хорошем настроении (стояла прекрасная погода) пошел в магазин. Затем подошел к газетному ларьку. У ларька ко мне подошел неизвестный с неприятным лицом. Он сказал: «Вы Левитин?» И протянул мне книжечку, из которой явствовало, что он агент угрозыска.
После этого он сказал: «Очень прошу вас проехать со мной в отделение милиции».
Подъехал легковой автомобиль. Я понял. Прозвонил звонок.
Я вновь (уже в четвертый раз) стал арестантом.
Глава девятая. У занесенного окна
Итак, 8 мая 1971 года я очутился вновь у занесенного окна. В тюрьме. На этот раз на довольно продолжительный срок. На два года. «Детский срок», — как говорили в пятидесятых годах.
«Да вы почти уже на воле», — говорили мне заключенные в 1971 году, получившие по «Указу (за хищение)» по 15 лет.
«Два года. Это ужасно!», — говорила жена.
«Теория относительности», — говорил Эйнштейн.
8 мая 1971 года я был доставлен в Бутырки, уже в третий раз. Опять все то же: анкеты, клетушки (так называемый бокс), осмотры, бани, подъем на какой-то этаж, камеры.
На этот раз меня посадили с двумя хулиганами: одним убийцей и одним расхитителем. Камера небольшая — на четырех человек Я пятый. На полу.
Компания так себе. Самый симпатичный паренек — из Белоруссии. Попал за драку в пивной. С этим мы быстро подружились. Он пускал меня днем отдыхать на свою койку. Остальные (молодые парни) спокойно лежали на своих ложах в то время, как старик подремывал на стуле.
Убийца — московский парень, сын рабочего. Мать умерла. За месяц перед этим была драка на коммунальной кухне. Его сильно отлупили. Пришел в тюрьму весь в синяках. На другой день выходит на кухню с топором, затачивает его, говорит соседке: «Вот теперь я этим топором буду всех бить, кто меня тронет».
Соседка (жена того, кто избил парнишку) раскудахталась: «Ах ты, такой-сякой, мальчишка, молокосос!» А он хвать ее отточенным топором по голове. Она тут же грохнулась на пол с раскроенным черепом. Постоял над ней. Подумал. Пошел в милицию (там его знали).
Говорит: «Сейчас я убил соседку».
Те всполошились: «Вася! Что ты!»
«Нет, убил».
Пошли, взглянули. Действительно убил.
Сидел в нашей камере. Весьма противный парень. Я видел его потом в другой тюрьме, на Красной Пресне. Получил он десять лет.
Третий был инженер, сын крупного провинциального работника. То, в чем его обвинили, с точки зрения общечеловеческой этики — не преступление. Он со своим товарищем открыли нелегальное проектное бюро. Принимали от государственных предприятий заказы на чертежи. В конце концов попались. Но хотя и не преступник, он самый мерзкий из всех. Ухватки блатного (вечную матерщину) соединял с необыкновенной «лояльностью». Советские верноподданнические дифирамбы перемежались у него с монологами типичного блатаря. Слушая его, думал: «От советского человека до блатного один шаг».
Мой майский арест имел одну специфическую особенность. Уже на пороге Бутырок, между боксом и обычными омовениями, мне было вручено обвинительное заключение.
Почему такая спешка? На другой день — воскресенье (да еще День победы), а обвинительное заключение должно быть вручено за три дня до суда. Суд должен был состояться 12 мая — в среду. Значит, обвинительное заключение должно быть вручено минимум 9 мая. Но 9 мая — выходной. И вот бедненькой Акимовой пришлось поторопиться. Ведь до суда оставалось три дня. Испортил я субботний день дамочке. Из Марьиной Рощи, где она живет, пришлось ехать в Бутырки.
В этот день я видел ее в последний раз. Знакомы были с ней уже два года. Встречались в самых различных местах. В моей квартире (во время обыска), в этих же самых Бутырках, в Сочи, в Армавире, снова в Москве (у нее в прокуратуре) и опять в Бутырках.
За это время у нас установились своеобразные отношения: никаких ответов по существу с моей стороны; да она ничего и не спрашивала. Но любезно «кавалерский» тон с моей стороны, чуть-чуть игривый дамский (немного шутливый) тон — с ее стороны. На этот раз она была озабочена: быстро вручив мне «обвинилку», наскоро со мной простилась. «Обвинилка» была все та же. Только прибавился еще один пункт: «обманные действия, рассчитанные на распространение суеверий в массах». (Основание — моя статья о колодце, ископанном преп. Сергием в Троице-Сергиевой Лавре.)
Итак, в среду должен быть суд. Об этом меня официально предупредили во вторник вечером. В среду вывели из камеры. «Воронок». Закрыт в железном ящике. Длинный-длинный путь через всю Москву. В Люблино. Страшная тряска. Боли в области сердца. Моментами, казалось, обморок. Наконец, приехали. Выполз еле живой. Ввели в помещение суда. Небольшой зал. На председательском месте — Богданов, председатель областного суда. Считается одним из лучших специалистов по политическим процессам. Умное лицо. Манеры американского судьи. Шуточки. Этакой культуртрегер, либерал. Как говорит Горбаневская: «Хочет показать, что тоже человек».
Оглядываю зал. В первом ряду мачеха. Киваю. Отчетливо вижу, как морщится в тот момент, когда я занимаю место подсудимого.
Адвокат отсутствует. Это была лишь маленькая репетиция. Судья объявляет, что адвокат Залесский отсутствует по болезни. Я предъявляю ходатайство о том, чтобы суд был отложен. Богданов (с готовностью): «Вот, вот. Я к этому и веду». Суд откладывается на неделю, до следующей среды.
Снова тряский путь. Приезжаю в Бутырки, как в дом родной. Странная все-таки эта человеческая особенность: привычка к месту.
И наконец девятнадцатое. Знаменательный день. Снова тот же путь. В Люблино. В одном воронке со мной едет в другом отделении мой ученик Вячеслав Кокорев, свидетель по моему делу, ранее осужденный по паршивому делу (попытка ограбления вместе с товарищем по пьяной лавочке).
Интересна реакция конвоя. Когда везли меня, верно, думали, что я страшный преступник — убийца, бандит (ведь везут под особо усиленным конвоем). Когда узнали, что политический, стали страшно любезны, предупредительны. В суде меня караулили двое молодых парней. Когда их сменяли во время перерыва, один из них сказал: «Да не хочется уходить. Так интересно». А обернувшись ко мне, прибавил: «А в Елоховском соборе хорошо поют. Я иногда захожу. Ну, я думаю, все будет в порядке. Желаю поскорее выйти на волю». Другой также прибавил: «Всего хорошего!»
Ненависть к нам не удается возбудить даже в конвоирах. На этот раз настоящий суд.
Надо сказать, что Сталин поступил умно, отменив какие бы то ни было суды. Суд, какой бы он ни был, все-таки вызывает некоторую волну. Дает возможность подсудимому себя проявить.
Помню свое первое впечатление в этот второй раз. Оглядел зал. В зале сидели около сотни мужчин, пожилых, в добротных, дорогих костюмах. А лица… Невольно вспомнил Некрасова:
На всех откромленных, сытых физиономиях было написано, что это работники КГБ.
И вдруг… человеческое лицо. Милое. Усталое. Я стал всматриваться: скромный костюм. Как-то очень плохо и небрежно зашнурованые ботинки. Лицо тонкое. Вдумчивое. Мелькнуло в голове: «Что это? Неужели кагебист? Нет! Тогда кто же? Свидетель? Свидетель не может находиться в зале».
И вдруг озарение: это же Сахаров! Так я, впервые увидел Сахарова.
И начался суд. Хроника рассказывает об этом так.
Восьмого мая по отношению к Краснову, находящемуся под следствием на свободе, была изменена мера пресечения: он был взят под стражу.
19 мая 1971 года Московский горсуд помещении, Люблинского райсуда слушал деле по обвинению церковного писателя А. Э. Левитина-Краснова (ст. 1901-142, ч. 2 УК РСФСР). Судья — Богданов, прокурор — Бирюкова, защитник — А. А. Залесский.
Перед зданием суда собралась группа друзей и родственников А. Э. Краснова. В зал были допущены только мачеха — E. А. Левитина — и академик А. Д. Сахаров.
Обвинительное заключение содержало много цитат из произведений Краснова, на основании которых строилось обвинение в клевете на советский государственный и общественный строй и в том, что автор «подстрекал служителей Церкви нарушать закон об отделении Церкви от государства» (ст. 142 УК РСФСР). А. Э. Левитин-Краснов обвинялся также в том, что в 1968–1969 гг. он подписал ряд обращений и петиций, из которых особо были выделены Письмо Будапештскому совещанию компартий и Обращение в ООН в мае 1969 года.
Левитин-Краснов полностью не признал свою вину, утверждая, что доводы обвинения основаны на произвольном и неверном толковании отрывков его произведений. Он разъяснил, что в его работах содержится критика отдельных явлений, а не клевета на строй, что он высказывал свои действительные мнения, а не заведомо ложные измышления. Краснов сообщил суду, что некоторые цитаты, приведенные в обвинительном заключении в качестве примеров «антисоветской клеветы», — это тексты Священного Писания.
Свидетели: священники Г. Якунин, В. Борозданов, иеромонах Псково-Печерского монастыря о. Агафангел (Догадан), В. Лашкова, А. Берестов, Е. Кушев, В. Шавров, Л. Кушева и др. — показали что читали работы Краснова и не видят в них ничего клеветнического.
Прокурор Бирюкова, повторив обвинительное заключение, просила для Левитина-Краснова наказания — 3 года ИТЛ общего режима.
Адвокат А. А. Залесский, опровергнув пункт за пунктом все доводы обвинительного заключения, предоставил суду сделать вывод из его защитной речи.
В последнем слове А.Э Левитин-Краснов сказал:
«…Я верующий христианин. А задача христианства не только в том, чтобы ходить в церковь. Она заключается в воплощении заветов Христа в жизнь. Христос призывал защищать всех угнетенных. Поэтому я защищал права людей, будь то почаевские монахи, баптисты или крымские татары, а если когда-нибудь станут угнетать убежденных антирелигиозников, я стану защищать и их… Ни один здравомыслящий человек не считает, что критиковать отдельные положения законов, вносить поправки к ним — является преступлением. Это демократическое право каждого гражданина завоевано в трудной борьбе за свободу английской, французской, Октябрьской революциями… Я писал правду, одну правду. Все в моих произведениях основано на достоверных фактах и соответствует действительности… Я считаю, что данная речь прокурора является позором для советского суда…»
(Справка: в «Самиздате» распространено последнее слово Левитина-Краснова, содержащее некоторые фактические неточности.)
Суд в приговоре исключил из обвинения 3 эпизода (статью о почаевских монахах, о водосвятии, существующее в отрывках письмо в ТАСС), переквалифицировал обвинения со ст.142, ч.2 на ст.142, ч.1 и приговорил А. Э. Левитина (Краснова) по ст. 142 ч.1 к 1 году исправительно-трудовых работ по месту работы с вычетом 20 % зарплаты и по ст.1901 к 3 годам лагерей общего режима.
Об А. Э. Краснове-Левитине и его работах см. «Хронику» № 15,17,19.
Инициативная группа по защите прав человека в СССР обратилась в Комиссию прав человека ООН, к Папе Павлу VI и к Поместному Собору Русской Православной Церкви. В обращении Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов характеризуется как человек высокой морали, убежденный противник всякого рода насилия и политического экстремизма; его оружие — открытое слово, обращенное к совести. «Решение Московского горсуда невозможно рассматривать иначе, как еще один акт произвола властей в отношении инакомыслящих, в отношении верующих, в отношении борцов за права человека в нашей стране».
Обращение поддержали 30 человек.
Академик А. Д. Сахаров обратился к Председателю Верховного Совета СССР Подгорному с просьбой облегчить участь Краснова. «В статьях Левитина, инкриминированных ему судом, — пишет Сахаров, — фактически выражается естественная для верующего точка зрения о моральном и философском значении религии, высказываются мнения по актуальным внутрицерковным вопросам, а также обсуждаются с лояльных и демократических позиций проблемы свободы совести… Я присутствовал на суде и убежден в отсутствии нарушения закона во всех деяниях Левитина».
В Самиздате появилось открытое письмо Геннадия Смирновского (Москва) «Перед закрытыми вратами Фемиды» — репортаж с места суда над Левитиным-Красновым.
В июне, еще до утверждения приговора кассационной инстанции, Краснов был переведен из Бутырской в Краснопресненскую пересыльную тюрьму и зачислен в хозобслугу.
(Из «Хроники» № 20,1971, сс. 20–22, напечатана в спец. выпуске «Посева» № 9, октябрь 1971 г., сс. 32–33.)
Все изложенное здесь правильно. Однако нужны некоторые уточнения. Обвинительное заключение опровергал не мой адвокат, а я сам. Надо отдать справедливость, Богданов с самого начала предоставил мне слово и не прерывал меня, когда я в течение 20 минут опровергал пункт за пунктом все положения обвинительного заключения.
Некоторые обвинения были поистине курьезны: так, меня обвиняли в шарлатанских действиях по поводу того, что я в одной из своих статей защищал обычай брать воду в Лавре из колодца преподобного. Я риторически спрашивал, почему в таком случае не привлекают к ответственности все русское духовенство во главе с Патриаршим местоблюстителем митрополитом Пименом, которое именно сейчас, в этот самый час, во всех храмах на территории Советского Союза освящает воду (это был праздник Преполовения Пятидесятницы).
Обвинительное заключение было очень пространное (к сожалению, я его потерял при освобождении), и, как мне кажется, я оправдал давнюю характеристику моего отца насчет моих несомненных прирожденных юридических способностей.
Затем начался допрос свидетелей. Буду их перечислять в том порядке, как они названы «Хроникой».
Первым ввели отца Глеба, нашего Глебушку. Этот пытался меня защищать, ссылаясь на мой «социализм». Он сказал, что «Анатолий Эммануилович не только подчиняется власти, согласно заветам Апостола Павла, но и является приверженцем социализма».
Судья спросил: «В чем это выражается?»
Здесь мне представилась возможность сослаться на ряд моих статей. Но мысль говорить о социальных вопросах перед чекистами показалась мне настолько противной, что я, глядя на Глеба, отрицательно мотнул головой, и ни он, ни я не сказали об этом ни слова.
Затем ввели моего питомца, ныне священника отца Владимира Бороздинова, которого я давно не видел, так как был с ним некоторое время в ссоре. За это время он отпустил очень неудачную бороду. Поэтому я спросил довольно громко: «Володя! Что это у тебя за борода такая? Надо же ее подстричь сбоку». Это был единственный вопрос, который я задал свидетелю.
Отец Агафангел Догадин (иеромонах из Псково-Печерского монастыря, специально приехавший в Москву) дал также очень краткие и немногословные показания. Адвокат спросил его насчет святой воды, но запутался в определениях.
Богданов сказал: «Об это лучше спросит Левитин».
Я спросил: «Были ли вы сегодня, отец Агафангел, в Елоховском Соборе?»
«Да, был».
«Освящали ли там после ранней литургии воду согласно уставу?»
«Освящали».
Богданов, обращаясь к адвокату, наставительно заметил: «Пришлось передать вопрос вашему подзащитному».
В общем, все было очень респектабельно. Судья выглядел весьма «беспристрастно».
Все хорошо, если не знать одной частности: приговор, составленный КГБ, уже лежал в кармане судьи, и ему оставалось лишь разыгрывать роль.
Между тем представление продолжалось. Свидетели шли своим чередом. Наиболее колоритно было выступление Вадима. Этот, проходя мимо меня, обменялся со мной рукопожатием и поцеловался со мной.
На вопрос судьи, знает ли он обвиняемого, — ответил:
«Я имею счастье быть другом и братом Анатолия Эммануиловича».
Следующий вопрос: «Значит, судя по преамбуле, отношения у вас хорошие?»
Далее последовал вопрос, который представлял собой, скорее, панегирик в честь юбиляра, прерываемый вопросами Богданова.
Люда Кушева, как и Вадим, также сказала: «Анатолий Эммануилович является как бы моим отцом».
Все другие свидетели отвечали тоже как порядочные, честные люди.
Наместник Псково-Печерского монастыря Алипий, обливший меня в предварительных показаниях грязью, на суд не явился (струсил) и прислал врачебную справку о болезни.
Наконец слово было предоставлено прокурору Бирюковой. Странное впечатление произвела на меня эта дама.
Когда-то один из директоров школы, где я работал, покойная Татьяна Сергеевна Шибряева, сказала мне: «Зная вас, я уже давно перестала чему-либо удивляться, но все-таки иногда удивляюсь».
Я могу перефразировать это изречение: «Зная советские порядки, я уже давно перестал чему-либо удивляться, но все-таки иногда удивляюсь». Неужели нельзя было на процесс, о котором узнают за границей (в этом никто не сомневался), послать хоть сколько-нибудь грамотного человека в качестве обвинителя. Нет, прислали малограмотную бабу, которая даже шаблонных обвинений, взятых из антирелигиозного журнала, изложить как следует не сумела.
Мой адвокат, ныне покойный А. А. Залесский, также был не на высоте. В ряде пунктов он согласился с прокурором, признав наличие клеветы в одной из моих статей (чего он не имел права делать, поскольку я не признавал себя виновным решительно ни в чем). И даже не потребовал моего оправдания, а лишь просил учесть те доводы, которые он привел в своей защитительной речи.
Затем моя очень краткая речь, которая в основном правильно приводится в записи. Как мне говорил потом посетивший меня в тюрьме Залесский, прокурор была страшно обижена моей речью. Она говорила, что никто еще так против нее не выступал. «Чувствуется злой человек». Зато она сама доброта.
И наступил перерыв. Суд удалился на совещание.
Уже стемнело. Было 6 часов вечера. Начальник конвоя спросил меня, не голоден ли я. Я ответил что нет, хотя с 8 часов утра ничего не ел, а суд начался в 10 часов утра. В большой комнате воцарилось молчание. Все вышли. Проходя мимо меня после моей речи, Андрей Димитриевич показал мне большой палец: дескать, держал себя на «большой». Почувствовал, что экзамен выдержал.
Кроме конвоя, в зале оставалась прокурорша. Она шутила с конвоем. Попробовала заговорить и со мной. Когда кто-то из охраны открыл окно, сказала: «Вы простудите Левитина». Но я не откликнулся.
И вдруг вошел Андрей Димитриевич. Обращаясь к охране, он сказал: «Там ожидают его друзья. Разрешите им войти во время оглашения приговора».
Начальник охраны сказал: «Надо обратиться к председательствующему».
Андрей Димитриевич вышел.
Я сказал начальнику охраны: «Это академик Сахаров».
«Ах, это Сахаров», — протянул он с интересом.
Наконец двери открылись. Вновь вошли те, кто присутствовал при процессе. Всех моих друзей не пустили. Но те, кто присутствовал в качестве свидетелей, были здесь.
Уже было совсем темно. Меня окружала охрана со всех четырех сторон. В глубокой тишине судья читал приговор. Кто-то из наших девушек бросил мне цветок. Аплодировать приговору, как бывало на других процессах, переодетые чекисты не решились.
Через другой ход меня вывели из суда прямо в воронок, где на этот раз я был один. Кто-то из охранников, высунувшись, помахал рукой. Толпе моих друзей показалось, что это был я. Воронок тронулся.
«Совершишася!» — подумал я.
Затем Бутырки… Красная Пресня… Тюрьмы, тюрьмы, тюрьмы…
Глава десятая. Сычевка
Тюрьмы, тюрьмы, тюрьмы.
Сначала по-прежнему Бутырки. Здесь я встретил праздник Троицы. В огромной камере, наполненной московским хулиганьем, я молился о ниспослании Святого Духа.
И несмотря на все свое недостоинство, чувствовал Его в своем сердце. Я знал, что в этот день в Лавре, в патриарших покоях, открывается Собор русской православной Церкви, который должен избрать нового Патриарха. Я молился и о Соборе и о будущем Патриархе Пимене, хотя я отчетливо сознавал, что этот Собор, покорный Куроедову, представляет собой кощунственную пародию на Собор и будущий Патриарх — мнимый Патриарх, не избранный, а назначенный Куроедовым.
Наиболее близкая аналогия — это Игнатий, избранный патриархом по приказу Самозванца, которого впоследствии отвергла наша Церковь. Но хотя и отвергнутый и лишенный сана посмертно, все же в тот период, когда он стоял во главе церкви, от него не откалывались и не порывали с ним евхаристического общения, памятуя, что недостоинство Первосвятителя покрывается и восполняется верой Церкви, которая имеет Другого Первосвященника, Назаретского Плотника, Сына Божия Единородного.
А пока я молился, чтобы на нового Патриарха и на послушных ему епископов не пал грех хулы на Святого Духа.
Как писал Тютчев о Папе Пие IX: говоря о папской тиаре, он заканчивает стихотворение:
Видимо, нечто подобное думает и Патриарх Пимен. Недаром же он окружил себя такой охраной, как никогда и никакой другой Патриарх.
Затем, через несколько дней, опять переезд. Ночной переезд в тюрьму на Красную Пресню. Все то же. Воронок, выкрашенный в радужные цвета. Тюрьма ночью: сестры, врачи, блатные и, наконец, камера под утро. Камера, в которой буквально нечем дышать.
Утром ведут к корпусному. Здесь с интересом рассматривают мое дело. Корпусной, хороший парень, говорит: «Мы вас определим в хозвзвод». Действительно определяют.
Это местные аристократы. Просторная, большая камера. Публика приличная. Завмаг, попавший за какую-то фантастическую растрату (он был директором универмага), два бывших офицера, парень, попавший в тюрьму при демобилизации из армии за одну озорную мальчишескую проделку: спрятали… пулемет. Хороший парень, наполовину осетин, наполовину русский. Этот сразу подружился со мной.
Вообще настроение было хорошее. Читал. Разговаривал. Относились ребята ко мне хорошо. Каждый месяц свидание, передачи. В августе должна была рассматриваться моя кассационная жалоба. И последнее свидание перед отправкой на этап.
Жена, которая смотрела на меня и рыдала так, как рыдают по покойнике. Я говорил: «Лидочка! Но ведь я еще не умер». А она улыбалась своей милой детской улыбкой. И снова, и снова рыдала.
А я сидел и думал: «Милая девочка! За что она так меня любит? Ведь, честное слово, не за что!»
И наконец, этап. В Смоленскую область. Опять две тюрьмы: Смоленская и Вяземская. Все то же. И вот у цели: Сычевка. Это старинный, старинный русский городок. Он имеет свой герб. Привожу его здесь.
Сначала я был в бараке для «придурков». Потом перевели к блатным. Видимо, думали наказать. Чудаки! Среди блатных я как рыба в воде. Для администрации лагеря это была полная неожиданность. Как мне передавали, начальник режима (старый чекист) говорил обо мне на собрании заключенных (я никогда ни на какие собрания не ходил): «Даже Левитин, старый пес, вошел в семью блатных». Вообще все его выступления, говорят, начинались со слов: «Левитин, старый пес, говорит вам то-то и то-то, но…», и дальше начиналось опровержение «антисоветской клеветы».
У меня была своеобразная работа: главным «производством» в лагере было сбивание ящиков для водки (у начальства нет юмора: большая часть заключенных сидела по пьяной лавочке, и они же обслуживали производство алкоголя). Моя задача: я сидел на воздухе (амплитуда колебаний от 30 градусов мороза до 20 градусов тепла) и рубил «шинку» (окантовку ящика).
Так как с тех пор прошло уже 10 лет и многое потускнело в памяти, привожу мои сообщения, сделанные несколько лет назад, когда все пережитое было свежее в памяти.
«Вновь прибывшим часто приходится по 8–10 дней ночевать на полу, пока не освободится место. Однако несколько спасают размеры здания. Построенное еще при Екатерине II, здание имеет просторные, высокие камеры, поэтому особой духоты нет. Зато тюрьма на Матросской Тишине — настоящий ад. В крохотных камерах ютятся по 20–30 человек. Иной раз приходится по два метра на человека. Духота невероятная. В таких условиях люди проводят по 5–6 месяцев. Камеры кишат паразитами: блохами, клопами, иногда и вшами. Допроситься доктора невозможно: он ходит по камерам раз в 2–3 недели. Практически медицинская помощь оказывается лишь тяжелобольным. Надзиратели невероятно грубят: матерщина буквально не сходит у них с языка. За любое нарушение режима виновного выволакивают в коридор и избивают. В камерах атмосфера террора: хозяйничают блатные с садистскими наклонностями, избивают заключенных. В частности, существует обычай так называемой „прописки“: всякому вновь прибывшему человеку (примерно в возрасте до 40 лет, — стариков щадят) — „20 коцов“, т. е. 20 ударов сапогом. Администрация это все знает и не только не препятствует, но даже поощряет это. Начальник тюрьмы майор Иванов сам отличается необыкновенной грубостью.
Несколько лучше обстоит дело в тюрьме на Красной Пресне: там надзирательский состав более культурный и особых грубостей себе не позволяет. Однако санитарные условия нисколько не лучше. В крохотных камерах ютится бесконечное количество людей. Особенно страшную картину представляет собой тюрьма в летние месяцы, во время жары. Полуголые люди, облитые вонючим потом, с обалделыми глазами, находятся в полуобморочном состоянии. Дым от махорки еще более отравляет атмосферу. Это буквально ад.
Примерно такая же обстановка в тюрьме в Ростове-на-Дону и в Армавирской тюрьме, где я провел 10 месяцев в 1969–1970 гг. Там в летние месяцы люди все время падают в обмороки. Их выволакивают в коридор, обливают холодной водой и вновь втискивают в камеру.
В городе Сочи тюрьмы нет. Подследственные содержатся в Армавирской тюрьме, однако периодически их возят для допросов в Сочи, где они содержатся в камере предварительного заключения (КПЗ) при милиции. Здесь в камере размером 18–19 метров зачастую помещается по 15 человек, которые лежат, скорчившись на помосте. Вытянуть ноги не представляется возможным. Никаких прогулок не полагается. В углу стоит грязная параша: в таком положении люди находятся по 3–4 недели. Милиционеры бесстыдно обкрадывают арестантов. Когда им приносят передачи (тем, кто имеет в Сочи родственников), милиционеры половину присваивают себе. И все это творится в фешенебельном курорте, куда толпами стекаются иностранцы.
И наконец слегка коснусь обстановки в исправительно-трудовых лагерях и психиатрических больницах для заключенных.
С 1971 по 1973 год я содержался в лагере для уголовников (ст.1901 — клевета на советский общественно-политический строй — рассматривается как бытовая статья) в городе Сычевка Смоленской области (освободился 8 июня 1973 года) и могу подробно рассказать об этом лагере.
Все заключенные работают по 8 часов. Выходные дни фактически бывают лишь раз в три — четыре недели. Я состоял в бригаде, которая сколачивала ящики. Работа в любое время года (климат суровый: в зимнее время до 40° мороза при ветре) проходит в дощатом неотапливаемом сарае. Разводить костер категорически запрещается: опасаются пожара. Категорически запрещается также заходить греться в отапливаемые цеха.
Питание: утром — каша (5–6 ложек). В обед — суп из сушеной картошки, иногда щи. Второе: снова каша или картошка. Вечером — каша (5–6 ложек). Для здоровых молодых парней, занятых работой на свежем воздухе, такая норма означает постоянный голод.
Среди лагерных офицеров есть приличные люди, которые гуманно относятся к заключенным (таков майор Петров и старший лейтенант Иван Иванович — учитель по профессии, к сожалению, не помню его фамилии), — рад помянуть их добрым словом. Однако они практически бессильны. Тон задает начальник режима майор Микшаков — садист и грубиян. Он лично на вахте избивает заключенных. Кроме того, фактически он пытает людей, используя в качестве орудия пытки наручники. Наручники надеваются на кисти рук и завинчиваются так, что заключенный ощущает невероятную физическую боль. В таком положении заключенный остается около часа. Эти меры Микшаков применял особенно часто летом 1972 года, когда строилась новая каменная ограда вокруг лагеря и „план горел“. Микшаков вызывал на вахту бригадиров и в порядке „подбадривания“ применял этот метод. Об этом он сам неоднократно рассказывал перед строем заключенных на разводе. Обычная его фраза: „Надену я на тебя наручники и повернусь к тебе задом, — поплачешь!“ Надзиратели усиленно копировали своего начальника. При этом надо сказать, что Микшаков еще не самый худший из работников ГУЛага. У него хорошее качество: он не трус и не формалист. Он не любит людям портить жизнь и обычно подписывает заключенным по выходе из лагеря хорошие характеристики. Тогда как другие работники ГУЛага, перестраховываясь, дают людям плохие характеристики, из-за чего они попадают под особый надзор милиции (иначе говоря, получают ссылку).
Медицинское обслуживание в лагере фактически отсутствует. Имеется амбулатория, при которой — каморка с двумя койками (число заключенных колеблется от 700 до 1300). Главный врач Василий Иванович Ермаков — грубый, абсолютно невежественный человек — цинично заявляет, что на преступников он не желает тратить ценные медикаменты.
28 августа 1972 года я наступил на бревно с ржавым гвоздем. Острие ржавого гвоздя прорвало пеньковую подошву лагерного сапога и глубоко вонзилось в тело. Я попросил сделать противостолбнячную прививку. Ермаков сделать ее отказался, заявив, что это дело сестры. Медицинская сестра пришла лишь через два дня и сделала мне прививку тогда, когда в этом уже не было смысла.
Кроме того, хочу указать на недопустимость того, что лиц, осужденных по ст. 1901 (политических заключенных, большей частью интеллигентов), помещают вместе с уголовниками. Я от этого нисколько не страдал и не могу пожаловаться на плохое отношение ко мне товарищей по узам: наоборот, они относились ко мне с такой любовью, которой я не заслуживаю. Но не всегда так бывает. Например, кандидат математических наук Бурмистрович (участник Демократического движения), будучи в лагере, подвергался со стороны уголовников гнусным издевательствам и даже побоям на почве антисемитизма. Так было и во многих других случаях.
Рядом с Сычевским лагерем находится психиатрическая больница для заключенных. Сам я там не был, но порядки в этой больнице мне хорошо известны, так как около 200 наших ребят работали в качестве санитаров в больнице и не только подробно рассказывали мне о тамошних порядках, но и часто передавали мне письма от заключенных больных, а им передавали мои письма.
Больница располагается в помещении бывшей каторжной тюрьмы, построенной при Екатерине II. Характерно, что во время немецкой оккупации (в период 1942–1944 гг.) там также находилась каторжная тюрьма. В больнице имеется 14 отделений, и там находится постоянно около 1500 больных, которые поступают сюда из различных тюрем и лагерей. Самые ужасные отделения бессрочников: 7-е и 14-е, где находятся в основном люди, попавшие сюда за свои религиозные и политические убеждения. В частности, там уже в течение трех лет содержится молодой писатель, близкий к демократическим кругам, Юрий Белов, рассказы которого печатались в издающемся за рубежом журнале „Грани“. Он поступил сюда в мае 1972 года из Владимирской тюрьмы.
В 7-м и 14-м отделениях лежат по 12–15 человек в палате. На всех приходится одна пара тапочек. Больные целыми днями вынуждены лежать в кроватях. Книг им не выдают, и радио в палате не проведено. Выйти в туалет — целая проблема, так как сопровождать больного должен санитар, а санитар слишком „занят“. Больные часами упрашивают вывести их на „оправку“, а в ответ часто получают оплеухи. Избиение больных — самое обычное дело, так как в санитары берут уголовников с садистскими наклонностями. Привожу реплики трех санитаров, которые я сам слышал.
Парень 24 лет с мутными глазами: „Хорошо работать в больнице: всегда есть кому морду набить“. — „Зачем же бить?“ — „А так, скучно. Стоишь целый день в коридоре. Смотришь, идет дурак (так обычно называют больных санитары), — хвать ему по морде“.
Другой санитар — здоровый мужчина 30 лет, атлетического вида: „У меня сегодня руки болят. Дурака одного лупил“.
Санитар Иван Федорович, 40 лет, сейчас проживает в Москве. „Пришел врач, говорит: пол грязный. Я сейчас первого попавшегося дурака — хвать по шее: пол мой“.
Он же: „Дураки просят папирос. Хочешь закурить — 20 щелбанов (щелчков) по носу или 20 горячих ремнем (ременной пряжкой)“. Об этой процедуре я слышал еще по крайней мере от 10 человек.
Администрация и врачи обо всем этом знают и решительно никаких мер не принимают. Впрочем, сами они действуют с еще большей жестокостью. За малейшее непослушание больных привязывают к койкам на целые сутки. (Это называется „держать на привязи“.) Часто в виде наказания впрыскивают больным лекарства, от которых они мучаются целыми сутками.
В ноябре 1971 года один психически больной человек совершил ночью побег из больницы. Когда его задержали на станции и привели обратно в больницу, его избивал лично главный врач Ламич вместе с тремя дюжими санитарами. После этого избиения беглец получил на всю жизнь тяжелую инвалидность.
Ни для кого не секрет, что в этой больнице содержатся совершенно здоровые люди. Не делает из этого секрета и оперуполномоченный МВД Леонтович, который заявил Юрию Белову: „Мы вас лечим не от болезни, а от убеждений. Причем ваш врач я. Пока вы не отречетесь от своего прошлого, вы отсюда не выйдете“.
Картина была бы неполной, если бы я не упомянул еще о том, как перевозят заключенных.
Лагерные этапы — это величайшее мучение. В купе вагона втискивают по 30–40 человек. Людям, изнемогающим от жажды, не дают пить. Когда же наконец охрана „смилостивится“, дают воду: одну кружку на пятерых, не считаясь с тем, что среди преступников (уголовников) много сифилитиков. По прибытии заталкивают в „воронок“ — бронированный грузовик, в котором заключенные стоят, плотно прижавшись друг к другу, и не могут шевельнуться. В Сочи и в Армавире к заключенным применяют унизительную процедуру: по выходе из вагона, в ожидании „воронка“, ставят всех на колени или на корточки, чтобы избежать побега.
Таковы факты, которых я сам был свидетелем.
Я не только не допустил никаких преувеличений, но не сказал многого по недостатку времени и из соображений пристойности, щадя стыдливость слушателей»
(«Международное слушание Сахарова в Копенгагене». Анатолий Левитин-Краснов. «Положение верующих в СССР», сс. 230–237.)
Писал я и о русской молодежи, которую мне пришлось встретить в лагере. Привожу снова выдержку:
«Итак, вакуум. Ни коммунизм, ни капитализм. Так что же?
У многих вакуум заполняется довольно просто. Старое русское средство: топить отчаяние в водке.
Водка — этот злой гений России — никогда еще не праздновала такого полного, такого совершенного триумфа, как в наши дни.
Но и здесь сказывается особенность русской души.
„Русский человек широк. Я бы сузил“, — говорит у Достоевского Митя Карамазов.
Широк русский парень и в пьянке. И в пьяном виде — великодушные порывы. И в то же время — пьяное безобразие.
Митя Карамазов живет в каждом русском парне. А Митя Карамазов в советской интерпретации — Сергей Есенин. Надежда Мандельштам в своих мемуарах пишет, что сейчас на первый план вышла четверка поэтов: Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Анна Ахматова и Марина Цветаева. Но это относится только к немногочисленному кружку эстетствующей молодежи. Где им всем четырем до Есенина! Где до Есенина официальному поэту Маяковскому! Сами Пушкин и Лермонтов — старые русские любимцы — должны уступить первое место Есенину. Заговорите с любым молодым шофером, слесарем, токарем, деревенским парнем. И он вам будет читать наизусть Есенина, — а если вы ему скажете какое-либо стихотворение Есенина, которого он не знает, он все бросит, обо всем на свете забудет и начнет списывать это стихотворение и заучивать его наизусть. Почему так? Да потому, что Есенин — он сам. Тот же пьяный разгул и пьяные слезы. Тот же великодушный порыв и то же безобразие. Если бы он мог писать стихи, написал бы то же самое.
Помню в лагере одного парня. Володя Трохимчук. Сидел за хулиганство. Хороший был парень. Писал стихи и повести и мне показывал. Ко мне относился, как к отцу родному. И со всяким готов был поделиться последним куском хлеба. Интересовался религией. Освобождался — имел самые широкие планы: писать, учиться, познакомиться со священниками. Вышел. Приехал в деревню. Пошел на могилу умершей без него бабушки. Обнял больного отца. А тут пришли ребята, выпили; кто-то предложил идти разбивать ларек с водкой. Как можно отказаться от такого заманчивого предложения? Пошли, разбили, — попался, все принял рыцарски на себя, — получил пять лет лагерей. На воле пробыл два дня, у себя дома — один день.
Таков русский парень. Русский парень без прикрас».
(СССР, «Демократические альтернативы». Анатолий Левитин-Краснов, «Письмо о русской молодежи», сс. 237–238.—Ахберг, 1976.)
Удивительно, как меня любили ребята, и я ведь не делал для этого решительно ничего.
Пять бригадиров сменились в нашей бригаде. И каждый, сдавая бригаду, давал инструкцию: «Мануйлыча не обижать». И когда меня в конце срока взяли на этап, я нашел в карманах пайки хлеба. А блатным ребятам, которые шли вместе со мной, была дана инструкция: «Смотри, чтоб Мануйлыча не обижали».
Почему это? Не знаю.
Между тем шла лагерная жизнь. Как это ни кажется дико и странно, я ее люблю. Простая жизнь без всяких излишеств, строгие правила, мало отвлекающих моментов, — можно сосредоточиться на молитве и на размышлениях. Можно на досуге все обдумать.
А подумать было о чем. На воле происходило много интересного. И, между прочим, открылись двери для эмигрантов. Я стал получать письма от уезжающих. Уехали мои друзья Титовы. Получил от Елены Васильевны, впоследствии столь драматически окончившей свою жизнь в эмиграции, прощальное письмо. Получил прощальное письмо и от своей крестницы Юлии Вишневской.
И вдруг передо мной также встал призрак эмиграции, и чем дальше, тем он принимал все более и более ясные очертания.
С детства я привык изображать себя в виде парламента. Разные фракции, и между ними диалог.
Вот что говорили крайние правые — патриоты:
«Уехать! Покинуть родину? Друзей! Жену? Ведь она не поедет. Нельзя!»
Вот что говорил центр:
«Речь идет не о сентиментальных соображениях. Надо быть там, где полезнее. Жизнь покажет, что лучше и полезнее для дела».
И левые: «Надо идти в эмиграцию. Здесь ты уже сделал, что мог. Было время, когда о Церкви писал ты один. Сейчас появилось много людей, которые пишут о Церкви. И в дальнейшем их будет еще больше. Демократический самиздат тоже в тебе не нуждается. Беглых очерков, „подписантов“ и без тебя сколько угодно. Сейчас нужны серьезные исторические и теоретические работы. А здесь, в метаниях, между тюрьмами и этапами, между „привлечением за тунеядство“ и сочинениями „кандидаток“ для академических ребят и честолюбивых попов, ты решительно ничего не напишешь».
Этот аргумент был решающий. Я помню, как в осенний день 1972 года принял решение об эмиграции. В воздухе веяло весной. Светило солнце. Чуть-чуть подтаивал снег.
Я принял самое важное для меня в жизни решение. В ближайшее свидание я известил о своем решении жену. Спросил, поедет ли она со мной. Ответила: «Нет, нет, я должна умирать здесь».
Между тем КГБ и здесь не оставило меня в покое. В это время, летом 1972 года, из лагеря должен был освободиться некто Геннадий Снимщиков. Человек со странной судьбой. Как и я, наполовину еврей. Мать у него была еврейка, отец русский. Отец, кажется, погиб на войне. Мать, по его словам, убили бандиты в Ташкенте во время эвакуации.
Он работал в Управлении по экспорту (в Министерстве внешней торговли). Попался, видимо, за взятки, которые брал с иностранных дельцов. Летом 1972 года должен был выходить на волю. Не было у него ничего: даже приличной пары брюк. С женой, от которой у него якобы был сын, он в разводе.
Когда говоришь о нем, все время приходится добавлять слово «якобы», потому что это отъявленный лжец: врет он буквально на каждом шагу, — отличить правду от лжи у этого человека немыслимо. Но тем не менее положение у него ужасное. Негде человеку голову приклонить.
Пожалел его. Дал ему на руки записку жене: «Помоги этому человеку. Дай ему рублей 15 и приюти на 2–3 дня».
Но моя жена и ее сестра, как и их племянник Глеб Якунин, — люди особенные. Жил он у них полгода. Одели они его с иголочки. Как правильно говорил кому-то «кум» (опер, который был, конечно, в курсе моей переписки с женой): «Другая бы жена кочергой прогнала». (Иногда и устами «кумовьев» говорит истина.)
Но вот однажды приходит Снимщиков и возвещает, что он был задержан КГБ и ему предложили поехать ко мне и «заключить со мной, так сказать, исторический компромисс»: я должен подать заявление об отказе от всякой деятельности, а меня освободят досрочно. Как раз в это время вышел на волю, приняв такое предложение, Илья Габай. Жена, услышав об этом, воскликнула: «Нет, нет, сначала поеду к нему я».
Это было 20 декабря 1972 года. В этот день не подвезли материала (дерева для ящиков), поэтому мы на кухне чистили картошку. И вдруг сенсационное сообщение. Ко мне приехала жена. (Вне всякой очереди.) И дают ей со мной суточное свидание. Иду. Когда мы остались наедине, жена говорит: «Я приехала к тебе от них. Хочешь ли освободиться к Новому году?»
Я: «Как это?»
И она мне подробно рассказала о Геннадии Снимщикове и о его предложении.
Не желая портить этих немногих часов, которые нам с женой представилась возможность провести вместе, я сказал: «Я обо всем напишу тебе в Москву после твоего отъезда». И начал говорить на другие темы. На другой день я написал следующее письмо:
Дорогая Лидочка!
Я обдумал все, о чем мы говорили. Отвечаю по пунктам:
1. Сидеть я буду до конца срока.
2. Никому никаких заявлений подавать не буду.
3. Геннадию скажи, чтобы он думал о своих делах и в чужие дела не вмешивался.
4. Предложи ему немедленно покинуть наш дом. Я ведь просил тебя приютить его на два-три дня. Делать ему у нас нечего.
Твой Толя.
Сычевка, 21.12.1972 г.
Письмо, видимо, внимательно изучалось соответствующими органами. До жены оно дошло лишь через месяц. А Снимщиков однажды говорил жене: «Ведь Анатолий Эммануилович вам писал, чтобы вы меня выгнали». (Письмо, стало быть, стало ему известно.)
Снимщиков постоянно заходил к моим и пытался их шантажировать. О том, чтобы отдавать долг, даже не думал, хотя дела его к этому времени поправились и деньги у него были.
Однажды Люда Кушева хотела потребовать, чтобы он отдал долг моим и привлекла для этого дела одного из наших ребят, славящегося не только громкой фамилией Каплан, но и очень крепкими кулаками (сейчас он в Америке). Когда Каплан стал наседать на жулика, тот было струсил и обещал отдать деньги, но мои (жена и ее сестра) сразу пожалели беднягу, и так он и не отдал им ни копейки.
Как-то раз пришел Генка и тогда, когда я уже жил в Москве. К счастью, ни жены, ни свояченицы дома не было. Я вышел к нему в сопровождении всех квартирных жильцов на лестничную площадку. Во мне проснулся старый озорник: «Зачем вы пришли? Вон отсюда, мерзавец!» И я обратился к соседскому парню, недавно пришедшему из армии: «Спусти-ка его с лестницы!»
Больше Генка у моих не появлялся.
Как жаль, что мягкий, скромный, вежливый Илья Габай не мог так говорить. Может быть, он был бы жив до сих пор.
Было у меня в это время несколько столкновений с начальством и на религиозной почве.
Однако мой рассказ о начальнике тюрьмы на Матросской Тишине, сорвавшем с меня крест, рассказ, который был напечатан в «Гранях» за границей, возымел действие. После моего свидания с женой, когда полагается личный обыск, дежурный надзиратель — попался как раз на редкость сволочной тип — мне сказал: «Снимайте крест». Я ответил: «Нет. Ни в коем случае». Он ответил: «Его не полагается носить в зоне».
Я: «Конституция предоставляет право на отправление религиозного культа».
Он: «Это на воле, а не в лагере».
Я: «А почему же тогда висят объявления о праве на труд?»
Он пошел за Микшаковым. Грозный начальник режима оказался, однако, умнее своего подчиненного: «Пусть носит».
«Но крест у всех на виду. Это же религиозная пропаганда».
«Ну, он сделает бечевку, на которой крест, подлиннее».
Таким образом, из этого спора я вышел победителем.
Другой раз во время шмона у меня отобрали маленькое Евангелие. Иван Иванович (по профессии учитель) — командир корпуса — меня вызвал. «Это же не полагается иметь в лагере». Опять тот же спор. К вечеру меня вызвали на вахту. Там собрался весь командный состав во главе с опером и начальником режима. Стали меня спрашивать о Евангелии. Я отвечал так же, как и раньше. После этого Микшаков, щеголяя эрудицией, спросил:
«А есть там Евангелие от Луки?» В ответ я прочел краткую лекцию по экзегетике — науке о Священном Писании. Тут пустился в рассуждение оперуполномоченный, который рассказал, что у родителей его жены, к которым он ездил в гости, весь угол увешан иконами. Через несколько дней Иван Иванович мне торжественно вернул мое Евангелие. После этого никто меня уже по этому вопросу не беспокоил.
Однажды мой приятель — дневальный переплетал мою книжечку, так как переплет растрепался. У него спросил нарядчик: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Это для Мануйлыча». Тот прошел мимо.
Все эти эпизоды очень характерны: они показывают, что антирелигиозная идеология глубоко не проникла, не проникла глубоко и человеконенавистническая идеология коммунизма.
Русские люди так и остались русскими людьми, простыми, хорошими, добрыми, и, когда их не натравливают, всегда остаются людьми.
И наконец в марте, на масленицу, неожиданно меня вызвали на этап. Опять все, как было два года назад. Поездка в Вязьму. Остановка в местной тюрьме. Путь в Москву.
Москва. Хороший полувесенний день, какие бывают на первой неделе Великого поста. (Их очень любил и очень хорошо о них пишет в одном из своих писем Н. В. Гоголь.)
Поездка на воронке. Везут на Красную Пресню. Выгрузили двух человек. Значит в Бутырки. Нет. Выгрузили несколько человек. Меня не вызывают. Я морщусь: Матросская Тишина. Противная тюрьма. Опять нет. Остаюсь в воронке один. Стало быть, Лефортово.
Так и есть. Меня высаживают здесь. Это тюрьма особая, политическая. Комфортабельная. Я в единственном числе. Никаких надзирателей, хамья, матерящихся баб. Чистота. Порядок. Впечатление больницы. Тюремные процедуры. Душ. Ведут наверх. В камере четверо. Проворовавшиеся хозяйственники. Сюда сажают таких, у которых миллионные растраты. Действительно, кажется, люди, связанные с золотом. Со мной очень любезны. Подают обед. Я говорю одному из моих новых товарищей, что сейчас, в Великом посту, я не ем ничего мясного. Он говорит об этом раздатчице, хорошей, простой русской бабе. Она положила мне каши до верха. И так было весь Великий пост уже в другой камере. А на Пасху дала мне первый раз мясца и сказала: «Ну вот, теперь вы можете есть».
Словом, прекрасная, прекрасная тюрьма. Всем, кто здесь сидит, дают не меньше 15 лет. А во дворе башня с высокой трубой. Здесь сжигают трупы тех, кого расстреливают в подвалах.
Как тут не умилиться! Прекрасная, прекрасная тюрьма!
Я здесь сидел 2 месяца. Приехал сюда в качестве свидетеля по делу Якира — Красина. Одновременно со мной привезли из лагеря и Буковского.
Вечером меня перевели в другую камеру. Здесь сидели мы вдвоем. Вместе со мной молодой симпатичный русский парень с громкой фамилией: Саврасов. Я запомнил его по созвучию с художником, к которому он, разумеется, никакого отношения не имел.
Витя Саврасов — колоритный тип, — очень характерный, московский. Из интеллигентной семьи, но образования не получил. Отца убили на фронте. Мать также рано умерла. Окончив семилетку, сразу пошел по воровской линии. С 16 лет по тюрьмам и лагерям. Среди московской шпаны.
Маленький эпизод из его рассказов: как-то ночью около чьего-то подъезда нападает на него какой-то парень, начинается драка в темноте. Наконец, после драки Витька спрашивает: «Что ты с меня имеешь, змей?» (великолепный образчик блатного языка, где ввиду инфляции ругательских слов самым ужасным оскорблением являются выражения «змей», «козел» и т. д.). Ответ неожиданный: «Давай сыграем в карты».
«От этого я никогда не отказываюсь. Долг в карты — долг чести». (Где-то нахватались литературных выражений.) Проиграл другой парень. Заплатил. Кто он и почему дрался — так и осталось неизвестным.
Такие эпизоды почти ежедневно.
Но вот моего напарника осенила гениальная идея. Заняться спекуляцией золотом. На эту идею натолкнул один из его товарищей. У него знакомство на Колыме. И вот каждый месяц начинаются поездки на Колыму. Там за бесценок можно у старателей купить золотишко. Потом в Москве его сбывают через специалистов иностранцам. Но вот им пришла в голову мысль самим сбывать золото иностранцам. Тут же попались. Это уже серьезно: фарцовщики. Оба попали в Лефортово. Виктор стал моим товарищем по камере. Подружились. Когда сталкиваюсь с молодежью, во мне сразу пробуждается учитель. И я читал ему часами лекции о литературе, о христианстве, о политике.
Однажды гуляли с ним во дворике. Я рассказывал Вите содержание «Братьев Карамазовых». Увлекся. Стал говорить громко. Вдруг заметил, что из открытого окна меня внимательно слушает один из следователей (молодой капитан). Я осекся. Но он мне сделал знак продолжать. В лекции ничего политического не было, и к моему делу никакого отношения он не имел. Видимо, просто заинтересовался лекцией.
Между тем дело шло своим чередом. Со мной разговаривал и вел протоколы один из следователей в полковничьем чине, который, казалось, особенно в моих показаниях заинтересован не был. Да и речь шла в общем о деталях, которые не имели никакого особого значения.
Однажды (это было в первый день) в комнату вошел другой следователь, который, обратясь ко мне, сказал: «Анатолий Эммануилович! Привет вам от Виктора Красина».
— Спасибо.
— Он очень хочет вас видеть. Надеюсь, вы его увидите в ближайшие дни.
— Очень рад. Но его позиции я не сочувствую (мне уже было известно, что Якир и Красин капитулировали).
— Почему?
— Я не меняю своих убеждений с 15-ти лет. Каким был, таким и остался.
После паузы: — Я не согласен с вами. Если бы люди не меняли своих убеждений, то все Павлы оставались бы Савлами.
— Да, но почему же ваш Савл (или Павел) переменил свои убеждения только тогда, когда его посадили в тюрьму?
— Вы тонкий диалектик, Анатолий Эммануилович! Вы подменили проблему. Вместо фактов стали говорить о мотивах.
Очная ставка с Виктором так и не последовала. Однажды, когда следователь Виктора вошел вновь в комнату, я спросил:
— Ну, как же очная ставка?
Он сухо ответил:
— Пока я не считаю нужным делать ставку.
Видимо, понял, что во мне он не найдет сторонника позиции Виктора, а свидание с моим крестным сыном и давним товарищем, который сидел с ним в тюрьме еще за 23 года до этого, когда он был мальчиком, может плохо (с его точки зрения) подействовать на Красина.
Еще запомнилась мне Пасха в Лефортове. Рядом там церковь Петра и Павла. Слышал пасхальный благовест. Всю ночь не спал. Мысленно присутствовал (как всегда делал на Пасху в тюрьме и лагерях) на Светлой заутрене и литургии. Ходил по камере. Надзирательница меня не укладывала. Лишь в 4 часа утра сказала: «Хватит, ложитесь спать». Действительно, в это время богослужение уже окончилось. Но я не лег. Разбудил Витю Саврасова. Похристосовался с ним, и мы, сев за стол, разговелись. (Накануне была передача.) В тюремное окно пробивалось пасхальное утро. Все еще слышался звон. Последняя тюремная Пасха.
Вскоре после Пасхи вернулся в лагерь. До освобождения оставалось 10 дней. А пока что я вернулся. Прибыл с вяземским этапом поздно ночью. Обнялись с дневальным. Тут же улегся на койку, а утром уже резал шинку.
Между тем начальник режима и другие чины проходили мимо меня с каменными лицами. Инстинктивно почувствовал, что-то происходит. Через несколько дней к нам на производство пришел Кутузов, начальник КВЧ. Капитан. Человек довольно безобидный. К тому же собиравшийся уходить на пенсию. Я стоял в столярной мастерской у окна, задумавшись. Тронув меня за плечо, Кутузов тихо сказал: «Не грусти. Решено тебя освободить».
Только вечером я узнал, в чем дело. Оказывается, мне собирались дать второй срок (уже по 70-й статье) за агитацию в лагере. Микшаков подобрал свидетелей. И лишь накануне пришло распоряжение: дело прекратить, меня освободить.
Позже мне все стало понятно: как раз в это время судили в лагере ныне покойного Андрея Амальрика. Дело приняло масштабы мирового скандала. Об этом писали газеты всего мира. В этих условиях начальство решило не затевать еще одного лагерного дела.
7 июня был праздник Вознесения Господня. С детства я любил этот праздник. И так близок был моему сердцу возносящийся в видимом образе к Своему Отцу Господь. Мысленно я опять присутствовал на праздничной литургии. Последняя лагерная литургия.
А 8 июня меня разбудил наш корпусный командир: «Жена за вами уже приехала, а вы спите».
Встал. Обходную, «бегунок», подписал накануне. Расцеловался с ребятами (товарищами по бригаде). Молча прошел мимо придурков: нарядчика и коменданта (грешный человек, не любил я их). Прошел мимо Микшакова и других офицеров, которые стояли с каменными лицами. (С Иваном Ивановичем — симпатягой — я простился у него в канцелярии.)
И вышел на волю.
С детства я верю в мистику чисел. 8.6.1949 года я был арестован. Начался мой лагерный путь.
8.6.1973 года — через 24 года, после четырех арестов, я вышел на волю. Как будто окончен мой лагерный путь.
Впрочем, действительно ли окончен? Бог весть: «от сумы и от тюрьмы не зарекайся».
Особенно в наш век. Особенно человек с таким беспокойным характером, как я.
Глава одиннадцатая. Последний год
И наступил мой вольный год.
Последний, прощальный год.
То, что было потом, в эмиграции, вдали от Родины, — это не жизнь, это всего лишь продолжение жизни.
Меня встретила жена. Поцеловались. Быстро переоделся в привезенный ею новый костюм. Поехали сначала на станцию. Потом взяли автомобиль до Москвы.
Хорошее это ощущение, когда выходишь на волю. Все новое. Точно на свет только что народился.
Первые дни, как в угаре. Встреча с друзьями. Со всеми встретился через четыре дня. Люда Кушева справляла день рождения. И все, все тут присутствовали. Переходил из объятия в объятие. Точно новобрачный или юбиляр.
А потом наступили будни. Хлопоты с пропиской. Хождение по милициям. Сначала прописался в Александрове. Потом, зарегистрировав брак, в Москве, на улице Жуковского (я и раньше там фактически жил). В моей бывшей квартире (в Ново-Кузьминках) жила моя мачеха.
И целый ряд событий. Первое впечатление от этого года. Процесс Якира — Красина. Был вызван в качестве свидетеля. В Люблино. В то самое Люблино, где за два года перед этим судили меня.
Прихожу. Здание нового типа. Похоже на школу-новостройку. Уже подходя к зданию, заметил разницу с предыдущими судами. Никаких мальчиков и девочек. Никаких диссидентов. Всем уже давно было известно, что подсудимые «раскололись», полностью капитулировали. И сейчас будут «каяться».
Внизу, на первом этаже, замечаю, однако, Татьяну Сергеевну Ходорович, которую свидетелем не вызывали. Здороваемся. Говорю со свойственной мне грубостью: «Вы чего приперлись?»
Она: «Я не христианка, но сочувствую людям, даже если они сломались».
Поднимаюсь на второй этаж, где происходит суд. Проводят в комнату свидетелей. Здесь ожидают очереди Иван Рудаков — молодой человек с блондинистой бородой, имеющий некоторые знакомства в кругах Якира и Красина, — и другой молодой человек Вениамин (не помню фамилии), который был постоянным посетителем Якира, подписывал все петиции (запомнил его по его профессии: рабочий-крановщик). Про него было известно, что он дал ужасные показания на Якира. И на всех нас. Поэтому лишь издали киваю ему головой. У него вид дебютирующего актера перед премьерой. Взволнован. Видно, что про себя повторяет роль. Нервно ходит по комнате.
Любезно здороваюсь с Иваном. Начинаю с ним разговор на самые нейтральные темы. О театре или о чем-то еще.
Присутствующий здесь чекист делает нам замечание.
Я: «Мы же говорим не о деле». И, как ни в чем не бывало, продолжаю свою «козери» (светский разговор).
Наконец, вызывают меня. Суд. Обычная атмосфера. На скамье подсудимых «знакомые все лица»: Якир и Красин.
Меня спрашивают об имени-отчестве. Начинается мой допрос. Каюсь, забыл, о чем спрашивали. Но кажется, о чем-то несущественном. Помню свои ответы. Говоря о своем знакомстве с Якиром и Красиным, упомянул о том, что я являюсь церковным писателем. Говорил о своем знакомстве с ними. О том, что бывал довольно часто в их домах. Никаких криминальных разговоров с ними не вел. Ни о каких криминальных связях не знаю.
После меня должен был давать показания «крановщик». Этот до того разволновался, что слова не мог выговорить. Судья сказал: «Соберитесь с мыслями. Напрягите всю свою волю». И объявил перерыв.
Что касается меня, то я держался со свойственной мне развязностью и даже, оговорившись, обратился к суду со словом «Ребятенки» (лагерная шпана).
В перерыве увидел много солидных людей, которые с возмущением осуждали мое поведение (чекисты в штатском). До меня долетела реплика: «Церковный писатель? Лоботряс!»
Понял, что мне здесь делать нечего. Спустился вниз. Надел пальто. Вышел. Гулял по Люблину. Чудесная золотая русская осень. Разыскал дом, где когда-то в этой местности снимал дачу Достоевский. Вдыхал полной грудью московский осенний воздух. Хорошо!
А через два дня опять пришлось иметь дело с Якиром и Красиным. Инициативная группа защиты прав человека решила высказать мнение о поведении двух своих бывших членов. Собрались вновь на квартире Татьяны Сергеевны. Кажется, в последний раз. Ее дочь вышла замуж, и собираться стали в других местах.
На этот раз я представил свой проект, где со свойственной мне резкостью назвал Якира и Красина предателями и трусами. Против меня выступил Сергей Адамович Ковалев. Григорий Сергеевич Подъяпольский был на моей стороне. Ковалев спорил очень горячо. Он говорил, что мы не имеем права бросать в людей камень, находясь на воле, не зная, что они пережили, какими методами добились от них показаний. Наконец, споря со мной, сказал: «Ведь люди читали Евангелие и так жестоки и беспощадны». Тут я немного осекся. Впрочем, взглянув на часы, сказал, что мне пора на именины (отец Александр Мень был в этот день именинник — 12 сентября), и ушел.
Татьяна Сергеевна потом всю ночь писала наше общее заявление и, кажется, как-то согласовала противоположные точки зрения.
Вскоре, однако. Группа раскололась: Т. С. Ходорович, Т. Н. Великанова и С. А. Ковалев объединились, стали вести себя так, как будто нас с Г. С. Подъяпольским не существует. Они стали издавать информационный бюллетень. Публиковать какие-то заявления от своего имени, даже нас о них не извещая.
Однажды на квартире Григория Сергеевича у меня произошел резкий разговор с Татьяной Сергеевной. Я поставил вопрос со всей откровенностью: сказал, что фактически трое человек развалили Группу. Г-жа Ходорович отвечала отнюдь не с ангельской кротостью. Тут я увидел женщину, способную на очень и очень большую резкость и даже грубость.
Фактически с этого времени Инициативная группа прекратила свое существование в прежнем составе. А для меня это было существенным аргументом за мой отъезд в эмиграцию.
Приготовления к моему отъезду в эмиграцию начались уже осенью 1973 года.
В одну из своих поездок в Александров я встретился с Осиповым. Он мне предложил подписать какую-то петицию. Так себе. Петиция как петиция. Кажется, с протестом против ареста кого-то и где-то.
Через несколько дней Глеб, будучи у нас, спросил: «Что это вы подписывали? Вчера передавали по радио». Жена всплеснула руками: «Господи! Это какой-то одержимый!»
Вообще говоря, это был редкий случай, чтобы человек подписывал петицию через месяц после освобождения. Помню, как-то жена мне сказала: «Если не можешь жить более или менее спокойно, так уж лучше уезжай!»
Действительно, ей-то зачем мучиться. А что меня опять посадят, у меня не было ни минуты сомнения. И вот начались приготовления к эмиграции.
Через несколько дней после возвращения в Москву я позвонил по телефону Сахарову. Я был обязан сделать это: человек был у меня на процессе, обратился потом от своего имени в Президиум Верховного совета с просьбой о моем освобождении. И вообще великий русский гуманист. Я считал за честь быть с ним знакомым.
Был у него в сентябре. Телефон. Андрей Димитриевич мне сказал: «Это Чалидзе. Хочет с вами говорить». Чалидзе в это время уже жил в Америке.
Начался разговор с Чалидзе. Он поздравил меня с освобождением. И тут я впервые заговорил об эмиграции. Я попросил его связаться с отцом Александром Киселевым и попросить его устроить мне вызов в Америку. Через некоторое время я получил известие (уж не помню, от кого), что отец Александр — политическая фигура, поэтому удобнее, если такой вызов мне пришлет архиепископ Иоанн Шаховской.
Действительно, через некоторое время я получил вызов от владыки для прочтения курса лекций по истории русской Церкви. Собрал все справки и документы. Сдал их в ОВИР (отдел виз и разрешений для поездки за границу). В Колпачном ряду. Ответ через три месяца. Отказ: «Пускай вас посылает Патриархия». Известил об этом владыку, с которым в это время у меня установился контакт по телефону.
Получаю другой вызов, на этот раз от Утрехтского университета. Опять отказ.
И наконец, через своего крестника Кушева, который в начале 1974 года вместе со своей семьей уехал за границу, сразу два вызова в Израиль. Это нечто более реальное. Снова подал заявление в ОВИР. Трепка нервов необычайная. И здесь вплетается в эту прозаическую историю одновременно смешной и трогательный эпизод. Как будто из святочных рассказов Диккенса.
Совсем по Диккенсу
«То было раннею весной», как поется в романсе. С большим, желтой кожи портфелем, в котором находились вызов в Израиль, заполненная анкета с двумя фотокарточками, все документы, относящиеся к вызову, и вдобавок книжка, только что выпущенная издательством «Посев», — моя книга «Строматы», я шел все в тот же злополучный Колпачный ряд, в ОВИР.
Там мне сказали, что документы надо подавать в особый отдел в райсовете. Побывал и там. Мне сказали, что надо прийти во вторник.
В прекрасном настроении, с моим прекрасным портфелем я перехожу через дорогу в мой «придворный» ресторан — в «Рыбку» — ресторан, расписанный каким-то художником, изобразившим морское дно (это на Маросейке — улице Чернышевского).
Позавтракав, иду в не менее прекрасном настроении домой. И лишь подходя к дому, хлопаю себя по лбу: в кафе забыл портфель. Возвращаюсь уже не в столь прекрасном настроении. Портфеля и след простыл. Таким образом, исчезли все документы, связанные с отъездом за границу, книжка, изданная во Франкфурте, и т. д.
Что делать? Разыскивать портфель нельзя — надо же будет сказать, что было в портфеле (иметь книгу, изданную антисоветским издательством, — это уже криминал).
Подавать опять заявление о выезде? Нет вызова. А дожидаться нового вызова — пройдут месяцы.
Безнадежность. Остается одно лишь средство. Молиться! На другой день я к нему прибег.
И вдруг телефон. Подхожу.
— Можно попросить гражданина Левитина?
— Я у телефона.
— Вы, кажется, что-то потеряли.
— Да, потерял портфель с документами.
— Все содержимое портфеля у меня. Назначьте свидание, где мы можем встретиться.
— Где вы живете?
— На улице Чернышевского. Можете ли вы быть на углу около кондитерской сегодня в 12 часов?
— Пожалуйста.
Я был в условленном месте. Небольшого роста пожилая женщина вручила мне все мои документы. Оказывается, дело было так.
Какой-то забулдыга взял портфель. Все документы выкинул на помойку. На помойке их нашел другой пьянчужка, сосед этой женщины. И отнес их ей. В коммунальной кухне стали их рассматривать. Кто-то посоветовал: «Надо отнести в милицию». Но женщина сказала «Нет». Прочла мою книжечку. Очевидно, почувствовала ко мне симпатию. Где меня разыскивать? В документах нашла мой адрес: ул. Жуковского, 7, кв. 13. Идти ко мне, однако, побоялась. Взяла телефонную книгу, стала разыскивать телефон. Телефон не на мое имя, но есть список коммунальных квартир.
И вот документы у меня в руках.
Предлагал женщине любые деньги. Хотел отблагодарить. Но денег она не взяла ни копейки. Ни имени, ни адреса своего не назвала. Пожелала мне счастья. Ушла. Вот и не верь Диккенсу, утверждавшему, что есть на свете добрые люди.
Как говорил Достоевский: «Великий христианин Диккенс».
В тот же день я подал на этот раз свое последнее заявление в ОВИР.
Жизнь, между тем, шла своим чередом. В это время начались проповеди отца Димитрия Дудко.
Как приятно было о нем писать полгода назад, как неприятно писать о нем теперь.
Полгода назад это имя ассоциировалось со светом, с мужеством, с Пасхой. Это имя сейчас ассоциируется с трусостью, эгоизмом, предательством.
Но «любят люди падение праведного и позор его», как говорил Достоевский.
Попробуем писать о нем объективно.
В ноябре 1973 года днем неожиданно зашел ко мне отец Димитрий. Сказал: «В субботу я думаю отвечать на вопросы, которые мне предложат прихожане в письменном виде. Напиши ты мне какой-либо вопрос».
Вопроса я не написал. Но говорили мы об этом совершенно новом в церковной жизни деле очень долго и основательно.
И наконец, пришла эта суббота. 8 декабря 1973 года.
В свое время я очень много писал об отце Димитрии. Еще больше о нем говорил. Я объехал три страны: Соединенные Штаты Америки, Италию и Германию, и всюду рассказывал об отце Димитрии. Не буду поэтому повторять то, что было написано.
Его беседы 1973–1974 гг. — это событие в истории Церкви. Тот, кто был тогда в этой маленькой церковке на Преображенском кладбище, никогда не забудет этих минут. Ни толп, наполняющих храм, ни молодежи, которая оттеснила на задний план обычных посетителей церкви — старичков и старушек. Ни людей, воспевавших церковные гимны с необыкновенным воодушевлением. Я невольно однажды сказал стоящему около меня мужичку: «Тише!»
И он ответил: «Хватит бояться. Будем петь во весь голос!»
И всю эту волну вызвал небольшого роста лысоватый батюшка, так бесстрашно, так искренно, так проникновенно говоривший о Боге, о Христе, о Правде.
И в это время появляются новые люди в моем окружении.
Религиозное возрождение. Религиозная молодежь. Я вовсе не собираюсь приписывать себе и Вадиму Шаврову особую роль в религиозном возрождении. Но, как сказал о. Николай Эшлиман однажды, в день своего рождения, по нашему адресу: «Выпьем за тех, кто вышел на ниву Христову раньше нас».
Действительно, мы были первые: в конце пятидесятых, в начале шестидесятых годов не было еще никого, кроме «служителей культа» и старушек, и наша молодежь в те времена были чисто кастовой. Дети священников, семинаристы, алтарники и т. д. Широким потоком потекла молодежь в Церковь только в семидесятые годы.
И кого только здесь не было: крещеные евреи, отрекшиеся от еврейства — русские патриоты, — крещеные евреи, не отрекшиеся от еврейства и соблюдавшие наряду с православными обрядами обряды еврейские, так называемая «Церковь святого Иакова». Сыновья коммунистов, принявшие крещение, к ужасу своих родителей, в 20 лет. Демократы, монархисты, консерваторы, либералы. Ребята, примкнувшие к нашему движению, и ребята, не хотевшие слышать ни о какой политике. Все было очень непереварено, очень свежо, очень непродуманно, но и очень молодо, очень искренно, очень честно. Молодежь, как писал Некрасов про одного из молодых борцов, умершего в ранней молодости:
И это главное.
Из этих ребят, находящихся сейчас в Москве (насколько я знаю, ни один не ушел от веры), скажу о двоих, поскольку имена их так широко известны, что повредить им нельзя.
Это прежде всего «сын мой возлюбленный» и ученик Александр Огородников. Сын провинциального коммуниста, в детстве способный мальчик, потом студент Московского, Свердловского университетов и Московского института кинематографии. Круглый отличник, отовсюду выгнанный за вольнодумство, он в юности был «хиппи» — отпустил длинные волосы, — особо опасный, с точки зрения властей, признак либерализма. Жил, как птица небесная, снимая комнату в одной московской квартире вместе с такой же, как он, молодежной богемой. Никогда он не имел приличной одежды (даже хорошей пары брюк).
У него была невеста, впоследствии его жена, от которой у него сын. Я любил его за его пламенную воодушевленность, за его готовность пойти на смерть за любое правое дело. Его не надо было уговаривать, его надо было останавливать и удерживать.
Это извечный тип русского юноши из тех, из каких выходили декабристы, народники, эсеры, герои всех войн и революций и которые пришли теперь в Церковь. Человек из простой семьи (провинциальных коммунистов), он обладает необыкновенной внутренней культурой. Он добр, чуток, мягок. Бывало, начнешь его пробирать. Всегда один ответ: «Анатолий Эммануилович, я исправлюсь».
В августе 1974 года, когда я поехал прощаться со своим родным Питером, он был там. Приехал сюда для связи с питерским религиозно-философским семинаром. Как-то мы отправились с ним в Новую Деревню на квартиру к Владимиру Порешу и его друзьям. Эти произвели на меня впечатление зрелых, образованных людей. Владимир собирался переводить с французского Мариотена.
Я смотрел на него с завистью. С хорошей завистью. Он хорошо знал языки, и ему было доступно многое из того, что мне (по моему невежеству) доступно не было. И я почувствовал: ученики перерастают учителя, «мне подобает малиться, а им расти».
От диссидентов эта религиозная молодежь отличалась внутренней культурой, полным отсутствием тех элементов хамства, которые свойственны современным людям.
Прощаясь, я говорил Александру: «Держись здесь, делай, что можешь, если начнет подступать вода к горлу, почувствуешь опасность, извести меня: я устрою тебе вызов и выезд за рубеж».
Он не последовал моему совету: он пошел в тюрьму и теперь томится в лагерях.
Тогда я выехал с полным сознанием, что я могу передать эстафету молодым друзьям. Я не ошибся.
Финал
Мне остается лишь рассказать о своем отъезде. После долгих хлопот все застыло. Все уперлось в паршивое советское чиновничество.
Сначала в райисполкоме от меня потребовали метрику.
— Но зачем же?
— Мне надо знать, что вы родились, — сказала, и при том без всякого юмора, вершительница судеб из райсовета Куйбышевского района Москвы. (Здесь улыбнулся даже милиционер, стоявший за ее стулом.)
— Но разве вы и так этого не видите?
— Не вижу.
Пошел в ОВИР. Там со мной согласились в том, что я действительно родился. Но потребовали характеристику с места работы. (Из столовой, где я числился полотером.)
После этого заведующий столовой тут же:
1. уволил меня с работы;
2. категорически отказался дать мне характеристику.
Заколдованный круг. Между тем из Цюриха мне звонит пастор Фосс, приглашает в Цюрих под свое крылышко. Из Штутгарта звонит мне архиепископ Сан-Францисский Иоанн.
А характеристику не дают. А ОВИР капризничает. Однажды шел я по улице с одним парнем. Хорошим русским парнем, который работал за меня в столовой.
— Если так, то я знаю, куда мне идти! — воскликнул я.
— Куда же?
— А вот куда! — сказал я. И — шасть на глазах у остолбеневшего от неожиданности парня в шикарный подъезд. На Лубянке. В КГБ.
Говорю постовому: — Мне надо экстренно видеть майора Шилкина (это того, кто ведает церковными делами).
Предъявляю паспорт. Постовой берет трубку. Звонит.
— Пожалуйста, пройдите.
Прохожу. Клуб. Эстрада. Впечатление провинциального учреждения. Появляется Шилкин. Старый знакомый. Первый раз я видел его в райисполкоме Ждановского района, куда меня вызывали для «собеседования», во второй раз у меня на квартире, где он вместе с Акимовой производил обыск.
— А, Анатолий Эммануилович, раньше за вами надо было кареты посылать, а теперь сами пришли.
— Да, теперь сам пришел.
— Пожалуйста!
Он вводит меня в кабинет, довольно непрезентабельный, — он небольшая фигура.
— Я решил выехать за границу. Имею вызов в Израиль. Но ОВИР и заведующий столовой, где я работал, озорничают: не дают мне ни характеристики, ни визы.
— Так вы решили нас покинуть? Жаль, жаль, очень жаль. Так пишите заявление начальству.
— Сейчас?
— А зачем откладывать?
И тут же с необыкновенной готовностью мне протягивается перо и бумага. (Видимо, страсть как хочется им от меня отделаться.)
Написал заявление на имя Шелепина. С жалобой на действия ОВИРа и заведующего столовой. Простились.
Через несколько дней телефонный звонок.
«Говорит Андрей Димитриевич».
«Какой Андрей Димитриевич? Сахаров?» — Голос не его. «Какой Андрей Димитриевич? Профессор?»
«Да нет. Это тот, с кем вы третьего дня говорили».
Только тут я сообразил, что Шилкин тоже Андрей Димитриевич.
«Зайдите в столовую. Я думаю, все будет в порядке».
Все и было в порядке. Характеристику мне, правда, на руки не дали (могу себе представить, что там было написано). Заведующий переслал ее в ОВИР.
Между тем проходило лето. Ездил в Киев. Посмотрел город, любимый отцом. Помолился в Пещерах.
Потом в Почаев. В Литву. И наконец вернулся в Москву. В последних числах августа жили мы с женой на даче в Пушкине. Под Москвой.
31 августа. Суббота. Были у всенощной. Возвращаемся домой. Новость. Звонит из Москвы сестра жены — была телеграмма из ОВИРа, что есть для меня виза в Израиль.
На другой день вместе с женой к обедне. Говорю другу-священнику: «Знаете вы, какая новость?»
«Какая может быть новость за ночь?»
«Получена виза для отъезда».
После литургии напутственный молебен.
И начались хлопоты. Последние хлопоты. И прощание.
Это было, как в угаре. Хождение по храмам. Сборы. И люди. Люди. Люди. Никак не думал, что у меня столько друзей. Побывало в общей сложности около 500 человек. Два приема. Один у меня. Другой у милейшей Надежды Яковлевны Иофе. Из Питера приехала сестра моей няни. Единственный человек, который помнит меня двенадцатилетним мальчиком.
И 20 сентября. Скорбное лицо жены. Ее сестры. Вадим Шавров. Самый близкий из друзей.
Отец Димитрий. Глеб Якунин. Другие. И вот я в самолете.
Россия, милая, неужели навсегда?!
Люцерн, 13 декабря 1980 г.
День Апостола Андрея Первозванного
С гор потоки. Завершение
Мне запомнился день 30 марта 1972 года. День Алексея — человека Божия. Как говорят в народе: «С гор потоки».
В этот день в Сычевке, в лагере, среди тающих снегов я принял решение эмигрировать и написать тетралогию. Мои воспоминания в четырех частях. Сейчас я это решение выполнил. Написаны все четыре части:
1. «Лихие годы» (1925–1941 гг.)
2. «Рук Твоих жар» (1941–1956 гг.)
3. «В поисках Нового Града»(1956–1965 гг.)
4. «Родной простор» (1965–1974 гг.)
Я рассказал обо всем пережитом. Я старался быть максимально беспристрастным, хотя многие из моих былых товарищей отнюдь не беспристрастны и уже давно моими товарищами не являются.
Какой вывод? С гор потоки!
В России нечто стронулось. Лед сломан. Тают снега. Все, о чем шла речь, лишь исторический пролог.
Месяц март. Первый весенний месяц. Что потом? Потом может быть только одно — революция. И ничего больше. Не надо обладать большой проницательностью, чтобы указать ее примерное время. Конец XX, начало XXI века.
Когда-то Ленин неплохо сформулировал то основное условие, которое характеризует революционную ситуацию: революция происходит тогда, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не хотят и не могут меняться. Именно такую ситуацию мы видим сейчас в России.
Помню, в Сычевке раз один парнишка воскликнул: «Хоть бы кто-нибудь сказал, что надо делать!»
Действительно, в этом весь вопрос. Кто может на него ответить в эмиграции? Решительно никто!
На него не могут ответить староверы, вздыхающие о царях. С этим покончено навсегда. И в России никто даже не понимает, что это такое (за исключением чудаков-эстетов и истериков).
На этот вопрос не могут ответить «солидные» специалисты (типа Федосеева), избравшие своей специальностью «апологию» капитализма, которого в России не знают и знать не хотят.
На этот вопрос даже и не пытаются ответить все наши «Гарибальди», смелые ребята, способные к героическим поступкам, но отнюдь не к трезвому анализу и пониманию происходящего. Из них, пожалуй, лишь Леонид Плющ, являясь единственным исключением, способен к реалистическому пониманию происходящего.
Именно поэтому все, о чем было рассказано в этих книгах, только пролог. Пролог к четвертой русской революции.
Каковы цели этой революции?
Демократия и социализм. Социализм и демократия. Конечно, очень разные понятия вкладываются в эти два слова. От маоистского разбоя до шведской конституции.
Но Россия, Украина, Белоруссия имеют свое понимание этих слов. Они понимают их так, как понимали их Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов, Шевченко, Коцюбинский, деятели Кирилло-Мефодиевского братства.
Как понимали эти слова Лавров и Михайловский, Вера Фигнер и Екатерина Брешко-Брешковская.
Как отсутствие крупных хозяев-угнетателей и как полная свобода совести, слова, убеждений! Это социализм не надуманный; это социализм жизненный.
Крестьянин должен иметь землю, чистильщик сапог должен чистить сапоги, торговец должен торговать. Все, кто работает, могут располагать плодами своего труда.
Но никто не должен пользоваться плодами чужого труда. Демократическое, свободное государство как хозяин производства, свободные рабочие коллективы, добровольные артели, трудящиеся единоличники — такова пестрая картина русской экономики в будущем.
Свободный союз национальностей — такова демографическая картина будущего Союза по-настоящему свободных республик.
Полная свобода для выражения мнений, объединений, партий, кроме изуверских, фашистских, тоталитаристских.
Каково мировоззрение будущей свободной социалистической России?
Марксистское атеистическое мировоззрение было испытано в России и себя не оправдало на практике: после своего торжества оно приводит к нравственной опустошенности, цинизму, отсутствию личного достоинства, — и все это является почвой для торжества деспотизма и тоталитаризма.
Поэтому будущая идеология (при обилии различных оттенков, свободных исканий во всех направлениях) представляется нам как религиозная идеология. Разумеется, здесь будут различные формации: от обновленного православия и обновленного католицизма, через обилие различных религиозных деноминации, до теософских, антропософских, восточных мистических течений (кроме, разумеется, безнравственных и изуверских — скопцы, хлысты, «церковь дьявола», — которые должны быть запрещены строжайшим образом).
Так настанет новая жизнь! Так закипит на Руси чудесная творческая работа. Так наступит на Руси весна.
И, предвидя это время, которого не суждено достигнуть ни пишущему эти строки, ни его ровесникам, ни даже, вероятно, младшим товарищам, хочется воскликнуть:
Россия, с Богом вперед! В борьбе обретешь ты право свое!
Люцерн, 1980 год