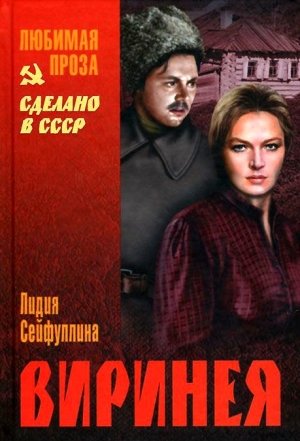
Четыре главы
Жизнь большая. Надо томы писать о ней. А кругом бурлит. Некогда долго писать и рассказывать. Лучше отрывки.
I
Кругом тьма. Одинокий фонарь светит только себе. Унылая перебранка собак. Тоскливо брести по ветхому тротуару. По дороге иногда проедет кто-нибудь. И снова безлюдье. Люди затаились в домах. Крепко закрыты ставни. Блеснет глазок в ставнях. Напомнит тюрьму. И станет тесно на широкой улице. Чудится за каждым углом кто-то враждебный.
До центра надо пройти еще две мертвые площади.
Шел большой, сутулый, смотрел исподлобья и думал:
«Проклятая страна. Застыла в молчанье. Ну, кричи. Кто отзовется? Чем проймешь? Привыкли. Видали всякую боль. Сюда скакала ее Россия. Убийца принес кандалы. Бродяга — звериную тоску о воле. Крестный путь за землей проторили переселенцы. Звенели цепями каторжники. Всех приняла и сдавила».
Из-за угла неожиданно вывернулся человек. Белая заячья шапка. Оба вздрогнули. Поспешно метнулись в разные стороны.
Усмехнулся нехотя и горько.
— Да-с… Человек человеку волк. — Волков, пожалуй, здесь меньше боятся…
Сквозь закрытый ставень прорвались звуки рояля. Наивная и робкая песенка. В тон ей задрожала струна человеческой тоски. Захотелось уюта, семьи. Старался думать о своей работе.
В ссылке начал писать о Сибири. Мелькали в мозгу цифры и факты. Но только мелькали. Побеждало другое. Нежданно ожившее юное волненье. Может, действует весна? Еще робкая чужестранка здесь. Но уже побеждает. Сдаются снега. И в воздухе томленье.
— У-у-у… — загудел автомобиль. Блеснули огни. Хмуро покосился городовой.
«Ага! Вот и центр. Уголок Европы. Магазины, городовые и люди на улице. Часовые у генерал-губернатора. Все, как в больших городах».
Невольно ускорил шаги. Увидал театр впереди. Кривил насмешливо губы.
«На кой черт иду? Воспоминания детства, изволите ли видеть».
А сердце билось неровно, и хотелось скорее дойти. Там, в театре, Анюта. Ее в детстве знал. Когда еще был маленьким. Играли вместе. Вспоминался большой двор. Ребятишки… Точно мать позвала: «Сыночек, Володенька».
Вот и театр.
Долго путался в темных коридорах. Нерешительно вошел в ложу. Внизу была мертвая черная пасть. Завтра оживет. Загорится огнями. Сегодня жизнь теплится только на сцене. Там слабый свет, но двигаются и говорят. Привычно обращают лица и слова к пустому провалу. Слова умирают в пустоте.
Опять путался в коридорах. Нашел маленькую дверцу и попал за кулисы.
Из открытых дверей актерского фойе донесся обрывок анекдота:
— Война, так для всех война.
Заглушенный похотливый смех. У кулисы стройная девушка шепталась с военным. Тоненькая, нежная, синеглазая. Лицо совсем юное, а у губ уже черточки. Неслышно на мягких подошвах подлетел маленький человек.
— Вам что угодно? Посторонним сюда нельзя.
— Я бы хотел увидеть Гремину.
— Гремину? Ага? Анна Николаевна!
Из фойе вышла тонкая, длинная. Шла стремительно, точно летела.
— Что? Начинать, Костя?
Говорит лениво низким, грубоватым голосом.
— Нет, спрашивают вас.
Повернула голову, на лицо упал свет. Губы — точно усмешка застыла в них. А черные глаза тоскуют и смотрят широко. Будто спрашивают.
Подошла и смотрит молча.
— Не узнаете меня? Володя… Жили на одном дворе.
— Володя!
Порывисто протянула руки. Он пожал их обе крепко. Глаза у нее заискрились, сразу стало милым лицо.
— Какими судьбами? Как нашли?
— Случайно… Видите ли…
— Подождите немного. Звонят. Надо кончать репетицию. Я скоро. Посидите здесь… Да, неожиданно… Привет из далекого!
Провела большой тонкой рукой по лицу. Вспомнил — так делала маленькая Анютка в волнении. Сразу стала родной. Улыбнулся невольно нежно. Смотрел, как играет. Двигается легко. С особой угловатой грацией. Запоминается. Не сливается с другими.
Засмотрелся на режиссера. Сидит огромной неподвижной глыбой. Лицо сонное, с отвисшей нижней губой. Дышит тяжело и жадно курит. Смотрит в одну точку из-под припухших век и думает о чем-то.
Высокий актер с длинным лицом цедит нехотя, сквозь зубы. Очевидно, премьер. Складки на брюках заглажены. В движениях подражает аристократам из романов. Годов не определить. Под глазами мешки. Лицо старчески дрябло. Фигура юная. Молоденький актер отвечает ему громко, с пафосом. Лицо от волнения в красных пятнах. Старается, поглядывая искоса на режиссера. Тот невозмутимо дымит папиросой, не замечает стараний.
Синеглазая девушка была простая и легкая, когда говорила с военным. Теперь голос деревянный, движения связаны. Плохая актриса.
А чудные люди! Всю жизнь говорят чужие слова. И думают, верно, по привычке чужими мыслями. Лучший у них тот, кто меньше всего похож на себя. Не жалко им своего.
Репетиция кончилась. Анюта на ходу бросила:
— Сейчас оденусь.
Дорогой говорили мало. Больше взглядывали друг на друга и улыбались. Много лет прошло с последнего свиданья. Встретились на жизненном перекрестке и не знали о чем говорить.
Жила Анна в дорогой гостинице.
В номере неловкость усилилась. Раздражали кресла, занавески и запах духов. Все чужое и враждебное. Угрюмо смотрел исподлобья и ерошил волосы над высоким, с залысинами лбом.
Анна двигалась легко из одной комнаты в другую. Говорила незначительные фразы, ставила на стол тарелочки и чашки.
Неприязненно подумал: «Две комнаты в гостинице. Богато живет».
А она остановилась и в раздумье провела рукой по лицу. Снова ближе стала.
— Нус… Будет вам суетиться. Сядьте, поговорим.
Послушно опустилась в кресло рядом и улыбнулась:
— Все вспоминаю. Знаете, детство как будто тяжелое у обоих было, а вот сейчас хорошим кажется.
Усмехнулся:
— Да. Прошлое всегда так вспоминаешь. Краски потускнели, углы сгладились, и все кажется мирным, — это хорошо. Легче думать о нем. А думать иногда не мешает. Корни вспоминать надо. Жизнь иногда отрывает от них и пересаживает в чужую почву.
— Вы обо мне? Я — да, оторвалась от корней. А это плохо?
— Не знаю. Не жил в теплице.
Сухо прозвучал ответ. Это рассердило Анну. Встала и заметалась по комнате.
— Разве непременно надо любить свое? А если свои были только обиды, приниженность, грязь… Я люблю маму-кухарку, но ненавижу господскую кухню. Ненавижу себя, Анютку на побегушках… Я не забыла любви к нашим играм. Вас не забыла. Сохранила любовь к ребятишкам. Ах, как хорошо было играть в чижик с мальчишками. Вы колотили меня… Но это я забыла… Право же, забыла… Сейчас нечаянно вспомнила.
Засмеялась молодо и звонко.
На смех не ответил. Смотрел спокойно, исподлобья:
— А вот это не надо было забывать. Колотушки человек должен помнить. Вы забыли ненависть. Лучше было бы забыть любовь.
Встретились глаза. Поспешно отвела свои.
Стало скучно. А он неожиданно улыбнулся. Все лицо осветилось. Стало юным и нежным.
— Я привязанностей детства тоже не забыл. Мне очень хотелось увидеть вас.
— Я мало изменилась. Была длинная и несуразная, такой и осталась. Правда?
Покоробило ненужное, грубоватое кокетство. Но сдержался.
— Хуже. Потускнели глаза. Но все-таки прежнее осталось. Сколько лет я не видел вас?
— О, много! Было мне двенадцать лет, а теперь двадцать пять.
— Да. Много.
— Мама умерла, когда я еще училась. Все говорила, когда отдали господа в гимназию: «Потерпи, доченька, в люди выйдешь». И не дождалась.
Вздохнула тихонько и сжалась. Вспомнила сгорбленную, старенькую, угодливую. Все в глаза смотрела господам. Анютку била, когда не угождала им. А ночью целовала и плакала: «Дочушка моя, ягодка…» Эх, мама!
Закипела старая, замолкшая обида. Обучили с единственной дочкой. Скучно было одной в гимназию ходить. А когда закричали про Анютку: «Талант, талант!» — обиделись.
— Как вы на сцену попали?
— Ну, обычно. Выдвинулась на гимназических вечерах, потом любительские спектакли со студентами.
— Что же, сейчас любите сцену?
— Что вы! Это было только у восемнадцатилетней… Когда пришла на подмостки. А после семи лет — благодарю покорно. Первое — положенье люблю. Хорошо платят. И успех люблю. Асцеиу? У меня нет даже любимых ролей. Охотно страдаю в драме. В фарсах раздеваюсь не менее охотно. Не все ли равно, чем прельщать?
Подумал:
«Удивительное сочетанье чистоты и цинизма. В конечном, это — цельность. Это у нее от простонародья. Наше».
И взглянул любовно и внимательно.
А она присела и заговорила доверчиво:
— Актеры… Вы знаете… Мы ведь все какие-то выпитые… Своего нет ничего. Есть в душе какая-то чувствительная пластинка.
Она одна и живет. Заденут — расцветаем чужим цветом. Иногда посмотрю-посмотрю на нашего конченого человека… режиссера… Видели? Или на Ниночку синеглазую. Служит искусству. Бездарна и бесхарактерна. Ей за партой бы сидеть, а она кутит с офицерьем, успех создает. Вот погляжу, и душа чешется…
— Вы образно говорите.
Смеется и ласкает взглядом.
Зазвонил на столе телефон. Взяла трубку. Лицо стало капризным и пошлым.
— Ну, я. Что надо? Напрасно заезжали. Я же сказала: сегодня не надо! Каприз? Хочу покапризничать. До завтра… Ни в коем случае… Я обозлюсь, Георгий Павлович. Что? Ну, разумеется. Завтра, завтра… Хорошо… Спасибо… Покойной ночи.
Ворвался кто-то чужой. И, кажется, властный. Стало неприятно.
Но опять заговорила образно, иногда грубо и искренно. Стала спрашивать.
— А вы? Ведь я ничего не знаю о вас.
Помолчал и заговорил спокойно:
— Ну что ж. Был подмастерьем у отца, потом работал на заводе, потом упорно учился. Это было трудно. Приходилось урывками учиться. Потом тюрьма и ссылка. Сейчас в ссылке в маленьком сибирском городишке. Служу у нотариуса. Сюда приехал под его покровительством. Надо достать книги некоторые и инструменты. Я не только писарь, но и слесарь. Вот и все.
Подумала:
«Все у него прямо, ровно и… скучно…»
Снова поднялась порывисто.
— Давайте ужинать.
Выпили по бокалу вина. Анна опять оживилась. Забрасывала вопросами, ласкала взглядом. И он как будто оттаял. Говорил подробнее о ссылке, о глухом, угрюмом захолустье, об уходящих годах. Голос был не так уж ровен. Прорывалась злоба. Захватил чувствительную актерскую пластинку — зацвела чужим цветом:
«Какой он прямой и сильный. И голос красивый…»
Как и когда сели близко? Почему обнял крепко?
Уже день глянул в окно, когда собрался уходить. Пожалела, что отдернула штору. Дневной свет беспощаден. Ночь показалась лживой. Устало смотрела на него. Отмечала потертое узкое платье. Неприятен был вид расстегнутого ворота черной рубашки.
«Белье несвежее».
Привлек к себе и прижал крепко. Но ей был уж чужим.
Досадливо подумала:
«Ну кто обнимает за шею? Неудобно и некрасиво».
А у него в глазах была нежность. Но говорил отрывисто и властно:
— Завтра возьму тебя отсюда. Уедем вместе. Все это надо к черту! Из теплицы на волю надо.
Усмехнулась.
— Ты сам-то в ссылке.
— И все-таки больше на воле, чем ты. Здесь тебя обстановка закабалит. Сама не уйдешь потом. Ну, разговаривать нечего. Жена да боится своего мужа. До завтра.
Поцеловал и точно оттолкнул. Оторвал от себя. Одевался долго. Уходить, видно, не хотелось.
А она уж злилась:
«Ну, что мнет шапку в руках? Ногти на пальцах короткие, точно обкусаны».
Но вслух только сказала:
— Ну, иди, милый. Я устала.
— Прощай, Аннушка, Отдохни… Моя Аннушка!..
В два последних слова вложил всю силу нерастраченной нежности.
Поцеловал еще раз крепко и властно. И пошел. Пальтишко потертое, сутулый. Да, дневной свет беспощаден. На пороге оглянулся. Но взгляд у него прекрасный: напряженный, зоркий. Упрямый взгляд человека. Кивнул головой и вышел.
Спать, спать, спать…
В полдень разбудил Анну стук в дверь. Негромкий, но настойчивый.
Встрепенулась, и краска залила лицо и уши.
Сразу вспомнила вчерашнее.
«А, это стучит Георгий». Вчера не позволила приехать. Слушался. Крепко связала за год близости. Была в ней не утраченная еще совсем простонародная цельность. Пожившего барина влекла.
Вскочила стремительно и открыла дверь. Прижаться к нему было приятно. Овеяло ароматом дорогих сигар и английских духов. У этого белоснежное белье и холеная чистая кожа. Но отстранилась быстро.
Почувствовал холодок и объятий не затянул.
— Одевайся, Нетти. Сегодня хочу серьезно поговорить с тобой.
— Это ново. Ведь сам же подчеркивал: говорят только с мужчинами. Женщин ласкают и балуют.
Спешила, но одевалась долго. Упорно мылась. Хотела что-то снять с себя.
Когда сидели за кофе, заговорил:
— Мне придется уехать на прииска немедленно. Вызывают. Дела.
Закурил, не кончив кофе. Значит, взволнован.
Стало холодно. Не узнал ли? Не осилила скверной боязни. Он дал покойную, удобную жизнь. Уж привыкла к богатству. Но даже для себя закрыла подкладку испуга. Показалось: боится потерять Георгия.
Встал прямой и ловкий. Двигается по комнате неслышно. Щурил светлые глаза и медлил.
Следила за ним ласковым взглядом. Седеет, но изящен и легок.
— Итак, Нетти, поговорим.
Подошел близко и руку с отшлифованными ногтями на стол положил. Была она красивая и нежная.
Взглянула — и снова лицо зарделось. Вспомнились Володины руки. Сжалась от мысли:
«Как я могла… Развратная тварь. Ведь Георгия люблю».
— Я сильно привязался к тебе, Нетти. Больше, чем следует. Женщина мешает дельцам. Но рассуждениями уж не поможешь. Вчера ты капризничала и не захотела меня видеть. И, представь, я волновался, как юноша. Целый день тосковал. Ночью долго не мог уснуть и решил… Я не могу с тобой расстаться… Поедешь ты со мной на прииска? Обсудим серьезно. Степь, глушь. Ближайший город — скверный, маленький городишко — в ста верстах. Комфортом я тебя окружу, но многого тебе придется лишиться. На сцену я тебя не пущу больше. Даже когда возможно будет уехать с прииска. Уважение свое я тебе даю и постараюсь, чтобы другие считались с ним, но узаконить наш союз не смогу. По крайней мере, скоро это сделать нельзя. У меня есть и жена, и дети. Имени отнять у них не хочу.
— Брось, Георгий. Я знаю, ты чтишь святость брачных обязательств.
— Нетти, я…
— Да мне это нравится в тебе. Брось. Я поеду с тобой всюду… Ты… Ну, я тоже люблю тебя.
Прильнула нежно.
Высокая, а стала как девочка. Смотрит по-детски. Просительно.
Порозовела вся.
— Детка моя… Я старше тебя и боялся… Ты ведь прямая и строптивая. Милая!
Повторяла упорно:
— Я люблю тебя…
Лгали большие черные глаза. Лгали губы. Но сама в этот миг верила своей лжи, как правде. Посадил на колени.
— Ну, вот. Теперь я спокоен. У нас с тобой большой стаж. Близки целый год и не соскучились… Так ты не боишься продолженья?
— Да нет! Нет!
— Я завтра уеду. Тебя сразу не возьму с собой. Придется ехать на лошадях. Уж начинается весна, — ехать опасно и скверно. Ты приедешь с первым пароходом.
— Нет, нет! Я не могу остаться!..
Почему заплакала искренно и горько? Сама удивилась.
Но слез сдержать не могла. Слезами отмывались тайная боль, стыд и обида на себя. То, что бременем осталось от прошедшей ночи…
Георгий подавал воду, нежно ласкал, успокаивал.
Лицо у него было радостное. Правда, видно, привязался.
Перестала плакать. Вернулись к столу.
В дверь застучали неровно и сильно.
Георгий удивленно поднял брови.
— Кто это не умеет стучать?
— Войдите!
Вошел Володя. Увидел чужого, улыбка погасла. Сдвинул брови и неловко остановился у порога. Всего секунду длилось молчание. Но, казалось, даже мебель враждебно подчеркнула, как неуместно его появление.
Георгий вежливо встал. Думал, глядя на одежду, проситель. Но взгляд исподлобья разуверил. Смотрел властно и пристально.
Оправилась Анна.
— А-а-а… Здравствуйте. Георгий Павлович, это мой друг детства. Пожалуйста, раздевайтесь и знакомьтесь сами. Хотите кофе?
Смотрит прямо, а лицо покраснело неровными пятнами. Пристальным взглядом ответил Володя.
А она опять:
— Хотите кофе?
— Нет. Я хотел поговорить с вами, но могу зайти в другой раз.
Встала, высокая, и бросила, как вызов:
— К сожалению, я скоро уезжаю. Если хотите, поговорим сейчас. Раздевайтесь и проходите.
— Куда?
Отчеканил и ждет ответа, как хозяин! Наглец! Георгий никогда не был так груб.
— Мы уезжаем на прииска. Далеко. Когда мы едем, Георгий Павлович?
Георгию сцена показалась нелепой, но остался верен себе. Не выразил, спокойный и воспитанный, ни удивления, ни негодования:
— Когда вы будете готовы, Нетти.
У Володи лицо было тоже спокойно. Но глаза загорелись, и губы дрогнули.
— Ну, так с неделю еще пробудем здесь. Если сегодня вы не располагаете временем, заходите как-нибудь.
Плюнула в душу и смотрит ясными глазами.
Владимир побелел. Проснулась плебейская целость души. Захотелось взять затейливо причесанную головку и ударить о пол. Но гордость помогла. Сдержался, сжался в комок.
Скользнул по обоим взглядом.
Неспеша повернулся, строгий и сильный, и вышел.
Дверью даже не хлопнул.
Анна засмеялась. Окрепла дерзость.
— Ну? Смешное явление?
— Странное. Я бы тебя заподозрил, но… я хочу уважать тебя…
Провела рукой по лицу и взглянула смело, прямо в глаза.
— Не буду оправдываться.
— И не надо. Я верю тебе. Ну-с, вернемся к кофе.
Жила день, как всегда. Но ночью проснулась с тяжелой тоской. Георгий рядом дышал ровно. Боялась разбудить его. А хотелось прижаться к нему и заплакать. Казалось, он бы защитил. Помог спрятаться от темного, тяжелого. Тот ушел… Ну и хорошо.
Отчего же боль?..
Была большая звериная злоба. Не рассказал бы, как изжил. Долго метался по улицам. Но показалось: все встречные знают и радуются обиде. Каждый напоминал:
«Раскис… Изливался… Продажной девке открыл заветное…»
Хотелось рычать.
«Как смотрел этот барин… Точно дарил своим присутствием… Как он смел так смотреть!.. Избить бы его… Растоптать!.. Чтобы жалким стало гордое лицо».
Душил гнев. Все гадки… Омерзительна жизнь.
В комнате стало легче. Можно спрятаться от людей.
Молчат и не лгут эти грязные стены, жесткая кровать, ветхий стол. Видом своим говорят:
«Мы мертвые».
А люди… Блеснут глазами, сольются в ласке, а потом харкнут…
Схватил обеими руками голову, сжал коленями локти и крепко стиснул зубы.
Кричал там, внутри, глубоко. В безмолвной человеческой боли был этот крик. Не думал, что затихнет она.
Но затихла. Вырвано.
Ночью уж был спокоен. Снова сталь в серых глазах и гладок высокий с залысинами лоб.
Со стороны смотрел на все.
Думал:
«Оторвалась Анютка от своей почвы. Причудливо, на свой барский вкус подрезали, подстригли ее. Нечего думать о ней. Приживется в том лагере».
Расстегнул воротник рубашки, погладил грудь, вздохнул два раза освобожденно и сильно.
И ладно.
В мозгу опять цифры и факты.
II
Две жизни были на прииске: дневная и ночная.
Рано утром гудела фабрика. Степь далеко разносила угрозу гудка. На рев его выползали люди. В семейных казармах, низких и длинных, раздавался плач детей и визгливая перебранка женщин.
А поодаль от прииска просыпался киргизский аул. Выскакивали голые черные ребятишки и начинали дикий гортанный концерт. Киргизки, с подоткнутыми под бешмет рубахами, показывали грязные, замызганные штаны. Они шли за водой и к табуну. Киргизы в шапках и меховых штанах ковыляли к фабрике. И каждый день повторял свое удивление рыжий штейгер. Он кричал киргизам от конторы:
— Не сопрели еще, кривоногие? На фабрике и без одежы сдохнешь от жару. Косоглазые черти!
Степенно отвечал аксакал (старший):
— Зачим дохнишь? Лучча жар не прамет.
И бесстрастно выжидал, когда ответный хохот смолкнет.
Из казарм с лопатами, ломами, кайлами, веревками шли рабочие. Потом делились. Шахтеры шли к шахтам, заводские — на фабрику. С шумом подъезжали приисковые таратайки. Тянулись из близкой деревни мужики на телегах. Фабрика давала последний исступленный вопль. Гудок смолкал. Начиналось гуденье машин и грохот бегунов. Они дробили камень, спрятавший золото, журчала вода в длинных желобах. Она уносила разжеванный бегунами камень. Оставляла драгоценные крупинки. Вдалеке динамит рвал каменную груду. Эхо повторяло стон взрывов. Все сливалось в сатанинскую музыку. Она была грозна и величава. Как проклятье. Жалки были только музыканты.
— Дунька, паскуда, чо сяла? Берись за тачку… Думать, золото высидишь?
— А твое како дело? Ночь с англичаном проблудила, так в хозява вышла. Я те зенки-то поскребу, надзирать больно!
— Ах, язви те в душу, стерва присковая!
Визжали дико и надрывно. Наступала Дунька, Белокурые волосы сбились войлоком.
Синие глаза под воспаленными красными веками стали от злости темными. На лице жирным потом размазана грязь. Как ведьма.
Федосья не сдавала. Лила потоком циничную брань и рвалась в потасовку.
Но увидел уже надсмотрщик. Грозит обеим кулаком.
Проворно обе взялись за тачку.
У дверей фабрики скулит, как собака, молодой киргиз. Хватается за живот и молит звериным воем своею дикого бога. Вчера надорвался. Сегодня пришел работать, не смог.
— У-у-й, бульна… У-у-у… Шипка бульна… Алла, уй-уй-уй…
Равнодушно проходят мимо, грязные, со своими ношами.
Эка невидаль! Всем «бульна».
Жалеет один старый Куржан. В оборванном длинном халате стоит и качает зеленой чалмой.
— Джяман… Джяман урус (плохие русские)…
Он рассказал бы, что степь эта киргизская.
Отдали свою степь за деньги. Русский денег дал мало. Пошли к нему работать. И за работу киргизам дает меньше. Русским — больше. Кочевать нельзя. Надо работать. Скот дохнет. Урус в степь болезни принес. Нужду принес. Хотел бы рассказать Куржан, да слушать некому.
— Ваньша, на праздник живем! Спиртоноса видал.
Стоит у телеги, кашляет с хрипом, а меж кашлем смеется. Не то старик, не то молодой.
Другой с испугом оглядывается.
— Иди к месту, чертово хайло! В рот те дышло… Услышит. Живьем слопат.
— А лихоманка его задери. Што вяжется? Не ему достанется.
— И не тебе. Айда, пошевеливай задом-от.
Сплюнул, пошел. А на ходу прошептал:
— На приисковый праздник с водкой будем, Ваньша!
У Ваньши глаза загорелись. Поредела застывшая в них тоска. Камнем давит второй год. Зародилась, как увидал первый раз обоз с золотом. Маленький воз — и куча солдат. Увозили под охраной в банк. Хозяин стоял, как царь.
А они все жались кучкой сзади.
И схватило сердце у Ивана.
— Кабы мне… Так же бы глядел, как хозяин.
С тех пор тяжелее стало жить. Навалилась злоба. У других ее тоже видел. Но таил и ее про себя. Жили как скованные. Один день в году только взыгрывала буйная жизнь. На приисковый праздник. Боялся его хозяин. Вызывал из города охрану. В этот день почти всегда добывали спирт. И разливалось по прииску страшное веселье. Спиртоносам грозила беда. Их расстреливали на месте. Только поймать удавалось редко. Каждый год кто-нибудь кончал праздник в могиле. Но все-таки был праздник.
Длинный рыжий Киркальди и стройный Вульмер шли к «мокрой» шахте. Смеялись и лопотали что-то по-своему.
Старик Пахом у телеги провожал их взглядом.
— Ишь аглицкие черти. Жадные! Господа, а каку рань встают. Золото караулют.
В «мокрой» шахте всегда по пояс стояла вода. Студеная, подземная. Выкачивали все время. А она все прибывала. Работали в кожаной одежде, но стыли. Смена была частая, вылезали мокрые, продрогшие. Отряхивались, как выкупанные собаки. Грелись на солнышке. Другие стояли в воде. Долбили упорную стену. Потом менялись. Ныли кости. Утром возвращались опять. Хорошо платили за эту шахту. Богатая жила в ней шла.
Завидев англичан, Егор ворчал:
— Прутся, лешаки… Своей земли мало. В чужу приехали наживать!
А старшой заступался:
— Ну-ну, богова дубина! Свое дело знай.
Егор огрызался:
— Знам не менее твово, подлизун хозяйский.
А сам настораживался. Угодливо улыбался. Сдавать стал. Кабы не выгнали. Киркальди, подходя, кричал:
— Я лезть буду. Кому со мной начинать должно?
От спусков в другие шахты доносились брань и разговоры. Целый день кипела работа под землей и на земле. Только когда гудок кричал о перерыве на обед, просыпался хозяйский дом. Но до ночи казался безлюдным. Большой и нарядный, лучше конторы, он стоял особняком. Окнами глядел на степь и холмы, еще не взрытые. Отвернулся от картины труда.
Два года назад оттуда выходил ежедневно хозяин. Закрывал чистую барскую одежду рабочей и смотрел. Горел хищный огонек в глазах. До всего сам доходил. Лазал в «мокрую». Зверем глядел на всех. Золото съело жалость. Осматривал рабочих, когда из шахты выходили. Самородки спрятанные находил. Тогда бил сам. Жестоко и долго. Откуда сила бралась в барских руках. Больше попадались киргизы. Прятали в штанах и думали, как дети, — не найдет. Цеплялись за свое добро. В «мокрой» и смерть уцепилась за него… Еще не скосила, но дышит близко. Второй год гниют легкие. Лечился за границей, лечился у русских докторов. Когда отпускало, лез опять в шахты. Теперь не встает. Оттого и безлюдным кажется дом.
Анна проснулась давно, но вставать не хочется. Во сие бывает хорошо. Прижалась к подушке и ждет. Ветерок шевельнул кружево занавесок. И замер. Испугался могильной тишины.
— Сейчас закашляет, ненавистный!.. Как долго борется со смертью… Эх, была бы посмелей, убежала бы…
А кашель точно подстерег мечту. Начался упорный, надрывный. Кажется, стену пробьет. Там сиделка двинула стулом, что-то говорит. А он все кашляет. Кончил. Теперь упал на подушки, весь синий. А сиделка смотрит — в кружке кровь и гной.
«Ах, начался день!»
В стену стучат. Зовет. Вцепилась пальцами в волосы, бьется от беззвучного плача. Опять стучат!..
Накинула дорогой капот, пригладила волосы. Постучала в стену.
— Иду!
В столовой часы тиканьем подчеркивают тишину. Позвонила.
— Настя, молоко барину.
Настя кивнула кружевной наколкой и понеслась через коридор в кухню. Там старая Митревна в одиночестве пила кофе.
— Молоко давай скорей. Проснулся!
— Поспеешь. Не помер еще?
— Нет. Однако нонче помрет. Сиделка сказывала: обиратся. Ну-ка я хлебну кофейку-то.
Проворно присела и налила чашку. Митревна неторопливо встала, перекрестилась на образ и двинулась к плите.
— Сам-от сдохнет, а она куда пойдет?
Настя фыркнула.
— Другого найдет. С одним без закону жила, ишшо пристроится. Таковска!
— Капиталы-то, однако, все ухайдакал. Ей не оставит. В конторе сказывали, англичане купили прииск-то. Без малого мильен дают… А только-только рассчитаться за машины да с рабочими. Вам, говорят, холуям, и то поди заплатить нечем будет.
— Ну, Митревна, нам хватит. Да и без хозяев не будем. Звони, звони… Не сдохнешь, дождешься…
Звонок трещал, в ушах звенело.
— Бери поднос-от. Готово.
— А наша-то боится приисковых. Никуда не выходит!
— Эдаки-то, однако, из нашего брата каки выдут — хуже чураются. Знат, блудня, как от нашей жизни сердце-то кипит.
Из коридора Анна закричала:
— Настя!
— Иду!
— Что же вы, Настя? Знаете, как раздражается барин.
— Ну, у меня не десять рук. Дали бы расчет — богу бы свечку запалила. У благородных барынь служила — угождала. Пустите-ка с дороги!
Затряслись губы от обиды. Остановилась в коридоре. Дух перевести.
Грубит ей Настя. В одну бессонную ночь жизнь ей свою рассказала. Теперь насмехается. Кто выпил душу у холопов? А сама знает — кто. Поэтому и терпит.
Опять воет проклятая фабрика. Обед кончился. Вздрогнула и сжалась.
В душе боязнь. Живут там за конторой, в земляных казармах. Боится их Анна. Когда проходила с мужем нарядная, чистая, те женщины глазами провожали. Не забыла их глаз! На женщин не похожи. Грязные, по-звериному грубые. Эти «в люди не вышли»…
Не заметила, как прошла в столовую и остановилась.
— Вас барин требуют.
— Иду Настя.
У дверей уже встречает злой, сверлящий взгляд. Подошла, наклонилась поцеловать. Отстранил рукой. Рука упала на одеяло. Задышал чаще. Уж двигаться не может.
Где затаилась у него жизнь? В глазах, верно. Жгут и одни говорят.
Спросила:
— Ну, как ты себя чувствуешь сегодня?
Хрипит шепотом. Уж горло поражено.
— Лучше. Не надейся, встану.
Метнулись к нему молящие огромные глаза. Какая-то прозрачная она стала. И робкая. Пронизала душу жалость.
— Я пошутил. Хорошо спала?
— Да, но беспокоилась за тебя. Марья Алексеевна, вы теперь отдохните. Я буду здесь.
Пожилая спокойная женщина в белом отозвалась от столика с лекарствами:
— Уж после доктора. Сейчас придет.
Опять хрипит:
— Уйдите пока. С женой поговорю.
Не спеша, мягко ступая, вышла.
«Пойдет на кухню судачить. Как все они ненавидят меня!» — заныло опять у Анны.
— К вечеру все привезли?
— Да. Но я боюсь, милый… тебе вредны эти сборища. Кричат, шумят.
— Ты глупа, как корова.
Болезнь сняла весь внешний лоск. Обнажила пустоту его. Только на прииске узнала, что скрывал он.
— Я не могу не устраивать приемов, пока не закреплена продажа прииска. О моем крахе уже говорят. Понимаешь ты, бестолочь, тратами я заставлю молчать кредиторов.
— Но ведь синдикат уже решил… Покупают. Только пустые формальности.
Сказала и испугалась. Так дико блеснули у него глаза. Но смягчился опять:
— Не решили. Кварц исследуют. Золото эти два года не шло.
Обожгло воспоминание. Задвигался на постели, закашлял.
Поставила поспешно кружку.
«Как картежник, живет азартом. Боится, что последняя карта будет бита. Неужели думает выжить?»
На прииске узнала настоящего Георгия. Под спокойной, холодной внешностью таил постоянный азарт. Жажду выигрыша.
Власти золота. Себя не щадил. Всю жизнь одна цель: настоящее богатство. Когда не считают.
Откашлялся, отдохнул и опять хрипит:
— Не может быть, чтоб я не выздоровел. Один не выдержал, нужен синдикат. Я войду в него. Человек всегда добивается, чего хочет.
А противная, липкая испарина уже пропитала белье.
Сморила усталость: закрыл глаза.
«Не умер? Нет. Дышит».
Жалко вдруг его стало.
Вот человеческая жизнь. Упал у цели. И обнажилась страшная, конечная пустота. А он уже очнулся.
— На прииске не была?
Виновато поникла головой.
— Боюсь.
— Глупо! Там охрана! Все они в моей власти. Преступники, беспаспортные! Да и где скроются в степи.
— Нет, я не бунта боюсь. А так.
— Что так? Говори.
— Разве может человек терпеть? Золото в руках держат, а живут… Ты знаешь, как живут… Я взглядов их боюсь.
Замолкла, повела глазами по комнате.
Захрипел раздраженно, со свистом:
— Каждый имеет то, что заслужил. Они рабы от рождения. Молчат, значит, могут терпеть… Дай воды, и будет. Всегда расстроишь меня.
Пришел доктор. У двери долго протирал очки. Потом тер одну о другую ладони. Когда наклонялся с Анной над лекарствами, услышала запах водки. Сегодня молчалив и сдержан. А бывает груб. И его боится Анна. И часто жалеет. Из ссыльных, женат на грубой кержачке. Несчастлив в семье. Посидел минут десять и ушел. За ним выйти Анна не смела. Догадается Георгий, будет пытать. Но знала: доктор в ее комнате оставит записочку. Так условились. Больной дремал, просыпался, кашлял, ел, давясь, через силу, чуть не каждые два часа. Говорила, помогала, а мысли плели свою сеть:
«Противен. Почему не брошу? Хочу пробыть в чистилище. Хоть этим оправдаться перед собой».
Вспомнила прежнюю Анну. Разнузданную в словах, дерзкую напускным цинизмом, но ядром хорошую. Паденье было с Георгаим. Не физическое. До него знала одного. Случайная близость. Ушла свободно и гордо держала голову. А вот с Георгием! Тут продалась. И в этом грех. За него хочет искупленья и не уходит теперь. За эти пять лет на прииске выросла в душе какая-то затаенная скорбь. Может, приисковую, не желая, впитала?
«А Володя?»
Сразу прилила краска к щекам. Загорелись даже уши. Может, из-за него и жаждет искупленья. Первые годы с Георгием вспоминала, но редко. Угарно было. Легко отогнать мысли. Кутежи, наряды, всегда на людях. Но совсем не забывала. Больше не изменяла Георгию. А вот год тому назад… К чему это проклятое воспоминание? Написала ему в тот глухой городишко. Плакала над письмом. Ждала ответа, как праздника. Думала, напишет трогательное прощенье. Написал: «Бросьте переписку. Напрасные старанья, наказаны по заслугам». И все письмо. Ударил метко.
Перед вечером сказал Георгий, чтобы она ушла, отдохнула. У себя в комнате вместо записки увидела доктора.
— Третий раз захожу. Хорошо, что увидел. Георгий Павлович умрет сегодня или завтра. Будьте готовы.
Задрожала, побледнела, ноги подкосились.
Доктор подвинул кресло.
Взглянул удивленно. Обидело недоверие взгляда. Заплакала беспомощно, по-детски.
— Тише, услышит! Что вы? Выпейте воды.
Зажала рот платком, а слезы льются потоком.
— Что вы? Анна Николаевна! Ведь вы же знали. Я не думал. Ну, перестаньте.
— Сейчас, сейчас… это нервы… Смерти испугалась.
Злоба загорелась в красных от пьянства глазах.
— Нервы! Вот там нервов нет. Взгляните в казармы. Или в аул. Вы что теряете? Георгий Павлович вас обеспечит, получите свободу. Да не плачьте же. Эх, барынька! Ну, какие у вас страданья? Умрет — забудете. Вон там рабочего запороли. Спирт нашли. А баба осталась сам-шесть. А жрать нечего. Повыла да на работу пошла. Киргизка родить долго не могла, они ее за ноги к косякам дверей кибиточных привязали, а за руки давай трясти. Ну и затрясли. Ребенок мертвый, и сама сегодня умерла. А киргизята воют. Вот это трагедия. А у вас и кусать есть чего, и жить будете с людьми, не с дикарями.
Сразу замолчала. Почему-то особенно страшно про киргизку.
— Зверье! Настоящее зверье. Как поглядишь, так нервы забудешь.
Потирает ладони. Трясет головой. Смотрит по сторонам. Вынула из шкафика приготовленный спирт и подала.
Подняла заплаканные глаза. Улыбается. Точно прибитая.
«Фу ты, пропасть возьми этих баб!»
Кое-как откланялся, ушел.
Последний гудок. С фабрики тянутся. Ноет после работы тело. Опять ревут дети. Из труб тянет кизячный дым. Ест глаза. Скорее бы сон. Но молодость и здесь жива. Парочки в степи. Поет гармошка, и оскорбляет заснувшую степь дикая похабная песня.
У кибиток Киргизии тянет свою монотонную и дикую, как его житье, песню.
А хозяйский дом засветился огнями. Началась другая — ночная жизнь. Из окон разносится далеко веселый смех. Нежно поют о красивой любви. Приехали женщины с соседнего прииска. Анна, нарядная, томная, забыла киргизку.
Читает гостям «По вечерам над ресторанами…»
И веселит уловленный шепот:
— Интересная женщина…
К больному заходили. Улыбается сквозь смертные тени на лице. Уходили быстро и забывали. Присылал раза три за Анной. Колол ревнивыми словами и отпускал.
За ужином пили искристое шампанское. Красивый Вульмер, чокаясь, шептал:
— За русскую женщину… Анна Николаевна, как счастлив, кого вы любите…
Обдавала искрами глаз, смеялась. Потом пели опять. Рокотала рояль. Пьяные инженеры говорили о красивой страсти, а в темном коридоре грубо тискали Настю.
Киркальди пробрался в кухню и приставал к молоденькой Поле:
— Пола, Пола, пойдем гулять в пола…
И заливался довольным пьяным смехом.
Поля мыла посуду и пугливо косилась на него.
Разъезжались, когда гудок возвестил новый день. Ласкал утренний холодок. Пахло степью, но на нее не смотрел никто.
Анну исступленно мучил ласками умирающий. Митревна, кряхтя, укладывалась спать и кого-то проклинала. Поля, сиделка и Настя допивали бокалы в столовой.
Настя докладывала:
— Наша-то, уж и паскуда! Муж не муж, а жила с им. А она — и глазами, и боками… Тьфу!..
Сиделка зевнула и спокойно сказала:
— Сама така будешь около их… Вон Степанида научилась: по ночам инженеру голая воду носит. Так приучил.
Когда Анна пришла к себе, вдруг вспомнила киргизку Охва-тилажуть. Потушила огонь, отдернула плотную ночную занавесь. В окно глянуло утро. Успокоил дневной свет. Легла и уснула.
А на фабрике снова начался стон, рев и жар…
Через день приехал нотариус. Потом с ним Анна ездила за двести верст в город. Закрепили продажу прииска.
В конце недели умер Георгий. Боролся отчаянно, злобно.
Умер неожиданно тихо. Был кроток с утра.
Сказал ей перед смертью:
— Нетти, дай воды.
Выпил.
— Еще.
Так три стакана.
Потом попросил:
— Согрей кофе.
Возилась с машинкой. Слышала, вздохнул глубоко. Подошла, а он мертвый.
Постояла. Провела привычным движением руки по лицу.
— Ну, кончено. Как просто!
Денег осталось только на дорогу. Скорей отсюда!..
Когда уезжала, рабочие толпились у конторы. Бритый, розовый управляющий кричал:
— Синдикат купил… Синдикат… Ну, компания! Англичане и русские.
Егор степенно допрашивал:
— Из русских каки?
Управляющий обозлился:
— А тебе, сукин сын, не все равно? Царский придворный Воейков есть. Знакомый твой или родня?
Кругом загоготали. Егор смутился.
— Оно, однако, верно, хозяева будут. А каки, все едино.
Ваньша крикнул:
— Англичане или русские — один черт. Эх, жизня! — И сразу оборвал.
Увидел Анну в дорожном тарантасе. Остановилась проститься с управляющим. Управляющий пробрался сквозь толпу, поцеловал вежливо ручку. Кучеру приказал хорошенько барыню на пароход доставить и отошел. Киргиз-кучер замедлил, подбирая вожжи.
Ваньша подскочил к тарантасу.
— Прощай, барыня-сударыня!
Испуганно откинулась в угол.
— Да ты не бойся, не тронем. Добра от тебя не видали, да и зла тоже. Не робь, поезжай!..
А толпа галдела о новых хозяевах и радовалась одному нерабочему дню.
Тронули кони. Метнулись в глазах казармы, кучи эфелей у прииска.
Дальше, дальше! Мелькнул одинокий крест. Могила Гастингса. Умер на прииске от черной оспы. Рабочие поставили ему деревянный крест. На кресте кто-то жалостливый написал: «Здесь похоронили англиского анжинера Гостинса».
Последняя картина. Прощай, прииск!
III
Деревня все такая же, как и была. Срослась с землей и живет, темная и тяжелая. Но ворвалось в нее и новое. Белеют в грубых пальцах листки газет. Слышится нерусская речь. Дивят крестьян военнопленные. Грешат с ними солдатки. На почте в очереди стоят мужики и бабы. Ждут, когда примут письма и посылки в чужую страну. Думают, сколько пришлось походить, пока написали адрес на непонятном языке. И от этого еще дальше и страшнее кажется чужбина, в которую пишут и шлют своим кровным письма. На улице по ночам частушку голосят одни женские голоса. Мужских не слышно. Взрослых парней почти не осталось. Голоса подростков тонут в визгливом женском хоре. Свадьбы «играют» редко и тихо. Под венцом с молодыми невестами стоят не юные, как бывало. Больше вдовцы и инвалиды.
Что-то треснуло в многолетнем укладе. Кряхтят старики. Снова за землю с детворой принялись. Старшие сыновья в жаркой пасти войны. Четвертый год крутит. Все сцепились. Весь мир закрутился. Перебросило чужаков сюда, русских — в другие царства.
Анну учительницей в это село кинуло перед самой войной. Да, «кинуло». Бросилась, как в монастырь на покаянье. В женской истерике.
Прощаясь с ней, Митревна вдруг расчувствовалась;
— Ну, што ж, уезжай. Не сладка твоя жизнь, птаха. Не по закону пошла — испоганишься! Кабы детная была али при работе какой… А так-то, на мужчинских хлебах, на забаву пойдешь… Выходи-ка взамуж. Да не за богача, за середнего. Штобы с мужем тяготу нести. Детки пойдут, заботы будут. Зато от скверны обмоешься. А так-то, в сытости, нужна ты кому, как сладкий пирожок к обеду. Есть — хорошо, а нет — и без него хлебушко-батюшко насытит.
Гладила Анну по голове шершавой рукой. Анна плакала от сладости бескорыстной ласки.
— А побелет голова да сгорбишься — кому будешь нужна? Задарма никто не пригрет. Капиталов не наживешь с ими. Не таковска. А привыкнешь в сытости, сама угла не заработать. Так-то, милая. Нагляделась я на господ-от. Сверху-то мило, а внутре-то гнило. Ну, поезжай. Христос те спаси.
Бывает так. Простое слово вдруг осветит затаенное в человеческой душе. Осветило и Аннину боль. Ту, что зародилась на прииске. Потянуло к простым и мудрым.
Как приехала сюда, было плохо. Видом городская и повадкой чужая. В Россию не тянуло. Захотелось остаться здесь. Почему? Не рассказала бы. Может, и о Володе думала. Митревна и о нем ярко напомнила. Сибирские крестьяне суровы. На ласку не податливы. Туго пришлось. Но год за годом таял лед. Привыкли. Вместе с нарядным платьем износила многое. Стала грубее, но прямее и лучше. Уж не торчала клином в деревенской жизни. Иногда с буйной силой просыпалась тоска по городу. Хотелось яркого света, толпы, шума улиц. Услышать изысканную речь.
В маленькой келье чадил сальный светец. Для лампы керосину не было. За перегородкой тесно стояли неуклюжие длинные парты… Скреблась в шкафу с учебниками мышь. Воздух был спертый. Форточек в деревне не любят. За сенями в хозяйской половине раздавался могучий храп уставших за день людей. Но здесь было тихо. И гробом казалась деревня. Отгородилась от города тайгой. Задавила людей ежедневным трудом. И живут в ней угрюмые, скупые на слова. Литература, наука, искусство — там, за гранью. Здесь не нужны. Родят, работают, умирают и никуда не ходят из своего заколдованного круга. Земля задавила. Жутко. Завыть хотелось вместе с собакой на дворе.
Но проходил день. Приводил в школу разноголосых ребятишек. С ними утоляла несознанную жажду материнства. И затихала тоска. Некогда было. Временами, особенно весной, налетал дерзкий дух желания. Тело, знавшее ласки, просило их. Ходила бледная, разбитая, с горящими глазами и пересохшими губами. Квартирная хозяйка Ивановна смотрела пристально и, поджимая губы, говорила:
— Кровь в тебе, баба, играет. Мужика надо. Дите надо. Порожней бабе плохо ходить.
Откровенное определение женщины простой, как природа, отрезвляло.
Стыд зажигал румянец на щеках.
А Ивановна спокойно говорила:
— Тут уж мужика по себе не найдешь. Наши на тебя не польстятся. И мало их осталось. Своих девок впрок солим. А ты уж не молоденька. В твои годы я уж десять ребят отваляла.
Сжималась, бодрилась. По ночам писала Володе письма. Утрами рвала и сжигала их.
На второй год стала привыкать. Гладко причесывала волосы с утра Неделями носила одно просторное темное платье. Полюбила пимы и теплый платок. Забывала смотреться в зеркало. Беззлобно смотрела на огрубевшие руки.
Были в селе и верхи. «Интеллигенция». Молодой поп с попадьей, лавочник с лавочницей, холостой волостной писарь, выписывающий «Родину» с приложениями, начальник почтового отделения с начальницей и урядник с урядницей. По воскресеньям они ходили друг к другу на пирог. Вечерами — на пельмени с самогонкой. Иногда жаловал к ним и волостной старшина. Раза два в месяц наезжал сам становой. Приветили Анну Матушка жаловалась:
— Опускаешься с этими деревенскими. Так, росомахой ходишь. В городе синематографы. А у нас у старшины только граммофон есть. Опять моды взять. Где их узнаешь? У писаря в приложении к «Родине» достаточно интересные есть. А кто сошьет? Сама-то лепишь-лепишь, да и вылепишь: на парижску моду не похоже, и людям смехота. Псаломщица шьет на меня. Где ей! Живут как мужики. Совсем неинтеллигентная женщина.
Лавочница дергала носом, икала после сытного пирога и приговаривала:
— Поминат и поминат кто-то. Уж не ваш ли Афоня влюбился в меня?
Все смеялись. Всегда насмешит лавочница. Афоня — дурачок, в работниках у батюшки служил. Шутница.
Почтовый начальник, усатый, коренастый, басом докладывал новости из газет. Он просматривал все, получаемые на почте. Адресатам выдавал по расположению.
— В Ракитянку опять столичные газеты пришли. Незачем! Снеси-ка, Михеич, их батюшке. Читать не будет, так матушке на выкройку пригодится.
Начальница у него была маленькая, бледная. Урядница говорила про нее:
— Маленька, черненька да немудрященька.
В гостях она часто краснела, молча ела, что подавали, и вздрагивала, когда к ней обращались с вопросами.
Урядник с урядницей, оба толстые, большие, с одинаково грубыми голосами, казались одним существом, разделенным надвое. И говорили часто так: он начнет фразу, она кончит.
— В нашей волости… — забасит он.
— …везде порядок, только в Ракитяике ссыльные мутят… — в тон ему закончит жена.
А писарь на вечерних собраниях перед пельменями играл на гитаре и пел: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих прочь…»
Косил глаза на Анну и хитро подмигивал.
Говорили всегда о том, что скоро разобьем немцев. О немецких зверствах. О деревенских новостях: какая солдатка от кого родила. Иногда — о Государственной думе. Но только мужчины. Женщины «презирали» политику. На именины или крестины наезжали гости из других сел или со станции. Тогда устраивали вечер. Тряслась мебель от тяжелого пляса. Нестройным хором пели: «Эй, баргузин, пошевеливай вал». А когда пьянел урядник — «Нагаечку» и «Укажи мне такую обитель». Рассказывали скоромные анекдоты. Ставни раскрывали любопытные и, приплюснутые носы, смотрели. Гости удалялись парочками в сенцы или во двор. Супруги перепутывали супругов. Но все обходилось без скандала.
Анне претили плоские шутки, жирная еда и противная самогонка. Но она все-таки ходила на эти собрания. Только раз в сенях ее грубо прижал писарь, а в «зале» она увидела скотски пьяного попа. Еле нашла свой платок и шубу. Убежала домой неверными шагами. На стук в окно ей открыла Ивановна. Жалея сладкий сон, она сердито ворчала:
— Добегаешься, гулена, — в подоле принесешь писаренка. Кто укрывать будет?
Анна заплакала. Ивановна смягчилась и вошла в ее каморку.
— Ну, ну… Чо заливаешься? Не укусила. Правду, жалеючи, сказала. Ишь самогонкой разит! Порядошны так не делают. А ты учительница. Ребятишки узнают — задражнют. Я все вижу, только молчу. За молодыми грех-от ходит.
Анна сквозь слезы проговорила:
— Все одна да одна. Скушно мне, Ивановна. И ничего я дурного не делаю.
— Пошто скушно? Вдовье дело, знаю, несладкое. Терпи. Трудом да молитвой изгоняй. А с ими, лешаками, како веселье? Ты-то простота. Разглядела я тебя. А они-то замуторят да и надсмеются. Не наш брат. Мы побьем, да пожалеем.
Долго в эту ночь проговорили две женщины. Ивановна забыла сон.
— Э-эх, милая. Трудно наше бабье дело. Крепись. Меня вон по шашнадцатому годочку взамуж отдали. Старик-от, он теперь на человека походить стал. А молодой-от был… Рыжай, весна-тый, глупой. Только регочет. Вся деревня дураком звала. А злющий… Спаси, царица небесна! Как не по его — ножом пырнет. Чистый варнак. А родители-то не путем добро нажили. А вот за богатство-то и отдали. Сколько я слез-то пролила… И до старости сердце кипело. Не по духу был. И бил он меня, ягодка. Ух, бил! Раз я чижолая Фенькой ходила. Он с гумна приехал осенью. Я с обедом замешкалась. А он меня еще к корове позвал. Я вышла да у крыльца-то и остановилась. Он меня наземь, в лужу, да ногами-то в брюхо, в брюхо, а кулаками сверху дубит. Чуть отдышалась! Как не скинула — не знаю. Да Фенька-то хила родилась, мало помаялась и померла. Дак я как встала, в грязи вся, иду в избу, трясусь, думаю: зарежу ночью. А вот пятый десяток с ним бок о бок сплю. Не зарезала.
Анна с испугом взметнула глаза.
— Как же ты прожила с ним столько? Детей родила?..
— Прожила. И он-то привык. К старости лучше стал. Теперь, вишь, я всем заправляю. Все девок носила. Он и злобился. Петеньку родила — обмягчел.
— А ты-то… Ты-то как? Никого не любила?
— Ну, ягодка, баба грехи свои на том свете только скажет. Коль не поймают. Об этом чего баять. Дети пошли. В их утихомирилась. А теперь вот и Петеньку взяли. Федяйко-то малой еще. Девок выдала. Тоже в солдатках ходют. Ох, детки, детки. Плакать-то неколи, а сердце-то мое никому не видать. Да ладно, терплю. Только бы Бог потрудил да помиловал.
— Как же можно так? Всю жизнь с ненавистью, с притворством!
— Ну, мы люди темные. Так бабе положено. Глянь-ка, светат, никак? Ох, согрешила я с тобой! Пойду корову убирать. А ты на часок приляг.
С тех пор не ходила Анна в гости. Сдружилась с Ивановной. Глубже вошла в деревенскую жизнь. Часто думала:
«Мудрость или тупость в них? Сколько силы таит Ивановна! Десятки лет сжимать себя, прятать ненависть, добиваться укрощения зверя… Не понять мне их».
Вспомнилась Митревна. Сливалась с Ивановной в один образ. Совсем разные по складу характера, по условиям быта. Но в основе было общее. Одинаковое приятие жизни. И это общее было во всех крестьянских женщинах, каких видала. Затаила себя. Под внешней покорностью мужикам прятали бунт. Смелее были солдатки. Они больше походили на приисковых. Их боялась сначала. Но пришла раз солдатка Аксинья. Анна знала про нее от Ивановны. Торгует самогонкой. Гуляет с Францем, военнопленным. Сам становой ее отмечает.
Вошла, русая, статная. Глаза голубые и дерзкие.
— Здрасьте. Как принимать будете? Помелом аль добром?
Анна сидела за партой с книжкой.
Ивановна пол подметала. Остановилась. Лицо сразу строгим стало.
— Влетела — дуром! Видать птицу на полету. И на Бога не глянула: здрасьте!
— Бог-то не уйдет. А мы свое откстили. На старости будем замаливать.
Огрызнулась, и глаза блеснули;
— А я к вам с докукой, Николавна. Хозяин-то мой без вести пропал. Не знаете ли, где справочку навести? Сказывают, вы до всего дошли. Не откажите!
Ивановна опять не стерпела.
— Что, занадобился? Чужаки-то аль не слаще?..
— А ты попробуй. Узнаешь.
И вдруг стихла. Черточки на лбу легли, и губы дрогнули.
— Я, Ивановна, покору не боюсь. Людям меня можно судить, я сама знаю, что делаю.
— Ну, рты-то не заткнешь. Знашь, так не делай. Мужик отыщется, куда ты ему, гулена-захватана?
— Это мы с им разберем. Забыла, как молода была? Думки-то, однако, и у тебя бывали. Иссохнешь ожидаючи. А бабий век короток. И не увидишь, как скрючишься. Кабы я девка была али хлипкая какая. Я здоровая. С им году не прожила. Плоть-то, она грешная. Пошто с мужиком разлучили? Непостылый был.
— Тьфу, бесстыжая. Ты ей слово, она десять. Ну и блудила бы тихомолком. Глянь-ка, и не скраснет! Пялит глаза… Тьфу!
— Тихомолком, Ивановна, не желаю. Кабы я знала: по своей воле пошел, целым вернется, сам не испоганится, ждала бы. А ты видала, каких вертают? Будь они прокляты! От их мой блуд да от тоски.
Жгла Анну гневными глазами.
— Я напишу справку. Есть адрес один. А вы присаживайтесь, пожалуйста.
— Сяду, сяду Не серчай, Ивановна. Ты по-старому, а нас выкинуло. При детях да при муже думка о домашнем. А как у меня никого, думки другие пошли. Пошто мы как скот? На што моему мужику ерманца убивать? А меня и не спросили, милая.
— Да не таранти ты, окаянная. Тьфу!
Хлопнула дверью. Ушла. Аксинья вздохнула.
— А што я вас попрошу: напишите-ка письмо ему! В старо место пошлем. Може, дойдет?
Смолкла. Поблекла и съежилась. Анну жалость взяла. Заторопилась, все нашла, села писать.
Аксинья нараспев стала диктовать. И глаза — как на молитве. Скорбные и просящие.
— «…Низко кланяюсь я вам, дорогой супруг, Алексей Иванович, и целую вас в сахарные уста. Только и думки у меня, што про вас. Не видать мне, видно, вашего лица белова…»
Анна быстро писала и, как песню, слушала тоскующий голос.
— «Как помер сыночек наш, свету я невзвидела…»
Долго говорила свою бабью жалобу и тихонько плакала. А ночью Анна слышала, как на улице она визжала похабную частушку. Утром Ивановна рассказала: Аксинья избила своего Франца.
И много их было, отчаянных солдаток. Угарили буйно. Часто противно. Но Анна понимала:
«Молодое бунтует. Исхода силы не находят».
Жаркая жалость мучила сердце. Что у них осталось в этой беспросветной жизни? Даже молодость отняли.
Аксинья привела и других. Узнали, что может писать и по-иностранному. Жены и матери приносили надписывать посылки.
А один раз вечером пришел хозяин. Сторонилась его Анна. И он с ней не разговаривал. Только самое необходимое. Волосы желто-серые. Глаза белые. Подбородок квадратный. Говорит, как рубит. Пришел и соседа, Лазенкова Петра, с собой привел.
— Не почитаете ли нам газетку? В Ракитянке у ссыльных взял.
— Почитай-ка, молодка, — зашамкал Лазенков. — Сказывали, про царский дом что-то неладное пишут. Не поверил я. А сам нащет печати слепой! Гляжу в книгу — вижу фигу.
— Так располагаю, — рубил хозяин, — ссыльны мутят. Ну-ка, разбери. Ты не омманешь.
Приласкало доверие. Быстро схватила газету Читала долго о Распутине. Поняла, какой-то нарыв лопнул.
— Ну, дела, — качал головой Лазенков. — Вот-те так!
Хозяин сомневался:
— А не брешут?
— Ну… Не дали бы пропечатать.
Говорили в этот вечер долго. Анна, сама слепая, прозревала быстрее. Загорелась откровеньем. Горячо обсуждала. С этого вечера стали заходить мужики. На вид суровые. Вначале молчаливые. А в беседе неожиданно открывались. Наивные, как дети, в частностях и мудрые в обобщениях.
И старики повадились. Егор Низовых объяснил почему:
— Так-то, маточка… Писарь да батюшка — начальство, так-то. С ими не побалакать, так-то… А ты сама с нами под их начальством ходишь, так-то… Захочут — сгонют, так-то. Ну, а нам-то и поближе, попроще, так-то… А грамоте хорошо разумеешь, дай тебе бог здоровья… так-то…
Покорила немудрая похвала. Душой ожила. И подарком праздничным были улыбки на грубых лицах.
Из Ракитянки ссыльный Яровой заезжал. Два раза с Анной побеседовал. Точно фонарь на ночной дороге поставил. Всю ночь продумала.
«Тридцать лет прожила. Проклятая! От корней ушла, к высыхающим листьям пристроилась. Если б вернуть!."
В новом ореоле Володя встал. Писать больше не смела. Но новым загорелась пламенно. В вечерних беседах с мужиками мысли и слова находила Книги читала не те, что прежде. Радовалась: себя нашла. Мать и детство чаще вспоминала В деревне родню почуяла. И в крестьянский круг другой вошла: победней и попроще. Отошла от Ивановны. Урядник попугивать стал. Но долетел и до Сибири раскат столичного взрыва.
— Николавна… Николавна, подь-ка суда.
Что это с Ивановной? Дверь в сени растворена. Тепло не бережет… И глаза бегают. На себя не похожа.
— Сейчас…
— Кинь книжку-то. Начитаешься. Скоре иди…
И скрылась. В последнее время реже говорила с Анной. Недовольна была знакомством со ссыльными.
Анна прошла сенцы. Вошла в хозяйскую половину. И там необычно. Ивановна не мечется от печки во двор. Стоит у стола. А на скамейке Аксинья. Никогда ее не приваживала Ивановна.
— Николавна, слышь, звонют…
— Ну, так что же? Праздник, верно, какой-нибудь.
— Не хуже тебя Бога почитам, праздники знам. Никакого нету! И время ни к вечерне, ни к обедне.
Аксинья вмешалась:
— Манифест читать будут, царь от престолу отрекся.
— А ты постой… Правда аль нет?
Смотрит на Анну круглыми глазами. В них испуг и недоверие.
— Манифест… Да что вы… Аксинья, пойдем скорее в церковь!
И как не бывало их в избе. Ивановна обозлилась:
— Богу молиться — три дня просбираются. А тут — нако! Ничо толком не разъяснили… Шалавы!
А сама тоже в церковь спешит.
В церкви поп в облаченье с амвона читал:
— «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание…
…признали мы за благо отречься от престола государства Российского».
Оглушило деревню. Из теплых углов повысыпали. Ожила площадь, где церковь с почтой, поповские и купеческие дома стояли. За новостями уже не боялись ходить. Урядника как ветром сдуло. Из Ракитянки приезжал Яровой. Собирались в школе и в волости. Звучали непривычные речи. И тайга шумела не так угрюмо. Точно расступалась. Пропускала весну и новые песни. Ссыльные организовали комитет общественной безопасности. Яровой переехал из Ракитянки. Председателем выбрали. Маленький, седой, с ястребиным взглядом, взбудоражил все село, Анну тоже выбрали в комитет. Бабье за нее горой стояло. И диво: старики приняли. Егор Низовых за всех говорил:
— Четыре года с нами отмаячила, так-то. Баба правильная, так-то. И ребятенок пригрела, так-то. Можна.
И утвердил Анну Событиям дивились. Но царя жалели мало. Анна не могла понять этого. Так чтили царя! Станового чуть не наместником сделали. Как в своей вотчине здесь расправлялся. Но Лазенков объяснил:
— Мы, милая, кого хошь почитали. Нам со зверьем да с морозами только впору было сладить да землицу-матушку уберечь.
А на начальство силов не хватало. Сторона наша сердитая. Хоть каку холеру пришли — поклонимся. Только бы не трогали. А стону-то наслыхались. У себя каторжан томили. Правду-то чуяли.
Ивановна по-другому объяснение дала:
— Далеко до его, до царя-то. Без нас мазали, — патреты посылали. Нам што? Кого хошь — мажь, ихо дело виднее… Порядок бы был, и ладно. Там выберут! А этот, однако, войной разбередил.
Молодое победно ликовало. Вернулись солдаты некоторые. Говорили новые слова: «Учредительное собрание», «резолюция», «протест». На улице пели «Дружно, товарищи, в ногу». Живой водой вспрыснули деревню. Точно из земли поднялась. Анна смотрела на ожившие лица. Видела, как раздвинулись грани. Говорили не только о своем, обиходном. Все казались светлыми. Новая жизнь, новая деревня.
Но жизнь еще раз поучила. В небо не уносись, на землю гляди… Дико и неожиданно вылезло старое, многовековое.
В двух дворах пропали лошади. Их не нашли. Но за селом в тайге поймали цыган. Семь человек. Трое мужчин, три женщины и один семилетний мальчик. Цыгане всегда считались конокрадами. Их притащили в село, на площадь. Анна в школе услышала рев толпы. Когда выбежала на улицу, увидала: бегут мужики, бабы и дети к церкви. А около церкви дикий вой. Людским потоком выбросило ее на площадь. Двое лежало на рыхлом весеннем снегу. На них навалился десяток мужиков. Били двоих с уханьем, со сладострастней. Женщины-цыганки с разметавшимися черными косами дико вращали желтыми белками, молили о пощаде истошным воем. Их сразу сгребли и закрыли плотным кругом.
— Уши вырви ей, стерве…
— Каленым железом его надо бы, братцы…
— Проклятая чернять… Коней воровать!
Третий, связанный веревками цыган бился в дюжих руках. Молил и проклинал.
Скоро от пятерых остались изуродованные тела да красная кровь на снегу. Тяжелыми пимами и сапогами наступали на разметавшиеся черные косы цыганки. Наваливались все на шестого, связанного.
— На веревке его протащить, — визгливо крикнул Лазенков.
Анна не узнала его кроткого старческого лица. Покраснел весь, глаза выпучил, и губы трясутся.
— На веревке, на веревке. Все берись… Всем миром отвечать.
— Эй ты, раззява, берись… Всех не засудят!
Накинули петлю на шею. Схватили за длинную веревку. Десятки рук уцепились. Кому не хватало веревки, держались друг за друга и поволокли по площади. Молчал ли цыган иль стонал? Не было слышно за ревом толпы. Скоро страшный, синий удавленник прибавился к мертвым на площади.
И вдруг разорвал глухое ворчание остывшей толпы страшный детский крик.
Забытый цыганенок кричал. Поднял одну руку, другой вцепился в голову. Шапчонка слетела. Одинокая на пустой части площади чернела голова, бессильно дрожали в воздухе смуглые пальчики. И смертный ужас застыл в глазах.
— А-а-а!
Только дети могут так ранить своим криком. Анна метнулась к нему. Но уже закрыл его стоголовый зверь.
— Бей пащенка!.. Бей чертово отродье! Всю силу голоса собрала:
— Звери!.. Ребенка… Отдайте… Мне, мне отдайте!
Раскатилось по площади. Аксинья заплакала в толпе. Но зверь не слышит. Бьет, давит… Затих звенящий детский плач. Семь человек прикончили. Анна выла, свернувшись клубком на земле.
— Ишь как растревожила себя молодка. Вставай-ка…
Лазенков подошел. Улыбается кротко. Ведь только что веревку держал!
— Уйдите, зверье… Палачи!
Подняли с земли. Бабы уговаривали. Мужики говорили:
— Квелая. Воров как не поучить?
Убирали трупы. Складывали их на телегу. На одном увидали крест.
— Ишь ты. Крещеные. Панифидку отслужим по убиенным, так-то, — примирительно сказал Егор Низовых.
Убрав трупы, ушли спокойные.
Анна билась головой о стенку кровати. Ее успокаивал Яровой. Он только что приехал.
— Ну… Да полно… Эх, нервы. Истерикой жизнь не исправишь.
— Звери… Дикие звери!
— А что вы ждали? Думали, по манифесту сразу возродятся. Эх, вы!.. Века гнета, насилия, самодурства, как вы не поймете!
Говорил долго. Затихла. Ночью поняла и смирилась. Эта расправа не на их совести. Цыганенок долго снился. Осталась ранка в сердце. Но окрепло сознание, что не мечтами и порывами перестраивается жизнь. Впереди еще не один ожог кнута.
Война все не кончалась. Отлетела праздничная радость. По-прежнему стонали люди. И стон этот стала слышать Анна. Услышала, вспомнила прииск. И не могла уже замкнуться в своей скорлупе. Все, что впитала на жизненных этапах, породило боль и гнев. Искала выхода, металась.
Записалась в партию Анна вместе с солдатами-фронтовиками. Они были бунтарями и стали ей ближе всех. И сразу многих отсекла от себя. Ходить стали к ней в старых азямах, больше батрачье. Богатые хозяева отшатнулись. Было в этих новых меньше привязанности к старому, меньше примиренности, больше гнева.
Ивановна косилась и говорила:
— Нащет войны они правильно, а как стали товары отбирать да купцов в кутузку сажать… Нет, не дело! Рази можно по-ровному? Ты-то сдуру за ими вяжешься, а я на тебя и глядеть не хочу.
Анна отмахивалась. Сильно уставала за день. Шла упорная борьба с самогонщиками. С непомерным вздуванием цен лавочниками. Приезжали агитаторы. Готовились к выборам в Учредительное собрание. Шла ломка. Постройка нового. Больше неумелая. Валилась. Надо было начинать снова.
— Ты — баба золотая, — говорил ей солдат Матвей. — Много нам помогаешь. Я вот нынче речь говорить буду…
— Да говори ты, Матвей, понятнее. Ну, что это? Заладил «рука об руку», «попили кровушки», а дальше туман.
Матвей обижался. Надо было его ободрить. Сказать, чтоб понял.
Аксинья за большевиков лавочницу расцарапала. Посылали Анну. В борьбе незаметной, но долгой уставала. Яровой пожалел. В городе, в комитете уже знали про Анну Ракитянские ссыльные хвалили. Ее вызвали в город. С трепетом шла по скверному тротуару. Столицей казался уездный городишко.
В комитете, узнав фамилию, жали ей руку.
Стриженая восторженная Лебедева хлопала по плечу и говорила:
— Ценный товарищ.
Приятно было видеть улыбки. Встречать привет понимающих глаз. Ласкали ухо обрывки разговоров:
— В деревне… Огромная популярность.
Старый работник спросил:
— Вы в Сибири останетесь работать?
— Да.
— Это очень хорошо. Отлетают товарищи на родину. Натосковались в ссылке. Очень хорошо. Работы будет много.
Ореол популярности среди крестьян выдвинул быстро. И в дело вложила природную страстность. Вправду ценной была.
Город, партийные, приобщение к одному делу остро напомнили Володю, видного товарища Степанова. Для нее — Володю. Захотелось сказать ему: «Я — другая. Прости прежнюю Анну».
Написала.
«Вы не захотели ответить мне. Теперь я поняла почему Четыре года чистила душу. И теперь прихожу только потому, что верю в свое очищение». На четырех страницах рассказала всю боль пережитого. Знала, что он еще в Сибири. В областном центре. Увидеть его… Больше ничего не надо. Согласна на долгие годы тогда не думать о себе. Только о деле. Так казалось. Ответ пришел, когда уже перестала ждать. Сердце остановилось, когда увидела незабытый твердый почерк на конверте.
«Мне не хотелось писать вам. Я рад, что вы работаете, и работаете удачно. Мне не хотелось быть каким-то современным Онегиным, но решил написать и буду откровенен. Вы — натура талантливая и партии, безусловно, будете полезны, но я не верю в длительность вашего увлечения. Долго светит только ровный огонь. Пламя вспыхивает и гаснет. У вас все слишком бурно и коротко. И не люблю я покаянных подвигов. Четыре года в деревне выдержать трудно, но я боюсь, что вы жили только разыгрыванием своих ощущений. И на пятый год их не хватило бы. Буду рад, если ошибусь. Что касается наших личных отношений, — в этом я буду также откровенен, — продолжения их не будет. Я — узкий человек, Анна. Порывов не понимаю и не люблю. То, что вас купили когда-то мои враги, — мне не забыть. Мне неприятно, что вы просите прощения. Это ненужное унижение и только свидетельствует о том, что в вас осталась старая сущность. Вы упиваетесь своим покаянием. Я, не зная вас, подошел к вам близко, а мы оказались разными людьми. Правда, я не могу забыть лжи вашей, но это не потому, что ее надо прощать, Я просто не понимаю ее. Вы пишите даже о любви ко мне. Любовь никогда не играла большой роли в моей жизни, но уверен — полюбить могу только правдивую женщину. Резче вышло письмо, чем я хотел, нет гибкости у меня. Кончаю заверением, что от души желаю вам успокоения и удовлетворенности работой. Вл. Степанов».
Побелели губы. Покраснело пятнами лицо.
«Ну, что ж. Не верит… Думает, играю. Посмотрим».
Провела рукой по лицу. Легла новая морщинка между бровей. Так и осталась. Врезалась.
IV
У жизни нет пощады мечтам. Но справедлива жестокость ее. Если здорова душа — привыкнешь крепко на земле стоять. В тридцать лет поняла это Анна. Уж не кричала и плакала редко. Поэтому спокойны черные глаза. Бледность лица и морщинки говорят только о прожитом. А то, что сейчас, — не пугает. И жалко ей молоденькую спутницу. Сидит рядом с ней и меняется в лице. Когда закутывала ребенка, пальцы дрожали.
— Татьяна, возьми себя в руки. Не волнуйся.
— Я не боюсь… Я так.
— Можно и бояться. Живой человек. Только не показывай.
Сидят обе на узлах у дамской уборной. Вокзал живет обычной суетой, бестолковым метаньем людей и окриками начальства. У входа серый человек с винтовкой томится ожиданием смены. Нарочно сели поближе к нему. Бояться нечего. Узнать Анну некому. В этом городе в те дни не бывала.
Усмехнулась мысли:
«А портретов моих еще не продавали».
Но устало тело. Наскучило мельканье людей и густой храп сидящих рядом. С утра на станции. А поезд запоздал. Вьюга рвется в окна. Как-то им?.. Тем, что затаились в тайге. Невольным движением чуть было не пощупала меховую шапку на голове. Но вовремя задержала руку. Привыкла к осторожности.
— Соня, возьми ребенка.
Протягивает живой сверток Анне, а сама озирается.
— Ты встань, Татьяна, походи. Разомнись.
Татьяна встала, но заплакал ребенок у Анны на руках. Живо метнулась обратно. Анна только взглянула. Поняла и поспешно пошла к двери. Тоненькая, горбится на ходу Пичужка… Жалко ее. Жена партизана. Должна уехать с Анной в Иркутск. Там ждут.
— Ничего… Выдержит. Робеет, краснеет сейчас. А в настоящей опасности кремень баба. Хоть и молода. Испытали.
Ребенок снова затянул громкую жалобу.
Прижала его к себе, стала покачиваться, похлопывая сверток рукой. Годовалый человечек. Беспомощный и требовательный. Крохотная искорка жизни. Не задуют тебя? Затих. Хотел еще заплакать. Дернул губами, сморщил нос, но раздумал, заснул. Волной прилила нежность. Прижала к себе и все забыла в тихой ласке прикосновения теплого свертка…
«Чужой. Своего не дождусь. Но сегодня мой, хоть и родная мать рядом».
Татьяна вернулась. Осветила полудетское личико улыбка.
— Спит?
— Да. Не слышно поезда?
— Нет еще. А ты прекрасная мать, Соня. У тебя лицо, как у кормящей мадонны.
Скрыла смущение улыбкой и вдруг насторожилась. Что так пристально смотрит этот офицер? Постоял, прошел и дальше. Вернулся. Опять прошел близко около женщин. И смотрит в упор.
Ответила ему открытым, удивленным взглядом. Лица не помнит. Может, пройдет. Может, не то. Просто легкой победы ищет. Нет, не похоже. Да и она в широкой шубе, тяжелая, с ребенком на руках, усталая, не могла прельстить кажется. А на Татьяну не смотрит? Уф, ушел. Взглянула на Татьяну. У той взгляд сразу твердым стал.
Чуть шевеля губами, Анна сказала:
— Шапками надо поменяться.
— Да. А ребенка бери с собой. Не пропадет. Лучше будет…
Хотела спросить — хватит ли мужества… Подошел милиционер. Нехотя, угловато пробрался через спящих прямо к ней.
— Ваш документ покажите, гражданка.
Анна удивленно протянула:
— Это зачем же? Ни у кого не проверяют, мой на что?
— Предъявите документ.
— Скажите, почему у других не требуете? Только у меня. Что это такое, батюшки? Нигде покою нет! Только ребенок уснул… Документ!
— Приказано. Не скандальте, предъявите документ.
— Кто приказал? Где приказ? Сколько людей сидит. Привязался ко мне. Приведите, кто приказал.
Рядом завозились. С любопытством прислушивались к громкому разговору.
— Я от документу не отказываюсь, покажу. Только у всех смотрите. Приведите, который приказал.
Тараторила бойко и громко. Ребенок заплакал. Милиционер смутился. Оглянулся назад на кого-то и нерешительно отошел.
— Даже жарко стало… Ну-ну, сыночек, не плачь. Таня, подержи-ка платок и шапку. Надо документ достать. Ну-ну, сыночек, полежи.
Деловито расстегнула шубу, сняла платок и шапку. Положила около ребенка. Достала из внутреннего кармана паспортную книжку и стала возиться с ребенком. На Татьяну только глянула. Та поняла.
— Надо пеленку замыть. Дай-ка.
Вместе с пеленкой захватила Аннину шапку с ушами, такую же, как у нее, и скрылась в дамской уборной. Анна не торопясь застегивала шубу. Быстро вернулась Татьяна. Бросила на узлы пеленку и шапку свою. Аннина была на голове. А милиционер уже подходил с офицером.
— Пожалуйте к коменданту.
— Что это… Господи-батюшка! Да вот вам паспорт, подавитесь!
— Ну, не разговаривать!
Жалит глазами офицер. Знает ее или нет?
— Ну и пойдем. Ишь запугали. Покарауль мой узелок-то, Татьяна. Или лучше с собой возьму, не знай, куда поведут.
Надела шапку, взяла небольшой узелок, шаль и ребенка. Татьяна смотрит спокойно. Довезет документы.
— Может, подержишь ребенка-то?
Татьяна спокойно в ответ:
— Ну, куда я с ним. Скоро вернешься. А поезд придет — ждать не стану.
Офицер нетерпеливо крикнул:
— Ну-ну, скорей!
На Татьяну даже не взглянул, дурак.
В комендантской спорила жарко и визгливо.
— К мужу еду на последние деньги. В Сибирь от большевиков бежал. А вы — тоже защитники. Тьфу!
Обыскали, кошелек и паспорт забрали.
За окнами загрохотал поезд.
— Ну, вот… Пришел… Царица небесная, за что же это такое?.. На последние деньги. Здесь продержите… Проживусь — как доеду?
Комендант нерешительно посмотрел на офицера.
— Как ваша фамилия? — резко спросил офицер.
— В паспорте читали. Кадошникова Софья, мещанка города Оренбурга. Да что ж это за люди, господи! Ехала, ехала сколько верст… Нате вам… Вот и письмо от мужа…
— А я вам скажу сейчас вашу фамилию.
Порылся в карманах шинели. Достал записную книжку.
— Яковлева… Анна Николаевна, член Н-ского исполкома.
Анна перекрестилась.
— Господи, батюшка… Никак, в комиссарши попала.
Ребенок громко заплакал: «Мам… мам… мам… А-а-а».
Играла вдохновенно и легко. Смутила обоих.
— Отпустите ее, — вполголоса сказал комендант, — с ребенком!
Офицер еще раз взглянул на Анну Не сдержалась, — привычным жестом провела рукой по лицу.
— Нет. Она.
Сказал решительно:
— Видел сам. И слушал, как говорит. Рукой по лицу проводит. Взять ее!
Скрестились взгляды. Бешено схватила ненависть сердце. В первый раз услышала это: взять. Но сжалась. Не прежняя Анна. Привыкла держать себя в руках.
В тюрьме впитала ее в полноте, эту священную злобу И узнала твердо: теперь не уступит. В тесноте на нарах, обирая вшей с себя и ребенка, думала много. Подытожила все. Рядом с ней спала старуха. Седая, высохшая, темная. По ночам долго молилась. Днем гадала на бобах. Говорила мало и на всех смотрела исподлобья. Как старый, затравленный зверь.
— За что тебя взяли, бабушка?
— А тебе на что? Много вас, пытальщиков. Про себя знай.
Пожевала губами и занялась опять бобами. Сидело их шестнадцать человек. Все политические. Нового вида политические преступники. Жены восставших рабочих, матери дезертиров колчаковской армии, жена одного комиссара. Грамотными были только она, Анна, да молодая Феня, дочь старика-партизана. Больше всех занимала Анну старуха. Никому не говорила о себе. Советовалась только с Богом да с бобами.
Но однажды ночью, когда в жару метался прихворнувший маленький Павлик, повернулась к Анне и уставилась упорным взглядом.
— Павлушенька… Детка моя… Ну-ну, милый.
Ласкала нежно. Чужому отдала тоску по материнству. И ребенок привык к ней. Здоровый смеялся, стал чаще говорить «мама» и тянул ручонки.
А сейчас высохли губы. Лежит неподвижно и тихонько-тихонько стонет.
«Неужели умрет? Татьяна, прости!»
В лице были боль и страх.
— А ребенок-то у тебя чужой.
Вздрогнула от свистящего шепота старухи. Оглянулась кругом. Тускло светила под потолком лампочка. На нарах храпели. Бредили, стонали во сне. Не слышал никто. А старуха смотрит. Словно ждет ответа.
— Как чужой? Что ты?
— Да ты не рожала вовсе — по бокам и по грудям видать.
— Ну, вот еще. Выдумала. Спи, солнышко, детка моя… А-а-а…
— А пошто под ручками не глядишь? Подопрело, а ты и не знаешь. Томится, присыпать нужно гнилушками. И на руки берешь не как мать. Мать сцопат как попало. Свое, не боится. А ты прилаживаешься.
Анна лживо засмеялась.
— А мое како дело, твой ли, чужой. Так молвила. Охота было сказать: примечаю. Мне ево не надо, от своих намаялась.
— За что тебя взяли, бабушка?
— За сына. Последнего прикончили. А я дождалась у суда ихнего, да какому-то в форме, старому, — думала, главному, — морду искусала. Ножик был, да пырнуть не сумела.
— Как же тебя не убили?
— По злобству своему. Молодых в могилу гонют, а старуху на муку жить оставили.
— Так и сказали?
— Ну сказали не так. Старая, темная, будто жалеючи. Прикладами только солдаты поучили, а мне эта жалость ихняя… В могиле зашевелюсь, ежели вспомню. Всех прикончили, не жалели. Ну, не долог их срок! Теперь дожить хочу. Зубами рвать стану!
Выбились седые космы из-под платка. Глаза горят, как у волчицы. Эта не простит. Сибирский зверь.
С воли вести стали передаваться. Отступает Колчак. Точно живой водой спрыснуло. По ночам охватывала жуть, когда в коридоре звенели ключами. Никто не знал, кого расстреляют и кто доживет. Важных «преступников» оставляли, за пустяк убивали. Не было мерки. К убийству привыкни.
Анне было лучше других. Надзирательницы жалели ребенка. И часовые ласкали его на прогулке. Когда заболел, приходил врач. Чистенький, молодой и неловкий. В глаза прямо не смотрел. Не привык еще. Жалел и стыдился. Анна показала ему свои руки. На руках и ногах появилась экзема. Ночью мучила сильно.
— Необходимы ванны. Переговорю с администрацией.
Повезло и тут. Каждую субботу два часовых отвозили Анну с Павликом в баню. Один ждал у входа, другой наверху, в коридоре, где были номера.
Часто думала во время поездок:
«Культурные люди! От экземы лечат, а гноят в тюрьме. И каждый день могут прикончить».
Понимала старуху. Сливалась с ней в злобе против лживой гуманности. Но баня выручила. Узнали на воле, и в одну из поездок устроили побег. Новая банщица одурачила часового. Анна с ребенком скрылась по черному ходу из бани. Два дня прятали в городе. Потом отвезли в деревню за семь верст. Самое тяжелое было — расставанье с Павликом. Последний цветок личного чувства. Узнала: Татьяна доехала и все привезла. Теперь доставят ей сына. Пора.
— Пусть он передаст тебе привет, тихая героиня.
Долго целовала ребенка. Прощалась, как мать. Своего не будет. Поздно. Другая любовь и другая ненависть влекут. В деревне свалил сыпняк. В бреду говорила лишнее. Только немножко собралась с силами, — перевезли в город. На тихую окраину.
Там близко пронеслось дыханье смерти. И узнала человеческую буйную жажду жизни. А думала, что ее уж нет.
Было так. Томила еще болезнь. Дрожали от слабости ноги. Мутилась голова. Сидела на печке. Вихрем ворвалась Поля — хозяйка. Жила она одна. Мужа убили где-то под Курганом. Детей унес дифтерит. Ходила стирать белье и этим жила. На вид разбитная, болтливая, а духом твердая. Верный товарищ. Днем прятала Анну на полатях и в подполье.
— Николавна… Обыск по всему кварталу. Из тюрьмы кто-то убег. Полезай в подполье.
Силилась Анна найти край печки. А жар туманом застилал глаза. Приступка отодвигалась далеко и казалась у другой стены.
— Не могу… Не перешагнуть мне. Далеко.
— Вот горе-то. Ну-ка, дай, не сыму ли…
Охнула под тяжестью безвольного тела. Но выдержала. Билась долго у подполья. Уронить боялась. Но силы хватило. Спустила. Закрыла крышку и дров на нее наложила. У печки подполье было. Анна вяло думала: все равно.
Но когда застучали сверху тяжелые шаги, донесся смех и быстрый говор Поли, разом воспрянула. Ногой задели дрова или убирают? И огнем пробежало по всей:
«Жить… Имею право жить!»
В тюрьме, в подвале — скорбно, только жить.
Могучий звериный инстинкт требовал властно — жить. Исчезла вялость. Не стало песку в глазах. Притаилась и ждала. Когда услышала — ушли и Поля открыла подвал, потеряла сознанье. Много было хлопот с ней Поле. Потом опять увезли в деревню. Оттуда, на далекой от города станции, пристроилась в эшелон чехов. В тифу не срезали волос. Падали. Но были еще густые и блестящие. Заплела в одну косу. Надела прежнюю богатую личинку.
— Пожалуйста, разрешите.
— Не могу, мадам. Я биль бы рад весма.
— Ну, как не можете. Я тихонько проеду. Ведь я тоже все потеряла из-за большевиков. Мужа, семью… К матери еду. Умирать.
— О-о, так рано?
Взметнула кокетливо глазами, а в сердце ныло:
«Проклятый. Тебе бы узнать, как со смертью в душе похоть тешить».
— Ну, пожалуйста! Я немного места займу.
Взяли в свой вагон. В пути был вежлив. И другие глазами ласкали, но сдерживались. Ехали в купе четверо. Ночью почуяла дыханье близко, закричала. Комендант зажег свет, успокоил, строго взглянул на двух, — и больше не было попыток. Наутро комендант сказал ей:
— Я чувствоваль уваженье к вам. Русски дам отчень легкий. Без бой сдаются.
Посмотрела строго и смолчала. Но думала:
«Знал ты русских дам, а женщин русских — нет».
Этот разговор напомнил ее прошлое.
Бесстыдное ненужное кокетство. Сближенье с Георгием. Прииски. Но жгучая боль стыда за это прошлое подсказала: «Кончено». Осталось там, за гранью. В Иркутске узнала о Володе. Уезжал в Москву, оттуда был послан в Оренбург. Теперь неизвестно. Слушала спокойно. И не удивилась этому. Много этапов прошла. И выросла… Теперь прощенья не попросит и Володю не позовет. Думает о нем светло и без боли и память сохранит. Но только память. Ни страсти, ни злобы. А если и есть любовь, так другая: спокойная, человеческая. Не бабья, путами связывающая. Мелькнуло в голове полузабытое стихотворенье:
И в партийной работе стала другая. Вначале любила шумиху. Льстили похвалы. Из-за них старалась. Когда увидала в рядах пролаз, политических спекулянтов и мелких чванливых мещан, вначале возмущалась бурно. И в глубине души гордилась своим возмущеньем. Теперь следила строго за собой, а о них думала:
«Отмоет. Еще ряд испытаний — и всю накипь сметет».
Стала простой и мудрой.
Перед самым концом колчаковщины, когда жила, таясь, в Иркутске, ей принесли письмо.
Скупо светила лампа на одиноком столе. Освещала книги, узкую постель и над столом голову с серебряными нитями. Последние годы вплели их в черные косы. Держала в руках серый листок и читала:
«Сегодня во сне я видел твоего ребенка, Анна, и проснулся в глубокой тоске. Пишу из тюрьмы. Письму удастся вырваться, минуя тюремщиков, а мне нет. Прими письмо смертника. Если бы иначе сложились обстоятельства и я бы остался жить, этого ребенка я видел бы тоже только во сне. В нем воплощенье того, что я хотел для себя лично и о чем тосковал в минуты, когда человек один и живет собой. И только от тебя я хотел его, потому что только тебя я назвал бы женой. Единой не по указке закона, не по собственническому инстинкту мужчины, а по глубокому внутреннему моему стремлению к единству во всем. В моей жизни была одна цель, одна работа и только одна женщина, с которой я хотел бы всегда быть вместе. Это, вероятно, узость, но я такой, и на исходе дней хочу поговорить с тобой об этом, потому что моей узости я не преодолел и в отношении моем к тебе. У меня была одна ненависть. Только к тем, с кем я боролся. И каждый из того враждебного стана был мне ненавистен. Тебя осквернила близость одного из них, и никогда этого я забыть не мог и не пришел бы к тебе, если б остался живым. Но ты понимаешь: я не виню и не сужу тебя. Виню я только их, потому что оторвали тебя от корней, изломали тебя, отняли у меня. Отняли и того ребенка, которого я хотел иметь. Во сне и видел его. У него были большие черные глаза. Твои глаза, Анна. И я захотел послать им мой прощальный поцелуй. Я знаю, у тебя нет детей, и это меня странно радует. Плохо пишется письмо. Я никогда, не умел говорить о нежных чувствах. Попробовал сейчас — не выходит. Прощай. Уношу с собой утешение, что ты действительно пришла на наш общий путь и теперь уж не уйдешь с него. Не уходи».
Скривила лицо боль. Дрогнули губы.
«Не уйду… Но ты шел прямо, а я плутала. И в кривых тропинках потеряла тебя. Ну, что же!»
Провела рукой по лицу.
Теперь на пути.
Правонарушители
1
Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал.
Привычный арест встретил весело.
Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:
— Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку?
Тот даже сплюнул.
— Ну,-дошлый! Все, видать, прошел.
Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека.
В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно и весело.
— Как зовут?
— Григорий Иванович Песков.
— Какой губернии? — брезгливо и невнятно спрашивал комендант.
— Дальний. Поди-ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново-вознесенский.
— Как же ты в Сибирь попал?
— Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.
Сказал — и гордо оглядел присутствующих.
— Да каким чертом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?
Степенно поправил:
— Не чертом, а поездом.
На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол.
— Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы.
Детей питерских с учительем сюда на поправку вывезли. Красный Крест, что ли, ихний. Это дело не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкормите, дескать. Ну а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревню убег.
— Что ты там делал?
— У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый!
— Ну a добровольцем ты у Колчака служил?
— Служил. Только убег.
— Как же ты в добровольцы попал?
— Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.
— Что же ты от красных бежал? Боялся, что ли?
— Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.
Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул
на них и приказал:
— Обыскать.
Так же охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные — все скрашивали. И заморенное помятое яичико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.
— Деньги-то ты где набрал?
— Которые украл, которые па торговле нажил.
— Чем же ты торговал?
— Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим
— Ну, хахаль! — подивился комендант. — Родители-то у
тебя где?
— Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детями за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.
И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: "Пропащий". Но свет глаз Тришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.
— Что ж ты у Колчака делал?
— Ничего. Записался да убег.
— Так ты красной партии? — вспомнил комендант.
— Краснай. Дозвольте прикурить.
— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?
— Четырнадцатый, в Григория-святителя пошел.
— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?
— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет.
Мать забыла, а Гришка помнит.
— А ты думаешь, на небе?
— Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.
Комендант снова потускнел.
— Ну, будет! Задержать тебя придется.
— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно.
Посидим. До свиданьица.
Гришку долго вспоминали в чеке.
Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека.
Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.
— И чего человек старается? — дивился Гришка. — И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой...
Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо.
Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели.
Разбередил очкастый.
По вечерам в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.
— Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.
Ночью плохо было. Мальчишки возились, и "учитель" покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог.
Дивился:
— Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.
И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:
— Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!
И целует.
Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает:
детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился.
Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило.
Молиться хотел, да "отчу" не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.
Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно.
Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой...
Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили:
— Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.
Ну и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай.
А то еще руками вот этак разводят и головой то на один бок, то на другой.
Где гнутся над омутом лозы...
Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был "Интернационал"! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!
Вставай, проклятьем заклейменный...
Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за "Интернационал" Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа.
Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:
— Надо петь: весь мир жидов и жиденят.
А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть ими дрязнят. Ну и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. Аукак белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:
— Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормят пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет.
Вот сбегу, тогда украду.
Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить не учат. Говорят, инструменту нет. А эту "пликацию" из бумаги-то вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборную на стенке налепил и карандашом подписал: "Тут тебе и место сия аптека для облегченья человека Григорий Песков".
Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит на всех — чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:
— Курить человеку правильному не полагается.
Куренье — дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил, — охота задымить папироску. А тетя Зинд всех голубчиками зовет. По го-4 ловке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.
— Это нехорошо; голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку почитаю?
А ты порисуй.
Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал:
"Анкетов никаких нилюблю и нижалаю".
Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:
— У-у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.
Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговки застегивает, и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает.
Девчонки все пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку с мальчишками охальничают. Манька с копей — ничего. Песни жалостные поет и книжку читать любит. Но и с ней Гришка не разговаривает. Боится. Нагляделся на девчонок-то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать!
В монастыре детский их дом был. За высокими стенами. И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:
— Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся — малолетние правонарушители. Важно! По-простому сказать, воры, острожники, а по-грамотному — пра-ва-на-ру-шители.
Это название нравилось так же, как "Интернационал".
Гришка гордился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.
Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задвигаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет. Снег мягким стал. Канавки уже нарыли, и вода в них под тоненьким, тоненьким ледочком. Сани по дороге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами не стук-стук, а чвакчвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радостные.
Осенью на них желтые мертвые листы трепыхались, а зимой снег. Теперь все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори. Дышат не надышатся. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день по улице криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!. На дворе хорошо, когда по-своему играть дают. А как с учителями хороводы да караваи — неохота.
В лапту можно.
Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили. И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутков своих выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне суетились. Тогда на баб живых походили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и прокричали:
— Ленин... Сафнарком!
Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла.
Веселее жить стало.
II
Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали.
Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Врывался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лике весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорялся он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые— стали.
А Гришка жил в себе Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часового, агента чеки и воспитателей прибавили.
Но случай помог.
Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой чреде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Близко к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили церковью монастырской пользоваться. Но потихоньку каждая жалобу свою излипа.
По утрам поодаль от высокой монастырской стены останавливалась крестьянская подвода. Иные дни — две-три. С видом виноватым, съежившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно, ласково говорили с часовыми, юркали в калитку. Двор встречал их отзвуками чуждой новой суеты.
В воздухе звенели слова: "товарищ", "детдом", "правонарушители".. Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых, с готовым вопросом в детских глазах, шли в задние малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим дающим тайную лепту излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия На собраниях в церкви монастырской, совместно с верующими, уговаривала: "всякая власть от бога".
Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывая, поскорбела:
— От храма божьего отрывают.
И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.
— Монахинь выселяют!
— Театры в монастыре будут...
— С икон ризы снимают...
— С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.
— Мать-игуменью в чеке пытали.
Из домов весть крылатая на базар, что на площади рядом с монастырем, перекинулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна, в тревоге, — за капусту три тысячи недополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью, визгливой и бестолковой:
— Матушка, царица небесная, троеручица! Что же это, холеры на их нет... сует деньги, а сам дирака! Коммунист лешачий!.. Жидово племя! Микола-милосливый... Молитвы, вишь, помешали... Чисто черти, ладана боятся. Невесты Христовы, матушки наши... да куда же пойдут? Задави их горой, ироды, антихристово семя!.. А, на-кося. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Придико еще... Лихоманка собачая!..
Мужики языка не распускали, но с базара, торг закончив, не уехали. Ближе к монастырю лошаденок подвинули.
Подали подводы для монашек. Большие ворота открыли. Часовые около них встали. И, точно проводом тайным, весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из-под черного клобука мать Евстолия. И в воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлюпали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней, как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весеннем, черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:
— Матушки наши! Молитвенницы! Простите, Христа ради!
За ней другая. Еще звонче крикнула:
— Куды гонют вас от храма божьего?
Третья прямо в ноги лошади игумниной. И петуха из рук выпустила.
— На нас не посетуйте! Богу не пожальтесь!
Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц на плач прохожие метнулись. Конный солдат с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила.
К нему ринулась:
— За что над верой Христовой ругаетесь? Покарат!.. Дай срок, покарат!
Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины:
— Не дадим монастырь на разгром!
— Кому монашки помешали? Кого трогали?
Юркий и седеаький учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задребезжал старческий выкрик:
— Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?
Толпу подхлестнул:
— Правое нет!
— Ленину жалобу послать!
— Произвол местных властей!
— Богоотступники! В жидовскую синагогу никого не поселили. Жиды, христопродавцы!
— Ага! Да! В мечеть да в костел не пошли! В православный монастырь подзаборников поселили. В православный... Ни в чей...
А "подзаборники" шумной ватагой уж со двора высыпали.
Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под ноги, как щенки бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сияли серые глаза, и головенка с восторгом из стороны в сторону покачивалась.
Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красные. А монашки чисто куклы черные на пружинах. Туды-суды кланяются. Губы поджали.
— Ишь, изобиделись!
И, набрав воздуху в легкие, полный задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал; — Сволочь чернохвостая!
Диким концертом бабы отозвались:
— Над матушками пащенок ругается!
— Молитвенницу нашу материт!
Смяли бы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил.
К стене монастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было. Другой тоже оправился и во двор крикнул:
— По телефону скажите! Наряд нужно!
Но шум уж разнесся по городу. С разных концов мчались конные.
— Расходись... Расходись...
— Граждане, которы не монастырски, назад подайтесь...
Назад!..
Монашка одна визгнула и наземь кинулась. Конный к ней метнулся:
— Подсадьте матушку на подводу... Под бочок, под бочок берись. Клади... Гражданка игуменына, на подводу пожалыте.
Подмогните! Проводите!
Смешливый стекольщик, в толпе застрявший, загоготал; — Ишь ты! Ухажер военный подсыпался.
Живо подхватили:
— Гы-гы... Га-га... И монашкам хотится с кавалерами-та.
— Хотится с ухажерами пройтиться... Ха-ха-ха...
— Лешаки-окаянные. Хайло-то распустили. Матушки наши!
Печальницы!..
— Ы-ы-ы... Еще на копеечку, тетенька, поголоси, советску десятку отвалю...
— Охальники! Кобели проклятые]
— Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.
— Гы-гы-гы... "Пойдем, Маня". Фу-ты; ну-ты, ножки гнуты... Юбка клош, карман на боку... Барышни-сударышни!
— Глянь-ка, глянь-ка, монашки добро укладают.
— Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позади сундуки тащат.
— У игуменьи в подполье чугун с золотом нашли.
— Сто аршин мануфактуры!
— Какие мученицы, подумаешь! Не на улицу выгоняют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?
— Я, как коммунист, губисполком одобряю.
— А я не коммунист, но тут я их понимаю. Детей девать некуда. П-а-нимаю.
— Знамо, околевать ребятам-то, што ли? Им тут покои да послушницы, а дети под заборами.
— Которы сироты... В пролубь их, што ли?
— Ну-ну, расходись... Граждане, граждане! Осадите!
Монашки юбки подобрали. Суетливо вещи укладывали.
Иконописность свою потеряли. Толпа гудела. Сочувствие монашкам в разговорах сгасло. Гришка от стены тихонько отделился и в толпу шмыгнул.
III
Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по разным городам шманяться пришлось. И говорит: "Планида у меня такая беспокойная". Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а не понял. А теперь вспомнил, к себе применил:
— Планида у меня беспокойная.
Сейчас, к слову сказать, ребятам там "бутенброты" с чаем дают, а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда неохота все-таки. Да брюхо-то несговорное.
День протерпит, два, а там и замает человека. И припасы — ау!
Все изничтожили. Шестеро их на кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губнаробразовский с кучером обворовали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище на ночевки пристроились. Деньги у тех-то были, да и Гришка с себя рубаху да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь, привяжется.
— Кто ты есть? Откуда?
А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И не посмотрит!
Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто билетика не дал. В детской, когда без карточек, с тарелок доедать дают, а нынче погнали. "Рабкрину" какую-то ждут. В один дом сунулся.
— Подайте, Христа ради... Отца на войне убили, мамка от тифу в больнице померла.
Взашей вытолкали.
— Иди, — говорят, — у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.
Дивится Гришка.
— Дак нешто нас комиссары развели? Отцы да матерья.
А к им подбросили. Ну, дак, говори с дураками! А есть охота.
Столовые уже закрывают. Эх ты, незадача какая вышла!
С горя дал башкиренку — тоже у столовой стоял — по уху, а тот ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.
— Товарищ... дайте на хлеб...
— Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.
— Ишь, пошел, порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!
Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел:
— Почем десяток?
— Проваливай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.
Гришка глаза прищурил:
— Ох, какой зазнаистый! А може, у меня десять тыщ есть.
— Есть у тебя десять тыщ, других омманывай. Ну-ка, покажи!
— Стану я всякому показывать. Може, и побольше было.
— Ёыли да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!
— А ну, дай!
— И дам!
— А ну, попробуй!
— А попробую!
Встали посреди панели и друг на друга наскакивают. А туг барыню какую-то нанесло:
— Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?
А у того папироски-то в ящике в руке. Сдуру-то и сунься:
— Высшего сорту. Сколько? Десяток?
А она его за рукав:
— Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотный? К родителям сходим.
Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну, денек!
— А денек уж сгаcал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая, розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.
Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стенами каменными огорожено, а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у них, в углу меж двух стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жгли. Но часто нельзя. Дознаются.
Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу "настреляли" и Гришке оставили. Две девчонки от сытости песню тихонько заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали. В яме сидели плотно. Тесно, а лучше. Теплее, да и по ночам не страшно. А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно — лучше.
А когда месяц на небо выпялится и тихо кругом — страшнее.
Далеко собаки пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одно слово могила. Чудится, затаился кто-то и рот зажал, чтобы не не дышать, а сам смотрит. Из ямы выглянешь, кресты месяц освещает. Все кресты да памятники стоят прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят. Сегодня ночь темная, ветреная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали, слушать стали.
Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька и рассказ повел:
— А вот я вам, товарищи; расскажу, какой случай был.
В одном городе... Ну, дак вот, барышня одна так-то... Не го реалистка, не то емназистка... Пришла ето домой да "ах"... да
"ах, папаша, ах, мамаша, помираю". Дрык-брык, да на пол упанула. Мамашка ето к ней, папаша к ей, а она "помираю да помираю". Ну, канешно, сичас за дохтуром. Дохтура привезли.
Вот так и так, господин дохтур, помирать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, канешно, и квасом и шиколатом, а она, "нет, нет, помираю". Дрыг-брык, и не дышит. Ну дохтур уехал, канешно.
Маменька это повыла, повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же на кладбище. Она, канешно, там лежала, лежала да давай шебаршиться. Слушает сторож, шебаршится!
Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниньщ. Они людей понабрали, могилку разрыли, а она уж вдругорядь померла, канешно. А, видать, шебаршилась. Ножку одну вот эдак под себя подвернула. И говорит тогда дохтур: с ей был листаргический сон. И в газете так пропечатали. Я тогда маманьке с папанькой своим приказал: меня не хороните, пока я не прокисну и не протухну. Да-а.
Ребята слушали, затаив дыхание. А как кончил, Полька-дура завыла: "Боюсь".
Гришка ее урезонивая:
— Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.
А Васька божится:
— Ей-tk), лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.
Петька-старшой, сам парнишка, — ровесник Гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:
— Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, он те пострашнее Васышного покажет. А ты, пустобрех, заткнись!
Васька обозлился:
— Ишь ты! "Заткнись"! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бляблю хорошую, так поверишь.
В это время в лесу: бах-бах! За стеной кладбищенский лес сразу начинался.
Дети затихли.
— Стреляют, — прошептала Анютка.
Тихо сказала, но страха в голосе уж не было. Не в первый раз они выстрелы слышали.
Гришка в темноте деловито брови нахмурил.
— Это которых на расстрел. Контрреволюционеров.
— А пошто? — Полька пискнула.
Петька отозвался:
— Вот дура. Который раз тебе говорю: супротив советской власти которые.
Завозился молчаливый Антропка:
— А я боюсь, когда человеков стреляют. Больно.
А в лесу опять: бах-бах! Затаились. Слушали с любопытством. Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех, в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе видал. У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы проглотив, тихонько сказал:
— В тюрьму бы их лучче.
Петька презрительно сплюнул:
— А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал.
Его как?..
— А в тюрьму его...
— А он убегет, да опять убьет.
— А солдатов к ему приставить, он не убегет...
— А он солдатов убьет.
— А у него ривольверту нету, не убьет...
Крыл Петьку. Подумал — и сказал только:
— Ты дурак, Антропка!
А Гришка ничего не говорил, а думал:
"Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?"
И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.
Затихли выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще? Не дождались. Пришел сон, веки смежил и всякие мысли отвел.
Антропка только во сне взвизгивал тихонько.
Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным. Тьма скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в губчека и в расстрел играли. Петька председателем губчека был. В одной руке будто бы револьвер держал, а в другой из пулемета стрелял. Пбльку с Анюткой расстрелять водили.
Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело командовал:
— Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..
В звонких детских криках не было ни кощунства, ни жути, ни гнева. Они в простоте жизнь больших воспроизводили. А солнышко грело жарко. Будто лаской своей обещало: новую игру еще придумают, эту забудут.
День веселый удался. Парижскую коммуну праздновали.
В детской столовой без карточек кормили. Кладбищенские жильцы в близкую очередь попали и покормились. А потом по улицам с народом за красными флагами ходили. "Интернационал" пели. На площадях ящики высокие красным обтянули. На них коммунисты руками размахивали и про Парижскую коммуну что-то кричали. Один Гришке больше всего поглянулся.
Большой да кудлатый, орластый. Далеко слышно! По ящику бегает, патлами трясет, а потом как по стенке ящика ударит кулаком:
— Шапки долой! Буду говорить о мучениках коммуны!
Здорово и внятно рявкнул. Гришка слова запомнил, а потом сам в толпе кричал:
— Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!
Около бабы какой-то закричал, она ему затрещину влепила:
— Свиненок, вопит без ума! Кака така коммуна-то — не знает, а орет!
Гришка голову, где влетело, погладил и дальше радостный помчался. Как не знает? Знает. Коммуна — это у коммунистов, а Парижеска .. Город такой есть. За Москвой где-то. Слыхал еще в детском доме: "большой город Париж, в его приедешь — угоришь". Нет, Гришка, брат, знает. Снова в буйном восторге заорал:
Сваею собственной рукой!
Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тоненьким голоском визжала. Что — не разберешь, а смотреть на нее смешно. Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голоском передразнил: и-ти-ти-ти! И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.
Пальто чистое, и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками машет и орет:
— Товарищи, прашу вас анракинуть капитал!
Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к "ящику":
— Убедительно прашу вас апракинуть капитал!
Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили.
В толпе захохотали:
— Вот те опрокинул капитал!
— И чем натрескался? — завистливо удивился хриплый бас.
Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел:
— Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!
Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли Гришкину коммуну. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые красноармейцы ругались, но не били.
IV
После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек. Три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:
— Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!
— И на что вас рожали? Тьфу. Ну ты, голомызай, не веньгай! Биз тибе тошно.
А башкиренок косоглазый не понимал по-русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом аа длинную рубаху взял и за нее за собой тащил. Тюбетейка в грязь упала. Старший поднял и набекрень ему ее нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучий, но монотонный.
— Ига кайттырга ты-лэ-эм! (домой хочу).
Ворчал старший в ответ:
— Катырга, катырга... Знамо, каторга. И вам, и нам с вами.
А ты не скрыпи! Коли тебе жизня определила каторгу, скрыпи не скрыпи толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!
А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили. Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин, с воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:
— Безобразие! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку-то?
Старший к нему дернулся:
— А жалостливый, дык возьми к себе! Кажный день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?
Господин возмущался. Дети дальше брели.
В наробразе, известно, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Старенький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет.
Барышня с челкой завитой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек теребит и сердится:
— В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают!
Что это...
А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, и в одном белье, и в ремушках разных.
В приемник Гришкину партию отправили. Т?ам сказали:
— Некуда. Не примем.
Назад привели. Старший сопровождающий плюнул и ушел.
Двое других цигарки завернули и на пол на корточки присели отдохнуть. Гришку замутило. И от голода, и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным и старым. А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытоптались. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.
— Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты, башкурдистан, чего воешь? Автономию просишь?
Глаза узкие щурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся.
Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. ВесЪ трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил.
Дела.
— Подождите, товарищ Мартынов, — затянула жалостно старшая барышня. Всегда вы с шумом. Вот голова кругом идет. Куда их девать?
— Сортиры чистить, землю рыть... Куда? Место найдется.
Эй ты, арба башкирская. Долго еще проскрипишь?
И похоже передразнил: — — И гы-гы-гы...
У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись.
И скрип свой прекратил.
— Ну, так, барышни, как? Все бумажечки, бумажечки? По инструкции, с анкеточками?
И опять ладони одна о другую.
— Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.
— А вот хорошо, товарищ Мартынов, — обрадовалась старшая. — Мы вам сейчас отберем. Тут есть такие, у которых дела уж рассмотрены.
— Я сам отберу. Уменя своя анкета.
И к ребятам со стулом повернулся. На белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся:
— Эй, ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?
Тот скраснел и затормошился:
— Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл, — а я...
— Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или с ножиком?
— Нет, я не дерусь.
— Не дерешься? Дурак. А ты што прозеленел?
Это Гришке он.
Гришка глянул, как он на стуле вертелся и руки одна об Другую скоро, скоро шваркал, и засмеялся. Вспомнил:
"Обезьяну эдакую беспокойную в зверинце видал. Похоже.
И руки длинные, и мордой чисто дразнится".
— Что смешно? Рожа-то что у тебя зеленая?
Гришка носом шмыгнул и в ответ:
— Прозеленеешь. Не пимши, не емши с утра тут!
— Не привык разве без еды?
— Привыкать, привыкашь, а все брюхо ноет.
— Из тюрьмы, што ль бежал?
— Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.
— Пострижку уж делали? Это, друг, у них не монастырь,, а меди-ко-пе-да-го-гический городок зовется. Сукины дети — придумают? Што же ты бежал?
— А так. Неохота там.
Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала:
— Дефективный. Очевидно, категория — бродяжников.
— Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?
— Песков Григорий.
— Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?
— Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. А только так теперь не полагается. Малолетних правонарушителев устроили.
Захохотал негромко, нутром, и лицо человеческое стало — не обезьянье.
— Слышите, товарищ Шидловская, правонарушителев устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?
— Дух от их нехороший. А надо, так буду.
— Ну, ладно. Со мной поедешь.
— Куда?
— Там увидишь.
— Скушно будет — убегу. И через часовых убегу, — со злым задором Гришка кинул.
— У нас часовых нет. Беги. А плохой будешь, так и сами вышибем. Под задницу коленкой! Нам барахла не надо. Этого беру.
И других ребят с усмешкой выспрашивать стал. Смирных да ласковых не брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиренка скрипучего.
— Через три дня на вокзал приходите, а завтра здесь ждите.
Для тела покрышку найдем.
— Так ведь их надо куда-нибудь устроить, товарищ Мартынов, на эти дни. Нельзя же их без надзора.
— Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!
Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Морду больно хорошо скроил Мартынов.
— Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражает! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные...
— Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдемте продукты получать!
— Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.
— Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Аида продукты получать!
— Да ведь они у вас все разбегутся!
— Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медико-педагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.
На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка:
"Этот ничего. Мужик стоящий".
Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом — мануфактуру, в третьем — крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И все на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:
— Эй вы, барахольщики, что брюхо распустили. Навертывайте, навертывайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи!
Скот напоить надо.
И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым Летел во двор с гортанным криком.
Гришка ожил. Главное дело — весело. Сколько народу за день переглядишь.
Высыхает уже земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тороватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить.
Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли.
Одежда легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.
Дорога вся в колонию была для Гришки — как первый сои чудесный.
В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал.
Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему-рассказали. Гришке он сказал:
— Родителей нет — это, друг, хорошо. Родители — барахло!
Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили — и ладно. Сам живи.
— Да, а милиционер говорил: вы — как навоз.
— Навоз — хорошо. От навоза — хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем.
Молоко — это хорошо.
Мяса не ел, над ребятами смеялся:
— Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.
Гришка визжал от восторга:
— Это говядина, не собачатина!
— Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это,
друзья, хорошо!
В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой — кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели, кто какую знал и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:
Ай дын бинды дынды бинды.
Ай дын бинды дынды бинды.
Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроет, ножки под себя крест-накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.
В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал.
Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почуял: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:
— У-гу-гу-гу-гу!..
Вечером, когда кругом прохлада легла и тихоньким быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили.
Ух и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!
V
Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:
— Кто была первая дева?
Горы отвечали:
— Ева-а!
Смеялся Гришка:
— Ишь ты, каменюги, разговаривают.
И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:
— Хозяин дома-а?
Горы сообщали гулко и раскатисто:
— ...Ома-а!
— Эха это называется. Ха-ар-ашо!
Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин еов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.
Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый. Вчерашнее тепло за ночь не растерял.
Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут:
— У-у-у-х... у-у-у... у-х.
Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится.
— У-ух-ху-ху-у-у!..
И Гришкины босые ноги обольет.— Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет — саднит. А хорошо!
— Дери, матушка-вода, отмывай.
Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду. Охватила, прильнула, и опять кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.
— Го-го-го-го!
А с горы ребячий отклик несется:
— Песк-о-ов! Гришка-ка горласт-а-а-й!
И трое, по пояс голые, в штанишках коротких, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.
Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по-звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.
— Рожка трубить скора нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?
— А я-то не работал? Магомет прилипучий! Ране всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза-то не разлепил?
— Ну латна, Латна. Аида, башкой мыряй, глядеть хочу.
А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно на песок выбежал. На руки вниз головой стал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.
Тайчинов восторгом захлебнулся:
— Баш...кой мырят! Башкой! Уй-уй-уй!..
Синеглазый полячонок Войцеховский тоже "башкой мырнул". Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.
Степенно в воде пофыркивал крепкий плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рявкнул:
— Ого-го-го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро-о!
Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. А когда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплевывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает.
Какие-то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро вдоль и поперек мерили. Ребят с собой в лодку по очереди брали. Так вот эти говорили по-ученому: вода в нем радиоактивная. Ребята с гордостью друг другу передавали:
— В нашем озере вода радиоактивная.
Большое озеро. Как РТЗ лесу выйдешь к нему, широко и вольно сразу станет. Берега горами вздыбились — горами высокими, лесистыми. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И л.ес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома-дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились.
На крутизне надбережной семь дач красуются. Колония детская. Отошла подальше от деревни и других дач.
Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая парусная "Диана". На палках двух высоких холстина надписью яркой манит:
"Трудом и знанием побеждена стихия".
Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал.
"Побеждена стихия". Во-о!
Слово-то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь — богатырем охота стать. И озеро — стихия. Оттого и шумит.
Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился. Круглыми серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте из лесу большой старый пень выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пень, как живое лицо стариковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит.
А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:
— Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб — хны!..
Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:
— Хны!.. Хды!.. Хны!.. Сергей Михалыч, хны!..
Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. Хны — хорошо, хны — плохо. Хны — быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услыхал. В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.
Гришка первым в кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами.
Дров-то вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колол. Мартынов увидал, рощу скроил и руки потер.
— Ага, Песков — хны!
Весь вечер Гришка похвале радовался.
Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.
И певуче, но властно запел рожок!
— Ту-ру-ру-туру-ру-туру.
Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые — всякие. Мылись, плескались, барахтались.
Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженые, легкие в прыжках. На мальчишек походили.
Второй раз запел рожок.
С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились.
Мчались все на террасу-столовую, как на приступ.
Махонькая черноголовка-девочка прозвенела из толпы!
— Дежурные, чай пить идем.
Гришка, в сером халате кухонном, с террасы-закричал!
— Эй, эй!.. Я стих составил. Слушай-ти-и:
Рожок поет, Чай пить зовет!.
Надточий в ответ рявкнул;
— Не чай, а кофю...
Мартынов тут как тут. Морду скроил и, как дьякон в церкви, пробасил!
— Я без чаю не скучаю, кофю в брюхо наливаю. Графья, не хотите ли кофею?
Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.
— Кто луки разбросал? Хны! Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха ФеДяхин, ты вчера в ночное ездил? Еще йто?
Опять скачки устраивали?
Расставив ноги, В землю у склада врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал. Жаловался.
— Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева? Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!
— Работники — барахло! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется. Хны!
А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает, Это улыбка такая у ней.
Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все все равно.
А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озеро, лес — хорошо! А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Так. Не знал Гришка. Только, как посмотрит, все кругом краше станет. Как вместе дежурили, таз с помоями с ней, как икону, нес. Мартынов два раза заприметил. Крякнул.
"Растет, мерзавец!" — подумал и "хны" сердито сказал.
Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая.
Нет хватанья и мути во взглядах. Вся короста шелудивая, от прежних скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.
— Григорий Песков, хны!
Смотрел и за другими зорко. Были с девчонками взгляды нежные. Лысяева Нюрой-болыпой ребята поддразнивали, но не было мутного вожделения, рано созревшего. К девчонкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было того, что в городах в детских домах часто случалось. Сам дивился.
— Вот она мать-природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут. — Морду скроил, по ногам себя ударил и мыслью закончил: "В свое время хороший приплод дадут".
Терраса широкая гудела. Вся колония здесь. И дети, и воспитатели, и кучер с пекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии — и сотня детей.
После чаю все в разные стороны партиями рассыпались.
Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались.
Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди дорогу на грибное место указывал. Первый ходок в колонии.
Все места знал. На ночевку в лес один раз за семь верст ходили; одеяла забыли. Сбегал — одеяла принес. Потом целый день с охотником вприпрыжку без устали ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:
— Место! Аида!
За работу принялись.
Другая партия на лодке с песнями отплыла. На тот берег за рябиной ярко-красной. Еще мороз не, хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посредине ни складочки. Ну, день сегодня!
Гришка в третьей партии. С большими самыми, версты за три на ферму, с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колонисты сарай строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.
Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.
В наробразе смеялись:
— Электрификацию в своей колонии не затеваете ли?
Посмеивался, руки потирал, а заявлял твердо:
— Затеваю. Электрическую машину на зиму поставлю.
Дружно над ним издевались. А машину из губернского города, действительно, привез.
В наробразе дивились;
— Ну, хват!
А ребята говорили:
— Мартынов, это — хны!
И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по-другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.
Гришка думал:
"Всяких людей видал, а этакого нет. Рвач!"
Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копей. И сироты из детских домов. И правонарушители, как Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал...
...Ходу здоровым! Вор, мошенник — давайте. Коли тело здо1 ровое, выправится.
Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль.
Томились в обстановке достоянного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.
Воспитателей много назад угнал.
— Инструкции пишите — это у вас хорошо выходит.
Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисо
ванью обучать хотела. Все цветочки рисовала ц платочки на голове по-разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.
Гришка, как увидел, громко запел:
— Богородице деву радуйся!
И прозвали ее "богородицей". А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:
— А дождя не будет?
Тайчинов визжал:
— У-уй... Страшна! Размокнит.
Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили.
А она улыбки, как подарочки, во все стороны.
Мартынов увидел и рявкнул:
— Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь.
Ее в город надо срочно доставить.
И увезли.
До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть.
В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли ойоло Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и ~зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый "Интернационал" и руеские песни проголосные.
У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры-большой. Ух и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб — другая стрела для Тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.
И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.
Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил.
Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но, когда кричал Мартынов: "Спать, спать", — уходить не хотелось. Но он, посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры.
По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без видений печальных. И тут мальчишки охальничали спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главноe дело — целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.
А лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет да и отдыхать прячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.
О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали. Не хвалили.
Одна комиссия сказала:
— Образовательной работы нет. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом возрасте.
Мартынов дергался, руки потирал и похохатывал:
— А вам бы для картиночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от нас. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу засядут. Сейчас некогда. Работать надо, чтоб зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!
Московская одна баба, худая, рыжая, приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде нюхала и губы поджимала:
— Здесь морально-дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.
Мартынов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся:
— Вы книжечку об этом напишите. Нам на подтирку пригодится.
И вдруг свирепел:
— Воров из города привез. Где замки у нас? Только на складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? На ночь в швейной открытой всю мануфактуру оставляем. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож — собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков.
Всю Сибирь исколесил. Весь матерный лексикон изучил. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить — не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите которые!
Ну, ну. То-то! Хны!
Пожимала плечами москвичка.
— С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться приедут, а вы через день их гоните.
По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:
— Это — да. Матерей не люблю! Барахолят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не сидят. "Ах, мамашенька...", "Ах, сыночек". Это, товарищ-мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хны!
Губы надула и уехала московская. Ее тоже на работу потянули было.
В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были.
Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир нагуливали. Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:
— Что, бульвары тут для вас? Мадамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте!
Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!
Еле калитку нашли.
А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет.
Внизу Михрютка лает. И подпись:
"Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок".
Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Некогда было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.
Мартынов бумажку из города получил.
— Хны!
И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?
Осень свою нитку до средины допряла. Березы облетели.
Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плакало проливным дождем. Озеро больше не синело. Прочернело и с ревом береца било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки — юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подуя. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил.
Сорвать хотел.
И не только дождь и хмаль с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал.
Своем "хны" не ласкал, а ругался.
На собранье детям сказал:
— Сколько есть муки, на месяц должно хватить.
Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно— пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали.
На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забьгаи, Гришка про Америку недавно услыхал, а теперь глазами засиял:
— Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это — Америка.
А в старой колонии Европа. Вот дак ух!
И ребята подхватили:
— Аида в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?
Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.
А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут, не-проберешься.
Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и: летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлебт"ору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибегали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было — не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.
Мартынов колонистам рассказал.
Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить:
— К нам их, в колонию!
Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украла. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись.
Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще часто звучал.
Мартынов посмеивался еще и командовал:
— Пояса потуже! Чемоданы подтяните. Хны!
Но реже морды кроил и часто на станцию ездил. Ночью одной озеро разбушевалось. С гулом тоскливым о камни билось.
Потом злобой вскипело и раскатывалось:
— У-ух... Уу-ух. У-уф!
Ветер стены рвал. Разбить хотел. В трубе гудел: вышибу-у, вышибу-у. Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипла и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разговор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И веем, кто близко, проклятье посылало.
Гришка покрутил головой:
— Стихия.
Но богатырем стать уж не думал. Вся колония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни, в горах. А кто-то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает.
Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:
— Смирть близко гулят.
Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули. Войцеховский крикнул испуганно. Но Цоступь тяжелая успокоила.
Гришка радостно встретил:
— Сергей Михалыч?
— Я!
И в спальню вошел. Гришка у двери спал. На его кровать тяжело вдавился.
— Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь? Хны!
У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.
— Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!
А Мартынов устало сказал:
— Дело табак, Григорий Песков. Дело — хны!
— А што?
Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.
— Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь — хны. Не прокормимся.
Взвился Гришка:
— Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!
Затрясся весь и головой в коленки Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:
— Сантименты!
А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:
— Зачем в город? Помирать — дак тут!
— Корой прокормимся!
— А там чем кормить будут?
— Не налезай, Васька! Тут колония лопается, а он в ухо.
— Сергей Михалыч, не дозволяйте!
И все загудели на разные голоса:
— Тут останемся! Никуда не поедем!
— Да-да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а тоже говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть — не помрем, а изведемся.
Надточий успокоительно забасил:
— Хибаж до новины не дотягнэм? Дотягнэм. Пашня у нас своя.
Гришка в руку Мартынову вцепился:
— Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!
И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:
— Не отдавай нас опять в правонарушители.
Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почуял в них страшную человеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:
— Не отдам.
СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна (1889 — 1954). Правонарушители.
Впервые опубликован в журнале "Сибирские огни" (Новониколаевск), 1922, № 2. Печатается по изданию: Сейфуллина Л. Н. Собр. соч. в 4-х т..
т. 1. М.. Художественная литература, 1968.
Перегной
Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из русских, только немцами нанятый и в запечатанном вагоне в Россию доставленный. Для смуты. Бывший старшина волостной Жиганов очень этим человеком интересовался. Всегда из города новый слух привозил. Вчерашний день за полночь вернулся. А не утерпел: в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.
— Кто там? Что такое?
Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:
— Сбежал! Не пужайтесь. Благополучно вам вечеровать! Из городу сейчас. Сбежал!
— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?
— Ленин. Из банков все забрал. Вчистую. И скрылся. Погоня послана. Завтра все расскажу!
— Зайдите, Алексей Иванович. Сейчас открою.
— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!
— Газеты привезли?
— Привез. Только старые, в них еще не пропечатано. По телеграмме… Ну ты, большевицка холера, т-пр-у!
И в сенях уж сам с собой проговорил:
— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Сказано — скотина!
А назавтра радость сникла. Обманули в городе: утром какой-то с бельмом на глазу с «мандатой» приехал и непонятные слова на сходке читал: «Совнарком — исполкомам всех совдепов». Не сбежал Ленин. Он на этаком языке разговаривает.
Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали: Небесновка. Всесектанты для чтения Писания Священного грамоте обучены. От Тамбовки, хоть одно село Тамбовско-Небесновское, столбом с доской отгородились. И доска для грамотных. Белым по черному прописано: Небесновка — мужеского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской почти крайний дом тамбовский, а народ разный. В Небесновке почище. В Тамбовке тоже кто пообразованней и помоложе о Ленине осведомлен, а бабы да старики про большевиков слыхали одно: войну кончают. Откуда большевики — в точку не смотрели. Короткий народ. Не дохватывают. Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдатье тамбовское отменило его от должности. А сейчас не разбери-бери какое правленье. Солдат Софрон верховодит. На сходке к Жиганову прицепился:
— Эй ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову власть распускать?
Немалого роста Софрон и плечистый, а жигановские глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На голову выше Жиганов. И неробкий, но сметливый. Зря в драку с дураком не полезет.
— Чего, как петух на куру наскакиваешь? Что в городе слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал. По чем купил, по том и продаю.
Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий с мандатом чай пить ушел. Сход не расходился. Собрать из домов трудно, а как соберутся деревенские — не разгонишь.
Туго мозги поворачиваются. Пока все выспросят, много часов пройдет. За Жиганова наставник сектантский Кочеров вступился:
— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак на морду налезать! Алексей Иваныч — человек с интересом. Узнал в городу — сообщение предоставил. А ежели заблуждение вышло…
Софрон человек без резона. От тихой вразумительной речи Кочерова взбеленился, заорал зычно на весь большой класс. В школе все сходы собирались.
— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки! Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как я сам председатель этого митингу, слово скажу!
И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты отпускные к нему подались. Солдатки и рванье из-за оврага, где бедность осела, тоже за ними. Небесновские за купцом из Тамбовки Сычуговым было к дверям, да шепот жигановский им быстро передан был:
Не расходитесь! Кочеров Софрону отчитку делать будет!
Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком над головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет в ней степенности. Клочковатая, во все стороны. И в глазах строгости нет. Одна синь, в гневе темнеющая, но без свинца. От того нестрашная.
— Товарищи! Богатеи небесновски нас сомущают. Мы на фронту кровь проливали, они, которы за Богом прятались! Вера, дескать, не дозволят на войну идти! А сейчас им опять нашу кровь подавай! Котора власть за войну, энту им надо! Нашу не надо.
Гулом сход отозвался.
— Правильно! За Богом-то сидючи брюхо нагуляли!
— И наши на войне были! Одни добротолюбовцы отказывались!
— Мы каторги не боялись, на войну не шли!
— Теплоухов только-только с каторги вернулся…
— Дело говори! Это все слыхали!
— Теплоухов у них в каторге! А у наших руки-ноги оторваты! Это тебе как?
— Ни за што почиташь?
— Не шли бы и вы!
— Ах ты, пузо наливное! Земли-то в вечну награбастали! На семьи хватит, и на каторгу можно…
— Чего разговаривать! Бей их, толстомордых!
— Тише! Слова дайте сказать!
— Слабода слова…
— Говори, Софрон!
— Нечего говорить! Все слыхали!
— Пролетарии, которы пролетают! Старались бы, так и у вас в вечну…
Шум разрастался. Голоса свирепели.
Во всю грудь Софрон, чтоб перекричать:
— Товарищи! Апосля посчитайся! Этак не слыхать! По череду все скажем.
Жиганов своих успокаивал:
— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку сделат!
Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем ворчании ясный густой голос Софрона заиграл:
— Товарищи! Вон энти ободранные, заовражные… Энти нам теперь товарищи! Мы то есть вам товарищи! А небесновски мужики богатые. Им все равно, чья земля. Им все равно, коли нас опять в окопы. Дарданеллов им надо! Вот каки они! Они вас сомущают — все от Бога. От Писания. Им ладно на Бога-то уповать! Богатому легче войти в царство небесное. На земле жиром наливаются, а помрут…
Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:
— Клеплешь на Священное Писание! Там сказано: бедному легче в рай…
Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:
— Недосмотре Писанье вышел! Богатый человек Богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я псом кидаться стану, когда кажный передо мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От этого в ем завсегда злость. Обязательно! Богатый с господами за ручку, всему обучен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет, потому ничего не понимат! В Писанье сказано: не укради. Обязательно украдешь, как трескать нечего! В Писанье опять же: не убий. Обязательно убьешь!..
Взревели небесновцы:
— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!
— Вот оно ново-то ученье!
— По словам человека узнают!
— Слыхали, каки большевики-те!
— Истинно, острожники у них коноводы!
Заовражные свое:
— Заткни хайло, толстопузый!
— Кого убили? Кого нашински убили?
— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!
Старуха Митрофанова поняла: спор на веру перешел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:
— В православной церкви святы дары, а в ихнем молоканском чо?
В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели, засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую музыку стихийно взметнувшегося рева.
Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли было, но прорвался надрывный выкрик Редькина.
— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!
И опять стон, рычанье толпы, не привыкшей говорить, знавшей только вой и дикий гомон. Не стояли на месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками, толкали, теснили, давили. Близилось побоище.
Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет, застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли. Софрон своих унимал. Опять глухое стихающее рычанье. Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Кочерова:
— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку надо миром и любовью.
Была в мягком голосе привычная властность, уверенность начетчика. Укротила. Один Редькин плюнул и нехорошо выругался в ответ. Остальные замолчали.
— В гневе у человека глаза не видят, уши не слышат. Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя оседлать? За веру свою от старого правительства большое наказание мы принимали. Из России сюда спасать свою веру унесли. В чужую холодную сторону пешком с семействами шли. В вечно владенье землю купили.
А как? Этого вы, братья, не видали? Миром купили, всем миром! Не только что потом, кровью наша землица полита. Да, да! Как старо правительство наших на каторгу гнало, вы тогда нас жалели. На войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их у нас? Мы, евангелические христиане, шли. У меня сын на военной службе. Мы с вами тяготу несем.
Правду говорил Кочеров. Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул, да Редькин больным звенящим выкриком запротестовал:
— Книжники! На Писанье насобачились…
На него прицыкнули, и он смолк.
Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли успокоительные больному подносил.
— Насчет большевицкого ученья мы не против. Войны мы не хотим, как в Писании сказано — не убий. Бедного человека, по Писанию, мы также подымать должны. Но ученье человеческое — не божье. Оно всегда с собой муть грехов наших несет. Отобрать да отдать — обида и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать? Мы не подарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевицкого ученья, в город съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал по-иностранному свое ученье. Вот узнать бы досконально подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ, он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору нету у нас в привычке. Насчет образованья, касательно иностранных языков, слаб. Если к иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать? Надо иностранные языки уразуметь и Карло Марксово писание с русскими сверить. Вот тогда можно: пролетарии всех стран! В таком деле, как политика, без доскональности невозможно. На уразумленье время надо, верных людей надо, тишину и мир надо. А так, очертя голову, в новый хомут лезть…
Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий выкрик Редькина:
— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик отводит.
Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от неожиданности.
Софрон крепко, зло и властно крикнул:
— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем! Товарищи, за землю доржится! В ее вцепился, нас обхаживат! Будя!
Опять многоголосый крик:
— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!
— Охальники! От слову доброго отвыкли!
— Пущай говорит Ефим Кочеров!
— Правильно изъяснял!
— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как изъяснять!
— Софрон, твое слово! Ты по-нашински!
Но на стол Редькин забрался.
Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых черных глаз, с яркими пятнами на скулах, он бил себя кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:
— У меня девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими бы зубами землю выборонили. А игде она? Игде у мене земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили. А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно, в сектанты передался. Кочеров его накормил? Землю дал? Как не так! В работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! Знам! В портных сидит, в спокое! Ему, Кочерову-то Ефиму, сколь добра привез, как на побывке был. А он нам заливат! Кабы у мене достаток!
Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови в руку выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со стола.
Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело, глаза будто чернью подернулись, и в первый раз строгим взгляд стал.
— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не начетчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся всем миром в большевицку партию. Больше нам делать нечо! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай.
Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд.
— Вот дак командер!
— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью!
— Каин тоже меченый!
— Записываться! Правильно!
— Записываться! Записываться!
Софрон старался перекричать всех:
— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить хочут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы не запишутся, нет им земли!
— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву из поля вон!
— Айда, вываливай, которы не наши!
— Митроха, записывай!
Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха, закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним — лист серой бумаги.
Но крикнул библиотекарь:
— Товарищи граждане! Слова прошу.
Все время бурного схода он простоял в кучке у окна. Там были учительницы, священник и он. Все они давно шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине класса не стих, но у стола замолчали.
— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так не вступают!
Софрон вцепился ему в узкое плечо.
— Ты с нами не запишешься? Говори, ты не согласен?
Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше стал, но ответил твердо:
— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!
— А, так. Ладно. Не понимам? А эндаких, понимающих, нам не надо! Пшел вон к своим богачам!
Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади за воротник и пинком ноги толкнул в толпу. Библиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого старика. Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:
— Насильники! Тупая сволочь!
Заовражинские на него кинулись, но стеной плотной закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком остановил:
— Опосля сосчитайся! Подходи записываться! Хто не запишется, сосчитайся. Узнам, которы наши!
Небесновцы завопили. Но Митроха уже записывал:
— Крученых Павел с семейством…
У стола теснились желавшие записаться.
Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небесновцы почти все за ним вышли. Осталось только пятеро.
У стола гулом стояло:
— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать ай с собой?
— Бабов, для счету, отдельно. Теперь для их права вышли! Ребятишек не записывай.
— Ой! А как на их земли не дадут?
Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:
— Каки права для баб вышли?
В толпе засмеялись, Митроха из-за стола звонко крикнул:
— На мужиках сверху лежать. Айда, записывайся!
Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низенький Артамон Пегих солдатку оттолкнул.
— Записали, и не таранти! Сказано, для счету!
Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять радостно сиял и, поворачиваясь во все стороны, объяснения давал.
— Баба, она, дивствительно, корова! А промежду прочим — человек. Теперь так полагается, ее голос примать.
Через два часа Софрон передавал на въезжей квартире оратору из города лист.
— Вот тут, сто пятьдесят восемь человек записались. В большевики. Передайте список, а нам документ пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.
У того от радости даже бельмо на глазу будто засияло.
— Да как это так? Вот так успех! Поразительно! Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С радостью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фронтовик?
Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдатчине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, собираться стал, и Софрон вышел.
Хрустящий снег под ногой, далекое, молчаливое, будто застывшее осужденьем беспокойной земле небо, отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд вывел.
По сделанному им распоряжению, в этот час подъехал Арта-мон Пегих к библиотеке, разбудил библиотекаря и объяснил:
— Укладайся! В город тебе сейчас повезу.
— Как в город? Зачем?
— Сход приказал. Нам эндакого не надо! Айда, укладайся.
— Да я не хочу ехать! Это насилье!
— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.
Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связывать свои вещи. Обида жгла лицо румянцем. Софрон, пьянчужка, всеми презираемый в былые дни! Он один с ним возился. Отмечал, ценил его тягу к книге, а теперь вернулся с фронта командиром! Вынырнул новый, темный, злой. Другим хмелем хмельной. Д-да! Пожалуй, правда, пропала Россия.
Когда в последний раз вошел в библиотеку, чтобы посмотреть, не забыл ли чего, вспомнил:
— А ключи кому?
— Софрон сказал, ему завезти.
— Ну, ладно. Ему так ему! Поедем.
А Софрон стоял уже у подводы, около библиотеки. Когда подошел библиотекарь, он протянул ему зажатую в кулак руку.
— На-кось.
— Что это такое? А?
— Трешница! Тебе от меня. Так что много довольны. Никогда не обижал. Возьми-кось, там в городу пригодится!
Из-под нахохленных рыжих бровей застенчиво блеснувший свет и мягкую пугливую улыбку вместе с трешницей принял, с екнувшим сердцем, библиотекарь. Не сумел отказаться.
«На трех китах стоит Земля, говорили старики. Одного, видно, вытащили из-под нее. Зыбкая стала. С июля года тысяча девятьсот четырнадцатого. Не стало твердости и нерушимости ни в чем. У Земли учились жить. Она закон поставила человеку: все живое должно принести плод. А у девок румянец желтизной отдавать стал. Твердели, теряли молодую хрупость, дожидаясь мужа. Жены солдатские ходили без плода, нагульных ребят вытравляли у них равнодушно жестокие бабки-повитухи. Оттого чаще маялись скрытыми бабьими своими болями. Оттого в работе сдавали. Рыхлели. Оттого от тоскующего в бесплодии чрева рождались похоть и грех. Деревенские бабы и девки, как городские, от закона земли оторванные стали. Грех для греха, не для деторождения, приманивать начал. Больше покупали наряды. Приучились к мылу духовому, возили из городу пудру, дешевые духи и безобразные медяшки-брошки. Пошили вместо шуб широких короткие “маринетки”, из-под платка пухового клок волос взбитых выставляли.
Денег у деревни много стало. Продала сыновей. Откуп получала. Пособия семьям солдатским на уплату за приманки на грех шли. Семейные мужики на блуд с чужими бабами, с девками льстились. Оттого свой род хилел. Слабей оплодотворялась и земля. Не хватало рук. По накатанной за годы войны дороге из города катились в деревню его пороки, дурная хворь и беспокойные, будоражливые мысли. А с году девятьсот семнадцатого город деревню вертуном завертел. Новое, новое, новое. Слова незнакомые гвоздили вялую, годами жившую своим обиходным, мысль. Порядки, новизной пугавшие, налетали неустанно в приказах. Все старое на слом обрекали. И обо всем этом надо было думать. Удар за ударом, и все в башку, в башку, в башку! Тряси мозгами деревня! Ошарашилась она, шалая ходуном заходила, за поводырей хваталась сослепу. Не стало в ней крепкой приверженности к своему исконному, деревенскому Была жизнь подневольная, трудная, но истовая и мерная, многими поколениями позади утвержденная. Когда разрывалось тихое течение дней драками, боями на улицах, в пьяном угаре, пожарами, смертями, то и самые тревоги эти были старыми, понятными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве и дикости их были привычны и нестрашны. Играет ведь река в половодье, грозит и крушит, а потом уляжется, спокойная, мирная поилица. Теперь не то. Самую страшную стихию — кровь человеческую — разбудили, чем и когда ее утихомиришь?»
Все это передумал не раз и не два, много раз, умный широколобый Кочеров. И только в этих думах узнал, что бывает и разумному в жизни препона. Не осилишь! А познав бессилие, познал и сам непреоборимую злобу, бешеной хваткой терзающую человека. Глядеть не мог на Софрона: на другую сторону улицы переходил, когда встречался. Один раз Софрон приметил, что избегает его Кочеров. Оскалил белые здоровые зубы и заорал на всю улицу:
— Эй, молоканский поп! Чо в землю буркалы-то упирашь? С небом, видно, разлучку сделал? Правильно! Под ногами-то говно, а бывает и золото.
Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул, ответил без крику, с достоинством. Только голос не был по-всегдашнему ровен. Осекался.
— Остановите ваши неприличия, гражданин Софрон Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-прежнему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.
Весь яд затаенный в намеке на прошлое Софроново выцедил и, взбодрив голову, прошел, плотный, степенный и видом благожелательным всякому приятный. Только подоплека рубашки горячей стала. Сердце в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли в голове:
«Неразумные слова, как лай бестолковый, собачий. Прошел спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет, ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая что ни на есть дурнота наверху, куражится. Пьянчуга Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и тот ребятишки старшие да бабы на срам всему селу засевали. А он, пьяный, по дворам куражился или спал под забором. Никогда старанья крестьянского не имел. Чужаком был. Савоська-кузнец — конокрад меченый. Башка боком приросла. Шею повредили, когда всем селом за чужих коней били. И живому-то не быть бы, кабы вот не я да другие небесновцы. От греха отвели, добить и не дали. А теперь он небесновцам за это отплатил! В молитвенный дом евангелических христиан пришел, всех изматерил, самое стыдное показал и про Бога, в мыслях нельзя повторить, как выразился! Редькин, у которого внутри все сгнило, потому что всю силищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше. Митроха-писаренок, с речью всегда похабной, — срамник. И другие-то: батрачье, измотанное по чужим дворам. Все корявые, хилые, дурашные, самая шваль. Затерялись среди них трое богатых солдат небесновских. Не слыхать. Софроновы оборванцы над здоровым, хозяйственным, правильным за начальство поставлены. И там-то, в столицах, тоже, по газетам видать, в управителях половины русских нет. Евреев насоприглашали, оттого что крику в них, цепкости больше. Э-эх, мать-Россия! Как испоганили тебя татары, так устою в русской крови и не стало. Все под чужаков прешь, на бунт нарываешься!»
Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встретила.
— Приказ тебе из волости от Софрону… Ты, Жиганов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десятски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзывать.
Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских самая рвань ходила. Мальчишек из школы тоже наряжали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых, богатых из Небесновки выбрал.
— Кто приказ передал?
— Артамон Пегих. Да в избе он. Поди спроси сам.
Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел и дымил вонючей махоркой взъерошенный, будто год нечесанный Артамон Пегих, горница хуже стала. Золотые буквы изречений евангельских и наставлений учителей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо икон, казалось, потускнелы. На крашеном лоснящемся полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого снега и грязь. Занавески городские и вязаные скатерти на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров брови, снимая шапку.
— Брат Артамон, табачное зелие почитаю для человека вредным и Богу неугодным. Пристав, когда заезжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно: прекратите табакокурение!
Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и кинул на пол.
— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу. А вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот, в рамках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы…
— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере разговоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до чужой! За делом за каким ко мне, ай как?
— Ы-ы-х ты, какой спесивый! Не вашего, дескать, уму дело!
Вдруг взъерошился и громким, звенящим голосом на всю комнату:
— Врешь, нашего! Под задницей-то у вас сидели, свету не видали. Теперь обвязан ты все рассказать. Обвязан! И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про свою веру!
— Не кричи, брат Артамон! Господу злоба неугодна, и я в грех с тобой входить не стану Зачем прислан?
Сам прозеленел весь и пальцы в кулак, а держится, не кидается. Только в глазах уже сладости нет. Кровью налились.
Артамон сплюнул!
— Нужон ты мне с разговорами! Так я, поучить. За брюхом за твоим прислан, вот зачем. Иди-ка, потряси его! С бадожком под окнами походи: на митингу, мол, товарищи. Вот зачем!
— Софронова выдумка?
Дух с хрипом перевел. Артамон удивленно-восторженно головой затряс.
— Вот чо, аж вздохом подавился. Ну, ну… Во каки! Срамотно мир извещать, под окошками ходить. А мы ходим, ничо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь ли, чо ли? Жиганов не пошел. В исполком уволокли. В холодной сидит за ослушание. Тебе как понимать? Тоже в холодну?
Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что разлетелся на части.
— Пшел вон, пакость!
Артамон от неожиданности мигом в дверь, согнувшись, выкатился. Но оповещать о сходке Кочеров пошел. Степенной обычной своей походкой шел по улице, только на лице смиренье и страданье изобразил. Медлительно, кротко батожком в окна постукивал.
— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.
За ним по всей улице шепот смущенный и возмущенный:
— Кочеров под окнами ходит!
— Ну, Софрон! Экого растряс!
— Ах, халиганы! Измываются!
— Христос терпел и нам велел.
Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оставаться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще дома возбуждался. И до начала схода стоял гул спора, препирательств. Нередко были драки, Сегодня взволновало сообщенье об аресте Жиганова. Толпились в сенях около запертой на замок клетушки с оконцем. Под замком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с винтовкой стоял. Небесновцы старались словом перекинуться. В дыру оконца кричали:
— Алексей Иваныч, потерпи!
— Одежу-то баба прислала ли?
Парень-караульный отгонял:
— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале! Подале!
Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной перекосил:
— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!
Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Чисто молебен сходки начинали. Пеньем… Запели «Вставай, проклятьем заклейменный». Шапки все поснимали» но пели только Софрон, солдаты отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходах терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радостное пенье… Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:
— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву поют!
Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчание было привычным.
Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:
— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не даете?
Отозвался смущенно Артамон Пегих.
— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!
Софрон весь в его сторону подался, трепетный и радостный.
— Товарищ Артамон Петрович, как мы партейные, понимать должны. Песня эта для пролетарию складена. Интернационал значит: всякий, который неимущий, жид ли, хрестьянин — все вместях. Понимать? И как раньше нас проклятым обзывали, мы им для ответу! Покажем, дескать, каки мы прокляты! Понимало»?
Прямо в рот Артамону лез, старался. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:
— Сумнительно. Слово черное, а промежду прочим, дозволяй! Все одно уж…
Фронтовик Семен Головин вступился.
— А что касательно слову «интернационал»… Это слово большевицкое. Большевицкий язык трудный, но ежели в корень дела взглянуть, обстоятельный. Хлесткий!
Артамон Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:
— Куды хлеще.
Небесновцы засмеялись. Но Кочеров, мучась нетерпением, не выдержал, крикнул из толпы:
— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дела разобрать надо. Зачем скликали народ?
— Дело… Дело изъясняй.
Всегда мучимый болью и злостью, Редькин надрывно прокричал:
— А это не дело? Слова городски надо знать! Штоб не омманули.
И крик его был близок и понятен многим из софроновской партии. Приняли гнет новизны. Отшиблись от своих учителей-стариков. Городу передались, а исконного недоверья к нему еще не изжили.
Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удивлении.
Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых парней с винтовками за плечами пробирались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжественно прозвучали слова Софрона:
— Революционна охрана!
Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софронов отозвался, как бранный клич:
— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин. Отдельных хозяев нету. Разобьем на участки. Всех людей в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать. Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни хлебу, ни сена не дадим!
Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артамона:
— А машины как?
В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где машины кормят и спине передышку дают. Но купить их могли только многоземельные, сильные. Разом подхватил Артамонов вопрос:
— Машины… Машины как? Машины?
— Из городу дадут?
Софрон опять твердо и победно:
— Приказ есть. Все машины у хозяев реквизированы! Мало ль у нас богатеев! По коммунам разделим.
Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим, резким, крикливым, голосом прямо с места заговорил:
— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотину за ее отдавали! У господ отбирать ладно. А мы как трудящие? Над трудящими изгиляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесновцы допрежь вас коммуной жили! Сообча землю покупали. Всей Небесновской обчиной. Грабители вы, а не устроители! Свово брата-мужика!
Закричал многоголосый зверь.
— Верно говорит!
— Не дадим!
— Потом, кровью наживали!
Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось в одно грозное: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софронова все услышали:
— Силой отберем!
Если б не «революционная охрана», разорвали бы Софрона. Двинулись небесновцы к столу а парни ружья наизготовку, сзади заовражинские и тамбовские мужики с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял: да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорившись, многоземельные повалили к выходу. Оставшимся в школе Софрон горячо объяснял:
— Брешут небесновцы, что их неправильно. «И у нас тоже коммуна». Брешут. Что ни дом, то разна секста. Богато свово на клочки разорвали. Добротолюбовцы, субботники, баптисты, евангельски хрестьяне. Грызутся, как собаки. Теперь заодно, как за свой кус испугались. «Землю всем обчеством покупали!» А разделили как? Кто сколь денег дал! Маломочны, так и есть маломочны! А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста пятьдесят. «Трудящие». Пузо-то не больно натрудили! Все работниками! Кочеров-то за попа галдит да портняжит — и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех пер-трясем! Нашего дню дождались!
Среди оставшихся была половина Небесновки. В первый раз властное требованье земли и хлеба слило вместе «православных» и «молокан».
Расходились опять за полночь. Софрон дольше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:
— Изобьют на улице!
Но Софрон успокоил:
— Седни не тронут! Напужались!
А сам в нетерпенье крутился по классу, ждал, когда уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и открылась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.
— Разошлись!
— Ушли, Антонида Николаевна! А вы чо не спите?
И в дрогнувшем голосе Софроновом большая благоговейная радость. Непрошенно, нежданно вошла в душу чистенькая барышня из города. Учительница. Как в исполкоме главным заделался, захаживать по делам стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, греющая. И потянулся на нее. Сгасал только на миг, когда мысль приходила: как все бабы. На почет льстится. Бегали раньше учительницы к старшине и станового привечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а совладать с собой не мог. Каждому человеку праздника хочется. Бабы деревенские, с жирными тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяжелыми словами — будни. Привычные, постоянные, надоевшие будни. И жена Дарья, рожающая, кормящая, на своей широкой спине выносящая всю работу по крестьянскому хозяйству, не нужна сейчас, в эти новые, торжественные дни. Раньше, когда читал книги, очень любил Софрон писателя Дюма. Так непохоже было все в его книгах на Софронову жизнь. Оттого прекрасно и недосягаемо. А рассказы о крестьянах и рабочих читал только для того, чтобы уважить библиотекаря, Сергея Петровича. Ни к чему, казалось, пальцами в своем гное ковырять. И признавал эти книги необходимыми только для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый надоел. А нам беленького хоть кусочек. Замесго пряника к празднику!» Таким пряником праздничным, никогда не пробованным, была Антонина Николаевна. Раньше водку пил, чтобы в пьяных мечтах не видеть настоящего. Теперь буйным хмелем допьяна напоила революция. Водки не надо стало. Но мечта во хмелю одолевала: все праздничное, неизведанное теперь будет. Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, ищущей. Оттого над ним мечта большую силу возымела. Жиганову, Кочерову и на них похожим нужна была здоровая, широкозадая баба для продолжения рода, иногда для блуда. Софрон от книги заразу любви воспринял. Антонина Николаевна для него дурманным, расслабляющим соблазном пришла. Не мог с собой совладать. Тянулся к ней.
— Ну, что же, посидим здесь. Поговорим немного. Сторожа уж спят?
— Не видать что-то. Стало, спят.
Легкая, вспрыгнула на стол и ножками тоненькими, но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.
Думал, до боли в сердце, нежно.
«Пташечка… Касатушка…»
Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной улыбкой, сразу глуповатым сделавшей лицо. И то, что к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что близко не подходила, только глазами ласку посылала, не сердило, а умиляло.
«Беляночка… Голубушка…»
А она скрыла легкой гримаской позевоту и спросила:
— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за вас боялась.
Ведь все понимает, хоть женского полу! Слова такие легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы рассказал, а язык во рту как бревно. Слова неудачные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная нежность.
А она одобряла.
— Вы совершенно правильно рассуждали, земля не может быть чьей-нибудь собственностью.
Поднимала для внушительности круглые тонкие бровки. Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так уверенно и свободно. Будто свое, передуманное.
А дома толстая, неповоротливая Дарья будет лениво почесывать поясницу, скрести пальцами в свалявшихся косах и сонно тянуть:
— Светат, никак… К стенке лягешь ли, чо ли?
Антонину Николаевну занимала и услаждала власть над новым волостным воеводой. Искушенная городскими, пакостными, без обладания, шалостями с гимназистами и офицерами, она видела, как мает и корежит мужика взбунтовавшаяся кровь. Понимала, что в узде держит только благоговейная вера в особую чистоту ее. Это было ново, смешно и радостно. Ножками играла, возбуждала, а кротким, чистым голосом и взглядом невинным предостерегала. Жутко было при мысли — чем кончится? Поцеловать бы не могла! В интимности, наверное, отталкивающе груб. Нескладный рассказ Софронов оборвался. Почуяла: опасно затягивать частые паузы в их разговорах наедине. Спрыгнула со стола.
— Поздно уж. Вы утомились сегодня.
Под окном на улице заскрипел под ногами снег. Кто-то осторожно карабкался на подоконник. Насторожилась и лицо сделала строгое, а сама пугливо поежилась.
— Подглядывают. Нехорошо говорить будут! Заходите завтра днем чай пить. Сама вам песочники состряпаю!
И ручку издали протянула! Э-эх! Какая сила в бабе бывает!
Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко. Только взглядом всю выпил и руку до боли сжал. Каждый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держит.
Когда вышел, видел: от крыльца метнулись к амбару две черные фигуры… насторожился, вынул из кармана револьвер и выстрелил вверх. Испугало только тревожное «ах» за дверью. Крикнул туда молодо, радостно:
— Не сумлевайтесь!
И пошел по мертвой белой улице, которую будили, но не оживляли шалые взвизги собачьего лая. Два ряда темных, живое дыхание затаивших домов были печальны и предостерегали, как угроза. А душа не боялась, ликовала.
Оттого, что рука была настороже у револьвера, оттого, что в своей деревне в первый раз шел с опаской, росла и ширилась горделивая смелость. Оттого, что думал о желанной беленькой, по-весеннему шумело в голове.
А дома скверно стало. Вонь какая! Почиститься надо. Прибраться. Жирное тело Дарьино, рядом на кровати, будило тошнотную тоску, но притянул его резко к себе, охваченный нечистым, злым, отраженным желанием.
Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота спать. Жизнь расцветилась, заиграла перед тридцатилетним. Стал как парень молодой. Все хватай, лови, тормошись! В городе забирал дерзкие приказы. Узнавал короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.
В селе кричал: наша власть! Смотрел, упоенный, торжествующий, как учатся сгибаться перед низко в жизни поставленными непривычные к поклону спины. Любовался, как заходила бестолковая, рваная рать «маломочных» в грозном беспокойстве. Но в торжестве, для самого незаметно, впивал яд командирства. Не замечал, как в словах, в распоряжениях, в снисходительных шутках со своими маломощными похож становился на старшину Жиганова.
Для Антонины Николаевны мужицкую одежду на городскую сменил.
Словца городские обходительные усвоил. В городе Софрона уж выделяли. Одну его речь даже в газете, подправив и сгладив, напечатали. Газету Антонине Николаевне трепетно подсунул. Думал, обрадуется. Но она только ласково протянула:
— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером почитаю.
И больше о газете ни слова. Неужели забыла? Ведь для Софрона эта газета как грамота жалованная. По ночам просыпался, огонь зажигал, ее перечитывал. И казались напечатанные слова большими, крепкими. Читал их вслух внушительным шепотом. Вырастал будто, в них вслушиваясь. Неужели забыла?
Из именья господина Покровского уездный Совет передал Интернациональной волости большую библиотеку и часть обстановки барского дома, которую не успели разворовать, растащить.
Софрон сам сопровождал от завода до села воза с книгами и мебелью. Всю обстановку в библиотеку приказал доставить. Новый дом для библиотеки определил. Верх в доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла и взгляд волчий стал. Обида прожгла. Сам Софрон установкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину Николаевну в библиотекарши определить. Смотреть сбежались со всего села. Даже хмурые небесновцы пожаловали. Потное лицо Софрона сияло, глаза искрились, когда помогал по лестнице пианино втаскивать.
— Заиграм теперь на городской музыке! А тяжеленная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под музыку?
У Кочерова в лице давно уж румянцу не стало. А тут скраснел и сердито пробурчал:
— Не по нам плясы, гармони да матани городски. Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, первый гармонист. Забавляйтесь.
Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрызнулся. Когда пианино втащили, Митроха-писаренок сразу пальцем попробовал.
Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул.
— Все бесовски утехи! Гвоздей бы лучше на деревню дали.
Когда стали разбирать картины, Софрон сам смутился. Голых баб много.
Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:
— Все как есть! Соблазн. Это для господского распалу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.
Небесновцы плевались. Софрон распорядился:
— Сожечь!
Митроха-писаренок спохабничал:
— Знамо дело — куды нарисовану-то…
Кочеров вздохнул.
— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!
Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго гладили и щупали их тугими негнущимися пальцами. Такие в руках держали первый раз.
Артамон Пегих опять головой покачал:
— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то како в их?
Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза бросилась картина — опять голые. Сердито бросил на стол книжку.
— Непристойность одна!
Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил.
— Э… Лександр Сергеич Пушкин! В школе слыхали. — И уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал: — А занятно про самозванца тут!
Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, пожилых покрыл чтение Митрохи. Очень понравилась сцена в корчме. Небесновцы ворчали, но подвигались поближе, будно ненароком. Хотелось слушать. Кочеров возмутился:
— Братья, светско чтенье для греха, для пустой забавы! Одна для нас книга — Библия. Можно когда и для пользительных сведений что почитать. А эту забаву прекратить бы. Не по нам!
Софрон торопливо стал перебирать книги.
— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству есть. А энту тоже сожечь!
Артамон Пегих спросил:
— А про божественно есть што? Про божественно люблю.
Кочеров зло и презрительно хихикнул.
— В большевицку партию записался, а про божественно запросил. Они про Бога-то как сказывают?
Неожиданно от стола лохматую седую голову поднял Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали. Всегда по Священному Писанию предсказания делал. Глухо и торжественно его голос зазвучал:
— По Библии, по священной книге нашей, большевики поступают. В руках Бога все поступки их и по Бога велению. Написано у пророка Исайи: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на Земле. В уши мои сказал господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей… И будут пастись овцы по своей воле, чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых».
Как все сектанты, целые страницы Библии знал наизусть.
Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и руками в стороны развел, будто увидал свои руки пустыми, а свое оружие в руках врага. Потом опомнился и яростно рявкнул:
— Ложь! Суесловие! Осуждат Священно Писанье поступки, дела и слова ваши. Осуждат! Гибель им предрешат. Сказано про конец, про ваш, у того пророка Исайи: «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным». Это про вас сказано! Про слова боль-шевицки. Разнесет вас Господь…
Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина, а кочеровские сказались и сгасли. Артамон Пегих тоже с дрожью в голосе в спор вступил:
— Большевики по-божески хочут!
И многие из софроновской партии сбились у стола, торжествуя. Рушить старое хотели, но привычно обогрело небесное покровительство. Вековым пластом темная вера насела. И как от стены глухой, Софроновы слова, в городу заученные, отлетали.
— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».
Артамон Пегих головой затряс.
— Про Бога выхерить из песни! Не желам без Богу!
Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:
— А нам твово Богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.
Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене плечистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:
— Задушили! Стриганова задушили!
Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю. Стекла от шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке кричали дико и зычно про веру, про Бога. Прибежали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому, в разорванной одежде, Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.
Сцепившихся в драке разливали водой, били прикладами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину отшибли что-то внутри. Остался лежать на полу большой, замокший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удивленье застыло.
Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног его плакала жена.
Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:
— Вот эдак и тебя разутюжат.
Кочеров печально покачал головой:
— Темнота!
И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами дико, похабно ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвера не взял.
— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!
Наутро приехал из другого села фельдшер, написал удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели.
— Хоронить без погребения! Богохульник!
Но старик Головин в ногах валялся:
— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до Бога!
Смилостивились. Послали за полом. Старенький, совсем в селе неслышный иеромонах, вместо сбежавшего попа, был дня за два только до побоища в село прислан.
Он отпел богохульника. Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали.
Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:
— Домой поехал.
И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха.
Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».
Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела старую одежду и сказала свекру:
— Айда ли, чо ли, в хлеву убирать.
И ни одной самой мелкой работы насущной в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:
— За мужика выдадут какое способие, аль как?
Была за Семена из небесновских отбившихся взята. Грамоте сектантами обучена, считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, в глухой и темной тоске залила едкими слезами грязную, засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желанный. Опять же дети остались.
От Небесновки выборные к Софрону приходили:
— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить. Для Богу старались! Ненароком до смерти-то!
Но Софрон распалился из-за того, что его всего синяками украсили.
Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.
Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.
Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспрещается».
Внизу под этими словами Софрон рукописью подписал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели:
— Рубли по три поди за аршин при царе плочено.
Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке пришла.
Повяла баба, как муж начальником стал. Все молчит больше.
Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:
— Попалить бы их.
— Кого?
— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.
И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна, лебедкой, свободно, по-господски расселась.
Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.
Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:
— О… о… о… и… и… и… Смертынька-а-моя… О… и… м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а…
А в библиотеке Софрон перед барышней старался: заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-городскому.
— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комнатка. Полюбопытствуйте посмотреть!
И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей, дорогие флаконы с духами. Кровать с блестящими шариками под атласным господским одеялом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой, маленький, как игрушка, письменный стол на отлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый, с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.
Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:
— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел, как расставляют и что для барышнев полагается.
— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус есть, Софрон Артамоныч.
Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит так задор-ливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как овцы бестолковы, суются. И Антонина Николаевна застеснялась, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:
— Этта самый Ленин и есть?
Софрон гордо, как своего знакомого, представил:
— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Артамон голову набок, губами пожевал:
— Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом хитер. Волосьев только на голове мало.
Софрон заступился:
— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет!
— Знами, их дело — не нашинско. Волосья ни к чему. Таскать за их некому. А форму-то для его не установили еще?
— Каку форму?
— Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Россеи срамота: не одела, мол, свово-то!
Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повернулся:
— Необразованность наша! Все на старо воротит.
Антонина Николаевна по-умному брови собрала и наставительно сказала:
— Новое правительство — от рабочих и крестьян» потому и в одежде не хочет роскоши.
Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови, зорко осмотрел ее с ног до головы, губами пожевал, но ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:
— Этот ничо из себя, бравый! И шапка господска. Случаем не из жидов?
Софрон грозно прицыркнул:
— Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь евреи, такой же человек, как мы. Почитай вон у Максима Горького, как над ими при царе-то измывались.
Артамон Пегих губами пожевал:
— Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато теперь и в большевики записались. Сладкого-то мало ели. А я не для укору, у нас в Небесновке свои субботники есть. Парень бравый!
На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинетного размера карточка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спросила:
— А это кто?
Софрон смутился.
— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то я запамятовал.
Артамон Пегих успокоил:
— Должно, сродственник Ленину какой.
Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло названья книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил:
— Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот, к слову, икон не соблюдаем, башкирин тоже в нашей волости водится. Эдак-то для всех равно.
Артамон Пегих вздохнул:
— Да уж чо весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!
Бабы у плаката сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:
— Милай, в роте-то все прочернело, как орет. Чо это он?
Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:
— Ну, буде покамесь глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.
Артамон Пегих затылок почесал:
— Ладно. А по часам-то уж небесновки пущай ходют. У их есь. А мы по брюху: до обеду да опосля до ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!
За Артамоном пошли и остальные. Кочеров на Антонину Николаевну, уходя, искоса взглянул.
На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Антонине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся. А она опять тихонькая, строгая за столом стала. Как подойти?
— Дак вот, Антонида Николаевна, для вас расстарался! Получайте, хозяйствуйте!
Она тревожно в окно выглянула и улыбнулась Софрону. Но бегло, испуганно.
— Это вы про что?
— В библиотекарши вас определям! Для вас старался! Седни и переехать… А?
Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней за стол пошел. А она боялась, ежилась… Но комнатка уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко на руки поднял.
— Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч… Куда?.. Девушка я…
— Баба будешь!.. Лапушка!..
Нес и давил лицо губами раскаленными. Будто отпечатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную забили настойчиво, часто. Антонина Николаевна с силой уперлась руками в грудь.
— Пустите… Ради бога!
Даже губы побелели! Какого черта принесло? Рвется Антонина Николаевна, ногами бьет, а в дверь стук все сильней и тревожней. Не донес, выпустил. И злой, багровый, взлохмоченный к двери кинулся.
— Кто там?
За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:
— Открой!
Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизгнула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сразу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо откинул крючки. Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то растерялся. Дарья сама оба крюка опять накинула.
— Всей волости начальник, а ум-то, видно, в ж… ушел! Средь бела дня эко дело завел. Где б… то?
Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами пошло, а в плечах дрожь, в глазах — мука.
— Дарья! Убью!
— Не маши кулаками-то! Неколи. Небесновцы сговорились тебя за блудом поймать. Солдатка Кочеровска выболтала… Страм, страм какой! Прибегла я…
И голос оборвался.
— Придут, дак жена тут! Лучче сама топором зарублю!
Диким выкриком последние слова сорвались.
Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не простили бы битому за блуд! Главный в волости — и за такое дело битый. А то и убили бы сами. Сразу стихшим голосом сказал:
— Жена, как же теперь? — У той лицо злоба скосила:
— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?
И властно к дальней комнате пошла.
— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду. Опосля рассчитаюсь. Иди суда, сволочь!
И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той от испуга слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж поправить успела.
— Придут, виду не кажи, Софрон…
А в дверь застучали. Дарья кивнула на дверь.
— Открой.
Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика небесновских, три тамбовских, а на лестнице бабий бестолковый гомон. Учительница городская — штучка тонкая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на вошедших глянула, Дарья глаза в землю, а тоже спокойная. Разом увидал Кочеров, что сорвалось.
— Прощенья просим, Софрон Артамоныч. Слыхали, что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вышел.
Артамон Пегих простодушно заявил:
— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом помещенье грехом заниматься. Старики обиделись. Поучить хотели: блуди, да место и время знай. А промежду прочим, и нехорошо.
Антонина Николаевна тоненько охнула и руками всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:
— Брешут все из ненависти небесновски. Софрон мне приказал прийтить, как все уйдут. С учительшей, говорит, чайком побалуешься на новоселье.
Артамон сердито в ответ буркнул:
— Како новоселье! Не дозволям здесь учительнишу! Мужчину надо, из городу. Эдака чо разъяснит?
Софрон поспешно подтвердил:
— Знамо, попросим из города.
Антонина Николаевна все порывалась сказать что-нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа стояла.
Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:
— Ну, нам здесь делать нечего. Мир прислал, не своей волей пришли. Айда-те, граждане!
У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала. Сдержанно и спокойно ответил:
— Не след старикам бабью брехню слушать. Необразованность одна!
Мужики вышли. Задержался только Артамон.
— Ты, Софрон, башковитый. А, промежду прочим, остерегайся. Дыму без огня не бывает.
Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыбнулся:
— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим!
И ушел.
Как остались одни, Дарья опять властно сказала:
— Айда, барышня, одевайся да уходи. А то кипит, сгребу! Спарились ай не успели?
Антонина Николаевна опять заплакала.
— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?
Софрон угрюмо сказал:
— Помолчи, Дарья, ничо не было…
Его тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но боялся дикости Дарьиной. Потому тяжело дышал и смотрел, будто безучастно, как надевала шубку учительница. Только, когда к двери пошла, сказал просительно, робко:
— Антонида Николаевна, лошадь на дворе. Мальчонка жигановский отвезет.
Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загоревшимся, злобным взглядом.
— Ну, айда домой, Софрон. Только вот тебе мое слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожалела? Детей своих пожалела! Как был ты пьянчуга распоследняя, под забором тебя подымала, сколь раз молилась: умер бы, господи… Жалеть бы не стала. Люди бы не надсмехались. И на детях покор: пьянчужкины, Софроновы. А как выправился ты, детей никто не шпынят. А кто кольнет, так из зависти. Из-за детей себя скрутила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю.
Встретились глазами, и не Дарья, Софрон свои в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула и в глазах черных — упорство.
Всегда так размышлял Софрон:
«Баба — народ подлеющий: потому в ей дух на острастке только живет».
А сейчас острастки не находил, сам оробел и поверил:
«И весьма просто, эдака зарубит».
Ночью, когда помирились и обмякла баба от ласки мужнинской, обнимая, все-таки подтвердила:
— А разговору нашего не забывай.
Баба в жизни всегда препона. Одолела Софрона Антонина Николаевна. Лезет в душу ежечасно и мешает в делах. От разлуки еще больше распалился. В школе видались часто. Только все на людях. Старался книгами заняться. Напрасно бился. И к библиотеке охладел. Из города ответили: прислать в библиотекари некого. Образованный народ к большевикам на работу идти не хочет. Советовали из своих кого-нибудь приспособить. Из мужиков некого. Всех позанимал новый порядок. Председателей и секретарей много потребовал. Артамон Пегих недаром жаловался:
— Куда ни плюнь, на председателя попадешь!
И все на грамотных спрос. А в селе они наперечет. В сельской школе почти все обучались, да позабывали ученье. Один раз пришла к Софрону жена Семена Головина, прошение принесла о пособии, которое Софрон за мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в прошении к месту были подобраны, и буквы читать можно, вполне разберешь.
— Кто писал прошение тебе?
— А кто будет? Я сама. Начетчики-те нашинские, спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на службу сама писала.
— Ну, ладно, будешь у нас по книжной части. Жалованье получишь, вот тебе и способье.
И назначил Головиху библиотекаршей. Комнату, для Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Открывали только на случай приезда городских, а Головиха приходила с утра, свекра и ребятишек двух малолетних накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла, кончала с обедом и до вечера опять в библиотеке.
Обязанности свои она выполняла старательно. Сказал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом книги записывать. Так и делала И неровным, но разборчивым почерком записывала в тетради:
«Качиров молоканский поп узял откуда появились люди на земле».
«Дед Евстроп узял без заглавию».
Книги давать на дом очень не любила, выбирала только старенькие и без картинок:
— Наляпате еще что на книжку! Не трогай — пущай стоит? Вот эту можно.
Два раза в неделю мыла в библиотеке полы и в эти дни посетителей не пускала.
— Пущай обсохнет! Завтре придете.
Сама очень любила смотреть картинки в иллюстрированных журналах. Читала мало — некогда. Больше, сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем крючком кружев на продажу и узорчатых чулок, которые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек и парней. Орлицей кидалась за ними к книжному шкафу.
— Упрут чо, и не опомнишься!
Но отучить их от библиотеки не могла Они были самыми частыми посетителями. Барабанили на пианино, смотрели картинки и читали книжки. Мужики занимались больше газетами.
Заовражинские приходили слушать. Кто-нибудь из небесновцев читал обычно газету вслух. Головиху скоро одобрять начали. Баба разумная, со всеми соглашается. Начнет Кочеров говорить, что оттого неустройство у нас, что Бога забыли и божьего слова не знают. Головиха вздохнет и поддакнет.
— Совсем народ спутался! А без Богу как?
Говорит Софрон, что попы обман делали, народ обирали, тоже головой кивнет:
— Сказано, у попа глаза завидущи, руки загребущи.
Когда «Интернационал» пели, она подпевала. В церковь ходила по праздникам, нередко. Уважительностью своей всем угождала. Платье и при муже носила по городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь голову стала держать и в комнате непокрытой, а волос не взбивала. Добро библиотечное зорко хранила. Это тоже ценили мужики.
— Домовитая баба попалась!
В городе как-то вспомнили про библиотеку. Софрона запросили: много ли книг из именья господина Покровского доставлено? Софрон сообщил: три тысячи. Ахнули и написали, что пришлют из города знающего человека книги просмотреть и порядок в библиотеке устроить.
Бурливые, беспокойные дни череду свою вели. Потеплело дыхание ветра Осели, побурели снега. Из-под них пахнуло на людей волнующей истомой земли, ее весенним желаньем и предчувствием оплодотворения. Чаще беспокоилась в стойлах скотина. Изводились похотливым мяуканьем на крышах коты. Румянцем жарким чаще приливала кровь к щекам девок. Податливей стали на ласку, разомлели и льнули к мужьям бабы. В сумерки вместе с густеющей темнотой надвигалась на молодых сладостная тоска, от которой беспокойным становилось тело. Старики мудрыми, знающими глазами определяли, когда на дворе и в семье будет приплод.
Хватками мучить стало Софрона любовное томление по Антонине Николаевне. Часто, грубо и жадно ласкал жену, но только сумрачней и злей становился после этих ласк. А Дарья стихла. Двигалась плавнее и мягче, бледней лицо стало. Взгляд внутренним, теплым и мягким, светом засветился. Ребенка понесла. Ее бояться Софрон перестал. Но Антонина Николаевна сама ловко встреч наедине избегала. Пожелтевший и хмурый, он каждый вечер метался в школе и уходил домой замученный. Всегда у Антонины Николаевны другие учительницы или солдатки.
По-городскому развязные, дерзкие, они больше всего мешали Софрону В хитром смехе, в скользнувшем намеке они давали понять, что видят тоску Софрона. Он настораживался и уходил.
В один вечер, по-весеннему истомный, Софрон, желтый и усталый, разговаривал с мужиками. Стоял в классе бестолковый, мутящий голову галдеж. Шли перекоры о земле, о весеннем надвигающемся посеве, о том, как распределять засевы озимых, о сделанном учете сельскохозяйственных машин. В школу вошел приезжий в городском меховом пальто нараспашку, в штанах галифе и френче, с красной звездой на черной кожаной фуражке, пузатым черным кожаным портфелем под мышкой.
В споре его не приметили сразу. Растолкал народ и прямо к Софрону. Спросил скороговоркой:
— Где здесь исполком? Это какое собрание? Ячейка в селе имеется?
Софрон ни на один вопрос ответить не успел, а он уж опять скоро-скоро сыпал словами.
— Здравствуйте, товарищ! Я вас в городе видел, сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома? Ага, отлично! Поедемте в библиотеку сейчас. Вот мой мандат. Это собрание ячейки? Слышал, слышал, вам удалось сразу многочисленную организовать. Здравствуйте, товарищи, готовитесь к выборам в Советы? Какие планы у вас земельного распределения? Да, да, знаю, разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?
Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему:
«Чисто машинка кака внутре слова выгонят. Так и сыплет! Рвач ай пустобрех?»
Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив минуту, объявил собранию:
— Инструктор по просветительной части. Вам желательно библиотеку посмотреть?
— И библиотеку, и в ячейке вашей позаняться. Программу проштудировали? Обратите внимание на вопрос о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню…
Передохнул, потому что Антонина Николаевна вошла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу милым стало курносое, скуластое лицо.
— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы ведь помните меня? Ну, да, да! В партию еще не решились записаться? Надо, надо! Интеллигенция саботирует, но у вас здравые суждения. Чаем напоите? Я сейчас вот.
К мужикам повернулся и сразу умным и острым, странно противоречащим беспорядочной говорливости, взглядом в лицо Жиганову уперся.
— Вы из крупных хозяев? Сельскохозяйственные машины есть? Это неизбежно, вспять ничего не повернете! Пролетариат сумеет заставить признать его волю.
В полчаса метко, верно выделил из толпы взглядом и вопросами представителей разных толков расколовшейся, смятенной деревни, наговорил много слов, но уже приучил понимать его скороговорку.
Артамон Пегих утвердил:
— Рвач.
Софрон засмотрелся на его подвижное, будто брызжущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об Антонине Николаевне забыл. Вспомнил, и заныло привычным, нудным ставшее томление, только когда инструктор сказал:
— Поедемте с нами, товарищ, в библиотеку. Вот мы с предвол-исполкома… товарищ Конышев, да? Я помню. Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не тесно в санях? До завтра, товарищи! С сектантами мне очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?
В санях дорогой вдруг притих. И было непонятно Софрону, слышит он его или потонул в своих думах. Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Софрон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах. Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и нога Антонины Николаевны через полушубок слышны. Говорить все-таки легче, чем молчать и слушать буйный трепет желанья. Но слова неровные, негладкие выходят.
А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у библиотеки из саней, сказал Софрону:
— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники, каждую букву учтут, а декреты у нас того… Не всегда ясные. Что?
Не хватает людей? Город поможет, только и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!
Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препиралась с молодежью, не желавшей уходить. Увидав вошедших, сразу поняла:
«Из города начальство».
Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, поклонилась чуть не поясным поклоном.
Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изображавший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко засмеялся:
— Это вы что же, все на заем свободы подписываетесь? Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Товарищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чудаки! И книжки у вас, верно, так же: на стенах — рядом с Лениным — заем свободы, а в шкафах — вместе с Марксом — Иоанн Кронштадтский. А? Товарищ библиотекарша. А? Не читали книжек-то? Иоанн Кронштадтский есть? Убрать, убрать вместе с плакатами.
Головиха сконфузилась.
— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-те трепать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой обмахну…
— Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой: хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сделаем всех грамотными и умелыми. Библиотеки сразу все поставим по последнему слову библиотечной техники. Вы не слыхали про десятичную систему Дьюи? Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?
Головиха вдумчиво повторила:
— Ке-кеттера.
И по привычке согласилась:
— Да, да… Кетера.
Инструктор взглянул в ее карие ласковые, со всем соглашающиеся, но умные глаза и засмеялся снова.
— Откуда вас товарищ Конышев откопал?
И броским шагом пошел ходить от шкафа к шкафу.
Головиха вдруг испугалась и растерянно-беспомощно всех осмотрела.
Инструктор вытащил из пузатого кожаного портфеля, который все время не выпускал из рук, две беленькие книжечки и стал объяснять всем, как ими пользоваться при приведении в порядок библиотеки.
Головиха, округлив глаза, внимательно смотрела ему в рот. Подростки и два шестнадцатилетних парня сгрудились у пианино. Двенадцатилетний сын Софронов Ванька, случайно взглянув на Головиху, громко фыркнул.
Инструктор оборвал речь и повернулся к нему. Но в этот момент Головиха подошла к инструктору и ласково тронула его за плечо.
— Слышьте, господин… Товарищ то ись. Больно трудна этака грамота. Понять можно… Отчего не понять? Но так што, детная я.
Инструктор смолк и в первый раз не понял:
— Что, что?
— Детная, мол, я… Уж смилуйтесь! Куды тут Кеетер. Одному подотри, другого покорми, третьему рот заткни. Трое их у меня, детей-то… Уберешь да суды айда. А тут тоже, полы два раза в неделю мою. Уж сделайте такую милость, попроще как изъясните.
И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у инструктора смех ласковой нотой оборвался.
— Детная, говорите? Ну, ничего, подмогу вам дадим. Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ Конышев, ведь это трогательно: «детная»!.. А мы в планах намечали: библиотекарь должен быть универсально образован. Но «детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, товарищ Конышев. Библиотеку обязательно привести в порядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша, очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов подмогу найдем.
Инструктор долго и ласково с Головихой говорил. На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыбкой и кивками головы все ответы утверждала. Потом с молодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмешкой в серых глазах, он задавал инструктору вопросы о новых порядках, о распределении земли, об отношении города к деревне.
— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в председателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну, сказали, кончай, а еще друг с дружкой схватились.
В дерзости слов, которые бросал срывающимся напряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз — смятенная ищущая мысль.
Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят — щепки летят», но, неожиданно для себя, обнял за плечи Ваньку, стал ходить с ним по комнате и посыпал мелкий, но четкий горох своих слов, зазвучавший глубокой полнотой человеческой искренности.
Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавила деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы народа жили, как кроты, с тяжелыми мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью всякой палке. Все условия быта обрекали на продолжение такого существования. Кто приобретал знание, в деревню больше не возвращался. Огромная могила при жизни для миллионов людей: только труд, пьянство, дикие суеверья.
Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туманные картины, ни разговоры изменить порядка не могли. Они только толкали к тому, что совершилось. Надо было разрушить систему этого порядка.
— Я не буду тебе рассказывать, что надо для города, а для деревни надо: облегчить труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения труда нужны машины. Везде, где можно освободить тело человека от натуги. Машины делают в городах. Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жизнь. Освободили. А чем кормить? Деревня для своего освобождения должна тянуться?
Он говорил долго и, в общем, несвязно. Когда замолк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом вывод сделал:
— Стало, деревню отменят? Привезут суда всяки машины, все по-городскому устроют. Вон чо!
Видно было, что еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.
Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем, потом старался не замечать. Сквернослов, курильщик, забияка, он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу вошел. Кроме похабной частушки и дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что, видно, много узнал за это время и передумал. Знал все мужицкие тревоги.
Инструктор взволнованно сказал:
— Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молодняку России.
И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:
— Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит! Вырвутся!
Неожиданной волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.
— Мой халиган-то. Сын.
— Замечательный мальчишка.
Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все старательно, долго, на церковный медлительный лад, сближая «Интернационал» с национальной заунывной песней, тянули:
Инструктор уехал к Антонине Николаевне чай пить. Ночлег ему был приготовлен в библиотеке. Когда он вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Заговорились, и беседа была необычно мирной.
У Софрона екнуло сердце, когда инструктор вышел с Антониной Николаевной. Но рассеял и отвлек разговор с народом. Говорить ему хотелось. Ожили, двигались и беспокоили мысли. Когда вернулся инструктор, на душе стало совсем легко. Шел домой и гудел:
Дома прежде всего спросил Дарью:
— Ванька дома?
— Спит.
Ванька спал на полу, у печки, с братьями. Кровать была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на разметавшегося во сне сына, усмехнулся и неловко, но бережно поправил азям, которым сын одевался.
Инструктор прожил три дня. На второй вечером Софрон опять был угрюм и лицом темен. Щемила ревнивая тревога.
Целый день Антонина Николаевна и другие учительницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон в этот день видел, как шли они рядышком по улице. Инструктор под локоток Антонину Николаевну поддерживал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.
Софрон, мучась своей болью, избил ночью Дарью. Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаянно и звонко:
— Я знаю, с чего тебя корежит! Уходи от нас, а мамку не трогай!
Дарья так была поражена его заступничеством, что плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издевательством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел на двор. Потом, в одном летнем пиджаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к школе. Тяжелый от револьвера карман бил его по боку Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову, пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке. Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон увидел инструктора. Он размахивал руками и что-то говорил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот момент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-писаренка:
— Ладно. Заночую. Сичас до ветру только схожу!
Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как продрог и как хочется спать.
Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, прилип к черному сарайчику во дворе школы. В окнах комнаты Антонины Николаевны был огонь, но занавески, пропуская свет, разглядеть, что делается в комнате, мешали. Час или год стоял? Так велика была мука, что о времени забыл. Когда застучали засовом выходной двери, вздрогнул, как от удара.
— Ну, спи!
— Завтра провожать приду!
— Не стоит, рано уеду А? Да, да, в городе увидимся!
Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился на крыльце, у незапертой еще двери. Стояла, стерва, вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом!
— Кто это? А-а!..
Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив под мышку другой рукой, втащил в ее, недоступную для него в такой час, комнату. Для него недоступную, а для этого, городского… Зубами скрипнул, а глаза и уши, как на охоте, ловили все… Никто в сторожке не зашевелился. Крепко спят. Повалил ее на пол у двери и, прижав коленом рот, запер дверь на крючок.
— Только закричи, сволочь, башку разможжу!
Выхватил револьвер, махнул перед остановившимися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами и освободил рот. Она с трудом и болью передохнула и встала.
— Только заори, попробуй!
— Не буду, Софрон Артамоныч!..
— «Артамоныч»… Заигрывала, а давалась другому. Показывай, не обсохла еще? Ах ты, шкура, б…
Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безобразных, ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уронил опять на пол и, разрывая платье, навалился, закрыл собой и широко по полу разметавшимся тулупом.
В скверности и жестокости этого обладания самой едкой обидой, ранящей человеческое, было ощущение: ее тело привычно отвечает:
— А-ы-ы-х!
Встал, плюнул ей прямо в лицо, толкнул ногой и повернулся к двери. Тонкие, белые руки вцепились в него. Вскочила, прижалась телом, сегодня еще так страстно и свято желанным. А сейчас стало противно. Рванулся и заорал, не думая ни о какой осторожности:
— Ну-у!
— Софрон Артамоныч… Софрон… Не говорите никому-Я вас люблю… Я буду вашей… долго… всегда. Не говорите никому… Не сра-а-мите меня…
«И ведь лезет после всего! Только бы людям чистенькой казаться…»
В глазах мука и отвращение, ноги ноют от грубого мужицкого обладания, а губы шепчут:
— Я буду вашей… Не говорите…
— Ах, шкура! Па-а-кось!
Рванулся, выбежал, не помня себя от злобы и отвращенья. Деревенская девка морду бы искусала, а эта барышня… Он-то на них снизу, на беленьких, из своей-то грязи, как на Бога. Ах, стерва, стерва!.. Притворялась недотрогой, мужика одуряла. А-а!..
Антонина Николаевна утром рано с инструктором в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал. Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем с прахом себя мешал? Все они, городские, такие! Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!
Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и на них цыкала. Только раз спросила:
— Может, квашеной капусты на голову-то? Поможет.
— Не надо…
Мужики приходили, притворялся спящим. А Дарья с непритворной тревогой говорила:
— Трясучка ай сыпняк.
Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, стараясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно притянул ее к себе и прижал губы к белой, набухающей в беременности груди.
Не мыслью, звериным чутьем, никогда не обманывающим, почуяла всю глубину его нежности и тихонько заплакала.
— Софрон… Желанный, соколик…
— Помолчи, Дарья… Помолчи, мать. Дура моя деревенска…
Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым пугающие, все чаще и чаще доносятся. Еще заставами неснятыми мешают им сто пятьдесят верст до уездного города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание великой тревоги только колыхнет и сгаснет в промежутке между бурей и глухой, мужицкой, застарелой тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности страшного покоя. Еще живут за печью бабкины поверья, но уже пугаются и прячутся от криков новых деревенских коноводов.
Вернулся в Интернационаловку, Тамбовско-Небесновку тож, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был не только в своем уездном, а и в губернском, порядки проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Говорили:
— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот некрепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще лютей стал.
Только Артамон Пегих, на улице Редькина повстречав, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:
— А недолго тебе, Филимон, гомозиться-то! С ручьями смоет тебя.
Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только сплюнул и отозвался глухо:
— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу, старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрыпит!
И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни: дай эти два века!
Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:
— Все может быть. Упористы вы, нонешние-то. Жадности до белого света в вас много.
И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до света белого нежадный, спокойно взглянувший в близкий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках радеющий, большевик Артамон Пегих.
А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить, долго ли будет слюни распускать, с молоканами манежиться. И не нашел его в селе.
Софрон на соседний хутор Хворостянский уехал, где переселенцы горемычные на каменистом, мало плодном, будто для них среди окрестных угодий плодородных вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заявление подали:
«Мы нижеподписавшие крестьяне деревни Хворостянской в шестьдесят четырех дворов собравшись на сходе в числе сто три человек постановили дать нам землю Небесновских молокан как на камне ничего не растет, а к тому как земля ничья как тому пункту есть декрет большевицкого правительства, которому единогласно придерживайся как есть буржуи которых бить есть наше согласье к сему руку приложили».
Заявление написано лихим почерком Макарки, по прозвишу Пройди-свет, присяжного хворостянского писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением корявые буквы подписей и унылые кривые кресты неграмотных.
Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона. Горьким дымом разочарования, как лекарством едким, прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не будет. Издали только приманчивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать не дозволяют. Рылом, дескать, не вышли! А, не вышли? Наша власть! И как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида, ожили старые боли, казалось, изжитые и забытые. Бежал с фронта одичавший, жестокий от дурмана бойни. Тогда не боялся, не жалел никого. А в своей деревне отошел, разнежился никогда раньше не испробованным почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что ничего еще не делал, только мечтал и сам «маломочных» одурял. Скуп и резок на слова стал, на книжки, на библиотеку господскую плюнул. На другой же день, как встал, за небесновцев принялся. Большой гурт скота отобрал, в город на прокормленье Красной гвардии послал. Когда узнал, что в молитвенном доме евангелических христиан на собрании в слове своем Кочеров поступок его осуждал, Кочерова самолично нагайкой исхлестал и в город в тюрьму отправил. Молитвенный дом печатями запечатал;
— Будя! Попели псалмы, на работе брюхи потрясите!
К хворостянцам поехал распаленный и готовый выполнить просьбу их.
Там, вместе с криками «будет, попили нашей кровушки!», «нечо валандаться, прикрутить богатеев!», передали ему жалобы на то, что товаров никаких в деревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке старого правительства «придерживается»: лекарств никаких не дает, от дурной хвори солдат не вылечивает.
В гомоне крепкой мужицкой брани, несвязных слов и крика раззадорился сам и распорядился:
— Лавошников перетрясти всех. Где запрятали товары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура тоже поучить и в город отправить, а для округи в больницу за дохтура Пантелея-синитара поставим. Он всяки порашки знат. Выдавать будет.
А сам я завтре в город, нащет требованию: каке есть наши права?
И уехал. А следом за ним, на дровнях три подводы с хворостянскими. На перекрестке расстались. Софрон в волость к себе, а хворостянцы в Романовку: доктора учить и Пантелея-санитара на место его поставить.
Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках вечерних лежал по краям дороги, потемневший, пасмурный. А в степи тишина была переполнена ожиданием весенних бурь. В этой, затаившей в себе крик нетерпенья, тишине дышалось тревожно. Софрон понукал кучеренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.
В Интернационаловке уже зажгли светцы и кое у кого керосиновые лампы, когда Софрон приехал. Мелькали в окнах и огоньками своими сгущали мрак в углах улиц, у ворот. Оттого не разглядел Софрон, что у его ворот стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился от забора черной длинной фигурой.
— Ктой-то?
— Я, Редькин. Куды раскатывал?
— В Хворостянку. Айда в избу! Дело есть.
Редькин рассказал мало. Похожий на сурового угодника с иконы старого письма, худой, с бороздинкой глубокой и сумрачной меж бровей, он низко опустил голову, смотрел строго исподлобья и только кашлем да отрывистыми редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба решили на свету выехать в город. На огонек заглянул Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел у стола за книжкой. С отцом и матерью разговаривал по-прежнему скупо, неохотно, но реже стал убегать вечерами на улицу. Услышав о сборах в город, вдруг поднял голову. Будто нехотя, лениво процедил:
— Меня до городу не подвезете?
Софрон усмехнулся одним углом рта. Лицо светлее стало.
— Это куда же ты собрался, товарищ?
Глядя в угол, Ванька ответил:
— Там видать будет — куда!
Софрон рассердился.
— От, сопляк, разговаривать еще не хочет! Поучу вожжами, так заговоришь.
И, хлопнув сердито дверью, вышел с Редькиным.
Но на заре, когда подъехал на хорошей паре, в ковровой большой кошеве, захваченной в именье Покровского, Артамон Пегих, Софрон разбудил Ваньку.
— Одевайся, в город поедем.
Артамон Пегих одобрил:
— Тоже возжелал на город поахать? Ладно! Вы там к господам, как начальство, а мы на улках на городских поглазем. Я тебя везти вызвался. Нуждишка до городского базару есть. Внучка наказывала.
Раньше город чистенький был. Теперь, когда взметнулись на домах присутственных красные флаги, появились вывески с непонятными названиями, взъерошился, засерел солдатскими шинелями, потускнел и сразу прибеднился. Господа в одежде приубожились. В магазинах полки и прилавки уныло просторны и пусты стали. На базаре только то, что для еды, осталось. Редко-редко ларек с городскими приманками, и тот с запасами скудными.
На улицах людных, шелухой семечек и орехов засыпанных, грязных, занавоженных, и народ все больше серый. В домах присутственных красногвардейцы с винтовками, начальники в одежде из кожи с револьверами, мутящий туман махорки, стриженые женщины с мужскими повадками, с папиросами и козьими ножками в зубах, бестолковый гул несмолкающих разговоров, окурки на полу и кучи сору в углах. Похоже, что изломов этих хозяева выехали, а эти новые — квартиранты. Останутся ли жить, еще не знают и не хотят домов обихаживать. И народ служащий непоседливый стал. За столами не сидят, все кучками собираются, руками машут и галдят.
Нет, не глянется этот новый город Артамоиу Пегих. Размышлял:
— Главно дело, не разберешь, который начальник над котором выше! Все руками машут, все приказывают, все речи говорят, и все с револьверами. У женского полу приману женского нету. Ну, к чему подобно: дымят, шапки мужицки понадевали, кричат без острастки и везде, как мужики, налезают, не ужимаются. Тьфу!
Недовольный и сумрачный вернулся на двор, где лошади стояли, и в сенях спать под тулуп завалился. В дом куда пойдешь? Номер в гостинице Софрону, как начальнику, предоставили. Хоть и грязно в нем, а все не на постоялом. Непривычно. Разбудил его Ванька толчком в бок.
— Деда Артамон, деда! Вставай! Купцов по городу водют!
Еще не развеялась сонная истома, но уже уловил в Ванькином голосе необычайное дрожанье не то от радости, не то от испуга.
— Чтой-та? Это ты, Ванька?
— Айда на улицу скорей! Купцов с мешками водют!
Побежали на главную улицу Дорогой Ванька рассказал:
муки в городе мало, из деревни скуп подвоз. Очень вздорожала мука. Рабочие в исполком: почему? Исполком запретил вывозить из города муку на продажу в губернию и цену на нее установил. Сегодня на заре крупные мучные торговцы пытались вывезти. Их поймали красногвардейцы. Возы отбили. А рабочие торговцев из домов вытащили в чем застали, наложили мешки камнями, дали нести и водят по улицам, а на углах бьют.
— Наши все, деревенски, бьют-то! Видал, с базару хворостянски, романовски, тамбовски побегли и из Демократической волости. Сейчас на главну улицу вывели. Я тятьку искал, да не нашел, тебя разбудил.
Со всех сторон на главную улицу бежали любопытные. Колыхалась сотнями голов главная улица. Стоял над ней то вздымающийся, то опадающий смутный гул разговоров, восклицаний, криков. Одинаково жадно налезали друг на друга, толкались, орали и те, кто хотел бить купцов, и те, кто жалел их и возмущался расправой. Искренними были у всех только глаза: нетерпеливые, жадные. Хорошенько бы разглядеть, как бьют! Орала в толпе толстая Максимовна, торговавшая щами на базаре:
— Православны! Выпустите! Бока сдавили: задохну!
А сама пролезала, толкаясь локтями в обе стороны, к середине, туда, где шли с мешками купцы. Впереди, смешно семеня ногами, сгибался под тяжестью мешка бывший городской голова Зеленков. Он был в одном белье и ночных туфлях. Толстый живот тоже обвис, как мешок, над короткими ногами. Благообразное лицо, с размазанной кровью из рассеченного виска, исказилось болью, натугой и обидой. Бурые густые волосы смокли, прилипли ко лбу и вискам. Он таращил из-под бровей налитые испугом, покрасневшие глаза и молил робко, задавленно, как мяукал:
— Братцы!.. Товарищи!
За ним спотыкались связанные вместе чьей-то опояской два прасола Жериховы, отец и сын. Седой старик с черными живописными бровями и молодой, похожий на поросенка, безбровый, с белесыми заплывшими глазами и носом пятачком. Даже в испуге лицо его не осмыслилось, не очеловечилось тревогой.
Он и вскрикивал, как хрюкал. Старик матерился и тряс головой. Оба успели одеться, но у старика суконная бекеша и то, что было под ней, располосовано пополам. В разрез выступила желтая старая спина. За ними трое гуськом: приземистый, черный, как жук, широкоплечий хлебный торговец Ишматов, в брюках, нижней изорванной сорочке и подтяжках. Он был сильнее других и под мешком сгибался меньше всех, но скрипел зубами и выл не от боли — от ярости. Чернозубый, с низким лбом, высокий, длиннорукий владелец паровой мельницы Мякишев лязгал в страхе зубами и часто спотыкался, наступая на оторванную штанину. Сзади всех молча волочил больные ревматические нош в меховых сапогах старик с кротким иконописным лицом и серебряными кудрями. Первый в городе богач Миляев, продавший в рассрочку с жестокими процентами сельскохозяйственные машины крестьянству всего уезда. На нем от одежды остались одни лохмотья да сапоги. За купцами, подгоняя их, размахивая тяжелым засовом от ворог, — высокий желтолицый мужик в грязной белой шапке с одним ухом, в рваном полушубке. Он зычно орал нараспев:
— Граждане! Глядите! Эт-ти вот муку вывозили! Глядите! Эт-ти наши буржуазы, грабители!
Сбоку, рядом с купцами, размахивая руками, солдат в грязной шинели, с походной сумкой за плечами. Вытаращив глаза — они одни жили на сером землистом истомленном лице, — он дико орал:
— Имперялистов поймали! Вот они идут! Бей имперялистов!
В толпе разноголосые выкрики:
— Бей толстомордых! Га-а-а!
— Выпустить им кишки!
— Мукой животы набить!
— Теперь слабода, а они муку вывозют!
— Все перва гильдия!
— Бей их по первой гильдии!
— Какая дикость! Какая жестокость! Где же власть?.. Это Зеленков впереди?
— Звери! Изверги! Убьют! Да не налегай ты, паршивец! Спину всю протолкал!
— Господи, что же это? Господи, что же это? А их уже били?
— Сенька-а, пролазь суды! Тута всех шестерых видать!
— Гра-а-жда-а-не! Эт-ти вот муку вывезли!
Семь солдаток визжали около самых купцов, наскакивая на них с двух сторон, стараясь ударить на ходу, подскакивая и подпрыгивая, как в диком танце. Прасковья Семенчихина всех визгом покрывала:
— У мине муки на квашню нету! На квашню не хватат!
Худой, косенький, однорукий курьер торопливо, широко шагал за солдатками, чтоб не отстать от купцов, не потерять их из виду, и громко, радостным, захлебывающимся тенорком рассуждал:
— Действительно, им там всяко прованско масло, а нам на муку нету! Де взять, когда ка-а-жный божий день надбавка! Кажный божий день! Бить их следует! Я согласен.
Густым диким ревом орали крестьяне, сбежавшиеся с постоялых дворов.
— С энтого вон шкуру содрать! За цабан иссушил мене. Всем потрохом заплатил.
— Мы каждый пуд слезой поливали, а нам кака цена?
— Нутре надорвали над хлебушком. А они на ем наживаются!
Играла в мужицкой крови обида вечного податника, боль натруженного, для чужой утробы, горба.
Играла стихийно мужицкая ненависть к белоручкам.
— Пузо наливали! На нашем хлебушке наживались.
— Бей их, сволочей!
На углу, у высокого крыльца большой аптеки, высокий, в шапке с одним ухом, остановил купцов. Разом насела на них толпа. Деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили. Солдатки пронзительно визжали, совались бестолково к лежащим на земле купцам и в толпу. Ругались длинными похабными фразами и причитали о своей скверной жизни.
Прискакал конный отряд милиции. Начальник милиции был впереди. Расталкивая конем толпу, он кричал:
— Эй вы, прекратите! Эй вы, слу…
Докончить он не успел. Прасковья Семенчихина вцепилась ему в правую ногу и потащила с лошади. Дюжая, плечистая солдатка обняла его с другой стороны, руками у пояса. Он только успел подумать:
«Зачем она руки мне в карманы?»
И полетел с лошади вниз головой.
— Вот тебе, командер! Постой на голове.
Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягая ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет:
— Вот так бабы! Выучили на голове стоять.
Прасковья приговаривала:
— Гладкий жеребец! Ляшки-те, как у борова.
— А ты его еще пощупай. Хорошень!
— Га-а-га… Го-го-го…
— Бей Зеленкова! Он на нас поездил!
— Подымай купцов! Еще водить!
Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук. В разорванных штанах, избитый. Рад был, что каким-то чудом револьвер со шнура не оторвали. Но стрелять не решился. Побежал в исполком. Там члену военно-полевого штаба обо всем доложил. Оправдывался:
— Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только выстрели. Весь в синяках. Исщипали, подлюги!
Член военно-полевого штаба, высокий большеносый человек в очках, смеялся:
— Ну, как вас бабы учили? А?
В исполком прибежал трясущийся, с отвислой нижней губой, бывший председатель уездной земской управы, купец Титов. Пропустили к большеносому.
— Что надо?
— Спасите… спрячьте… Самосуд… меня ищут тоже.
Высокий презрительно и спокойно сказал:
— Спрятать могу только в тюрьму Сейчас напишу ордер. Идите, там примут.
— Благодарю вас… век не забуду… Спасибо… Ордерочек-то скорее.
Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и, поправив на голове кожаную фуражку, пошел на главную улицу, где ревела толпа. Когда пробирался сквозь нее, видел: на крыльцо аптеки вскочил высокий, тонкий юноша, с бледным до синевы лицом и горящими глазами. Юношеский голос вырвался резким отчаянным выкриком:
— Товарищи!.. Товарищи!..
Желтолицый в папахе оглянулся и заревел:
— Племянник будет Зеленкову.
— А-а-а. Во-о-о… Ага-а…
Сгребли «племянника» опять первые бабы. Насели мужики. Он скоро замолк и вытянулся. Член военно-полевого штаба видел в толпе красногвардейцев. Они не только не мешали расправе, а сочувствовали ей. Это было видно по оживленным их фразам, по яркому блеску ненавидящих глаз. Им была понятна ярость толпы, потому что кровное родство связывало их с мужиками, которые били, как цепами молотили. Но толпа уже сгасала. Почти насытились местью. Высокий член военно-полевого штаба поднялся на крыльцо аптеки, откуда стащили уже пятерых. Мужественным зычным голосом он спросил:
— Что вы, товарищи, делаете?
И в простоте, холодной ясности этого вопроса была странная спокойная убедительность.
Затихать стали, от жертв своих оторвались.
Неуверенно прозвучал одинокий мужской голос:
— Стащить и этого надо!
Высокий на крыльце услышал. Спокойно отозвался:
— Стащите. Я без охраны и отбиваться не буду.
Как бы в доказательство, руки вверх поднял, потом опустил и, будто продолжая спокойный разговор, опять спросил:
— На кой черт с этими связались? Управу на них найдем. А вы убили их на улице, вас злодеями величать будут. А их за мучеников. Отведите живых в тюрьму! Там примут. Сейчас десяток еще арестовали. Проучим, будьте покойны! Умеем! А этих, мертвых и изувеченных, стащите в больницу.
Холодно поблескивая очками, спокойно, будто ничего не случилось, уверенный в себе, как хороший укротитель, он спустился с крыльца и пошел к избитым. В задних рядах еще слышались крики:
— А этому чего надо?
— За кого застаиват? За кого застаиват?
— Бей!
Но в середине, около высокого, стихли. Расступились и дорогу ему дали. Он спокойно взглянул на избитых, будто пересчитал их, повернулся и пошел к исполкому. Из толпы вынырнули оправившиеся милиционеры.
Мертвых, Зеленкова и реалиста, и троих, избитых до невозможности встать, утащили в больницу. Двух, которые встали и могли брести спотыкаясь, повели в тюрьму красногвардейцы.
Артамон Пегих, яростно бивший купцов вместе с другими крестьянами, перевел дух, как после утомительной работы, вытер рукавом пот и оглянулся. Увидав Софрона, пошел к нему через улицу по расцветившемуся пятнами рыхлому снегу степенной мужицкой походкой.
— Слышь-ка, Софрон! Это кто же сурьезный-то, в очках?
— Из военно-полевого штаба.
— Сурьезный, и того… Без опаски человек!
— На фронту всю войну был, чего ему опасаться? Кабы из тыловиков, так давно бы ногами задрягал!
А человек без опаски шел и думал:
«Могли сгрести! Устали уж, насытились. Деревенское зверье работало старательно. Д-да… стихия! С этими еще придется и нам хлебнуть… Да!."
И привычным движением руки пощупал револьвер.
Софрон расправу одобрил:
— Когда дождешься на их, городских, по закону-то, управу? Сбыли со счету которых, и ладно!
В городе тревоги было больше, чем в Интернационаловке. Там, в деревне, под сектантским началом, еще несмело и нестройно вмешивали новое в старое. Больше галдели, мало рушили. А в городе уже гулял хмель мести и разливного гнева. Ночами вытаскивали людей из насиженных гнезд, отводили в тюрьму, отбирали добро. Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам. К чистеньким, образованным. Об Антонине Николаевне не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала, и пожалел инструктора.
— Зряшна баба!
На заседании исполкома один раз присутствовал и одного члена исполкома изругал за то, что тот против контрибуции был.
— Эдаких беленьких-то нечо спрашивать! Им штоб и горячий блин, да штоб не обжигал. Под задницу их надо! Колготят, а от делу под закрышку.
Всякая слабость и нежность вызывала в нем взрыв гнева. Не выносил машинисток в учреждениях.
Все барышни нежненькие в машинистки определились.
В исполкоме одну с кудряшками, ласковую, изругал матер-но. Когда она заплакала, сплюнул около стола с машинкой и спокойно отошел.
В городе опять в военную одежду оделся. И когда шел по улице, в шинели, с револьвером и бомбой на поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливающим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно они доходили только до исполкома.
Артамон не любил учреждений, махал рукой и поворачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревенских и проводил с ними день. Редькин заходил ненадолго, хмуро осматривал служащих и оставался только, если назначалось собрание. Собрания были часты. Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвращался обычно в гостиницу злой.
— Нащет деревни никакого решенью!
Ходил в читальню, слушал газеты. Сходил даже один раз на любительский спектакль и долго после этого хрипло матерился.
Ванька целыми днями в типографии пропадал. Один раз послал его из исполкома Софрон за газетами, каждый день стал туда бегать. Свел дружбу с наборщиками. Они ему газеты и книжки давали читать. Читал он жадно, без разбору. Все будто что-то искал в книгах и газетах. Оттого что он ясно видел, как ловко и легко все обсуждают городские и как туго и тупо понимают все новое деревенские, загорелось его сердце обидой.
— Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму. Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!
И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподносили ему разжеванного, питательного, тратил много времени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал открытия уже открытого, но не растерял своего и креп дерзкий, в себе уверенный и упорный.
В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался по-весеннему В полдень радостно прыгала с крыш капель. Город оглашался допоздна звонкими детскими голосами. Артамон беспокоился:
— Угрузнем где в логу. Снег-то пади уж не держит! Скоро ли, что ли, поедем, Софрон? Все шалтай-болтай, а в деревне-то телеги налаживать надо. Небушко-то уж звенить!
Софрон угрюмо отозвался:
— Уснешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы к земле и об себе не понимай, чтоб и земля полегче давалась. Дела еще есть в городу.
А в городе событие случилось. Получил исполком сообщенье, что в восьми верстах от города остановился казачий полк или отряд, но много казаков. С фронта в степные станицы возвращаются. На конях, в полном вооружении и даже одно легкое полевое орудие с собой волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на передышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился. Казаки — народ старой закваски.
Зачем им пушку в свою станицу? Постановил исполком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но говорят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую власть признаем, Пропустили отряд. Но пришло распоряжение из губернского города задержать казаков. Решили спешно отправить Красную гвардию. Это было первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия в городе занималась только охраной самого города да сбором контрибуций в селах.
В назначенный час со всех улиц потянулось к исполкому свободное, наемное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская часть. Впереди несли красное знамя и на пике металлический полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестройными рядами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то полузабытой, но в давнем родной всем и волнующей дудке. И в ответ этой дикарской песне с подъезда исполкома раздались взывающие дерзостью и новизной слова приветствия:
— …Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся, охрана революции…
Это соединение киргизской песни, бестолкового гомона разношерстной, по виду убогой, разноголосой, разноязычной толпы, собравшейся на улице мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих отвагой вызова всем, всем, всем, было дико, страшно и бодрило душу величием, непонятным рваной кучке — рати смельчаков, появившихся во всех городишках взъерошенной РСФСР, чтобы лечь перегноем ее полей.
Эти большие слова были для них только звоном своего села. Чтобы была своя пашня, чтоб проткнуть пузо с ему кулаку Миколай Степанычу, чтобы разогнуть свою спину, из своей глотки услышать крик вольный, непривычный: наша власть! Но чутьем, всему живому, а им, простым и цельным, сугубо свойственным, ощутили они широкую радость дерзости.
Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными. Охмелели буйным хмелем задора. Стреляли в воздух из винтовок, орали, не сердито, а задорливо ругались. Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в длинной, будто тятькиной шинели, удивленно-весело кричал:
— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, эй, затвору никто не видал?
Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно выругался:
— Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвору!
— Затвор потерял, вояка! Титьку мамкину возьми вместо затвора!
— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.
— Ничо, я без затвору… Я и так… его мать, казака растворожу. Ничо!
И лихо, с выкриком, песню поддержал:
Другой, такой же зеленый и радостный, кричал в кучу смешавших свои ряды киргизов:
— Эй, вот ты, крайний, как тебя?.. Малмалай-Далмалай, скажи: «пролетарии всех стран». Не знашь? Не умешь?
— Се ум ем! Мал-мал казак стрелю!
Смешанный гомон, бестолковая брань разношерстных, таких непохожих на старую армию, пьяных задором, присутствием в рядах и от водки пьяных, были противны многим в прихлынувшей посмотреть толпе. Люди, видящие только то, что можно пощупать, окружали толпу красногвардейцев враждебным гулом.
— Да, армия! От первого выстрела убежит.
— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах аль тоже потерял?
— Сыно-о-чек, и чо ты с ими связался! Вернись, убьют!
— Фронтовиков-то и не видать. Эти навоюют.
— Начальники все пьяные! Армия!
— Они начальникам-то своим в харю плюют! Дысцыплина!
— Како войско, за деньги ежели!
— Пленных с собой понабирали! Со своеми воюют, а чужаков к себе!
— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!
Но и в этот гул вплетались крики своих красногвардейцам.
Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:
— Которы нашенски сельчане… Митроха Понтяев, ай хто! Доржись! Нашинска волость в большевиках состоит… Доржись, робята!
— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!
— Ничо, не баре, выдюжат!
— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать? Змеюга!
— А ты сам-то игде видал армию? В кабинетах своих? «Не стара армия». Игде ты от военной службы прятался? Каку армию видал? Ну!..
На подъезде появился высокий очкастый член военно-полевого штаба.
Опять загремели, колотя захолустный покой, большие слова:
— Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе гнет капитала…
«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна пригрозить Европе, и радостным ребячьим выкриком из рядов отозвался:
— Застрамим Европу, товарищи!
Ванька, румяный, радостный, тоже будто хмельной, Софрона в толпе за рукав поймал.
— Тятька, определи меня с ими! Чтобы взяли!..
Голос просительный ребячьим стал, а то всегда говорил как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы и без поз воленья отца удрать, но резче взрослых сильнее ощутил великость больших слов, в маленьком городке взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был: мальчишкой, которому еще доверья нет.
— Определи, тятька!
— Ах ты, шибздик! Рано. Определю еще… — Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу. Засмеялся радостно.
А сбоку от них, у забора, господин в черном пальто с барашковым воротником злобно и громко крикнул:
— Не красная гвардия, а красная сволочь!
Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрей в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком. Сразу потемнел и почуял: в углах враги.
— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!
— Стройся!
— А-а-а…а… ри…
Гудела толпа. Крепчал ветер. Русский весенний месяц будто обозлился на этих новых русских солдат, вспомнил, что он еще хмурый, зимний…
Начал падать снег.
— Мамоньки, никак мятель будет!
— Ничо и в мятель! Русский привычный.
Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза прячет.
— Прислали, дак живите.
— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом открыть.
— Чо распоряжаться-то? Прошло будто то время, когда господа распоряжались! Отдерите доски да живите.
Стоит у стола так, будто остерегается к нему прикоснуться. Одежда военная, а чистая. Левая рука в черной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее всегда носил. Изуродованный палец скрывал.
— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. Разрешите откланяться? — И к двери.
— Слышьте! Как вас?.. Господин доктор! Вы как, из военных будете?
— С начала войны на фронте. Недавно вернулся в город.
— Ишь ты! А я думал, тыловничали. Глядеть, вша не кусала! Солдаты-те не били?
— Что?
Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, нутра не показывает.
— Не били, спрашиваю? После, как царя отменили?
— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.
— Ыгым. Видать, старательный! Ну айда!
Доктор плюнул только на улице. И то первый раз не сдержался умный протопопов сын. Хоть и утешал себя:
— Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо фельдшеру. Пригодился большевик.
Выпросился вместо отпуска в больницу сюда поработать недели на две, ну, а там половодье. Не выбраться в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Романовки в именье Покровского перевели: зданье для нее было в именье приспособлено. Проснулись молчаливые дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем и просил доктор. Открыть для жилья себе.
Софрон из города вернулся беспокойней и злей. Втянул ноздрями тревогу и привез ее в село. Колготили раньше бедняки, но часто сдавали. Но чем больше слабела зима, тем властнее становился призыв земли. Тем упрямее стояли за свои участки многоземельные, беспокойней и смелей тянули к ним руки батрачье и малоземельные. Оттого привезенную Софроном тревогу приняли и сразу на нее откликнулись. Парни и молодые мужики пошли служить в Красную гвардию. Грозили:
— Со штыками на пашню придем! Держись, толстопузые!
Мужики пожилые и старики тоже хмелю хватили:
— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!
Посредине села, на базаре, длинный шест поставили и на нем большой красный флаг. Когда проторенной тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный красный язык будто дразнился с шеста.
Молитвенный дом евангелических христиан все еще стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова. Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о порядках государственных говорить остерегались. Только в тайном разговоре с Богом, в думах просили: порази нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужицких азямах. Без работников, сами на дворе своем управлялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто недужили. Часто в новую больницу к доктору ездили. Человек ученый и серьезный, им по нраву пришелся. Возили ему муку, яйца и масло. Пока зря не пропало. Отбирают одежду, скот и за продукты, гляди, примутся. Бедные бывали редко. Некогда и непривычно лечиться.
Софрон, через неделю после разговора с доктором, в больницу приехал. Редькина привез. Из города Редькин приехал в солдатской шинели. Висела она на нем, как на шесте. Но от военного вида ее еще страшней стал.
Доктор встретил в белом халате.
Софрон оглядел белый стол, баночки и скляночки в шкафу.
— Много ль вылечил? Аль на погосте посчитать?
Доктор сдержанно ответил:
— Есть и на погосте, а некоторым помог. Деревенских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты почище. Оттого что грамотные…
— Было время учиться. А ты с ними компанию водить-то води, да оглядывайся! А то самого полечим, — прохрипел Редькин.
Доктор глаза веками прикрыл.
— Лекарств вот нет.
Редькин сверкнул подозрительным сверлящим взглядом.
— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все выпил? Давай мне каких порошков. Нутре горит.
— Выслушать, выстукать вас надо.
— Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.
И закашлялся бьющим тело кашлем. Глаза выпучил.
— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько, не утомляться.
— Ладно, сичас к себе в кабинет приеду и на мягку перину. Кабинет-то только у меня на подпорках, да перина тонка. Давай питья какого! Неколи растабарывать!
Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузырек что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Софрон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в коридоре шум послышался. Без предупреждения распахнулись большие белые двери. Трое красногвардейцев внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами, Софрон навстречу метнулся.
— Откудова? Где ранили?
Правая рука у раненого была привязана кушаком к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой шапке, ответил:
— Тута стычка вышла, с казачишками. Посылали. Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко!
Раненый открыл помутневшие глаза и сказал слабым, но внятным голосом:
— Кровища льет. Заткни чем-нито, пожалуйста!
Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос доктора: — «Скверно», — сказал опять внятно:
— Ничо, у мине жила крепкая…
Софрон доктору твердо сказал:
— Этого — чтобы вызволить!
Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой.
В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Разбили их, а на станицу два набега другие сделали. Богатые села бунтовать начали.
— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на тебя полагаются, — сказал старший, знакомый Софрону.
Когда Софрон с Редькиным из больницы выходили, Редькин спросил:
— В господском-то дому доктор теперь?
— Он.
— Ыгым. А кака это пика на доме?
И показал на громоотвод на господском доме. Четко вырезывался в легком, весну почуявшем воздухе.
— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не разбило. Господа — народ дошлый. На небо молятся, а промежду прочим, от него обороняются.
— А разговаривать через него нельзя?
— Через пику-то? А как? С кем? С Богом што ли?
— А може, проловка кака под землей. Теперь всяки телехвоны да грамофоны…
— Не знаю. Ваньку надо спросить.
Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Софрону и Редькину про громоотвод.
Редькин слушал внимательно. Потом спросил:
— А книжка-то как, полная али нет?
Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках: полный курс географии, сокращенный курс. Потер лоб и прочитал на крышке книги:
— Издание для народа.
— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам больше известно. Слышь-ка, Софрон, слово сказать надо. Айда-ка!
И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:
— Каки от своей крови тайности!
Но Софрон строго оборвал:
— Свое бабье дело знай!
С Дарьей жили хорошо после примиренья, но разговаривать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил. Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет…
На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась корова, Редькин сказал:
— Зачем и к чему дохтур к нам приехал? Раньше фершала чуть выпросили. И я тебе скажу — за им купеческая дочь: пан-кратовска девка. С им, дознал. Я этту лекарству-то вылил.
— Ну?
— А казаки?
— Ну?
— С ими по отводу этому разговариват! Вести об деревне дает! И об нашинских солдатах.
Сказал с глубокой уверенностью. В самом сомненья не было. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый, одурить может.
— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.
В этот тихий час вечерний в господском доме сидели доктор с женой. В большой, хорошо вытопленной, но пустой комнате не чувствовали себя дома. Будто на пересадочной станции удалось укрыться. Передохнуть от шума и сутолоки. Но придет поезд, и радостно будет уголок этот покинуть. С собой привезли только дорожный сундук да постель. Поставили в квартиру две походных койки и длинный стол. Докторша лампу с собой захватила. Большая, горит на столе, а в углах от пустоты все будто мрак. Доктор смотрел в книгу. Но оттого что на лбу беспокойно менялись продольные и поперечные морщинки, Клера знала: не читает, о своем думает.
— Саша!
— Что, детка?
— Здесь тоже страшно! И как там мама с папой…
Потянулась к нему, хрупкая. Привлекательная больной прелестью. Такой иногда отмечает вырожденье. Единственная дочка у пожившего бурно папаши. С детства страдала пляской святого Витта. Лечил с двенадцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало шестнадцать, женился. Взял приданое большое и любовь нераздельную, фанатичную, какая бывает только у больных, грезой живущих.
Приласкал снисходительно, как всегда. Но в синих больших глазах тревога не растаяла.
— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху только бродит. Сектанты со мной откровенны. Сегодня узнал, в уезде много недовольных. Голова не болит? Что печальная?
— Нет. Томительно как-то. Предчувствия…
— Пустяки. Нервы.
С силой ударил в окна ветер, плачем нежданным пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело успокоил. Дал лекарство. Когда улеглись в постель, рассчитал, раскинул в уме срок, в какой соберутся и окрепнут казаки.
А Софрон ворочался на деревянной скрипучей кровати и размышлял: как громоотвод убрать? Не причинит ли вреда, как за него возьмешься? И решил: «самого заставлю».
Утром Жиганов долго у доктора пробыл. Приехал насчет грыжи посоветоваться, а потом долго с доктором опасливо и чутко, стены слушая, шептался. Доктор проводил его веселый.
На сиделок и бестолковых больных в этот день по-хозяйски покрикивал.
А к Софрону курносый подросток в огромной папахе, верхом на старой сивой кобыле прискакал. Привез замасленный серый конверт. В нем: усилить в волости охрану.
В полдень в больницу явился Редькин. Нелепым казался у смертью меченного револьвер. Как-то уныло торчал из кармана. И шинель на нем тоже чужая обряда. Доктора в коридоре встретил. Он собирался сектанту опухоль гнойную и опасную разрезать. Распоряжения приготовить все нужное давал. Редькин его остановил.
— Срочный приказ от интернационаловского исполкома сообщить должон.
— Ну?
— Не ну а веди, куда поговорить! Дело обстоятельное!
— У меня операция. Больной готов и ждет. Я сейчас занят.
— Ну ладно. Доканчивай. Чтоб к обеду был в исполкоме! А то солдаты придут, приволокут.
Доктор сегодня нетерпеливый. Вспылил:
— Я ведь не хлеб из печки вынимать собираюсь! Человеческое тело резать! Что значит «доканчивай»? Не знаю, когда освобожусь!
— Я тебе русским языком сказал: к обеду штоб был в исполкоме.
Перекосил лицо, но бьющий злобой взгляд Редькина страшен. Укротился доктор. Глухо крикнул в дверь:
— Операции сегодня не будет! Скажите больному! Пройдемте в эту комнату!
Дверь перед Редькиным открыл. Через полчаса вышел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз сказал:
— Передайте исполкому: громоотвод устроен не мной. Убрать его просто не смогу! Еще раз заверяю вас, что только темнота, незнание…
— Ладно! Опосля поговоришь!
В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим волчьим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто повернулся и хлопнул дверью.
За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она следила за ним неотступным верным собачьим взглядом и ничего не ела.
Первый услышал ночью слабое хрустенье талого снега дворовый пес. Залился надрывным бешеным лаем. И почти одновременно с ним — Клера.
Взметнулась с постели, в длинной ночной рубашке, так быстро, будто лая этого ждала.
— Саша, Саша!
Нежность непередаваемая, мука неизбывная в голосе» а он спит! Только когда застучали сильными мужицкими ударами в дверь — проснулся.
А Софрон приказывал:
— Мы с Редькиным здесь подождем. Волоките. В комнате нечо пакостить. Суды живого.
— Кто там?
— Отворяй!
— Я не могу так… Кто?
— Отворяй! Дверь-то высадить долго ли чо ли?
Завозились в доме прислуга и больничный служащий Егор.
Появлением своим будто ободрили доктора. Наган в руке крепче почуял. А сзади Клера. Вцепилась в плечи тонкими руками. Будто в одно с мужем хотела слиться.
— Подожди, Клера… Не открою! Кто?
Голоса за дверью тише. Будто совещаются. Издалека ветром донесло:
— Эй, ктой-та тут?
Застыли в доме у двери в ожиданье. А Егор ворота и со двора дверь открыл. Почуял: не впустишь в дом, всем отвечать придется. Доктор слышал шаги, уходят. Перевел дух и в комнату из коридора пошел, придерживая левой рукой Клеру. И лицом к лицу, в солдатских шинелях, с револьверами. Не крикнул» не вздрогнул, только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать. Но увидали. Передний курносый увидал.
— С левольвером, сволочь! Айда! Этаких на фронте много покончили. Нечо дипломатию разводить! Айда!
Взметнулась докторова левая рука в черной перчатке. Солдат за правую тряхнул.
— Айда.
— А-а-а-а-а, не пущу! Не пущу!
Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил. Но скуластый и курносый парень с круглыми глазами, стоявший впереди, не поморщился.
— Не верещи, пигола! Про тебе разговору нет. Дохтур, поворачивайся!
— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!
Плевала, кусалась, царапалась. Ощетинившейся дикой кошкой кидалась.
Мешала доктора взять. В хрупких руках неестественная сила. Курносый восхищенно удивился.
— Ат, сволочь! Глядеть, дохлятина, а цепкая! Волоки с им вместе.
Скрутил сзади руки парень, потащил Клеру по полу. Будто барана свежевать. Она кричала и билась. Двое доктора вытащили. Прислуга вся попряталась.
Черными тенями на площади за домом Софрон и Редькин. Резкий звенящий Клерин крик по заводу раскатом. Но за глухими дверями новые люди. Их крик никому в уши не бил, и они чужого не слушают. Плачем отозвался только Петька сторожев в больничной кухне.
Софрон приказал:
— Заткни бабе глотку. На кой приволок?
— Цеплятся.
Подол длинной рубашки Клериной комком в рот ей заткнул курносый, а руки скрутил и держит. Другой собаку пришиб.
— Эй ты, барин! Сичас конец тебе. Говори, чо по громоотводу казакам передавал.
Грозен и четок голос Софронов. С хрипом голос докторов:
— Нельзя по громоотводу разговаривать.
— А, нельзя. Р-р-раз!
Доктор упал. Курносый загляделся, ослабил кулаки, Клера вырвалась.
— Палачи! Насильники! Все равно конец вам скоро! Саша! Саша!
Заворошился доктор. Будто баба криком жутким, криком силы последней, предельной, его оживила.
— А, вместе хочешь? Отойди, дура.
— Вместе хочу! Вам конец скоро-о. Вместе!
Мужа телом закрыла.
Софрон и Редькин оба:
— Р-р-раз! Р-раз! Р-раз!
Сапогом Софрон попробовал. Мертвые.
— Ничо, баба старательная была. Слышьте, волочи за ноги в яму! Помойка тут глубокая.
Когда возвращались, Софрон на крыльце барашка маленького увидал. Из открытой двери кухни выбежал и жалобно блеял. Вчера только новорожденного в кухню Егор принес. Блеял, как плакал. Софрон подошел, поднял шершавой рукой нежное трепещущее существо и прижал к шинели.
— Бяшка, бяшка. Тварь дурашная! Напужался?
Казаков в уезде утихомирили. Помогла весна. Лога помешали объединиться недовольным новыми порядками.
День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход, взятое у нее, изжитое время. С закономерностью неумолимой приводит смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому дню пребывания в жизни его тревогу и успокоенье, скорбь и радость. И чем ближе живое к началу бытия, тем непреложнее для него установ этой смены.
Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голову, заставил шириться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда, — нет времени, твердо положенного, приказывающего: не раньше, не после, твори свое сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое плодоносное, готовое для зачатья или приносящее уже плоды чрево, устанавливает сроки, в какие ей нужны силы крепкого, выдубленного для работы над ней мужицкого тела, — властен закон установа жизни. И в ненасытимости поглощенья этих сил жесток.
Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой звериной крови, плодовито, как у земли, чрево. Но жадна и скупа душа, всегда мучимая собираньем, жаждой накопления плодов земных для огромной утробы всех, кто живет, рождает или мыслит, кто сцепляет звенья для продления жизни. Здесь у людей темным и старым, как земля, задавлена творящая сила человеческого ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяйки-земли быть слепым и безжалостным даже к себе. Оттого туго открываются двери его души, и звериной хитростью оберегает он их от широкого взмыва боли и восторга, и только во хмелю распахивается темный, большой, о духе, запертом в сильном теле, тоскующий. А хмель радостный сходит на него, когда земля властно позовет: твори, пришел час.
Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных портках и рубахах, но живой, говорливой, как в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, радостным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь, — гудели нынче густо, как сильные. Оттого что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице у Аргамона Пегих лучами, грязно-серые волосы серебристыми. Маленький и сухонький, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый кричал:
— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?
— Деся-ать!
— Хватит ли по машинам-те?
И тревожным перекатом по заовражинским:
— А и то, хватит ли?
Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:
— Савоська… это нашинский… Постаратся. Его для надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б над чем!..
Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло — угрюмо отозвался:
— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Энда-ки, как Пегих да Редькин, накузнечат… Каки целы зубья-то, и те переломают.
Софрон насмешливо оборвал:
— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!
И непривычными пальцами начал свертывать папироску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.
Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:
— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!
— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-ка Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват. Ай ма-тюком подавился?
— Ха-ха-ха-ха!
— Го-го-го!
— Подавишься! Прятал, прятал машины для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.
— Наймем ли, чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?
Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:
— Не было б нас, и машины-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?
— А, реготали, а теперь учуяли? Редькин завопил:
— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..
— Знамо, без их!.. Пущай сено у нас покупают.
— Не примать!
— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лошадями они.
Софрон спор прекратил:
— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.
— Правильно-о!..
Артамон Пегих справился:
— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.
— Айда в школу, в коммуны записывать!
— Чо и во сне не метилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.
Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человеческих голосов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:
— Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче нашу чушку! Скоре повернется. Я смяхом, а ты и…
— Смя-яхом! «Айдате с нами»… Ды, мамынька, стыдобушка сказать людям: с Касатенковой Марькой связались. В девках-то люди обегали, до двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла…
За кузницей на лужайке дети звенели.
— Которы машины жигановски, теперь нашински!
— Как раз! Вашински! А нашински?
— И вашински!
— А жигановски?
— «Вставай, проклятьем заключенный, своею собственной рукой…»
— Ах ты, холера тебе задави! Семой год, а туды же «вставай проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!
— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!
Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.
— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.
— Чо остерегать? Сажени-то, знать, стары, меряны.
Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун, и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь.
А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузнечиков, в шур-шанье букашек. Будто и не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он в степи горяч, прян и ароматен. Полынь, трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуш-а-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.
Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.
— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!
— «Шагашь»! Каке ноги есть, тоими и шагаю!
— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло! Начинай отседова!
А степь отзывается: а-а-а!..
Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел звонко, заливисто:
— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?
Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил… вместо перепелки змею. Кинул с размаху.
— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалит.
Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.
— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!
Ванька за Артамона задорно Глебову ответ прокричал:
— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ими родня.
Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.
Косить обычно начинали после Петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:
— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.
— Ничо, мы горячие, высушим!
Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькали по степи бабьи головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.
Участок артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый, маленький. Издали был в степи как букет небольшой на столе. А подъехали, увидели: тенистый и приютный, с родником студеным.
Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, с Артамоном на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.
Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:
— Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелеевска коммуна — девять семей… Ничо, на луга силу двинули…
— Ва-а-нька! Вань! Чо растопырился, иди!
— А-а-а!
— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в-аешь?
— Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..
У Аксиньи-солдатки голос из груди сам вырвался:
Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти травы, налились тяжестью натуги спины, а передышку ни одна коммуна не объявляла. Не хотели сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.
— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!
— Айда-те-е! Три раза кликала!
Пить! Прежде всего пить студеную оживляющую влагу Холодом нежит пересмякшие губы. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом так же долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла Дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. Вповалку в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Поднялась коммуна, и снова шум, и треск, и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласно двигался на общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.
Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился на землю ласковый полог ночи, молодежь от станов подальше ушла.
Переливами будоражливо голосов своих полог этот колыхала. В кустах пары жарко обнимались, больно целовались, любились. Но когда обвевал холодок зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он на покос только наезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське-кузнецу.
— Айда, парень, в кузницу!
— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу Не сработашь, не прогневайся.
— Дак нашей-то коммуне как без машины?
— Ну, косами косите!
— Я те покажу «косами»!
Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от исполкома кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем, к концу косьба. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на себя работали.
Передряги начались только, когда стали сено возить. Глебов на своих лошадях воз за возом, а артамоновская лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал на затуманившееся небо и ахал:
— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка! Везде бедному закавыка!
Ванька Софрону сказал:
— Мы чо же, сено-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться станем? Дожди пойдут, сгниет. На своей спине не вывезешь.
— Тебя не спросили! Знам, сделам.
Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Долго галдели у волости, когда объявили, что лошади в коммунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по очереди.
Софрон на крыльцо вышел:
— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло времечко. Палка-то в наших руках!
И лицом двинул на красногвардейцев приезжих. Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а Панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел:
— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй! Нынче нам лошади. Куды заворачивать?
— Без тебя знаю, мозгляк!
— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет! Как кто выпятит, сейчас сгребет!
— Ты, сволочь, гляди нарвешься когда… Не охнешь! Больно ловкий да шустрый стал!
— Нам нельзя нешустрым-то быть. Сказано. Российски Федеративна Социалистическа Республика. Вот и понимай!
У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в их смачной русской речи иностранные слова.
С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.
— С сенцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом… Редькин на кровати с половины покоса лежал, маялся.
В коммуне мало наработал: жарким летом в поле все дрожал, тепла просил. Но на его семью покос засчитали. Артамон Пегих один раз навестить его пришел, поглядел и раздумчиво сказал:
— Може, опять не помрешь! Должон бы, дак упористый! По всему, весной бы еще помереть надо, а ты все супротивишься. Не знай, не знай! Должен бы, а промежду прочим, не знаю!
Жена тоже два раза уже начинала причитать, а потом заводила последний хозяйственный разговор:
— В городу сундучок-от забыл. Беспременно Антошку спосылать надо. Детям лопатина-то сгодится.
А Редькин все не умирал. Хрипел, а смерть гнал. Один раз Ванька привел к нему бывшего библиотекаря, Сергея Петровича. В продовольственном комитете теперь служил, приехал для сбора сведений с эмиссаром. Сергей Петрович очень Редькина жалел» а не вытерпел — попрекнул:
— Вот мучаешься, и помочь некому! Доктора-то за что прикончили? Время бесправное, а то за такое бы зверство!..
Редькин только глазами повел и прохрипел:
— Уморил бы…
А Ванька резко, не по-детски, сказал:
— Для кого бесправно, а кого на права выволокет. Было бы по-старому дольше, много бы еще эдаких погубили! Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А темнота, она злая.
Сергей Петрович пристально на него взглянул и смолк.
И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:
— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос-от машины какой всему селу собрали.
Уборка сена коммунами Софроновой партии в селе силу дала. Два мужика богатых из Небесновки, Перегудов Антон и Лотошихин Павел, прошенье подали:
В большевицкую партию на селе Интернационалове по старым документам Тамбовско-Небесновском.
Граждан села Интернашганалова
той же волости Антона Михайлова Перегудова
и Павла Максимова Лотошихина
ПРОШЕНИЕ
Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегудов и Павел Максимов Лотошихин к сему сообщенье докладываем, что есть у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятин, у Павла Лотошихина сто десять десятин. Но как мы поняли, что теперь большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться с малоземельными заодно в линию состоять от того, что старого монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:
Антон Перегудов
Лотошихин Павел.
Софрон на своем собранье доложил, и постановили в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп с них взять. Антон Перегудов должен сдать большевистской партии села Интернационалова двести пудов пшеницы, а Павел Лотошихин сто. Оба согласились и пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвердились.
А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков опять и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.
В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Десять вооруженных людей в темноте сторожко Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.
— Кто там?
Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли.
Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.
— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за лобогрейку!
Плюнул в лицо и связанного Софрона под правый глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отозвалось поле на крик.
А Жиганов повалил Софрона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.
— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!
Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:
— Пойте свой «Интернационал»!
Из двадцати девяти человек девять запели дико, как похоронную свою.
— Вставай, проклятьем…
Но осеклись. Софрон, еще живой, катался по земле и выл:
— Сволочи! Замолчите!..
Антону Перегудову двести отметин на спине шилом сделали. Жиганов хрипло орал:
— Вот тебе для счету: сколь пудов отдал!
Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого выволокли из толпы. Растоптали сапогами.
Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей.
Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:
— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?
— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый охальник!
— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.
И покрестился истовым крестом на восток:
— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.
Его били долго, но еще живого на яму отвальную, доверху набитую, притащили. Осевшим, прерывистым голосом он протянул:
— Тута, значит, кровушкой полили… косточками сдобрили-и…
Прикладом казак прикончил его. Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали. Только пятнадцать человек в погреб жи-гановский засадили. Глянуло страшное лицо деревни… Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был… Когда вернулся, только нагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:
— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.
А Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед Ильиным днем уехал.
Виринея
I.
На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:
— Что-й-то ты, Савелий? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Животом заскучал, что ли?.. Аль еще как занедужил? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...
Савелий глянул сурово из-под лохматых бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:
— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобинского — не знаю, угодник мне явился... Стоит вот тут, будто, у стола и кличет сердито: Савелий Егоров Магара! Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал снутра, и по коже прямо пупырями дрожь.
Не столько самые слова, сколько обилие этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.
— А-а-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може-то не угодник, а Стрепишихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслужоный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: "Да воскреснет бог, и расточатся"...
Савелий цыкнул сердито:
— Не верещи поганым бабьим языком! Тише ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю. Богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод внутре. Три раза виденье было.
Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:
— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшко! Свят, свят!..
— Погоди, не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.
Встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.
С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крутил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая, да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:
— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь верти. Хочь еще копи, наживай, хочь по ветру развей, коль кишка не вытянет. А мне теперь не то указано! Молитву строгую и пост должен справлять, в грех меня не вводи с расспросами.
Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они спешно с мужьями приехали. Баб в избу набилось, не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила.
В нижней Акгыровке сперва дивились, а потом почитать Магару стали. Главное дело, и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон, во грехах исповеди исполняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил:
— Молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.
Так и ходила нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углубленьем обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз в село в праздник пришел, на улице старикам объявил:
— Небо трясется! Вам не видать, а мне открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинской, сидит на престоле, ногами о пол сердито стучит. Не иначе, война будет, чтоб отбавить народ.
И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.
Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползалась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась:
— Ай-да скорей! С красным лоскутом верховой из волости. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...
Всю ночь беспокоился народ в низине и на горе у кержаков. К старостиной избе, в нижней Акгырке, фонарей нанесли. Колыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы непривычные в летние ночи в избах. Светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.
Кержаки на горе к конторе, где жил инженер с постройки железной дороги, сбились. У него по проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:
— Германия получит достойное возмездие! Оч-чень скоро получит!
А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, — учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.
Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, нарочного кривоглазого расспрашивала:
— А с кем война-то? Далеко ль угонют?
Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:
— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца толконул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Ни то к полдням, и к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подводах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летню пору, в рабочую!
— Где поспеть! В волость-то тольки-только могут к завтрему, к полдню.
— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!
— И с роду не видано, не слыхано: без проводин перед царской службой, без разгулки.
И завыла горьким голосом:
— Сыночек ты мой, Митенька! Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего — дите малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...
Страстное, короткое рыдание прервало старухин, тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:
— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстывает. Айда-те, пеките чего там затеяли!
Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:
— Буде, бабы! Айда, давай выпивку. Там сколь-то было? На царску службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.
Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храбрящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в час затопленных, тоже не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.
Солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканной рубахе до колен, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной волос с мутной сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот бадожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:
— Поди, не на долго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с этакой спешкой не сбирали. Это так, поди, для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся!
А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:
— На долго война! Народу хресьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.
II.
И опять по слову по Магариному вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах бабы, старики, из молодых только телом неправильные, да чужаки нанятые. Которые из богатых откупались-было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому.
Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства как никак старается. И не то, что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто, вытирая рукой ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:
— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, всех! Старики остались, да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вон каку без венца заполучил. Ничего, значит еще сок в мужике живет! А то из наших деревенских молодого-то и не увидишь. Все седые, да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры, дороги постройщики, пройдут, аль пленные, астрийцы эти хилявые. А нашинских соколиков нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказывают, на дорогу нанялси? Ай так, на раз взялси за дело?
Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:
— На раз. С бумагой какой-то в участок пошел.
В избу поторопилась уйти. Знала и боялась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. Не охота покор людской слушать.
Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:
— Поди, из-за моего из-за сына потревожились? Ах, ты, господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в эдаку грязищу ходить и мужику-то не охота. Вот грех-то: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!
Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:
— Он скоро... Вот, вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет! Ноженьки-то молодые, резвые.
Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал:
— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если б вышел на рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.
— И ни-ни, ни нишеньки, никак не проспал. И не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?
И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:
— Сам, поди, обернуться торопится: издрог, измок и не емши.
Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:
— Как придет, немедленно пусть ко мне.
И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой, глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой, неяркой краски, губы такие же неяркие, будто не целованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:
— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.
Старуха неохотно отозвалась:
— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должен прийти.
Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:
— Посторонись, барин, оболью.
Старуха спохватилась:
— Ну, дак в избу нето пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айда-те, заходите.
Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:
— А это что же... Дочь ваша, что ль?
Старуха поджала губы. Сказала сухо:
— Сынова баба.
И, не сдержав злобной горечи, добавила:
— Невенчанная. Так держим. Антипа кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому, на нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две как сюда обернули. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь может и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. От роду не слыхивала, чтобы в семье в нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что, поди, и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то ни то бежит, летом летит.
И спохватилась:
— Айда-те, проходите, вот тут садитесь.
Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела. Унылыми глазами всю тесную низенькую избенку обвела. Прибрана, а все для господина неподходяще. Вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. В глаза обидно лезла деревянная с засаленным лоскутным одеялом кровать. Неужели та строгобровая на ней спит?.. И не одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:
— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?
Криво, неласково усмехнулась:
— Скамейку не просидите, поди. А нам какая помеха?
Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойно к окну и принялась вязать. Старуха работать при важном госте не решалась. Сидела, сложив на коленях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчанье. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:
— Вы не здешняя, кажется? Я не знаю вашего имени...
Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юней и проще лицо стало. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищенье.
— По-кержацки зовут: Виринея. У нас свои святцы. Чтой-то вы, барин, до меня больно с антиресом? Ты с мамонькой поговори. Она жила дольше и разговору у ей больше. А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий что надо, мы к вам доставим.
И с новой, чуть лукавой, усмешкой добавила:
— Я принесу.
— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то, действительно, долго, пожалуй, ждать. Я далеко живу. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Ваш муж, вероятно, вернется усталый, ну так вы, или кто... Пожалуйста, уж принесите, или пришлите.
Старался говорить просто, голосом строгим, но глаза волненье и обиду выдавали. Слово "муж" с запинкой выговорил. Виринея учуяла. Бросила косой взгляд на старуху, потом сухо инженеру сказала:
— Кто ни на есть, а пакет доставим. Не на даровщинку, — знамо, заплотите. Эй, погодите-ка!
В окно Василия увидела.
— Притащился! Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим, что принес.
К двери пошла. На ходу оглянулась и сказала строго:
— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой и за четвертную бы не пошел. Шутка ли, по склизкому берегу да по студеной воде...
Инженер торопливо бумажник вынул, но Вирка ушла из избы. Старухе сунул пятнадцать рублей. Та назад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоненьким голосом:
— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликните.
Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем невнятно выговорил:
— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-у-пился.
Затомился новым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Инженер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринеи с улыбкой принял:
— Ну, ничего. Что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем, немного смазалось написанное, но, к счастью, немного. Спасибо, спасибо!
Виринея бровью повела:
— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?
Покачала головой:
— Ну, и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань, да подай. А то замается ровно от заправдишной нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?
Старуха сердито крикнула:
— Дадены деньги, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала, за господскую за доброту.
— Страсть добер! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.
Инженер рассердился:
— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.
Быстро из избы вышел. Подумал про Виринею:
— Видавшая виды... Корыстная...
Но ночью приснилась. Таким жаром проняла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По необходимости. В городе связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстность же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным, и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь уж к концу. Но торопиться теперь в город нечего. На войну возьмут. Любовные безрассудства за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика. Но глушил их быстро. Лишь теперь в эту уже тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринеей, мечту о женщине своей и неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и обстановка действовали. В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная мощно плодородная степь. Изначально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот, и люди, — все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле и роду своему. Оттого, в молодом и здоровом, не по хилому неизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединившей душу и тело, страсти. Той, что творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринеи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись. Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогн
тро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, темнотой весенней ночи завешанные, по избе ходила, точно металась.
Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:
— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка, поди, по вешним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совесливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.
Виринея негромко ответила:
— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку — совсем убегу.
— Ых, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама чисто сучка под ворота подбегла. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...
Виринея смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Один грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех роженых у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материнском как веред живет. Никому, и себе самой, не дозволяла тронуть небережно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел, простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки, да цепочки от часов позолоченной ничего не нажил, — не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженный, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Василием путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей по деревне рассказала:
— Мокеиха-то повитуха сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!
Да уж в такой в срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на их семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:
— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.
Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею, — ненависть варом обдала сердце. Неправильная баба! Сразу видно, что гулена. Здорова, а спокойной полноты бабьей расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и не смякшим лицом.
Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом опять завела:
— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и по-сейчас порожняя.
Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:
— Куды ты, Вирка? Что тебя спокой не бере-ет! Спи!
В кашле скрючился.
А она неожиданно звонко для обычно затаенного голоса своего вскрикнула:
— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дых из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать не охота!
Васька кашлем, будто подавился. Простонал:
— Ви-ирка!
И смолк. Виринея с большой тоской и страстью говорила, быстро нанизывая слова:
— Ты, баушка, несладкое-то бабье пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче куриного носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла. Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая и телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, не для роду веточки! Доктор в городу сказывал: и чахотные родют детей. Про Ваську же так: не то чахотный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу неохотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем? На работу, что ль, удал? Э-эх! Так дышит, для копоти!
Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:
— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не кричи только, нехорошо. А ты, мать, не вереди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну на лавку ляг! Все переговорено, перетерпи.
Кроткий молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Он еще перед эдакой, перед охальницей пригибается! В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:
— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь. Чего же глядела раньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Вре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.
Подступала старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:
— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи сейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку не дозволю!
Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:
— Молчи, гнилой!.. "Пальцем тронуть не дам"! Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон. Опостылел ты мне, будет. Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей по воле прибегла, да крепко слово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступой со своей. Лежи и дохни. Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!
— Виринея!
— Што Виринея? Двадцатый год Виринея! Упомнила кличку-то свою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! От пригожих, да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за крепкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догнивай! А я здоровая, — в могилу с собой все одно не утянешь. Не хочу. Пускай мать свое роженое выхаживает. А мне уж больше не охота. Часу веселого нету для молодости для моей. Уйду! Пропадать мне што ль в этой избе со старухой, да с гнилым мужиком! Уйду!
Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились, быстро за ней.
— Вира... Виринеюшка!
Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж меткой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:
— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну-у?
Вернулась в избу. На лавке у стола, было, улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василию раздельно строго:
— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь. А коли за мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня и видал!
Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила, так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.
Виринея во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вешних вод в степных логах — слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных ночных странных звуков, избы, как тени, неясны и молчаливы. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый хлюпкий по грязи топот молодых парней. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых день на день, как близнец схожих, натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.
А Вирка свой легкий час на обман отдала. Ни за семью, ни за хмель радостной. Не было той радости с Васькой! Ошибка вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть не охота! Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала, на другое, значит, поворот вышел. Гуленой безгнездовой. Что ж? Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.
Повела строгими бровями, губы твердо сжала и в избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.
III.
Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала:
"Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Вста-анет еще канитель тянуть!"
Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его обрызгивать начала. Выкликала бога и святых глухим шопотом:
— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый угодничек божий! Василий Хивейский, андел-хранитель! Пантелемон-целитель! Господи владыко!..
Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Знала только каждодневные, к богу не доходчивые, оттого в бессильи косноязычья своего перекличку скорбную и безнадежную бормотала. А голова смешно тряслась и спина натруженная совсем колесом от горя сгибалась. Виринея поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:
— Бог, бог... Давно, поди, он сдох. Сколь лет его просишь, карежишься, отдохнула бы!
И, хлопнув дверью, из избы ушла. Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду окаянная.
— Господи батюшка, не посчитай то слово! Заступница матушка!
А Виринея простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла. Почти бежала от двора постылого. Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам, и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне, послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стаяла. А Вирка зато с той же страстью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподладливо. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спутилась, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только смехом озорным отвечает. Веселая, да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый и легкий по душе. Надоест ведь канючку одну слушать! О ней нынче и вспомнила. Поди, пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.
В избе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не по-бабьи, тишком сердитым или с воркотней возилась. А будто девка, заботой не замаянная. С песней на голос высокий:
Одно-о на прово-оды ска-азала:
И-ых, пра-авадила со двора-а!..
Виринея усмехнулась.
— Ну, и баба развеселая! С самого утра с песнями. Дело, видать, у тебя легкое. Здравствуй-ка.
— Здравствуй, бабочка. Вот негаданно припожаловала. Сколь раз звала, не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткино. Детей накормила, для порядку стукнула и на улицу спровадила. Чего мне песни не играть? За мужа откупное начальство платит, свекра со свекровушкой господь прибрал, чтоб не турчали, сноху молоду не мытарили. На дворе чужак нанятой, сударик пленный, старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего не пить?
Смеялась небольшими блестящими глазами. Румяная, невысокая, крепким телом налитая, ловко и весело поворачивалась. Вирка еще усмехнулась. Ясней и шире.
— Я к тебе по нужде. Дозволь у тебя дни два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.
— Ну-у! Не сдюжила? Я и то дивовалась на тебя. Что ж, поживи сколь-нибудь. Отработаешь по двору, да по дому. А харчей, поди, на поденной добьешься.
— На железную дорогу, сказывают, баб берут.
— А ну да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла, аль еще раздумаешь?
— Совсем.
Анисья тряхнула головой, пестрым платочком повязанной.
— В нонешни года развольничались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то, чтобы с отвратом я к нему, аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди — гуляю без его. Придет убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять. Прежни-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль солнышко и на нас светит. Ну-к подоткнись, да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.
И ушла из избы.
Но наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром, да с ребятами управлялись. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:
— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?
Анисья звонко откликнулась:
— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время, поди, пост великий. Еще не кончился. Да и для посту он не скусный! Баба-то пробовала, да сбежала.
— А, ну тебя, охальница! Нихто за ей свататься теперь не придет. Нетронутых-то девок в прок солим, ай за старых вдовцов сбывам, — куды ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.
— Здесь я, баушка. Зачем тебе?
— Айда к нам, похозяйствуй, поработай. Шерстью там, аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..
Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:
— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.
Старуха закивала головой, руками взмахнула:
— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло — все одно найматься! Айда!
И Виринея пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.
Четыре раза Васька по темноте молить и просить Виринею вернуться назад приходил. Трудно дышал и неверным шагом ходил, но двигался. Отошел от застуды. Еще не пришел его час. Жарко спорили с Виркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из избы, из дверей звонко крикнула:
— Опять притащился, постылый? По-темну, с утайкой, а все люди видят, да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол. Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!
Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:
— Иди домой! Чего маешься? Коль пришпичило до бабы, законной нет мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?
Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:
— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь. Ну-у?..
Ушел.
Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не глянула. Будто, ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то-и-дело мимо старухи ходила. Только когда дело свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила:
— Уйти-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобели на тот запах ходют.
Вирка передернула губами, пошла от старухи и на ходу кинула:
— Ладаном покури, отшибет. А то и твой-от сын по-кобелячьи за мной все вяжется!
Но Мокеиха сказала внушительно и глухо:
— Постой-ко! Слово сказать надо.
Виринея приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:
— Ну? Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?
Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:
— Чернявый тот анжинер приходил, тебя спрашивал. Сказывал на стирку, на мытку, что ль. А видать, какое мытье ему нужно.
— Ну?
— Чего нукать-то? Хочешь, дак иди, мой. Аль уж, может, сладились? За хорошие деньги, аль так, задарма, по согласью?
Вирка усмехнулась:
— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой! Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя! Сын твой больно ненавистен мне стал, а из-за тебя и его вот сейчас пожалела. Мается и тебя мает. Приспокоились бы вы как-нибудь, я бы, право слово, порадовалась. Прощай, баушка.
И скрылась в сенях. У старухи сердце от злобы зашлось. Чуть из двора выбралась. Как разговаривает! Чисто путная. А она, старая, перед ней, как девчонка покорливая, стояла, слушала. Господи, за что обида такая в седые остатные года?
Долго ночью плакала.
IV.
Об инженере том напрасно старуха напомнила. Не больно приглянулся, чтоб часто в голову лез. А все же где-то позади явных мыслей тайком думка о нем спряталась. Может быть, от того, что никому Вирка кроме Васьки постылого на ласковую душу не нужна... Та же Анисья из любопытства с ней хороводится. Разговору много про Вирку было, ну и занятно той проколупать: что за человек. А тот барин с первого взгляду на Вирку с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль:
"Ну их всех в болото, лешаков! На работе и не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одного. И от того ни крестом, ни пестом не отобьешься!"
Больная баба отошла. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ничего жили, по-среднему, куска на Вирку хватило бы, но баба по-крестьянски прижимиста была. Зря куски не разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.
— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...
Виринея бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрительным взглядом и сказала:
— Вызволилась? Вот и хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я на вас и отработала. Уйду.
И на другое утро опять к Анисье ушла. Анисья что-то затуманилась. Побледнела, осунулась, и взгляд невеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров доили:
— Что-то у меня на сердце гребтит. Давно писем от мужика нет. Либо шибко ранетый, либо помер совсем. А то, може, у немцев мается.
Виринея отозвалась сдержанно:
— А, може, прописали про тебя ему?..
— Что с астрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родню покор прописал. Нет, чую, плохое с им. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно...
— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над им...
— Что надругалась? Дите, што ль, чужих кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу. Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди, тоже без бабы не прожил. Еще хворь дурную принесет. Мало ль у нас мужьями порченых? Чего же, дело такое. А меня побьет, поувечит, а там опять вместе заживем. А и убьет коли сгоряча, дак потом пожалеет. На работу я спорая, телом крепкая. Чего надругалась? Ну ты, тпру-у, стой. Чего брыкаешься? Стой, коровушка, стой, матушка...
Подоила, перекрестила корову и сказала:
— К Магаре схожу. Пущай за Федора моего помолится. А может, предскажет что. Ты подомовничай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты на ее надеются. Хороша от смертной от пули. Нашински солдаты под рубахой на сердце ту молитву в бой носют. Как у старосты старого Митрия-то убили, Терехин Васька с тела с его ту молитву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.
Виринея вздохнула:
— Дурной народ — деревенски наши люди. Убили, дак чего же молитва-то, коль пользительная, не оборонила?
— Ты, Вирка, про богово дело не бреши. Как веру человек сменит, ни к чему становится! Из кержачек перешла, дак и клеплешь на наше православье. Не люблю таких слов. Тебя молиться не заставляю, а ты меня не замай.
— Чего ты ощерилась? Не стращай, я не пужлива. Не люби, а ведь сама говоришь: и с молитвой убили.
— Ну-к, што ж? Так бог схотел, закрыл глаза на ту на молитву. Митрию так на роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.
— Не буду.
— А, сволочь ты, безбожница! Ну и цалуйся с лешим! Без тебя найду, напишут. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего ни то Магаре и помолиться попрошу.
Большая вера в Магару в жителях укрепилась. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаянья доброхотные приносили и привозили. Но без корысти Магара перед богом старался. Даянья у камня оставлял. Они исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской из беженок видели. Но все же несли и везли. И Анисья полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.
— Подомовничаешь, што ль? Астрияк-то мой поздно придет. В барак к своим отпросился. А ребята прибегут, сунь кусок, и пущай спят.
— Да ладно уж. За ругачку твою когда ни то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Иди! Подомовничаю, некуда мне и уходить-то.
В сладостном томленьи расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. Будто грустило в беззлобьи безнадежности, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость и горечь кратких земных радостей. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыканья летевших отважно-далеко журавлей, входили в человечье сердце радость и тоска.
Виринея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышину, слушала вечернюю негромкую суету дворов, жадно забирала в грудь хмельные запахи земли и ветра. Побледнело лицо, тосковали глаза, а нарушить ту хорошую легкую тоску и уйти не хотелось. Инженер к изгороди огородной подошел. Сильно вздрогнула, когда негромко окликнул:
— Виринея...
И с промедленьем добавил:
— ...Авимовна...
Все эти недели мыслями о ней маялся. Крепко забрала. Все про нее разузнал. Думал, дурное в прошлом ее отобьет думу о ней. Но только пуще распалился. Сегодня только узнал, где живет теперь она, и сегодня же сами ноги притащили к ней.
Виринея от испуга быстро оправилась.
— Вот напугал, барин! Откуда вывернулся?
С лица еще тихость не сошла. Говорила не сердито, устало.
— Вы чего-то меня спрашивали? Старуха сказывала, к им приходили.
— Да я не знал, что вы перебрались от них.
— Ну, как, чать, не знать? В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может, только избу не знали, где живу теперь, а про дела про мои с Василием как, чать, не знать! Зря только старуху расспрашивать пошли.
— Да я, честное слово, Виринея Авимовна...
— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем тревожите? Мне чудно и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.
— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея. Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...
Тянул медлительные слова. Думал.
"Не так... не так надо с ней говорить".
В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая...
Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела.
Сказала негромко:
— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.
Он встревожился:
— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.
Виринея засмеялась тихим грудным смехом. Покачала головой:
— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.
Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: милая. Она, глядя мимо его лица, тихими сегодня глазами, говорила:
— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать и гладить как надо господское белье, а по-долгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту. Это для их выгодней, дешевше. А все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья, аль там кавалеры, околи меня, вот как вы теперь, вьются, — сичас фыркать зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок нетерпячее, сама отфыркаюсь. Вот и с места долой. Одна вот чудная больно.
Виринея фыркнула.
— Так из себя хуть господа, а с деньгами не густо. По дешевой образованной должности с мужем жили. Все листы каки-те писали и в эту, как ее? Тьфу, уж забыла городские слова... В редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у их в этой редакции составляли. Скучные книжки, — про бедный народ... Я брать брала, а мало их читала. Ну, дак они со мной так: все одно, дескать, люди, что господа, что мужики. Великатно, старательно. Маленько муторно с ими было, больно великатные. А ничего: пища, что сами едят и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да се, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське тогда заходил, Васька сумлевался. А барыня — такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудеречки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая да конючая. И барин с ей ласков, а, видно, посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: Виринея, давайте обсудим. Ну, разное там говорила, мещанки, говорит, которые за мужей держутся, а я нет. Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь, рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она — нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я, да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завидка потяжельше фырчанья!
Оба весело засмеялись. Виринея со смехом закончила:
— Она меня, эта "обсудим"-то и проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двинут, дак без разговоров двинут. Айда, говорю, Василий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обидно на баб нашинских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словами зашпыняют.
— А не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...
— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в ем горько, дак где не жить, все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала, а теперь и к им охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздники больше сплю.
— Книжки я вам могу прислать, если хотите, у меня интересные есть... И романы, и повести.
— Вот я раньше до романов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу какую ворочала, а читать находила часочки. В летни праздники в степи пряталась.
— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.
Виринея с усмешкой махнула рукой:
— Не надо. Я в их теперь и глядеть не хочу. Читала, читала, да вот с чахотным и спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а наши деревенские эдак не займаются. С девками словами не канителят, а с бабой своей дак и вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут "красну-ушка, краснушенька", аль лошадь с добавкой словом ласковым назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. И все одно — в богатстве ли, в бедности — везде к нашим бабам так то. Еще бедный-то лучше, из-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в книжках одно начитала, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашинским. На улицу тайком часто бегала, охотливая в девках до веселья была, а от себя всех отваживала. Не милы. На тех, в книжках, не похожи. А этот вот, Васька-то, и в обряде городской и с манерами с городскими. По-тихому, со словами ласковыми, обошел меня. И из себя чисто не деревенский, худенький, да ужимчивый. Вот и припаялась.
— А сейчас вы его не любите?
Виринея встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза и вдруг сухо оборвала:
— Разболталась я. Молчу много, а вот так накатит и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с каким делом?
Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкий разговор. Сам избить себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть, не знал.
— Я, видите ли... Не знаете ли вы кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?
— А што же, я постираю. Я по-городскому могу. Только я за дешево не возьмусь.
И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злился. Только жалел, что та милая, с неуклюжей, но задушевной речью спряталась. Другая Виринея точно. Рассчетливая деревенская баба. Нелепым для произносимых слов печальным голосом сказал:
— Ну, что ж, я согласен. Когда можно белье прислать?
— Куды присылать? У вас, поди, кухня есть. Да не то кухня, баня в этом двору есть. Я ведь знаю Силантьев дом. Вот в бане и перестираю. В чистой понедельник на страшной утречком приду. На этой у Анисьи отработаю. Мыло и подсинька-то у вас есть, ай купить?
Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласилась притти к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединенной бане, за двором целый день одна будет. Возможно, что и для нее стирка предлог. Тянет к нему, только не хочет сказать открыто. Не разбирал от волненья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:
— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит или нет?
Видела, что лишку дает. Но сказала спокойно:
— Пожалуй, что и хватит.
Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.
V.
Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молитвы помощь. И в моленьи своем хорошо, было, утвердился Магара. Сердце отмякло, дых легче стал.
Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному мужичьему делу затосковали. Перешибали молитву думы о пашне, о скоте, о зятевом хозяйствованьи. Одну ночь сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове мутно. И к утру, стоя на коленях на камне, запросил Магара:
— Ослобони, господи, меня от земного дела. Навовсе ослобони! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого! Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способье подам, а на земле здеся не выстою. Хоосподи!
Последнее слово с криком хриплым из груди вышло. И, будто, на крик тот в мутном мареве рассветном появился от камня поодаль святой старичек. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть — все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданьи. А старичек не прежним зычным голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова налетели:
— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смертного.
К похолодавшему в ночи камню, в радости, до боли сердце стиснувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову поднял, уж не увидел старичка. Взмолился:
— Милостивец. Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой день, в час вынет душу бог из мене?
Лика больше не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день, неожиданно, в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Не похож на угодников, какие на иконах. Сказала робко:
— Може в баньке попариться, тело занудилось. Истопим, а?
Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:
— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундуку. На дворе повесь.
И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала. А она говорить о том боялась, но в себе думала: не от святости это в нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала, — какая в нем святость? Так мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. От той жалости быстро стареть начала. Ссутулилась, глаза стускли, и на лицо серый пепел лег. Но приказанье мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщевые порты и рубаху, Мокеиха пришла.
— Здравствуй-ко, Григорьевна. Помирать хочет?
— Не знаю, веле-ел.
— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице был. Открыто ему будет в какой день. Я и пришла, чтоб меня тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше во внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком нашинским прогреется, ветерком с земли провеется. На остатной обряде дух земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...
— Куда?
— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.
Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:
— Эй, открой-ко, Михайла!
Зять голос узнал. Подивился:
— Ай, к нам перебираешься?
Но Магара, отмолившись в угол, сказал:
— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-от сготовил.
Зять поскреб голову и грудь. Спросил:
— А где помирать-то лягешь? Там у себя в землянке, ай на камне?
— Тут в избе. По-христианскому. На этом месте родился, на этом же и помру.
Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:
— А ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил? Я маненько еще посплю? а? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.
— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.
Когда ушел, зять старуху окликнул:
— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить, аль нет?
— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, и правда час помирать пришел. Потрудимся, проводим, ложись, поспи еще час какой.
--------------
— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?
— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.
— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.
— Ну-у? Помирает?
— Да! Ну да! Давно уж зачал. Гляди, не протолкаемся, не увидим.
— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий мол, не свалишь!
— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегет, а мы мешкаем.
Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:
— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть послободней.
Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной разноцветной, веселой для глаза волной. На улице около избы, во дворе и в самой избе стоял несмолкающий гул людских голосов. В избе приглушенный. На улице и на дворе — как веселый жизни молебен.
Солнышко, по вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках — будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно пугливый вскрик. Заглушали перебранку теснившихся у избы и охотливый старушечий провожальный плач.
Виринея и Анисья, огрызаясь на ходу несердитым бранным словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.
Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного тягучего его голоса, бормотавшего псалмы, труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали горестно хлипкие желтенькие огоньки восковых свечей. На скамье под окнами стоял открытый гроб. Старательно обструганные доски еще хранили свежий запах древесный.
На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холщевых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом на груди. Две черных старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары.
Бубнил Егор:
— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.
Народ ходил, выходил, двигался, смеялся. Живое его движение тревожило Магару. Он приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:
— Ныне отпущаешь...
Взбадривался Егор и громче вычитывал:
— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.
Магара снова глухим голосом перебивал:
— Пошли, господи, по душу мою!
Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егоров. Затомился Магара под участливыми, равнодушными, печальными, затаенно-усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидел, что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился страстней и живей:
— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...
Виринея дернула Анисью за платье:
— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.
Та повела сердито плечом, но охотно за ней вышла. Когда они вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце далеко от полдня запало. Шестые свечи на божнице догорали. Отдохнувший народ снова в избу набился. А Магара все еще живой лежал. Учуял похолодевшее дыханье дня, задвигал в тревоге головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха наклонилась к нему:
— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью, ай нет? Словно, как быть не на смерть, а по живому. Народ затомился ждать. Как у тебя по твоему нутру, скоро, аль долго еще?
Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями досадливо шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое заунывное чтение. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:
— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих, на живых-то не пялься. Думай об своем и дых крепче внутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!
Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул румяной Анисье и сказал:
— Живой-то дух, небось, не удержишь! Не ротом, дак другим местом выдет.
Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:
— Кобелей-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а. Кончиться человеку в страданьи перед богом не дадут.
Загнусил живей:
— ...Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся...
Но скоро опять к Магаре повернулся:
— Ну-к, полежи маненько без псалмов, Савелий. Что й-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?
Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:
— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.
Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не сдержала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама хотела:
— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез, да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?
Заговорили со всех сторон:
— Закрой хайло, шалава!
— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.
— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!
— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.
— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?
— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.
— Рассердись, да помри, Магара! Чего ж ты?
Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:
— Это Вирка народ всколгошила. Блудня окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!
Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:
— Васька-а! Он се не помират! Айда, еще в чушки играть!
Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.
— Страм... Чистый страм! Сам обмишулился и народ обманул. Что-й-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?
И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.
Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:
— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.
Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:
— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал.
Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:
— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? а? Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам, . . . . мать, не помру!..
Изрыгнул крепко забористую матершину и посыпал часто крутые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто взбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответным забористым словом. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба.
Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов ревел Магара:
— К чортовой матери! . . . . бога! . . . . богородицу!..
Сдернул со скамей холщевый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи. На дворе еще шумел народ:
— Чисто матерится, старый хрен!
— Натосковался в молитве по легкому-то слову.
— Господи батюшко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?
Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:
— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам страм! Уж такая обида. Лег бы тишком, да попробовал, помрет, ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для ради Христа. Лучше завтра придите нас страмить. Нынче не в себе он. Вам-то что, отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.
Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:
— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходи-ить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...
— Только, гляди, больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладем!
Как наш Магара, чортов зять,
Собирался помирать,
К вечеру отдумал
И зачал свою мать
Крепким словом поминать...
Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.
— Убью-ю... Уходите, сволочи... Ну-у?
Втянув голову в плечи, готовый к яростному прыжку, взмахнул руками. Выставил в окно из-синя багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась.
На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла благостная ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно. С тихим медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:
— Дай мне другу-ую одежу... И... посто-ой! Вели Дашке самова-ар наставить.
Но чай пить не стал. Выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:
— Где же зятья-то с бабами?
— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли. Боятся в избу...
— Ладно, пущай там переспят.
— А ты-то, Савелий, как? — Оробела и чуть слышно закончила: — За село-о к себе не пойдешь?
Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:
— Ложись со мной.
И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свои года, без слов, жесткой звериной лаской всю ночь ласкал и тревожил развяленное старостью женино тело.
А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем:
— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.
— Молчи!
Сорвался с кровати и стал среди избы большой, лохматый, нескладный.
— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи! В грехе доживать буду! В блуде, пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе! Не допустил в великой праведности к ему притти, грешником великим явлюсь! На страшном суде не убоюсь, корить его буду!..
И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел из дому. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, в драке первым в округе стал.
VI.
Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. Езда по той дороге еще три года не то будет, не то нет.
Постройщики господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам всяким хоромы. Бараки унылые, плохо сколоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понастроили. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фаддеев не зря теперь кряхтит:
— Станции, да дистанции, а для мужика все одна надуванция!
Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны, оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие старики и молодые поосновательнее вздыхать начали. Деньгам от инженеров, все постройщики повыше десятников под одним названием инженеров в округе ходили, — так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.
На участках дошлый приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по городскому приперченой, в новинку для мужика приманчивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу такую же приперченую позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга — вот на это и тянет. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строющих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Постройщики с усладой, с подарками, с охальством зазывным городским. И сменила баба не только обряду свою на городскую, короткую, облипучую, а и поведение совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлива. Инженеры у докторов своих подлечиваются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Вот и гниют мужичьи костяки. У многих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порченые из городу, бывает, приходят. Хиреет народ деревенский и от войны, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корнем вытащили. Совсем от дела мужичьего оторвали. Не даром в виденье Магара подводы видал. Чудой народ, белесый, рыхлый, на поворот мешкотный из дальних губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все на своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешних мужиков, в бараках, да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся от постройки. Война крушит, и постройка вредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как и к войне, одно отношение: скорей бы кончалась. И к инженерам, постройки начальникам, враждебное недоверие.
И Вирку оно от чернявого статного барина отшибало. Чужой и вредный им, мужикам. Здоровым желаньем своим тянул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сне жарко с ним миловалась. По ночам всегда вспоминала, а днем на те мысли ночные, тайные гневалась. Противен инженер становился. Оттого, когда вышла за водой и близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:
— Ты, барин, не крутись тут. Не хорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?
Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ноги. Сказал приглушенным, но жарким голосом:
— Я этой стирки твоей как праздника ждал. Люблю, хочу тебя, Виринея. Слушай...
И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:
— Ну-у?. Не лезь!
И близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:
— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!
И дверь в передбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими ослабевшими сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал, что видели и весь разговор его с Виринеей слышали. Покраснел жгущим щеки румянцем. Сердито рявкнул:
— Где Петр? Лошадь мне надо.
И с ночевкой на постройку уехал. Деньги за стирку Виринее через хозяйку квартирную передал.
Но на пасхе, когда кружился во хмелю от кислушки, случайно на улице встретил Виринею. Хотел мимо пройти, сама окликнула:
— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилипал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!
Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как березка в троицу. А глаза, — будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое, грешное, и голос хмельной.
— Виринея... Вира-а!
— Ну, айда, айда, на молоду зелену травушку в степь гулять, на пригорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему и выпало!..
Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьяненьи, говорила:
— Я нынче бесстыжая и разгульная. И не от пьяного питья. Из стаканчика чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольного, от зеленой травы. Ходуном во мне жилочки ходют, и сердце шибко бьет. Э-эх, ты, думаю, все одно сгнивать, пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь что?
— Виринея... Вирка моя милая! Красавица! Право ты пьяная. Скажи, где напилась? По гостям, что ль, ходила?
— Ну да, пьяная, да не от питья. Я ж тебе сказываю! Зря брехать не люблю, а ты мне не муж, не отец, чего мне тебя стыдиться? Кровь во мне седня пьяная. Нет больше никого желанного, об тебе вспомнила. Третий раз мимо квартеры твоей иду.
— Милая!
Были уже за селом. Апрель дышал зеленой радостно молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого не душного неба. Заглянул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.
— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове. Сладко ты целуешься, барин. Как звать, величать тебя сейчас позабыла. А целоваться с тобой и без имя, без величанья еще охота. Н-н-ну... Пусти еще передохнуть!
— Вира, дорогая ты моя. Какое наслажденье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...
— Сядь, я на коленях у тебя полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвинь. Погоди, не томи, не гладь! Шибко сердцу тесно, дай отдохну. А-ах! Мужики, как мухи, знают где сладость. Пусти-и!..
— Вира, Вира... Ну, почему? Виринея... одну минуту... Ну-у? Зачем ты... Ведь, и тебе, тебе я не противен? Ну, дорогая моя, сладкая моя, м...милая...
— Не трожь, говорю!.. Осло-обони!.. Все одно... все одно... согласна я... Седни люб ты мне. Не-ет. Вздохнуть дай! Шибко сладко, дыхну-уть не в мочь... Выпусти-и, дай вздохнуть. По-огоди, не це-елуй!..
И вдруг чужой третий, враждебный, обидой, болью перехваченный голос:
— Вирка-а! Паскуда!
Сразу расцепились, поднялись. Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева, со сбитой на бок старенькой фуражкой на голове.
— С барином! Паскуда, б.., ты, сквернавка! Средь бела дня, как сука!
— Постой-ко, гнусь дохлая! Не ори! Не жена венчанная тебе, а гулена. Отгуляла и ушла. Пошто вяжешься? — побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила.
— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? Каждый шаг...
— Помолчи, Иван Павлович!
И улыбнулась бледной короткой улыбкой.
— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ко домой, а я с Васькой сама поговорю.
— Нечего тебе говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...
— Сама поговорю, слышишь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.
— Не об чем мне с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя надо, погань, распутницу!..
— Ну, коль сила, да охота будет и пришибешь. Уйди, барин. Гляди, не послушаешь в этом, я совсем по другому поверну. Как с Васькой.
— Я не могу тебя одну с ним оставить.
— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести по делу нужному прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Анисьин двор. Слово у меня для тебя есть.
— Виринея, но это же не нужно, ты сама не знаешь...
— Уйдешь, барин, или нет?
— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...
— Уходи! Право, хуже делаешь...
— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.
Пошел вперед, оглядываясь.
— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.
Когда инженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьим, несытым и злым взглядом Ваське:
— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.
Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих ее глаз опустился покорно рядом с ней на траву.
— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мной роженый. Вот право слово, шибко жалею! И когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.
— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блу-удишь с другими?
— Ишь ты как из-за меня маешься. Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассудим, не определим. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, что в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.
— С барином в сладком житье баловаться захотела? А? С того с самого...
— Барин — этот так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью роженых... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...
— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?..
— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так в бабий час барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею, ну, а к телу подпущать тебя не охота. Не серчай, невольна я в этом деле.
— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?
— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..
— Ну тебя, с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..
— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...
— А сейчас все слажено?
Усмехнулась невесело.
— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, что и совсем без него можно.
— Вирка, вернись к нам, в нашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ни глазом не попрекну.
— Нет, не в мочь мне, Василий. Я к тому говорить тебе стала, понатужься, забудь про бабью плоть, отдохни. Хилой ты, а жадный. Зачем? Отдохни. У меня бы сердце на тебя полегчало. От лога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?
— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь сушиться? Я тебе покажу-у!..
— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не осилишь. Видать, нету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов нет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему по-старому маяться будем.
Встала и пошла.
Взмолился:
— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная.
— Не канючь. Чего надо тебе — нету у меня для тебя. Жалости моей не примаешь. Чего же размусоливать?
Пошла к себе быстро и легко. Васька было за ней кинулся, потом об земь ударился, лег в свежую волнующую землю лицом и затих.
Вирка у околицы инженера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпении вышагивал. Сказала ему сухо:
— Иди домой, Иван Павлович. Не охота мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.
И холодными протрезвевшими глазами в лицо его поглядела.
— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне.
— Пообещала в дурной нерассудливый час. Еще такой накатит, может, и приду. А, все-таки, не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходи за мной, мне в другой конец.
Дома рвал и метал. Деревенская баба и так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К чорту, к чорту ее!
Сел на коня, верхом в участок к образованным своим знакомым поскакал. Но и со свояченицей начальника участка и с учительницей молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной тоскливой любовью к Вирке.
А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру, апрельская земля. Но встать трудно. На теле как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться заставил устой хриплый пьяный голос:
— Это што ж за п...падаль валяется? А... живой? А я думал...
— Это я, дядя Савелий... Отдыхал.
— "Я... я"! Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым, узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай.
Потом, вспомнив, крикнул отходившему Ваське:
— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую, — убью-ю! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а эти с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..
Васька вернулся, с тоской сказал:
— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида. Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Середь бела дня проклажаются всем людям на показ. Э-эх?
— Взгомозился как? Чужой силой отбиваться охочи. Ну, и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Не охота мне тебя бить! Не охота... Тебя ногтем надо давить... Ну?! Могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!
Василий бежал заплетающимися слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.
--------------
Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощущенье тоски. Не думал о Виринее, ниском, ни о чем определенном. А просто ощущал почти физически груз какой-то на себе. От этого груза нескладная тоска. До жути.
"Заболел я, что ли? Или с ума схожу... А-ах дышать трудно..."
Объезжал работы. Десятники дивились непривычной его рассеянности и вялому сгасшему взгляду. Дома один сидеть не мог. В гостях не отпустило томительное ощущение. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.
Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла, но на ноги встал быстро и легко. Лошадь неслась в сторону от дороги.
— Стой! Тпру-у!
Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно, всем телом сам и остановился. Огромный лохматоголовый мужик вырос перед ним. Будто внезапно родился из темноты.
— Раскатываешь? Разгуливаешься? Сукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портить, баб хороводить сюда прислан? А?
Услышав хриплый, страшный, но живой человечий голос инженер взбодрился:
— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?
И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.
— А ну вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь каково легко убить Савелья Астафьева Магару. Ну?..
— Пусти... Пусти-и руку, пьяный чорт! Ну-у?!
Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.
— А, мерзавец! Драться вздумал!
Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул и силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.
— Сильный... ч-чорт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешься. Что сердце, что рука... н-на! Получи!.. У меня чижолые! А н-ну... р-раз!
Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.
— А, готов! Убил первенького... Еще убью-у! Не с того, что силой тот просил... Д-да...
Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся, не то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, бросил с силой в сторону револьвер и бросился бежать. В степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Как убегают от неволи или от смерти.
VII.
В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в короткие буранные или морозные дни, в долгие ночи с томительно тяжелым сном в закупоренных избах.
Порядок зимней жизни мужичьей был прежний. Только мало свадеб играли.
По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество сиянья белых снегов и тишины, — деревенская улица по-прежнему нарушала это торжество буйством гармошки, песен, женских криков и вдохновенно яростной брани. Но совсем мало осталось на улице холостежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.
Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Осматривала болты ставен, крючок у двери и плакала. Да Мокеиха в своей избе ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозрение высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге завиненным.
Акгыровцы про Магару и верили, и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли вопросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.
Вирку скоро обелили. Из города прислали, как беспаспортную, под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документ есть у нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама не охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Между бараками за деревней своя улица. На ней пляшет, песни поет и с мужиками разгульными и с рабочими грешит. Господ, на диво всем, не допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать стали. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Она к нему и разговаривать, было, не пошла. Силком притащили. Поглядела на него с усмешкой, пригладила растрепавшиеся волосы и сказала:
— Ты начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.
Это при троих мужиках, да при уряднике. У земского краска в лицо пятнами кинулась. Сам себя в расстройстве за светлую пуговицу дернул.
— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, ты нуждаешься в работе.
— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст колесить не надо. Под боком найдутся, на слушок сами издаля спину свою притащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе не на работу, а на усладу...
— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..
Отозвалась от дверей. Не зло, а так: будто сама с собой говорила в раздумьи:
— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Видно, медовую больно мать меня выродила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу...
В большом расстройстве уехал. Думали: конец Вирке. Сошло. Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, над многими инженерами главный. Строгий, с сединкой, господин настоящий, чистей всех здешних господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, и голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:
— А сколь жалованья положишь?
— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной? Готовить вы умеете и вообще... Моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистенькую, здоровую прислугу.
— Это уж как есть. Видала господ-то, — чую, что вам надо.
— Ну вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас попрошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции...
— А семейство ваше, сколько человек?
— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.
— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке сколь платили?
— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь — я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...
— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх, ты, лафа бабам! Ну, я погляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...
— То-есть, позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?
— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашинскому, из черного народу, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договариваться. Вот с того и мутит меня от вас. Эх, вы, господа! И в пакости чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю! На век отметины останутся! Я те приголублю, старый хрен! Не крича-ать! Эй, бабы, айда-те в эту горницу! Скорее айда-те, поглядеть, как господа... Не бежи, растрясешься, навоняешь! Шкодить охота, дак ты так и сказывай, а не сиди с хорошим лицом, чисто хорошей жизни старатель.
Господин после рассказывал, как он от сумасшедшей спасался. С придыханием, сразу теряя важеватую манеру свою:
— Это удивительно! Положительно буйное сумасшествие! И при том эротомания... Удивительно — в простой среде такая изощренная... эротомания.
В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторонились. Баба такая, что лучше подальше от нее. Еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья одна, бабенка отчаянная, раз из-за нестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздник прибежала.
В недлинные два ряда вытянуты бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и остроребрые, как у скворечниц. Рухлядишка домашняя прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка.
Пустыми, без окон еще глазницами своими на норы человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы и три военнопленных в чудных коротких шинелях, а поодаль бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал:
— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет?
Молодая беженка, с головой, как колесо, от чудной нездешней повязки, из платка остренькое лицо выставила и засмеялась:
— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянка, там и живет.
Но Анисья зоркими глазами уже видала далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, не услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздинка меж бровей резко обозначалась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и шибко оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:
— А, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?
— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются как кто заикнется про тебя, а я...
— А у тебя слюней мало? Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть, да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.
— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной. Видно, девка, не сладко тебе и тут. Что-й-то ты обряду-то себе хуть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.
— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.
— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе домотки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право, горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.
— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, чтоб не точила. Вот как ты.
— Чего это я плохо? Слава богу в достатке и в своем угле. Без слезы, без хворбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет, ну-к што ж? Я хорошо живу.
— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печенка человечья тревожливая. Плачут и хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе много захватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы не плакали.
— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь, как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак по крайности гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька так-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Что тебе обувка, что одежа, — завидки берут глядеть... А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошла, дак по крайности с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.
— А ты что же со своим астрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.
— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, и на улке петь пою и плясать пляшу, и на гумно лежать с разными не хожу. Астриец, что ж? Грех мой один. А так, я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабенка, а шлюхой не назовет.
— Зовут. Я слышала, да ты и сама слыхала.
— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет, — еще бабушка на-двое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама что болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на страм перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги да одежу да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем б..., а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.
— Ну, а у меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.
— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет. Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.
— Еще не все выболтала. Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?
— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смекну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?
Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:
— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Чорт меня привязал к вам!
Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:
— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?
Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась, да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:
— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала — кузнец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит, да нюхает!
И засмеялась звонким детским смехом.
Вирка вздохнула и сказала устало в растяжку слова:
— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хоромы, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.
Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня налету слова:
— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...
И другим живым своим голосом спросила:
— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..
Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки поменьше вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуть плечом, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:
— Грунь, про "Золотую зыбочку" сказку слыхала?
— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи...
И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим хорошим голосом сказку сказывала:
— ...и скучно ей стало, и запечалилась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...
В этот праздник Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.
VIII.
Еще холодом бело и твердо дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.
Но дольше и горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Еще не опали, но раздрябли они. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней свой голос давала скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза человечьи к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.
В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбрались. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона земских лошадей. Колокольчик прозвякал. Около сборни замолк. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.
— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять, поди, опять в сборню народ надо. Эх, ты, зачастили, прямо роздыху не дают.
И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:
— Дядя Силантий, на сходку-у!..
— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!
— На схо-од, в школу-у...
— Айдате в школу! Из городу начальник высказывать буде-ет!..
Даже к Мокеихе востроглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:
— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать? И старух зову-у.
— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Ништо опять наехал кто?
— А ну да... Чать про войну-у высказывать будет. Може, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.
— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки, да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльнику горячего, нужен ты мне с оповещеньем с твоим.
Но оделась и пошла. И все, с ворчаньем, будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков гольтепа в школу набилась. Виринея протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядываясь.
Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в старостиной избе замешкавшего. Но ругань вялая выходила, без горячности. Привыкать стали уж к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются — и в такие деревни, как Акгыровка, наезжали уж не раз.
Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:
— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком разговор хуть крутой, да не долгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы воспу ездиют ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Что ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, ни ... без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.
И, покачав головой, на батожек свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше не тревожливом, погрузился. Старые глаза тихо живут. Притушенные усталостью новых видений не ищут. Дурное и хорошее, их взгляду видеть в жизни положенное, уж отглядели. В бестрепетной тусклости успокоились. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко высказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя далеко. Горами, логами, буераками, речушками без мостов, лесками низкорослыми, но густыми и верстами степными, лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастый, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким. Под урядником, старшиной и писарем волостным. Правда, от мелкости своей оно было старательно лютым. И даже беспечальные башкиры твердо запомнили сроки, когда надо в волость "темную" (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать. Длиннобородый важеватый кержак, и тот по часу нужному сдавал. Табачное зелье, для староверского нюху неспособное, в своем поселке на въезжей волостному начальству разрешал. Только взглядом, в угол сердито отведенным, отмечал обиду сердца своего. Но без этого нельзя. Начальство над мужиком ставится не для услады, а для надсады. Но та надсада, как старенький разношенный хомут, уж привычной была. А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той колготы и начальников много понаставили. Сходами замаяли. Докучают шибче станового. Тот дал в ухо, получил за старанье свое приношенье какое из мужицких запасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит или зубу не досчитаешься. Что ж? Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вон нажаривает. Сербия, да Бельгия. Своей докуки не скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи, батюшко! Народу разного много ты, владыко, расплодил, а земли, видно, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли не хватает. И на войнах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости кто убит, кто от раненья преставился, кто без вести, в храбрых несосчитанный, кончился, длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а поди, храбриться тоже надоело. Смиловался бы царь-батюшко, как ни то подладил бы там за замиренье. Нет, не высказывает, не слыхать про мир!
И как бы в ответ на стариковы думы, злой женский голос лектора прервал:
— Это нам уж сколь раз размазывали, про германский-то про плен. И картиночки казали, как он лих. А чего же, как из плену наш народ вызволять ничем ничего?
Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк и растерянно взглянул на толпу. Но быстро оправился и снова задушевным голосом отозвался:
— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне вопрос задал?.. Я сейчас отвечу. Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты...
Слушатели задвигались. Виркин вопрос разбередил. Прошел в школе не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот ближе к лектору подался. Ласково речь его перебил:
— Бабенка-то энта глупая в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает так. То-то, мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток, али баба, а оно в час и нужным-то глупое слово выдет. К тому я, к тому, не гневайтесь, ваше скородье. Охотятся мужики узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?
И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа:
— Может, раздышку хуть какую объявят?
— У мене старшого Митьку-то убили, а сичас опять в письме — Васька шибко подстрелен. Чижало дело-то обертывается.
— Слышь-ка, как назвать-то не знаю, скажи-ко, голубь, и где хлопотать? Способье-то задержали в волости, а мужик-от отшибленный у меня. На войне, то-есть, завалило его! Руками, ногами не владает.
Худая, желтолицая баба, с огромным страшным животом на лектора надвинулась. Настойчиво и тоскливо спрашивала:
— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмого полку... А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Все, все розыски писала. И где теперь искать? А?
Загудели тревожным озабоченным гулом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:
— ... мир!
— ... на счет способья!..
— ... ерманский город, не сказать мне, как его...
— ... посылку в плен надписать...
— ... сухари Ваньке посылали, не получил...
Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о малом. Каждый о своем. Разбивали расспросами армию на Митриев, Иванов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя, — война, армия, победы, отступленья. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны, и скорей бы конец войне. Это свое, кровное, что отдано ими для войны, и счет которому в отдельности ведут они. Лектор растерялся. В городе совсем другое настроение! Там понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь тупо галдят: мир, мир, считают изъяны только своей рубахи. Чорт понес в это село! Предупреждали, что мордва... и вообще дикари. Вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:
— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна стонет под тяжестью войны, но...
Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться.
В самое ухо ему звенящий Анисьин голос:
— Эх, кабы цари один на один дрались! Кто осилит, под того и мы. Нам все одно, мы не супротивимся.
Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло. Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.
— Погодите... Прошу вас! Староста!.. Где староста? Надо успокоить сход...
Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:
— Потише, старики! Чего разбазлались? Диво бы одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налезает. Дайте господину про дело рассказ кончить.
Привычная сдавать перед властным окриком, сдала и сейчас мужичья толпа.
— Постойте, тише! Не напирайте!
— Чего ты орешь над самым над ухом!
— А ну постой! Тише! Погоди!
— Да я разве что? Спросить у знающего человека хотела...
— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы — народ темный.
И в сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных расспросов и заявлений.
Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:
— Как посчитать, дак всякому война-то не в сладость. А ничего не поделаешь, надо натужиться, да одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир, да скоро ль отвоюют? Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать, да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря галдеть совсем нехорошо.
И приободренный им лектор, уже в покорной тишине, закончил:
— Велики страданья наших солдат, но неустрашим геройский дух армии. И наша победа близка.
Когда распрощался, ушел, народ снова загалдел в школе и около школы на улице. Вирка сердито говорила, на ходу, беженкам из бараков:
— Намолол за три мельницы, да все не про нашинску нужду. Да еще про наше дело и не спрашивай! Ух, и зло меня забрало. Сгрести бы его тут, да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось, сам в солдатах-то не был, в окопах не лежал.
Короткий мужской смех сзади всех четырех баб разом оглянуться заставил. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужик в солдатской одежде шел и смеялся. Спросил Вирку с незлой насмешкой:
— А ты лежала в окопах? Почем знаешь, — может, там сладко лежать-то?
— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже не лежал. Рожа-то гладкая. Видно, в городу в каких-нибудь сапожных, аль в услужении спасался. Чего-то и харю-то твою противную впервой вижу. Видно, не из нашей деревни. Пошел своей дорогой! Чего в наш разговор влезаешь?
— Уж очень ты спесива, да задорлива! Да только без толку. Я на тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.
— А не он, дак пущай и не вередит. Чего ездиют, народ тревожат, над мужиком изгиляются? Эх, была бы моя воля...
— Ты бы сама тогда царевать стала. А? Чьего ты роду-то, я тоже что-то не признаю. Эти бабы-то, видать, не нашинские, а ты ровно здешняя, а не припомню тебя.
— Вот привязался! липучий чорт! Иди своей дорогой! да за мной, гляди, не вяжись! Я эдаких вальяжных не люблю. Другие солдаты на войне маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком с этим вместе.
Солдат засмеялся и в переулок свернул. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Беженки, понурясь, необычно молчаливо шли. Их своя забота долила. Скоро ли отправка на родину начнется?
Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка с кузнецом акгыровским, плохой славы мужиком, плясала и обнималась. Он поглядел и ушел. А Вирке сразу скучно сделалось. Оттолкнула кузнеца:
— А, ну тебя, рыжий чорт! Надоел... Одно, лапает! Жена хромая, не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошень набить. Чего к другим бабам вяжешься?
Тот еще больше глаза выпучил:
— Да ты же, Вирка, сама с охотой!
— А была охота, да пропала. Много вас старателей под легкий-то под подол. Не вяжись больше ко мне, краснорожий! Другую игральщицу себе ищи.
Двинула под самые зубы кулаком, из объятий высвободилась и ушла с улицы. А в бараке у них, несмотря на поздний час, Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней были наплаканы и лицо вытянулось.
— А я, было, за тобой на улку итти собиралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть, ну замешкалась, подождала...
Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:
— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?
— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, шибко пораненый, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.
— В каком городу? Откуда ты узнала?
— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с им в лазарете в Москве их лечили. Павла вылечили и ничем ничего не видать, что больно ранетый был, а мой-то Спирька чуть дышит, сказывает. Отпустили домой, — все одно помирать! Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной на подводе надо. Приезжать мне за им велел. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилася! Може, только глаза закрыть и доведется мне.
Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила торопливо и сбивчиво:
— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды ни то на время порастыкаю! А корова одна хворая, и за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой, айда подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная.
— И вовсе никакой нет. Из бараку-то гонют. Теперь на работу мало народу требуется, да и то мужиков, а баб не хотят. Слыхать, не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хватает.
— Да то и я слыхала! Так, сразу-то не сказала, а знала, что тебе податься некуда.
— В чайную на участок прислуживать зовут...
— Ну, уж ты для ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь как сказать, и в горе, а все одно по хозяйству забота свербит. Подомовничай!
— Мужики охальничать будут. Кабы окна из-за меня тебе не повышибали.
— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главно дело, корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-то своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: они заступятся.
Вирка усмехнулась.
— Да ладно уж, не учи! Сама отобью, сумею! Ладно, приду завтре на свету, коль уж дело такое.
— Да ты нынче айда со мной. С тем и шла. Айда, ластынька, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегем, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступиться. Айда, собирайся скорей!
— А какие мои сборы? Добро не укладать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне... Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.
Шибко шли. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряженья Вирке давала.
За два дома от своей избы, Анисья в чужой двор свернула.
— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат. Астрийца-то ныне я со своего двора прогнала.
Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть! Мало и давно видала его, вот сразу-то и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы, да войны уж три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний, и с бедного двора, а несет себя высоко как. С неожиданной злостью подумала:
"А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненый был. Шибко вальяжный".
IX.
Неделя к концу доходила, Анисья из города все не возвращалась. Виринея и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги и ныла спина. Но засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, парни около двора охальничали. Непристойными словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно камнем разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.
— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, конопатый, тут песни орал, да с девками занимался, а мы с Силантьем кажный день встречали: не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу, ловите на улице, а тут не страмите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.
Парни, отругиваясь длинными матерными ругательствами, от избы Анисьиной ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночь у избы Анисьиной пошумел, а на утро она в кузницу к нему пришла. При людях не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:
— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня страмить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь, да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники, да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать! Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями иснахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.
Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидал, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила! Чтоб стращала так мужика. В большом и сильном теле у Нефеда пряталась робкая душа. Куражилась только над слабыми, а от грозного напора сжималась. Сплюнул и сказал сумрачно:
— А на кой ты мне нужна!.. Без стыду сама притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!
— Я уберусь, только слово мое помни.
— Уходи, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, и был какой грех с тобой, дак я об этом и думать забыл. Н-ну, проваливай!
Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:
— Воротить ее, стерву!
— Избить хорошень, чтоб не грозила. Па-аскудница!
— По старому обычаю, как с такими ране расправлялись. Избить до осташнего дыханью, заголить подол, да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в своей страмоте.
— Ну, и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!
— Эдакой стервы по всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.
Но Виркино бесстрашие такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась.
С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел. Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.
— Стой-ко, спросить я тебя хочу.
Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:
— Ну? Чего надо?
В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.
— Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?
— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь и документ есть у меня. А тебе что?
— А ко мне не поохотишься жить притти?
Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.
— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.
— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.
— Дак и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.
— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.
— Девчонка у тебя большенька. Поди уж двенадцатый год, аль боле? С ней управишься. Эдакая уж вполне хозяйствует.
— К тетке в город отправляю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной только останутся.
— Ишь ты, тароватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк! Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.
— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори, не охота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?
Вирка сердито сдвинула брови.
— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко, я баба бывалая, знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. И ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гулять гуляю, когда захочу, а за кусок, аль за подарки на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.
Поправила коромысло на плечах и пошла.
— Погоди!
— Ну, чего еще? Говорю, не охота.
Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:
— Зря ты, баба, все на зло себе делаешь. Где лучше — не надо, я, мол, возьму, да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много не охота мне, а вот: ты работящая, не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю тем, что и себе поесть добуду. Насчет приставанья, ночного дела, не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как, чать, не распалиться? Но только говорю тебе, не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.
— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.
— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь, уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.
Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:
— Люди смеяться над тобой будут. Много тут шумели про меня.
— А с того, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу, да думаю, что об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь. Много трепалась-то?
— Нет. С беженцем с одним, так на людях только со зла, а к себе не допущала. А с кузнецом, вот, правда. Только много я охальничала: пьяная на улице валялась и перед народом... нехорошо с мужиками озоровала. Да ты что меня чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мне, как и все, а с присловьем с каким. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались, окаянный, хуже всех стервецов ты стервец!
Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.
И ночью плакала.
--------------
Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем и непривычно тихая. Лошадь во дворе распрягла сама, покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:
— А и, деточки, сиротинушки, да и на кого же спокинул вас родитель ваш, светик ясный, Силантий Пахомович! Ой-й-ой-ошеньки, не ждала, не гадала, отколь и когда напала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а к тебе не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом, не встанет, не взглянет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и немило глядеть на божий свет! Закрутите и мне в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в землю-матушку. Не березынька в поле одинешенька трясется, качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, о земь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал на век, упокоился...
Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы и избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.
Виринея во дворе поила скот. Подумала о смерти Силантьевой:
"Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтра вот я..."
Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое теплое тело. Черным холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь, и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле.
Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Бросила ведро и на свет, во двор, быстро выбежала. Дышала так жадно, будто, правда, от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:
"И скот, и люди, и трава, — все на земле на смерть родится, ну те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего старается, что крепко, да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим".
Утром рано постучала в окно Павловой избы.
X.
Павел вошел в избу, как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза, как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала бок-о-бок с ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.
— Ты что, Павел? Выпил, что ли, у кого?
— Староста из волости вести такие привез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..
— Отмени-или? А как же? Другой, што ль, какой?
— Вовсе отменили, совсем без царя живем.
Вирка опустилась на скамью.
— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...
— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...
И вдруг добавил, будто, невольно в радости открылся:
— Я-то знал... Ждали мы этого. Там в городе еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?
— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням, поди, воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть лучше, не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашенское-то начальство прежнее будет?
— Да нет! Становой-то сбежал, а урядников в подполе сгребли.
— Вре-ешь?!. Ну, вот это диво. Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?
Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.
Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волнения голосом читала:
— "... признали мы за благо отречься от престола государства Российского..."
В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:
— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мужшине отдай!
И в толпе подхватили:
— Пускай мужшина грамотный какой прочитает.
— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только визгать может. А ятно, громко где ей выговорить!
— Да кабы еще деревенская. А у этой "ти-ти"...
— Городской жидкий голосишко!
— Айда, который у нас грамотный?
— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты, они разберут!..
— Да и то впереде. Где им теперь стоять, впереде и стоят.
— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.
— Павел! Павел! И где Суслов-то?
— Айда, вычитывай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.
Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:
— Названье нижний чин отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Э-эх, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича, сын в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: "Степа, дай закурить". А он мне: "Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь". При всем при вагоне я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин, ... твою мать, на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин да весь кончился.
В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собирались.
— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла, аль совсем, как к своему мужику?
Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:
— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.
— Она уж спит.
— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз, как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобыкнет малость ко мне.
Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким не детским ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу, как самое больное, как кару за грех своей жизни, в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеплялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:
— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы не женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!
Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Оборвал одну, другую бабу, и притихли. У Вирки взгляд спокойней стал. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто по-долгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни подай, редкий, редкий раз взрадуется. А то все не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу не ленив. Большой грамотности человек. Оттого, хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька не смог бережно и как-то чудно с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: "Милка ты моя!". А все же как-то, как с женой прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не как с гуленой залапанной. Вирка и обрадовалась и смутилась как-то. Смущенье радость съело. И с того самого дня, как виноватая. Будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла, напилась, как бывало. Пьяная ночью долго кричала:
— Чего ты себя перед всеми, как царь, носишь? Думаешь, я не вижу. Думаешь, больно я уж обрадела, что при себе держишь? Противна мне харя твоя зазнаистая, повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу.
Он спокойно расстегнул ремень и погрозил ей:
— Замолчи, а то выдеру, как собаку. Глядеть на пьяных баб не могу, блевать охота! Ложись на печку и больше не верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, и сам выгоню.
Голоса не повысил, но сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемнели. Но не разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. На утро долго маялась, собиралась уйти, но не ушла. А Павел, как обычно, говорил с ней, о чем дело говорить выходило. И ночью в первый раз на плече у мужика Вирка плакала.
— Я и сама не знаю, как мне с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласна ноги твои мыть, да воду эту пить. А когда тошно мне с тобой, скушно, и убежала бы я от тебя, только бы не видеть.
Он отозвался тихо:
— Не мудри, да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обихаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать-то! Сроду с бабами так не валандался. Спи!
Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелуи горяч и ласков, а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на срок взятая хозяйка! Пусть, как хочет. Опять друг от друга, будто, подальше подались.
XI.
До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали "митингами" называть, а мир "товарищами", а то "граждане". Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции, Учредительное Собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы, да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-по-малу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во всей округе не достать, и дорога соль. Земля, как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:
— Чего мы кажный праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни по-часту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то, да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда, слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!
И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты замиренья требовать к разъяснителям из города, которых "ораторами" звать стали, — на короткий час приходили дружно. Но до конца разъяснений не дослушивали. Беженцы в бараках и нижней Акгыровки беднота без сходу и без уговору каждый праздничный день у кузницы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильных жителях с большим хозяйством, о том, что в других местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали. А тут ничем ничего! Земского начальника хутор, и тот трогать не велят. Охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить начали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал, и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:
— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, нужное дело выскажет.
И когда собралось, хоть не полно, а порядочно народу, громким и решительным голосом объявил:
— Вот вам, мир честной, товарищи, граждане, все бумаги, разъясненья, положенья всякие. Вот и сельский писарь нашинский с ними, как и до революции был, и при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.
И сколько ни галдели, ни просили, твердо на своем выстоял:
— У нас с солдатами другие мысли.
Старый кержак крякнул и громко спросил:
— С ружьем землю отбивать будете?
— А это уж там поглядим, только я всем здешним не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.
Кержак зло отозвался:
— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни, гляди, не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я. От войны согласники твои здесь хоронятся. Знаю, многим срок отпуску кончился, а который и совсем без отпуску.
Солдаты загалдели:
— А ты над нами доглядчиком?
— Сам, старый хрыч, подайся на войну, коль охота больно.
— Мы проливали кровь. Хватит с нас!
— Коль навредишь, гляди, мы тоже острастку найдем.
Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержаки своего поставили. Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково Вирку по спине хлопнул:
— Разделался с одним мирским делом, за другое примусь.
Виринея засмеялась:
— Не терпит печенка! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, дак думаю какая то свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, встрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять, дак равнять.
— Ну? Он чего?
— Выругался нехорошо, и глазами, как волк. А тронуть не посмел. Тут я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все ж время не то. Ране бы сгреб, дак, гляди, и душу вытряхнул бы. А теперь шибко от меня подался.
Оба засмеялись... Павел ласково, по-новому как-то, Вирке в глаза заглянул. Сказал:
— А ты мне, пожалуй, что не только по хозяйству, а и в других делах хорошей помощницей будешь.
Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное Собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили:
— Ни хрена не поймешь. Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.
Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все. Даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемякина состоятельный народ собирался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла, как личную Павлу обиду. Вгорячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью сильным голосом стыдить начала:
— Куды лезете? Воевать не надоело? Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено! Вояку-то главного Николашку сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же другой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. А вы... до победного конца! Гляди, дадут вам конец. Расшеперились, а сами на смерть лезете.
За больное зацепила, но оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, мужикам про общественные дела разъясняющим, привыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, даже еще с зазорной жизнью недалеко за плечами, учить пришла...
— Ах, ты стерва... Чего еще разбирать-то могешь?
— У большевиков все общее, бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!
— Чего с ней больно растабарывать. Сгребай? поучи!
Трое наскочили бить. В ярости с необычной силой от троих мужиков отбилась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом и с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалеченная вырвалась. А мужики, раззадорившись, к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.
Павел ругал Виринею, плевался, а потом смеяться начал:
— Вот дак оратор! Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Все-ем собра-анием...
Долго на деревне Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:
— Думала я все-таки, что толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь гляжу: порченая. Совсем порченая. Не то да это, а никак не живет в лад с правильными людьми.
Виринея засмеялась.
В скорости после разговора с Виринеей, новую полицию из городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция та ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волнение пошло.
Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому со всем соком, со всей силой в землю ушли. Брошенным без засева малый его надел только у Павла остался. На крестьянский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаломутились снова. Про выборы в Учредительное Собранье шибко загалдели. Павел на-долго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, и лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят надо было кормить. Хоть корили ее, но на работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборные попал. Листки принимать для Учредительного Собранья, в окружную комиссию. И это новое слово уж почти все в деревне узнали.
Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, но уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе печаль. Снимали хлеба. В осенней стражке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут те листки отвозить, мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Война все не кончалась. Из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой ходила деревня. Ак-гыр — белая лошадь. Белолошадовкой надо бы звать. Аренда кончилась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну и про землю, мол, решит Учредительное Собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать какой к чему. Один только можно опустить, выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъясняла, какой листок опускать:
— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куды бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а что к чему — не рассказывают.
— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи.
— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, нам номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большековский-то. Я его тишком суну.
— Пятый, тетка, суй пятый. Против вашего брата он, а все одно — суй. На конец войны он.
— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается дак ни то листка — ножа вострого не побоится. Пущай, что хочут делают, только бы живой воротился.
Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.
— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем который пятый. Я его и положу.
— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.
— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот и где-нибудь в уголочку.
И Вирка капала. Помечала малой отметиной.
--------------
Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.
Волость, деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.
В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный крашенный, из города присланный ящик. За столом, с деревянными от напряженья сохранять спокойный и важный вид лицами, сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него был тик, и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:
— Раньше надо было на собраньи хорошенько слушать.
Павел красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчаньи. Бабы со сконфуженным смешком, с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:
— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?
Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:
— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый...
Учитель сердито крикнул:
— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.
— Чего-й-то. Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.
Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими неподвижными тускло-синими глазами, спросила:
— Где икона-то? Что-й-то сбилась я в углах с перепугу-то.
Покрестилась истово и громко торжественно сказала:
— Помоги, господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело.
Поклонилась поясным поклоном и позвала:
— Ну-к, Марька, веди где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.
Председатель завозился на стуле и крикнул:
— Нельзя, нельзя. По закону лишена права голосовать. Слепые не допускаются...
Старуха властно оборвала:
— А ты что за человек и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя. Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!
— Но я не имею права. В законе ясно сказано...
И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:
— Пусть опускает! Для бедного народу, будто бы, старается, а она из бедных бедная.
— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.
— Сами семьями приехали. Чать не виновата, что ослепла?
— Опускай, бабушка, не слушай! Теперь слобода, а они все с издевкой.
— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то, эй, востроносая, покажи, говорю!
— Энтот там расселся посередке-то. И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.
Суслов привстал и громко утвердил:
— Опускай, бабушка. Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.
Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:
— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.
Старуха опустила листок и опять помолилась:
— Господи, помоги.
Бабы увели ее.
В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.
— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?
— Башкирскай листка номр втарой айда давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.
Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:
— Айда отбырай пыжалыста скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!
Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листов и сунул башкиренку:
— Дуй!
Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы. Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:
— Это краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.
Злой мужичий голос с улицы крикнул:
— А за пятый — самая прохвостня. Конокрад битый нашинский пятый номер понес, я видал.
— Прошу без агитации. Где милиционер?
Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:
— Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было постановлено.
Председатель завопил:
— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеете права второй раз голосовать. Чортова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданьем, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу — все выборы пропадут. Опротестуют.
— А тебя кто тянет сообщать?
— Да ведь я же обязан.
— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости.
И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:
— Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредишь.
— Дак и ты против солдат?
— Говорю, не скандаль. Уходи!
Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его на пол.
А у стола новая заминка. Кривоногий, встрепанный мужиченка совал председателю штук шесть листков.
— Который тут третий? А? Я заспешил, да спутал. Ровно отдельно клал, а на же поди, сбилси. Ну-к, покажи.
— Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.
— А какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбили. А который лучше-то?
Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову:
— Совершенно невозможно. Разъясняли, все деревни изъездили. Да что же теперь делать?
Суслов засмеялся, встал, взял мужиченку за плечи и вывел его из горницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улицы мешал.
Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:
— Мокрушкин со своего хутору! целу подводу с первым номером привез. На тройке приехали. Не пущай его!
Но толпа привычно расступилась перед Мокрушкиным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладким голоском теноровым отшучивался:
— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.
Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:
— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.
И кривоногий мужиченка поддержал:
— Погоди, дай срок, все на-чистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.
Но Мокрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и по одиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:
— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданий... А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...
Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали доброхотцы конные разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.
С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота и с постройки рабочие требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:
— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.
— Что ж, на печку забиться, да закрыться юбкой твоей?
— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся, выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.
— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, и к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только, родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?
У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:
— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а, знать, сама неплодная.
И долго сидела молча с поникшей головой.
Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей башкир под свою руку сбили, обещаний всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.
Павел Суслов с фронта один раз сумрачный приехал на день домой. Всю ночь с Виринеей тихо и долго говорили. Встала с постели она с прожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась. И даже тогда не пропала, когда объявила среди дня тихонько и боязливо Павлу:
— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит правда.
Он посмотрел на большие тревожные глаза ее, молящее лицо и усмехнулся:
— Ну, рожай. Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду. Ну-к, собери чего кусать мне даешь. Ехать надо.
Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, но все еще лохматый и дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела. Не пуглива была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударило. А Магара прямо к Павлу:
— Айда, забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?
Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся.
— А тебе чего в нашем войске, божий старатель, делать? Айда, зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?
— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.
Вирка дрогнувшим голосом спросила:
— За этого... за инженера отсиживал?
Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не не отрывал. Но ответил ей:
— За богохульство и кощунство сцапали. Еще до перевороту до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован — схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то...
И добавил глухо:
— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил, дак я и пойду для правого дела убивать.
Павел вздохнул:
— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну, что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.
И уехали они вместе с Магарой.
Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это. Вирка вздохнула:
— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне по разному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то; видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли, А я думаю — час такой. Нельзя больше было мужикам по-старому.
Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он быстро, будто укусил, поцеловал ее, легонько отстранил и к двери пошел. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к ней, сказал:
— Себя блюди, шибко я к тебе привык. Не распутничай. Дите родишь, жалей, обихаживай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.
И потом, повернув голову, усмехнулся невесело и нежно:
— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.
Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким редким, редким для слеповатых человечьих глаз, светом будто осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она ее еще не видела. Как жили вместе — часто сердилась, томилась недовольством каким-то, враждой к нему. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но ни разу с таким захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышит и ей не догнать его и, может, быть свидеться больше им не дано, ощутила, как он дорог ей. Как один только может быть — дорог одной.
— Павел... Пашенька...
Целый день, как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его!.. Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..
XII.
Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы Кожемякин и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:
— Ничего не знаю. Не венчанная, ведь, жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где, нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно, он со мной жить не будет.
Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:
— Врешь, б...., потаскуха! Как провожала его, видали люди.
— Провожала, просила не бросать одну с детями, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.
Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в потайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитанье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности выполнить велел. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, вздохнула она. Потом сказала худощавому старику в беженской одеже:
— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное, чтоб без страху.
И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги тащила по неровной снежной дороге. Но дотащила, и концы чисто схоронила.
Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже становилась ей ее вторая тайная жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встречах:
— Хочь мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.
Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен, и каждая новая щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:
— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы наладили.
Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного большевистского толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:
— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?
Дарья от печки отозвалась:
— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?
— Да вот к тебе, пощупай-ко ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?
Дарья усмехнулась:
— И щупать нечего. Так видать, не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.
Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:
— Ну, мужики, зачинать драку надо.
И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.
Мужики не сразу отозвались. Долго, раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:
— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.
И другой, с седоватыми, коротко и неровно стриженными волосами, подтвердил:
— И думать нечего! Как блох переловят.
— Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.
Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:
— Это и весь сказ?
— А дак чего же?
— Больше ничего нельзя?
— Дело не выйдет.
— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.
— Ах, вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой, дурной бабе, учить вас? Али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете? Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы, вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего. До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.
Глаза у ней жгли и молили, а голосом твердым говорила:
— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде, да в побоях жить, живите. Вот этот кобелишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.
Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.
Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила итти, а не на трудное дело. Седоватый стриженный сказал ей со смехом:
— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала.
А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой:
— Айда, скорей. Рожать, видно, я наладилась.
В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.
Козлиха прикрикнула на нее:
— Чего ты молчком? Кричи, кричи, легче будет. Первый раз эдакую каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.
Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала порывисто:
— Пускай с радостью-ю на све-ет выходи-ит. Шибко долго я его ждала-а... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.
И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на-диво звонкий крик рожденного.
— Ишь, ты какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела.
— Не-ет. Покажи... Сыно-ок!
— Откуда узнала? Ишь, ты дошлая. Ну-к, пущай полежит, потружусь околи тебя.
Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шопотом:
— Кто?
Бабий напуганный голос сказал:
— Открой скорейча, впусти.
Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:
— Козлиха-то у тебя?
— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?
— Где она?
— На печке спит.
— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда, беги не медля. Через огород туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.
— Да ты что? Ребенка-то я как...
— Ребенка, а коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?
— Дак чего ты сразу...
— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхал. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился, айда, беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то... Огородом к реке.
И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки:
— Баушка, баушка!.. Нако-сь.
— Ну, чего ты взгомозилась? На печку его, ко мне? Ну, давай.
Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов, быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.
— Вирка-а! Вирка, ты куда? Что это, осподи, попритчилось что, ли, с ней что?..
Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплакавшего мальчишку:
— Ну-у, ну-у, распелся на ночь глядя. Ш-ш-ш!
— Ты, старая хрычовка, где баба?
— Убегла куда-то. Я не спрашивала, мне на што? Думала, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.
Рыжеусый казак шашкой погрозил:
— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах.
— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти, — чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.
Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:
— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.
А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:
— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.
На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой сторожкой поступью зверя. Как волчица к волченку своему пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом, — запахом крови, из ее жил взятым, — шла кормить или выручать детеныша своего.
У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:
— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье.
Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.
— Стой... Стой! увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..
Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, заступил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребанья грязи, вбитую на доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетаньи и погасли...
Виринея
В окружении нищих башкирских деревень глухо засел в овраге малый русский хутор. От местности получил то же названье — Каин-Кабак. По-русски значит Березовый овраг. Никто из старожилов не помнит времени, когда росли здесь ласковые березы. На крутых боках оврага лишь густой, жесткий и в расцвет невеселый кустарник. Убогий шум дремучей человечьей жизни мало нарушал нежить здешних унылых ущелий и каменистых горных взъемов. Волки даже летом, в сытости, его несильно опасались, зачастую рыскали по взгорью близ жилья. Сырт, гряда гор, внезапно пресекших степную равнину, отделил Каин-Кабак от большой дороги. Но маленький уединенный хутор через все преграды издавна был прославлен большой нехорошей славой. Прежде и в своем уезде, и в соседних широко разносились рассказы о каин-кабакских конокрадах, о разбойных нападениях на дорожных людей, о возведенных на крови хозяйственных дворах, о домах с тайниками, заговоренными крепким заговором. Теперь, после германской войны и четырехлетнего мужицкого боя на своей земле, стариковская побаска о давнишних разбоях-грабежах оказалась слишком бесхитростной, давней-давней, может быть тысячелетней нежуткой былью. Нынешнее племя, закоптевшее в своей жаркой жизни, вовсе перестало внимать дремотным этим рассказам. Но Каин-Кабак не затерялся в глухоте окрестных хуторов и селений — он стал становищем красных партизан. В зиму тысяча девятьсот девятнадцатую наладили они самодельные окопы из снега и льда и крепким отпором отбились от казенного белого войска. А в тысяча девятьсот двадцать втором в Каин-Кабаке устроил себе логово для запойных дней шумливый человек Григорий Алибаев, партизанский командир, ныне председатель волостного Усерганского Совета.
Но местные органы ГПУ получили достоверное известие, что Алибаев — враг советской власти, участник большого против нее заговора. От этих тщательно проверенных сведений у заведующего секретно-оперативным отделом Степаненкова на смуглом апатичном волосатом лице ожили и потемнели в тревоге белесые глаза. Взять Алибаева — задача нелегкая. О нем ходят цветистые легенды по всему уезду В каждой деревне найдутся его почитатели, задаренные им бедняки, башкиры и русские. Если арестовать шумно, с большим конвоем, могут возникнуть вредные осложнения.
Степаненков выехал на дело сам. От города до последнего подъема в гору перед Каин-Кабаком были устроены секретные подставы: оставлены вооруженные люди и подводы. Только троих надежных товарищей Степаненков взял с собой на хутор. Уговорились, что на хутор подмога явится только на следующий день утром, если ночью не дождется их обратно.
Хорошо объезженные кони замедлили шаг. Осторожно спускались с крутой горы. Вся до конца видна кривая загогулина единственной улицы. Недружно, зато широко разметались по ее сторонам два ряда дворов. Падал некрупный ласковый снежок. На крышах изб и надворных построек налегло его свежее пуховое руно, но было оно без блеска. Солнце притаилось. От набухшего облаками неба в этот час, еще ранний, сумеречным сделался день. Под белыми пухлыми крышами серые деревянные дома и облупившиеся землянки казались темными, глухими. У самого въезда на улицу торчал длинный шест. Чуть покачивался на нем в затишье лощины заиндевевший в складках красный флаг. На другом конце хутора снежный скат горы чернел живыми малыми точками. Шумно катались на салазках дети. Улица же была тиха и пустынна. В ближайшем дворе недужно залаял дряхлый пес. Щурясь от яркого снега, Степаненков подвернул было к нему, но издали донесся окрик:
— Сюда езжай! Куда воротишь?
Степаненков голос узнал. Сонное лицо его не оживилось, но, как всегда, у него в волненье на правой скуле зардело красное пятно, зачесалась волосатая щека. Он буркнул:
— Встречает. Черти ему служат, уже донесли!
Низкорослый человек в желтом дубленом полушубке и белой заячьей шапке-ушанке махал руками, указывал на большую саманную избу близ себя. Когда подъехали, он подошел к передним саням, к Степаненкову, широко расставляя в шагу кривые ноги. Раскосые сизо-черные глаза его с желтыми белками светились усмешливым огоньком. У Степаненкова остро екнуло сердце. Черт узнает по этой образине, как смеется? Приветствует весело или издевается? Все же улыбнулся в ответ, открыв белые широкие зубы, остро сверкнувшие на темном лице.
— Не ждал гостей? Назад не завернешь?
Алибаев протянул для рукопожатия небольшую, сильно загрубелую желтую руку.
— Добрый для хозяина гость не бывает не в час. Айдате заезжайте, может, и сумею приветить. Давненько с тобой, товарищ Степаненков, повидаться случая не выпадало, я об тебе даже заскучал, право! Въезжайте, въезжайте.
Хитрогубый, плосконосый, с кожей дымчато-желтой, всем обличьем нерусский, Алибаев выговаривал слова тягуче, просторно, теплым голосом. Всегда охотливо, любовно приснащал их одно к другому. Степаненков знал Григория давно. Суховатый в словах сам, любил его привольную речь. Но сейчас, заслышав Алибаева, насупился.
«Разговором одним задурит, шельма!»
И нежелательно для себя угрюмо отозвался:
— Заедем, не торопи.
Ни во дворе, ни позднее за чаепитьем в дальней горнице Алибаев ни словом не выразил удивленья или любопытства. Степаненков сам пробовал объяснить свой наезд.
— Запарились в городе. Катнули на передышку к тебе. Ну, как раз тут близко от тебя маленько щупали кой-кого.
Алибаев спокойно спросил:
— Щупали? В нашей округе народ нехорош — худой жизни народ. Не земледелец, а гуляка. Эй, дружки, я вам больше не стану чай наливать. Хлобыснули по чапурушке на закладку, хватит!
Подмигнул, пригнулся приветливо к Степаненкову:
— Сейчас холодного кипяточку подадут. Послаще, по-крутей этого парева.
От его дыханья ударил в лицо скверный запах винного перегара. Степаненков укоризненно качнул головой:
— Слышу несет.
Алибаев скривил рот.
— А тебе надо, чтобы ладаном от меня шибало что ли? Шалишь, лучше спиртом. Много народу в могилу посшибал, все без ладана, ладан не уважаю.
Степаненков перебил:
— Своего заводу водка? Не боишься, что выпьем, а по должности тебя тряхнем?
Алибаев сухо, коротко усмехнулся:
— Ну, из-за этого с Гришкой Алибаевым шуметь не станете! Самогонкой не занимаюсь, у меня старая, царской варки, Михайловский завод, чать, я громил, не выпил еще.
Снова добродушным ласковым говорком прибавил:
— Настоящий спирт, лечебный. Я им от своей хвори лечусь. Городской доктор один мне обстоятельно обсказал, что я больной — алкоголик. Без выпивки тебе, дескать, нельзя терпеть. Это он правильно, не могу без водочки. Дошлый господин, я за это ему три пуда крупчатки отвез, хоть не жалую господ. Вы там, в городу, что-то шибко цацкаться с ими зачали. В Москву меня возили, поглядел — опять господа в большом числе меж нашими шныряют. И друг дружку все «гражданинами», не «товарищами» кличут. А один так прямо залепил: «господа». Попался бы в нашей волости, я бы ему, сукину сыну, на спине «господина» бы прописал! Закаялся бы в трудящей республике барина кликать.
Степаненков хмыкнул в ответ что-то невнятное и встал. Заходил по горнице. Алибаев головы не повернул, но Степаненков учуял:
«Слушает мои шаги, собака».
Злобно взглянул на остроконечное алибаевское ухо. Вернулся к столу, постоял, огляделся исподтишка вокруг. В Чеке известно: добра много Алибаев хапал, а в жилье у него скудно. Грубо сколоченный стол даже домотканой мужицкой скатертной не покрыт. Облупившиеся стены давно не белены и пусты, ни единой картинки не наклеено. Пол земляной и неприбитый, корявый. Печка-голландка дымом закопчена. Скамейки некрашеные, узкие, для сиденья неудобные. На широкой деревянной кровати вместо всякой постели один черный тулуп мехом вверх раскинут. На подоконниках махорочные окурки попримерзли. А на протемневшей, давно не мытой божнице под самым потолком потрескавшаяся старая икона без стекла. Чуть мерещится черным виденьем худущий лик какого-то узкоглазого, как сам Алибаев, угодника.
Неожиданно распахнулись обе половинки некрашеной двери. Степаненков едва удержал вздрог. Из первой от сеней половины избы, где широко расселась русская печь, вошли двое. Пышнобородый, но лысоголовый высокий старик с выправкой старосолдатской и сухощавая узкобедрая женщина. Степаненков внимательно оглядел ее короткую коричневую шерстяную юбку, щеголеватые, по ноге сшитые, высокие сапоги и старый офицерский пояс, туго стянувший тонкое тело. Сухощавое темнобровое лицо, от коротко стриженных прямых пепельных волос казалось молодым, не женским, а мальчишечьим. Но виски желты, покороблены тонкими, как паучьи лапки, морщинами, углы бледных губ устало опущены, и острый блеск слишком широких черных зрачков в синих глазах нехорош — нездоровый.
Старик поставил на скамейку около Алибаева четвертную бутыль и ведро воды с ковшом. Женщина опустила на стол большой трактирный поднос со снедью: холодную вареную свинину, квашеную капусту с огурцами, жареные пельмени, свиное сало и запеченные круто яйца с полопавшейся желтой скорлупой. Все в деревянных крашеных киргизских чашках. Алибаев взглянул на женщину и усмехнулся.
— Вернулась, краля? Смиловалась? А я-то сдуру верхового в Александровку погнал, благодарственный молебен попу заказал. Навяжется вот эдакая холера, дак ни крестом, ни пестом не отобьешься!
Женщина сердито тряхнула головой, покраснела.
Алибаев ласково хлопнул по плечу молодого чекиста.
— Ты как, братишка, тоже охоч до баб? Глаз-то у тебя бесоватый. Вот слушайся моего совету, толстых облюбовывай. Не столь горячи, зато и не так пакостливы.
У кареглазого хмельно стукало сердце, ярко светился взгляд. Как молодое сильное животное, он весь трепетал от запаха врага, рвался к схватке с ним. Что канитель с желтоглазым тянуть? Еще с веселым разговором лезет по-свойски, а ты сиди рядышком да поддакивай. Он сердито отодвинулся, резко ответил:
— Советы давай тому, кто их у тебя спрашивает.
Алибаев тихонько засмеялся нутряным, затаенным смешком. Совсем сплющил узкие глаза. Степаненков перестал кружить по горнице, подсел к столу Высоколобый, лысый со лба, немолодой чекист с аккуратно подстриженной бородкой подвинулся на скамье, давая ему место. Глуховатым приятным баском сказал Алибаеву:
— Во вкусах, видно, вы с Шуркой не сходитесь, он рассердился.
Чалыми глазами, бестрепетными, как у выхолощенного коня, глянул на Шурку. Четвертый гость, латыш, низколобый, с тяжелым подбородком, мало вступался в беседу Он выпускал слова с натугой, будто аккуратно выкладывал увесистую кладь. Выговаривал их отчетливо, но неправильно. Казался очень голодным или жадным. Настойчиво наблюдал, как Алибаев наливал чай, смотрел ему в рот, будто завидовал каждому глотку, внимательно рассматривал чашки, медленно передавая их другим.
Алибаев ничего не ответил высоколобому.
Вдруг налегло недружелюбное молчание. Оно длилось одно мгновенье, но все, кроме латыша, облегченно задвигались, зашевелились, разминаясь, когда женщина его нарушила. На нелепом мешаном наречье она сказала:
— Бис ее знает, куда посуду заховалы. Ты, Григорий, мабуть, усю поразбывал, тильки твою чарку знайшла. В чому водку питемо? В чашках?
Несловоохотливый латыш неожиданно торопливо с неуклюжим задором отозвался:
— Одним чарком водку можно. Это не чай, скоро сглотается.
Все засмеялись, даже Шурка нехотя улыбнулся. Алибаев визгливо крикнул:
— Ну, гости дорогие, хлеб-соль на столе, руки свое! Кларка, садись, пес с тобой, займайся с гостями. Со свиданьицем, дружки!
Из четвертной он полно налил в крупный, протемневшего серебра стаканчик, закинул голову, быстро выплеснул спирт себе в глотку, зачерпнул ковшом из ведра, запил его водой.
Солдат, принесший четверть, с рассыпчатым льстивым смешком одобрил:
— Вот правильно! Глотку цельным прочищает, скус не портит, а разбавляет в брюхе. Ну-ка, господи благослови, хватану и я.
Степаненков, поскребывая пальцами волосатое лицо, заявил решительно:
— Как хочешь, Алибаев, нам по-твоему не по силам. Сердись не сердись, а я для себя разбавлю.
Алибаев на удивленье равнодушно ответил:
— Пес с вами, пейте по своей кишке.
Сглотнул еще стаканчик спирта, опять запил водой и не закусил. Узкие желтые глаза заблестели, как янтарь. Латыш недовольно дернул челюстью, встретив его взгляд. Григорий выговорил с насмешливой ласковостью:
— А ты, приятель, подцепляй закуску, меня не поджидай, отравы никакой не подмешано. Этого дела я не уважаю.
Степаненков быстро перебил:
— Мало выпил, а уже чепуху мелешь. Подвинь-ка нам капустку, дамочка. Не знаю, как вас по имени, по отчеству.
Алибаев засмеялся.
— Прежде, по-хохлацки, Гапкой, по мужу Ковальчук звалась, теперь товарищ Клара Артуровна, а фамилию без кашлю и не скажешь.
Он подмигнул.
— Ты на ее не зарься. Бабешка вредная и в уме попорченная.
У стриженой под пепельным клоком волос еще шире и жарче, как в лихорадке, разгорелись зрачки. Светлого ободка почти не видно стало. С суматошным придыханьем она быстро заговорила, пристукивая ладонью по столу:
— И у ранци, и у вечери нема у его до мене доброго слова, одно — грызе мою голову А найдужче — перед добрыми человеками. Как партейные товарищи в беседу со мной, он сичас ну выставлять меня у во всяком грязном лице. Що ты, человиче, робишь? А? Чи найпуще хто мене лает? Чи добрый чоловик? Гришка Алибаев, вот и хто!
Алибаев замотал головой.
— С утра нынче, стерва, визгает, уши заболели.
Старый солдат, склонившись к высоколобому, тихонько пояснил:
— Кликушей раньше была. Как в Александровке с мужем до перевороту жили, кажную обедню за херувимской по-собачьи скулила и корчилась. Два раза духовенство бесов из нее выгоняло.
Клара услышала, сильно побледнела, сжалась, как кошка перед прыжком, но вдруг совсем неожиданно засмеялась и успокоилась.
Повернула к Шурке лицо, очень похорошевшее, точно изнутри осветившееся чудесным, высоким волненьем. Пожаловалась кротко, певуче:
— Оце ж, чуешь, хлопец, як псы, як волки надо мною зубами стукотять. Ты же добрый, ще молоденький, послухай. Я все покидала, с ими и в сражениях з белыми була, як нуж-ниш, и в беде, и коло смерти, и на митингах волостных за оратора — усего бувало. Эх! Усе то мынулося! В одной воинской части за политрука служила. В подполье у колчаковским документ на Клару мне выдали. Не злякалась в подполье, работала, из-под самого из-под расстрелу утикла. Вот с этим-то документом на офицерскую вдову Клару Артуровну Стжибровскую. Так як же мини Гапкой Ковальчук, как при старому режиму, зваться? А?
Она всплеснула руками, молящим взором ловила Шуркин взгляд.
Шурка сильно покраснел, потом побледнел, растерянно оглянулся вокруг. Степаненков поставил перед женщиной стаканчик с водкой. Угрюмо и брезгливо сказал:
— Пей и замолчи.
Алибаев со смехом поддакнул:
— Правильно, помолчала бы. Все брешет! Выкрала у такого-то офицера женины бумаги. С нашими таскалась и на войну. Это правда. Эй, Шурка! Ох, чисто ножиком глазами пырнул. Незлобись, паренек, мы с тобой еще, дай срок, по-душевному разговоримся. Знаю я, с чего ты волчонком на меня. Правильно! Мой сынишка Сергунька так же на отца глядит. Кларка, брысь! Не приставай к парню.
— Ах, злодияка, злодияка ты, Григорий, свит мий завьязав. Лихо — та и годи. Ну, почекай, почекай!
Опять всплеснула руками и, положив голову на стол, жалобно запричитала:
— Чи зна хто таку биду, як моя? Чи е ж такый ще бесщастный на святи! Диточек своих покидала, порастеряла. Не всмихнется мене дочечка, Горпынко зозуленька, не вздывытся приятненько Левко, хлопчик мий…
Старый солдат хрипло засмеялся:
— Детей вспомнила, упилась, значит. С утра с Григорьем наливаются. Клара! Клар… Ну-к, пропустите, я ее в ту избу унесу, отойдет, а то блевать еще зачнет.
Он легко поднял худенькую женщину и понес к двери. Клара с визгом забилась у него в руках. Ее сапоги били старика по коленям. Он громко выругался, но из рук ноши не выпустил. Шурка проводил их быстрым блеснувшим взглядом.
Вернулся старик скоро и подсел к латышу Сообщил ему охотливо:
— Кларку в баню унес, верещит нестерпимо, по детям убивается. Худущая, а плодовита, сука. Четверых с мужем еще прижила, да безотцовских двое. Всех по чужим дворам раскидала. Как напьется, скорбит.
Латыш нетерпеливо махнул рукой. Он не сводил глаз с Алибаева. Степаненков ястребом кружил по горнице, а тот сидел на стуле, широко раздвинув ноги, твердо упираясь подошвами в пол, с корпусом, наклоненным вперед, будто готовясь к прыжку. И хоть говорил не умолкая, спокойно растягивая слова, — зорко следил за Степаненковым, уже не таясь.
Шурка отвернулся к окну Плечи у него скучливо сникли. Старику хотелось беседовать. Он выпил спирту, закусил пельменем, не обращая внимания на Алибаева, заговорил одновременно с ним. Алибаев рассказывал:
— Да, в Москву свозили. Чешутся у начальства на меня руки, да колюч еж, голыми руками не возьмешь. А рукавичек на меня с моими партизанами еще нету, да к чему прицепляться… к пустякам. «Донесли, говорят, про твои жестокости. Мирные жители тобой ребят пугают». А пусть, говорю, пугают. Все одно этими руками детей тютюшкать неловко, и своих-то не касаюсь. «А зачем мертвецов расстреливаешь? Это нехорошо», — говорят. Живому-то оно больше, чать, нехорошо, а вы мертвяков жалеете. Да я мертвых и не расстреливал, брешут, я пули жалел. Заводов-то у меня, чать, нет, на стрельбу в живых пуль не хватает. А трупами мы окопы загораживали, чтоб вражьи пули не на нас, а на мертвецов расходовались. Родне разрешили эту мертвую стражу хоронить. Там нашлись какие-то мастаки-доктора, распознавали, насколько глубоко в живое тело пуля входит, насколько — в мертвяка. Не хватает, дескать, мерки. Ну, жаловались на меня.
А старик-солдат с другой стороны — высоколобому:
— Алибаев в нашей округе торговать не дает, а в городах уже опять свободная торговля. Конечно, зря он это. Слышь, Григорий, я говорю — зря торговать не даешь. Я сам, как на военной службе отслужил, торговым делом шибко завлекся. Оренбургские пуховые платки, самое, в нашей станице вяжут. Я не казак, ну станичный житель. Забрал, значит, партию платков, в Златоуст повез, на казачьи шашки наменял, а шашки домой продавать привез. Маленько дело в убыток вышло, проторговался дотла. Ну, все одно, сам не нажился, а повидал, как другие наживаются.
Им внимал и даже ухитрялся их слышать сразу обоих один высоколобый. Степаненков прислушивался к нараставшему за намерзшими слепыми окошками избы шуму Скрип полозьев, неясный гомон. Кажется, подъезжает народ. Что такое? Шурка у окна тоже сел прямей. Повернул голову к окну и латыш.
Алибаев вдруг крикнул:
— Эй, служивый, айда, лучше споем любимую!
Затянул неверным, диким голосом:
Старик, молодцевато подбоченившийся среди избы, не успел подтянуть. Алибаев оборвал пенье, засмеялся, вскочил легко и упруго, как резиновый. Совершенно трезво, отчетливо сказал старику:
— Подводчики приехали.
Выскочил из избы как был, без шапки, в засаленной солдатской гимнастерке без пояса. Старик кинулся в другую половину избы. Чекисты подались друг к другу — посовещаться. Но служивый снова появился в дверях в наброшенной на плечи дохе дорогого черно-бурого меха, очевидно господской, и, сдвинув лихо набок свалявшуюся баранью папаху, позвал настоятельно:
— Пожалуйте-ка, товарищи, и вы с нами. Айдате, айдате, Григорий зовет.
Гости переглянулись. Латыш вышел первым, вытянув шею и наклонив голову, как собака, нюхающая след. Степаненков на ходу сказал Шурке чуть внятно:
— Ты продышись на дворе хорошенько, дураком вперед не вылезай. Я сейчас с Краузе посоветуюсь.
Старик покосился на них живым несердитым взглядом и зашагал в ногу с высоколобым. Охотно, без всяких расспросов, сообщил:
— Подводы с провиантом прибыли. У вас в городу и по другим по волостям запрет на реквизиции, а у нас разрешено. Раньше поп филипповками шерсть и пшеницу собирал, а теперь Алибаев заместо него к Рождеству богатеев стригет. Это дело нехудое, это я согласен, вся бедняцкая населенья в волости разговеется и одежонку кое-какую получит к празднику.
Высоколобый, слегка отстранив старика плечом, поспешно кинулся в дверь.
Только здесь, на воле, приезжие поняли, какой спертый дух давил на них в алибаевской избе. От первых глотков свежего воздуха кровь застучала в виски. Грудь задышала, как из тисков высвободилась.
Двор и видная в распахнутые ворота улица, тихие, когда приехали чекисты, теперь кишели народом.
С десяток соннолицых башкир в заношенных теплых малахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стеганых или на меху сидели на корточках под навесом. Трое, часто сплевывая, курили слаженные собачьей ножкой вершутки с махоркой. Один со сморщенным, будто испеченным лицом по-кошачьи сладко жмурился, забивая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Остальные долго, не мигая, блескучими желто-черными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица, скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту. Он подумал, как всегда не просто, будто вспоминая текст прочитанных книг:
«Ни одного молодого. Все древние зверо-люди, замедлившие на стезе вымиранья. Если попадемся, узнаем: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах».
И в тусклых стылых его глазах затеплился огонек, отблеск чужого вдохновенья, слабосильный и минутный. Латыш искоса глянул, быстро и точно определил количество башкир. Степаненков мысленно нехорошо выругался. Шурка засмеялся, с любопытством оглядывая двор.
На приступках амбара сидело человек пять чубастых немолодых казаков. Они рассматривали старинное с широким дулом одноствольное ружье. Плечистый казак с выпирающим широким подбородком встал, примерил на плече его тяжесть и глухо, нутром засмеялся. Но лицо его не задвигалось, не полегчало от смеха.
Старый служивый выстроился было начальственно, картинно в дверях, но, завидев казаков, ссутулился, поспешно зашагал к ним с заискивающим подхохатываньем.
Трое крестьянских дровней с поклажей, увязанной кошмами, стояли у ворот. Маленькие взъерошенные степные лошади замерли понуро, как в дреме. Но верховые, под казачьими и киргизскими седлами, беспокойно переминались под сараем, тянулись мордами друг к другу и косили глазом за загородку, где тревожился с густым ржаньем рослый жеребец.
Тяжело топтались по двору и галдели мужики в тулупах, туго подпоясанных, в пимах — будто в дальний собравшиеся путь. Похоже на съезд у волости или деревенское торжище в базарный день. В широко распахнутых воротах, как в раме, стоял малорослый Алибаев. Он размахивал руками и неистово орал кому-то вслед:
— Проходи, проходи мимо, не задерживайся! Да язык в другой раз придержи, а то я сам за тебя примусь, отучу к партизанам с указкой лезть. Полгода раскорякой проходишь, коль сам проучу! Такой декрет пропишу что не встанешь!
Степаненков подошел поближе к воротам. Испуганная гуденьем алибаевского двора, пронеслась мимо запряженная в дровни молодая лошаденка. Она смешно нырнула в глубоком ухабе и вынесла дровни боком на пригорок. Молодой парень-седок, франтовато одетый в пальто на городской фасон, в длинном пуховом шарфе, замотанном три раза на шее, вывалился из дровней, зацепился концом шарфа за дровни, поднялся и опять кувырнулся в снег из-за шарфа. По улице раскатился смех ребятишек, и они дружной черной стайкой пронеслись вслед за дровнями. Мелькали цветистые юбки баб, выбежавших из дворов. Мужики в овчинных тулупах и в полушубках, наброшенных на плечи, усмешливо щурясь, приподнимая шапки, с неторопливой разминкой, в одиночку и кучками, подходили к башкирам, казакам и наезжим крестьянам. Точно мелкая рябь пробежала по глубоким сугробам улицы. Сквозь падающий снег окружные горы казались зубчатой грудой плотно сгустившегося тумана. День уходил. Вечерняя зимняя серость налегала тяжело и тоскливо на сугробы, гася их белизну, обволакивала избы и дворы, сгущалась в закоулках и под крышами в зыбкую темноту И люди, их движенье и гомон показались Степаненкову недействительными, неясными, точно приснились во сне. Пил он мало, но от духоты и волненья голова слегка кружилась и телу не хотелось двигаться. Мысль: «Надо торопиться», — в мозгу проползла медленно. Встряхнулся только, когда с ним заговорил низенький красноносый старик. Он легонько стукнул батожком об ворота, остановился около Степаненкова, оглядел его внимательно, зевнул, перекрестил рот и, счищая сильно трясущимися корявыми пальцами снег с бороды, спросил:
— А вы, городские, с чем наехали?
Степаненков повел плечами и ответил, не глядя на него:
— В гости к приятелю.
— Ыгым… Издаля гости только на свадьбу иль на похороны ездиют. У Алибаева ровно ни того, ни другого во дворе не деется. Ну что ж, с гостями, и мы за гостей сойдем! Тоже стаканчик, глядишь, поднесут.
Он усмехнулся и вопросительно посмотрел на подошедшего служивого в дохе. Тот отрицательно помотал головой, потом лукаво прищурился, показал Степаненкову глазами на низенького старика и щелкнул пальцами себе по кадыку:
— Любит.
Низенький спокойно кивнул головой в подтвержденье:
— Около Гришки только и дышу, часто пользует, спасибо ему. У нас в Каин-Кабаке мало кто есть нестарательный на выпивку. Только во хмелю да в драке и радуются. Теперь драка-то, слышь, позатихла, а у нас не хочут. Вовсе отбились от тихости, не знай, куда теперь привернемся. Хозяйство поразмотали, так вроде дворни при Гришке. Он шаперится, и мы с им. Беспокойно, а ничего. Куды же мы от его? Никуды мы, Григорий, от тебя.
Алибаев оглянулся. Короткая, очень черная жесткая щетина его волос помягчала от пота, закурчавилась. Он был сильно взбешен чем-то. Злобно крикнул на старика:
— Ты чего здесь толкешься?! Тебя кто сюда звал? Восьмой десяток землю гадишь. Хорошие-то люди почету себе требуют в этакие-то седые годы, а ты все холуем под руку лезешь. Тьфу!
Старик понурился, легонько вздохнул и быстро отошел к сторонке за ворота. Алибаев сумрачно глянул на чекистов и круто повернул от них к дровням с поклажей. Спросил широкоплечего суровоглазого мужика в старом, выношенном тулупе:
— Чего привезли?
Тот, лаская возы загоревшимся жадным взглядом, ответил:
— Овчины, шерсть, пшено, пимы и баранье сало. И гуси есть, и свинины туша. Нынче, что ль, распределишь? Чего откладывать!
Широкоплечий мужик был богат. Спасая добро, один из первых прозорливо примкнул к алибаевскому войску В годы обнищанья односельчан приумножил и скот во дворе, и запасы в закромах. Но от избытка сам в теле не потучнел, а схудал, прожелтел в лице, помрачнел. Приумножая, все больше распалялся алчной тоской. Алибаев, поняв снедающую его заботу, сухо ответил:
— А ты загребы-то свои шибко не расставляй, малость какую-нибудь уделю. Не для этаких, как ты, для бедноты реквизовали.
Служивый в дохе льстиво под руку Алибаеву сунулся:
— Правильно! Для бедноты права в бою отбили. Для кого же мы и старались!
— Ну… ты еще, старатель!
Алибаев больно ткнул его кулаком под ребро. Служивый подавился словом, отскочил, но, передохнув, снова молодцевато выправился. Григорий, глядя на него сумрачным взглядом, сплюнул и очень искренно сказал, порывисто повернувшись к Степаненкову:
— В бою-то люди бились рядом со мной, а теперь погляжу поблизости — погань одна, на поживу тянется. Что ты скажешь? Чисто вши меня обсыпали. Тварь малосильная, а шибко вредная.
Казаки прислушивались. Один крикнул:
— А ты, Алибаев, от этих от вшей что ли и сам заплошал? Дружок-то твой, Пантюшка-грамотей, что сейчас высказывал?
То нельзя, да это запрещается. Кому запрет? Нам? О-го! Какой ретива-ай! А ты послухал, отбрехался, как собака хилая, у своих ворот ему вслед. Это чего же? Не хочешь, да засумлеваешься. Ветерь-то теперь, видать, не по нам дует.
— А ты с твоими станичниками против ветру не умеешь?
Алибаев в ответ выругался длинной фразой, замысловато прибирая одно к другому непристойные слова. Мужики восхищенно переглянулись. Казаки густо захохотали. Алибаеву мастерская брань тоже будто сердце облегчила. Он повеселевшим голосом обратился к Степаненкову:
— Вот так-то, друг! Это вы там в городу худо поворачиваете.
— А по-моему, у тебя нехорошо.
— Да уж там хорошо ли, нет ли, а правильно. Кому в восемнадцатом годе кишки выпускали, того теперь застаивать? Эге, шалишь!
Степаненков покачал головой.
— Ой, зарвешься, парень. Надо бы маленько с властью считаться.
— Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, ша-а-лишь!
И, уже совсем повеселев, подошел к чекистам. Шурка быстро отвел в сторону загоревшиеся глаза, круто отвернулся. Степаненков, тоже глядя мимо него, сказал:
— Ты, чем бахвалиться, шел бы оделся. Застудишься.
— Эге! Ни начальством, ни застудой не запугивай, товарищ! Пуганы, пуганы, до того уж перепуганы, что и пугаться разучились. У вас там во все щели баре повыперли, а мы на господ не согласны. У нас как постановили, так и не сменяем: мужичий верх, а не господский. Вот поспрошай мое воинство. Недавно господин учитель один запрекословил…
Степаненков сердито махнул рукой:
— Ну тебя! Муторно от бахвальства твоего. Ты мне лучше объясни, что это у тебя — съезд, что ль, какой во дворе?
Алибаев, уставясь ему в лицо желтыми глазами, охотно объяснил:
— Это вроде как моя личная охрана. Всякой твари по паре. Как в Москву на вызов выезжал, они на станцию понаперли, чуть поезд не задавили. Я сам их назад отослал — своей, мол, охотой еду А все-таки нет-нет да нежданно соберу, чтобы всегда наготове держались.
— А сегодня зачем собрал?
— Говорю — проверка, непонятливый ты какой. Ночью надумал, нынче на заре слух с нарочным подал, и вот, гляди, чуть за полдень — они уже все тут из разных местов. Коль надобности не объявится, пошумят на дворе да разъедутся. И с реквизиционными подводами в час угодили. Вот дележку мою поглядишь, справедлива ли. Ай не хочешь?
Глаза их встретились. Степаненков глуховато сказал:
— Большой охоты не имею. Ссориться с тобой придется.
Высоколобый издали осторожно вставил:
— Да, пожалуй, нам и собираться пора. Как бы ночь не застигла в пути. В Александровке ночевать собирались.
— Здесь заночуете.
В голосе его не прозвучало никакой угрозы. Неподвижный взгляд косых глаз тоже остался спокоен, но чекисты поняли, что Алибаев их без боя не выпустит. Вся надежда только на подмогу Высоколобый соображал:
«Жизни моей, пожалуй, пока ничто не угрожает. Может быть, еще торговаться с нами будет. Надо выжидать».
Выжиданье оказалось нестерпимым не только для Шурки, но и для Степаненкова. Шурка весь побелел, у него тряслись губы, он сделался сразу сам на себя не похож. Его возмущала унизительность их бессилия. В такой переделке он еще не бывал. Если бы можно было им отбиваться с оружием, а то нате — сами приехали и сдались в «плен». Чего же старшие-то думали? Надо было сразу с отрядом весь хутор окружить, запалить, занять, смирить. И он ненавидел теперь не только Алибаева, но и Степаненкова, и латыша, и высоколобого. Степаненкова мутила злоба от другого. Здешние люди, вся окружающая Алибаева непростая обстановка претили его здоровенной, цельной, как плоть, душе. Он не мог поручиться, что, если еще Алибаев обратится к нему с каким-либо словом, он не ударит его, отметая всякую осторожность, с чувством огромного душевного облегченья. Латыш ощущал схожее со Степаненковым бешеное отвращенье к врагу, но знал, что гнев свой обуздать может. Он обдумывал возможность нападенья на Алибаева. Высоколобый один мог продолжать разговор с Григорием. И он начал было его расспрашивать о партизанских боях, но Алибаев отвернулся. Он услышал за сараем, на задах, пронзительные женские выкрики.
Алибаев засмеялся, крикнул служивому:
— Лизарыч, принеси мне одежду Кларку шугнуть надо. С Пантюшкой, видно, спорить сцепилась. Не в свое дело лезет! Я ее сейчас! Шку-ура!
Лизарыч быстрым скоком, хлопая полами дохи, сбегал за полушубком и шапкой. И одновременно через задние ворота под сараем вбежала Клара. Она теперь была в папахе, в солдатской шинели и с револьвером на боку Возбужденно сообщила:
— Оце ж, сучий сын, як лается! Пальнуть бы, як в Кирбасове того смутьянщика!
— Я тебе, стерва, пальну! Иди в избу, ну?!
Алибаев сильно толкнул женщину в двери сеней. Она стукнулась головой о притолоку, визгнула, кинулась к Алибаеву с криком, с вытянутыми вперед руками. Он ударом сбил папаху с ее головы, сильно рванул за волосы, пинком втолкнул обратно в сени, притворил дверь и накинул ее на щеколду Клара стукнула раза три в дверь, потом жалобно заплакала и затихла в сенях. Алибаев подошел к Степаненкову, что-то хотел сказать. Тот, хмуро глядя в сторону, не слушая, перебил:
— Где же наши кони? Я чего-то их не вижу. Мы ночевать не останемся.
Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, прищурил глаза и, явно издеваясь, проговорил:
— Ой? Не желаете больше гостевать? Не пондравилось? А мне вы глянетесь, не отпущу Погостюете с недельку, а может, и поболе. Сколь хозяин захочет.
По лицу у Степаненкова прошла, как мимолетный взблеск, судорога бешеной ярости. Он сильно сжал челюсти, сдержался, продохнул и с усильем, но спокойно и твердо выговорил:
— Не блажи, Алибаев. Хватит. Где наша подвода?
— Ишь ты, строгий какой! От прежнего дружка рыло в сторону. Чтой-то? Не выпущу, поживете в моем монастыре по моему уставу.
Степаненков круто повернулся, хотел отойти. Высоколобый не понял его движенья. Поторопившись предотвратить беду, вызвал ее. Ему показалось, что Степаненков наступает на Алибаева, хочет ударить его. Он сзади крепко обхватил Степаненкова. Шурка наскочил на Алибаева, уронил его на землю, стал бить кулаками и сапогами. Алибаев, ловко извиваясь, вырвался. Шурка выстрелил — промахнулся. В ответ выпалил из ружья казак, тоже не задел ни одного из чекистов. Сзади башкиры налегли на них. Алибаев заорал:
— Не наваливайся, чтоб живы остались! Эй, слышь! Живыми оставить! У меня с ними еще разговор будет.
Стрельба прекратилась, но началась свалка. Чекистов обезоружили, связали, внесли в каменную кладовую, положили на кошомный ворох. Громыхнул на дверях тяжелый замок.
Трудно было определить, сколько времени пролежали, со двора вначале доносился неразборчивый говор, людская толкотня. Потом вдруг шум возрос, послышалось движенье, похожее на разъезд. И после этого сразу за стенами кладовой сделалось очень тихо. Через промежуток времени, мучительно долгий для запертых в кладовой, замок за дверями кто-то осторожно принялся тревожить.
Освободила их Клара. Она с прерывистым дыханьем сбивчиво жаловалась на жестокую обиду от Алибаева, кляла какую-то Марьюшку приставала к Шурке с тихим причитаньем:
— О, боже ж мий милесенький, та який ты горячий. Хиба ж можно? Полон двир, а ты стрелять.
Степаненков сердито дернул ее за плечо.
— Некогда. Народ где?
— Да никого нема. Григорий затоскував, усих по домам разогнав. О, який же скаженный! Я б его свома пальцами задушила, шайтана! Избил меня, а жалкует над сукой, забув все, хочь с пушек палы — не учует. Слова не промовит, тильки ее разгляда. Та колы бы вона не подлянка була… Тикайте, тикайте швыдче! Ото ему будет мий подарочек на утре. Отчинит кладовку а положенных нема.
С ночного неба густо падал снег. Ветер налетал порывами, ударялся в стены, в ворота. Клара пояснила:
— Нема ваших коней. Мабуть, казаки угнали. Да запряжите Бурку Ну! Идыть суда. Да ничого, не лякайтесь. Вин не учуе, с Машкой сопыть.
Высоколобый спросил:
— А где же этот… Лизарыч?
— В горнице с дидкой Козырем сплять. Воны же пьяны, не проснутся.
Шурка жарким шепотом спросил:
— Где Алибаев?
Латыш, не дожидаясь ее ответа, пошел к избе. В окне виднелся свет. Высоколобый решительно приказал:
— Шурка, иди с этой бабой за лошадью. Запрягите пару если найдешь. Жди во дворе.
Клара нетерпеливо крикнула:
— Да тикайте вы! Чего не бачили в оконце? Намерзло, не видать и ничуть ничого.
Степаненков легонько оттолкнул ее.
— Иди, баба, покажи, где лошадь. Запрягайте скорей. Мы сейчас.
Окрепший ветер ударял в стены избы, взвывал в трубе, но Алибаев шорох в сенях услышал. Приоткрыл дверь и крикнул:
— Кто там?
Ленивый, очень мягкий женский голос в избе позвал его.
— Да не тормошись, беспокойный ты какой! Ветер шумит. Ладно, как раз по ноге.
Алибаев двери плотно не притворил. В небольшую щель латыш острым взглядом разглядел избу Створчатая дверь в горницу была плотно притворена, и в ручку засунут ухват вместо запорки. У маленького скосившегося деревянного стола с водкой и закуской стояла невысокая, тяжеловатая телом, белолицая, чуть курносая женщина в бумазеевом капоте. Она внимательно разглядывала новые блестящие резиновые галоши на ногах.
Алибаев подошел к ней вплотную, шумно дыша, припал головой к пухлому плечу.
— А песню, Марьюшка, не споешь нынче?
— Ай, да ну тебя. Уж тебе нынче пели-пели.
— Это пьяные-то?
— Да здешний народ и не поет, когда не пьяные.
— А пьяные частушку отстукают, как дятел носом по дереву. Разве это песня — без разливу? Они расейских не могут, а ты протяжно поешь. Я за то и залюбил тебя. Баба ты плохая и хапаная, гулящая, за что бы я тебя больше залюбил?
— Ну-к, пусти, я сяду Спать мне уж охота, а не петь. Айда лягем.
— Ох ты, лапынька моя…
Дверь распахнулась, чуть с петель не слетела. Латыш сзади схватил Алибаева. Круглолицая женщина взвизгнула негромко. Степаненков быстро повалил ее на скамью и скрутил веревкой. Быстрым говорком просила, вертя головой:
— Не затыкай мне рота, голубчик. Я не закричу, не крикну я, товарищ. А то задохнусь, у меня дых шибко крепкий, задохнусь. Я не буду кричать, миленький! На кой он мне сдался, кыргыз страшнючий! За калоши я, на калоши позарилась.
Алибаев сдался без малейшего сопротивленья. Услышав слова женщины, дернул головой, и лицо его исказилось не то испугом, не то тоской.
Своего оружья не нашли. Дверь в горницу, чтоб шума не поднимать, не открывали. Латыш захватил большую железную кочергу. У Алибаева в кармане оказался револьвер.
Степаненков сказал:
— Ладно, до подставы недалеко, едем скорей.
Крепко скрученного веревочными вожжами Алибаева с глухо заткнутым ртом завернули в большой овчинный тулуп, нахлобучили шапку и вынесли на двор. Григорий завертел шеей, вбирая ноздрями воздух, но не дергался, не извивался в руках несущих. Высоколобый даже сочувственно попенял ему в мыслях:
«Удивительно недальновидный, даже глупый человек Дал представленье, пошумел, а в нужную минуту остался сир и беспомощен».
Очевидно, думая о том же, латыш сплюнул и сказал:
— Дырявый башка. Старики, если дверь заломают, не помогут, испугнутся. Ну, скорей клади!
Запряженная в широкую кошеву нескладная пара, длинногривый гнедой жеребец в корню и пристяжка — молодая пугливая вороная кобылка, беспокойно топтались, чуя дыханье людской тревоги. Жеребец заржал. Из-под сарая выскочил Шурка. Бесшумно, по-кошачьи опередила его Клара. Она наклонилась над кошевой.
— Это хто? Ох, лыхо? А чому ж ее так!.. Та хиба ж я вам его отдамо?
Крикнула отчаянно, страстно:
— Ратуйте, люди!..
Шурка схватил ее за плечи, закрыл рот рукой, она вырвалась, бешено плюнула ему в лицо и снова яростно завопила:
— Э-эй!.. Помо-жи-ите-е!
Латыш с силой ударил ее кочергой по голове. Папаха слетела вбок, Клара, не согнувшись, повалилась около саней. Густо падающий снег быстро запорошил ее.
Тревожно прислушались. Никакого отклика на Кларин крик. Ветер бился в стены строений с гульливым высвистом и унылым гуденьем. Под напором его глухо постукивали ворота об засов. Покряхтывал плетневый хлевушок около избы. В студеном мраке, пересекаемом белым мельканьем снежинок, жутко чернела их подвода и четыре настороженных фигуры. Степаненков скомандовал:
— Садись.
Латыш схватился за вожжи. Степаненков придержал его за плечо.
— Пимы надо бы, пожалуй, захватить.
Шурка перебил:
— Кати! Некогда. На подставе запасная одежа есть.
— Ну, ладно, поворачивай к задним воротам. Через гумно выедем на дорогу.
В воротах жеребец зауросил. Круто задрал морду, поднялся на дыбы, сильно рванул кошеву вбок. Пристяжная задрожала, замельтешила ногами, метнулась в сторону, чуть не оборвала постромки.
Латыш соскочил с козел, перебросил вожжи Степаненкову, схватил корневика под уздцы, два раза ударил его кулаком под морду и дернул вперед по дорожке к гумнам.
На сырту, на горах крутил лютый буран. Со всех сторон неслись, налетали, свивались, кружили ветры. Сугробы, скрытые тьмой, гудели, шипели, стонали от ветрового разгула. Сверху скупо падала мелкая твердая крупа, но снизу большим белесым облаком без конца и краю вздымалась, вихрилась в студеной страсти колючая поземка. Застилала зыбкой непроницаемой мутью все вокруг. Шурка и латыш с козел видели только чуть чернеющие крупы лошадей и взвиваемую ветром, побелевшую длинную гриву жеребца. Холод жег лицо. На бровях и ресницах настыли льдинки. Лошади бежали уверенно и шибко. Люди на подводе, ныряющей в ночном буране, не сразу учуяли, как продирается под одежду стужа, как устают не видеть глаза. Они не слышали стенаний метели и не пугались их.
Сильно разгоряченные удачей, еще переживали радость ее в короткой отрывистой перекличке друг с другом, в мыслях.
Связанный Алибаев неподвижно лежал в кошеве между Степаненковым и высоколобым. Казалось — спал. Вдруг он яростно дернулся, сильно зашевелился. Высоколобый сообразил:
— Эх, забыли! Рот освободить надо, еще задохнется.
Озабоченно завозился над арестованным. Алибаев шумно продохнул и выругался.
— Ну, смекалистые! Разве пьющий человек может долго носом дышать? От запоя дыхание напорное. Закурить нет ли у кого у вас?
Ему никто не ответил. Степаненков напряженно всмотрелся вперед, оглянулся и тревожно приподнялся в кошеве.
— Краузе, что-то долго нет спуска! А? Што?
Не разобрать, что ответил латыш. Шум вьюги разрывал, глушил слова. Забеспокоился и высоколобый. Сразу ощутил, что ноги у него одеревенели от холода, а большой палец правой ущемила острая боль. Закричал, преодолевая напор ветра;
— Не сбились ли?!
Но в этот миг сбоку в белесой стонущей темноте выросла черная тень. Вешка! От сердца отлегло. И боль в ногах будто не так уж сильна. Латыш тоже весело взмахнул кнутовищем, указывая на вешку Она, мелькнув, тут же затонула в буране. Алибаев громко зевнул, передернул от холода плечами, лениво спросил:
— Степаненков, а вы куда меня везете?
— Довезем куда надо, не беспокойся.
Дорогу сильно замело снегом. Она становилась все трудней, и лошади пошли уже не быстрым бегом, а трусцой. Почувствовав сильно забиравшую его дрожь, Степаненков выскочил, пошел, держась за грядку кошевы. Следом за ним выбрался из саней высоколобый. Спрыгнул и Шурка с козел. Холодный ветер швырял в лицо обжигающую снежную пыль. От напора студеного воздуха трудно дышалось на ходу Полы тулупов хлопали по ногам, мешали. Шурка, одетый щеголеватей и легче других, двигался быстрей, но скорей других иззяб, и ходьба его не согревала. Он начал дрожать и пристукнул зубами, как в сильной лихорадке. Чекисты часто срывались с твердого наста дороги, увязали в снегу, с трудом высвобождались. За сапоги набился снег. Затревожился латыш. Повернулся с козел к саням, громко спросил:
— Сколько верста до первой спуск под гора? Слышь, Алибаев? А?
Алибаев, стараясь перекричать метель, громко взревел:
— Какой спуск? Мы вдоль по сырту шпарим.
— Этот не в город разве дорога?
— Да я вас ведь спрашивал, черти дубовые, куда везете? Зачем в город по сырту ехать? Сразу, как на гору поднялись, не по той дороге ударились.
— Куда-а?
— «Куда»!.. На кудыкину гору, вот куда! Чего я, лежа, разгляжу в этакой темнотище? Не знаю — куда, только не в город.
— Тпру-у! Сто-ой! Че-орт!
Латыш, резко дернув, натянул вожжи. Пугливая пристяжная, подавшись назад, больно ушибла о скалку задние ноги, взбрыкнула, бешено рванула вбок. Жеребец взмахнул гривой, захрапел, тоже сильно дернул кошеву Сани накренились, латыш не удержался на козлах, упал, протащился на вожжах и выпустил их из рук.
— Сто-ой! Стой! Тпру! Стой! Дер-жи!
Шумно дыша, сразу согревшись, чекисты, увязая в снегу падая, поднимаясь, все же не отбились от лошадей, добрались. Кони тоже с огромной натугой преодолевали вязкие снежные валы наметенных сугробов, бежали недолго, с размаху угруз-ли в лощине. Жеребец надрывно заржал. Этот близкий живой зов просек взвыванье метели, помог людям в бесноватой мутной тьме собраться вместе у подводы. Шурка выбился из сил. Обхватил руками козлы, припал к ним головой и никак не мог отдышаться. Высоколобый тоже изнемог. Дрожащими руками нащупал край кошевы, грузно ввалился в нее. Незадолго до этой поездки у него обнаружилось нехорошее состояние сердца, и сейчас ему показалось, что он умирает. Непередаваемая физическая тоска во всем теле, стесненность в груди и особая, пронизанная колючими искрами темнота, видимая или, вернее, ощутимая закрытыми глазами. О, так мучителен может быть только чудовищный, явственный уход, живого в небытие! Он застонал, скорчился в санях рядом с Алибаевым. Степаненков и латыш топтались, тяжело месили снег около лошадей, громко перекликались смятенными обрывистыми фразами, перебранивались. Алибаев, с силой вздернув голову, яростно заорал:
— Гусем надо было запрячь! Недоумки, дьяволы безголовые!
Латыш в сердцах замахнулся на него кнутом, Степаненков схватил за руку удержал.
— Постой… Алибаев, назад повернуть далеко?
Шурка звенящим испуганным голосом крикнул:
— Да не ври, проклятый бандит! Все равно, хоть самим пропадать, тебя из рук не выпустим!
— Э-эх, ублюдки безмозглые! Всадили сами себя! Разве в буран можно коней с путя дергать? Теперь чего разберешь — куда далеко, куда близко?
Кругом со стенаньем и визгом качалась белесая бредовая муть, закрывала все пути. Степаненков попробовал искать их собственные следы с дороги сюда. Но они уже истоптали снег около подводы. Подавшись шагов на десять подальше, он сразу перестал видеть кошеву и лошадей, с трудом уловил голоса, закричал:
— Где вы-ы?!
Ветер озлел или изменил направление. Отстав от убегающих коней, они все же слышали ржанье, теперь отклик Алибаева чуть долетел до Степаненкова:
— А-а! Сюда-а!
Закудрявившаяся, запорошенная снегом шерсть взъерошилась на лошадях. Молодая кобыла дрожала мелкой дрожью вся — от гривы до хвоста. Кони вытягивали шеи, напрягались и не могли высвободиться, стоя по брюхо в снегу Латыш неистово хлестал их кнутом, ударял кулаком по хребтам и в бока, чтобы они сдвинулись с места. Степаненков мрачно и неуверенно выговорил:
— Что ж, надо кричать. Может, кто с дороги услышит.
Закричал первый:
— А-а-а!.. Помоги-те!..
Высоколобый завозился в санях, напряг все силы, продохнул, с усильем слабым, неверным голосом простонал:
— Сюд-а! Помо-о-ги-и-те!
Шурка крикнул отчаянно, очень громко, захлебнувшись криком, как захлебываются плачем дети. Латыш вспомнил, вытащил револьвер, выстрелил вверх три раза подряд.
Вглядывались, прислушивались, мучимые надеждой. В бес-нованье зыбкой мглистой тьмы почудился Шурке отклик, чье-то живое спасительное приближенье. Он взволнованно попросил:
— Подождите!
Но сам не мог ждать, сейчас же снова закричал:
— Сюда-а!.. Э-эй!..
Слышали, ждали. Все то же взвыванье, гуденье, шипящее шуршанье снегов под налетами ветра и неживое жуткое колыханье студеного мрака. Вдруг ясно выделился унылый вой, непохожий на метельный. Он нарастал, креп, доносился все настойчивей и чаще. Высоколобый исступленно взвизгнул:
— Волки! Краузе, стреляй!..
Латыш выстрелил вверх три раза, потом завозился, отыскивая запасные пули. Долго заряжал плохо сгибающимися пальцами револьвер и хрипло, отрывисто бормотал проклятья, уже не по-русски, на своем родном языке. Стояли, топтались, кричали долго. Прислушивались, совещались. То один, то другой порывались идти на поиски дороги, но скоро возвращались обратно к саням. Шли часы. Им показалось, что ночь должна была быть уже на исходе.
Вой затихал, потом снова вздымался совсем близко. И высоколобый не знал, мерещится ли ему, или он действительно видит огненные точки волчьих глаз. И справа и слева, здесь и там — всюду в окружающей их жуткой темноте. Снова подступила к горлу дурнота, затомила страшная телесная тоска. И он отчаянно, неожиданно громко взмолился:
— Господи!.. Господи, помоги!!! Господи-и!..
Алибаев опять сильно завозился около него, закричал:
— Эй вы, дьяволы! Шурка-то, никак, упал? Растирайте его, тормошите. Да развяжите вы меня, собаки!
Степаненков наклонился над Шуркой, разметая по снегу полы тулупа. Позвал латыша:
— Краузе, надо его в кошеву… или в снег… Слышишь, давай снег разгребать. Всем нам надо в снег закопаться. Теплее.
Латыш рванулся к саням, остановился, плюнул и хлопнул себя рукой по лицу Вспомнил, что захваченную в алибаевской избе кочергу бросил на дворе, пристукнув Клару Иззябшие пальцы плохо повиновались. Мерзлый снег трудно им поддавался. Они разгребли яму только для Шурки, чуть прикрыли снегом его одного. Высоколобый, уткнувшись головой в угол саней, стонал уже без слов, часто содрогаясь всем телом. Шурка совсем затих около кошевы на снегу Алибаев невнятно и злобно бранился, перекатываясь в кошеве. С огромными усильями удалось латышу вздуть спичку. Степаненков, широко распахнув тулуп, защищал слабый огонек от ветра и мокроты. Латыш разглядел на часах время. Только девятый час вечера на исходе. Краузе решительно сказал:
— Искать надо дорога.
Попробовал выпрячь пристяжку, она жалобно замотала мордой, осела еще глубже в снег, точно у ней подогнулись ноги.
Алибаев скрипнул зубами:
— Ухайдакали коней! Жеребец застывает, а кобыленка совсем сквелилась. Эх, паршивцы! Из-за вашей дурости животная гибнет! Нет ли дерюжки какой в санях, прикрыть бы.
Латыш махнул устало рукой и пошел вправо от саней.
— Краузе, не ходи от подводы. Пропадешь, болван!
Латыш не отозвался на окрик Алибаева. Отважно шел, увязая в снегу по колена. Скоро его не стало слышно. Алибаев, окликнув его еще два раза, раздумчиво сообщил:
— За ветер зашел, пиши пропало. Нельзя непривычному в буран от подводы отдаляться.
Степаненков уже перестал дрожать от холода. Почувствовал, как все его тело словно затекло, налилось большой, трудно преоборимой усталостью, как огрузнели над его глазами веки и ослабели губы. Он испугался. Закричал, с усильем ворочая языком:
— Краузе-е! Наза-ад!
Будто подымаясь на крутую гору, зашагал он около подводы, превозмогая тяжесть своих плеч и ног. Временами принимался опять кричать все слабеющим голосом:
— Эй! Кто живо-ой!.. Помогите-е! Кра-а-у-зе-е!..
И в час тяжелого топтанья, беспомощных криков в неживое, во тьму, в бездушное злодейство стихии он впервые в жизни ясно и строго думал о нелепой неверности человеческого существованья. Не один раз смерть дышала прямо ему в лицо. Как все люди, он перенес тяжелые, опасные болезни. С мужеством, не для всех досягаемым, сражался в бою. В ревностной работе Чека он часто, видя гибель, безбоязненно приближался к ней. И ни разу его не поражала мысль о хрупкости его человечьего, уже никогда не повторимого века. Мысли эти не оформлялись в его мозгу в ясные слова. Он воспринял и понял их в одном животном ощущенье гнуснейшей своей жалкости перед концом. Раньше, ожидая смерть, он знал, что станет отбиваться до последнею вздоха.
В болезни будет лечиться, от живого врага — защищаться силой или хитростью. И в этом непременном сознательном отпоре, в достойной защите своего живого дыханья был самый большой смысл его человеческого бытия, уверенность в ценности его созидающего жизнь по своему устремленью мыслящего существа. Не только чувствующего, но и сознающего себя. Теперь он погибал вместе с жеребцом и пугливой молодой кобылой так же безответно и глупо — от случая, от стужи, от снега, погибал, как ничтожная букашка, которую давят, не жалея, не радуясь, просто не замечая. И от этой, не размышленьем, не мыслями, а чутьем учуянной конечной, одинаковой с букашкой своей жалкости он затрепетал, испугался. Кричал в тьму и вьюгу, звал помощь. Устал и снова встрепенулся от страха. Нельзя больше топтаться и ждать! Взбодрившись последним усильем воли, он, как Краузе, решительно пошел искать дорогу. Алибаев во всю силу своего голоса закричал ему вслед.
— Степаненков, пропадешь! Развяжи меня! Я, может, найду дорогу. Я здешний, у меня кыргызский нюх.
Степаненков приостановился. Прокричал в ответ громко, но уже беззлобно:
— Найдешь — так убежишь. Выручишь разве нас на свою погибель?
У него уже не было ненависти к Алибаеву Смутно он ощущал даже его братскую близость от одинаковой их человечьей беспомощности перед лицом стихии.
— Развязывай! Кабы не захотел вам в руки даваться, так… Эх, дурак! Вон эти двое вовсе скорежились. Не медли. Мне парнишку жалко, а не нас с тобой.
Степаненков подошел, молча принялся развязывать веревки. Закоченевшие руки не могли осилить узла.
— Да, чать, ножик у тебя есть в кармане? После, как я пойду, ты снегом шибче руки растирай.
Степаненков еще раз вяло воспротивился:
— Алибаев, пожалуй, я не пущу тебя. Пропадать — так вместе.
— Ну зачем ты губами зря шлепаешь? Сам скоро взвоешь: иди поищи. Это тебе не от людей отстреливаться, тут пулей не пособишь. Ну? Тяни мою руку Вот! Эх вы, стервецы, тело примяли веревками! Стой, расправлюсь.
— Алибаев, пропадешь и ты. Куда тут идти?
— Я с рожденья здешний, степовой, не учи. Я под ветер не пойду. Голос подавать стану, услышишь. Слушай хорошенько. Да не поддавайся! Двигайся, ворошись, не дремли. От подводы далеко гляди не уходи. Эх ты, коняги-то застывают тоже! Большой убыток вы мне наделали, стервецы. Кони хорошие, недешевые. Эхма!..
Он выпрыгнул из саней, широко и сильно размахнул руками, расправляя смятое неудобным лежаньем тело. Потом с сердитым неясным бормотаньем пошарил в санях и около саней нашел кнут, сильно стегнул обеих лошадей по очереди. Жеребец содрогнулся, дернул кошеву, проржал коротко и слабосильно, будто жалуясь. Пристяжная чуть взмотнула мордой и опять понурилась.
Алибаев сочувственно причмокнул, похлопал ее по спине, вздохнул.
— Двоих молоденьких загубили — Шурку и вороную мою кобыленку. Вряд ли отдышатся! А молодое губить — это только и есть один грех, никак не замолимый. Сволочи вы!
Он подобрал полы тулупа и, увязая, но привычно легко высвобождая крепкие кривые ноги, закружил около саней. Останавливался, вглядывался в крутящуюся мокрую темь, потом пошел в одном направленье, наискось от подводы. Скоро стал невидим, затонул во мгле, но часто доносились его короткие неразборчивые окрики. Казалось, он переругивался с бураном. Степаненков оживился новой надеждой, бодрей шагал около саней, останавливался, напряженно вслушивался, ловя алибаев-ский голос. Заворочался со стоном и приподнялся в санях отдышавшийся высоколобый, горестно позвал:
— Степаненков!
— Ну?
— По голосу слышно — он все удаляется. Не вернется он. Да это все равно… На что он нам теперь?
— А ну тебя к дьяволу! Молчи.
Вдруг далекий голос Алибаева прокричал сильней и ясней:
— …о-ро-ога!.. а-а-а!..
Степаненков всем телом рванулся на крик. Собрав все силы, крикнул:
— А-а-а! Где же ты?
— Иду-у… ва-ам!..
— …либаев!.. суда-а!
— Иду-у!..
Голос Алибаева то звучал совсем близко, то ослабевал, отшибаемый вьюгой. Около саней он вынырнул совсем неожиданно.
— Кружил, кружил, пропер было далеко, а дорога-то оказалась чуть не под задом у нас. Вот теперь не знаю, как коней выволокем. Эти двое-то тяжесть, а не помощники. Об Шурке я уж не говорю, а вот… Эй, господин, идти сможешь?
— Не знаю.
Высоколобый попробовал вылезти из кошевы, но вскрикнул, бессильно упал назад.
— Ноги… ноги больно! И руками держаться никак не могу…
— Э-эх ты, пес тебя задери! Тебя, чать, и выкинуть не грех. Ну ладно, лежи покуда. Что ж, Степаненков, айда постараемся. Руками владаешь?
— Плохо, но все-таки моху.
— Ладно, плечом тогда подсобишь. Перепрячь надо. А вы, недопеки, над здешним народом начальствуете, а ничего не приметили, как в чем он вывертывается. Ужли и ты, Степаненков, не слыхал, что в снежную дорогу гусем пару запрягают, а? И подобрали как: жеребца с кобылой. Да она же еще молоденька, непривычна. Ну-ка, ну-ка, милая, но-о!.. Ожила? Эх, как трусится! Чего, чего? Стой, стой, глупая! Ну, ну, вышагивай! Стой, куда! Эх, дура, вырвалась! Из последней силенки прыгает по сугробам. Ну, чего ж! Догонять — измаешься! Да у нее все одно это последнее брыканье. Лягет в пути. Пропала, голубушка! Чего пнем стоишь? Айда помогай жеребца из снега вытаскивать. Стой! Тут я. Ты подымай кошеву плечом. Этот постарей, поумней, ну да и посильней. Ну, голубь, ну, коняга! Но-о! Хоп! Еще… Ну-у. Но, но, но!.. Ну… еще… еще… М-м-м-ых! Ну, вот вылезли. Передохни, Степаненков. Что — скрючился и ты, друг? Ничего, живу быть, так расправишься. Айда рюхайся в кошеву, отлежись» Теперь уж с дороги жеребец не сойдет. Ишь, ишь, скотина, а понимает, что вызволились.
Лошадь тяжело вздымала боками, но, учуяв дорогу, дергала вперед, рвалась в бег.
— Стой, стой… Сейчас. Еще Краузе пошуметь надо. Может, где поблизости мается. О-о-о! Кра-у-зе-е! То-ва-рищ! Доро-ога! Сю-да-а! Това-а-рищ!..
На братский свой зов Алибаев отклика не дождался, хоть и немалое время взывал.
— Говорил дураку — не ходи. Ехал бы теперь с нами живой, радовался бы. Эх ты, дельный мужик пропал. Лучше бы вот этого барина заместо Краузе в степи оставить. Ну, да чего уж… Едем. Доберемся, верховых из села на розыски вышлем. Айда! Но-о!
Высоколобый из кошевы громко взмолился:
— Скорей!.. Погоняй, дядя, плохо мне.
Алибаев повернул голову.
— То-то, человече, еще «тятей» назовешь. В беде бывает мирной человек хуже, чем опасный. Мирной сробеет, а опасный захочет, дак вызволит. Но-о! Двига-ай!
Ехали длинным долом. Здесь поземка взметывалась слабей. Только густо сеяло снегом беспросветное небо. Сугроб на дороге был мягче, полозья глубоко входили в него. Лошади тяжело везти, но она бежала во всю силу отфыркиваясь и похрапывая. Буря в узком долу завывала, как в трубе. Просекала, рвала слова. Степаненков не мог понять, о чем кричит Алибаев, по долетавшим бессмысленным обрывкам. Он и не вслушивался. После всего испытанного в сумбурный этот день и ужасную ночь теперь налегло на него тяжелое спокойствие, приглушившее сердце и мозг. Он силился думать не о том, что ожидает их на неведомой стоянке, куда везет Алибаев, а о том, что все же доверяться ему нельзя, он — враг, но ни злобы, ни настороженности в душе эти ленивые, дремотные мысли уже не возбуждали. Хотелось только тепла и сна. Скорей бы в жилье, согреться, расправить затекшее, издрогнувшее тело. Вдруг требовательно вошел в уши странный гулкий звук, напомнивший что-то хорошо знакомое, связываемое всегда с зовом, с кличем. Что это такое? Степаненков взбодрился, выпрямился, пригнулся вперед, насторожив слух. Алибаев оглянулся, наклонился к нему с козел.
— Слышишь? К селу подъезжаем. Звонят для заплутавших. Это, пожалуй что, Сусловка. Большое село. Тут даже милиционер вам на подмогу есть. Ну барин, вот теперь помолись, поблагодарствуй за спасенье от нечаянной смерти. На звон выехали, теперь не пропадем. Все-таки, видать, твой Бог расплющил глаз-то, когда давеча ты вопил к нему.
Высоколобый ответил смущенным, но уже окрепшим голосом:
— В бреду, вероятно, я, в беспамятстве был.
— То-то — в беспамятстве. Ладно, мы со Степаненковым за вас за всех старались, память не теряли. Ну вот, вам вперед наука: какая ни есть спешка, дуром ночью в буран в степь не суйтесь. Все одно — дело не выйдет.
Алибаев говорил строго, как набольший, подчеркивая, что теперь они у него в руках. Но замученные, иззябшие люди этим не возмущались. Степаненков очень неохотно и ненастойчиво все-таки попробовал дать ему отпор:
— За нас, Алибаев, ответ с тебя все равно…
— Не трепли, друг, языком. Аль башку поморозил, плохо смекает? Убежать-то я мог, а не убежал. И в Каин-Кабаке я сам в руки дался, смекни хорошенько. Выпустить вас позабыл, Марья ко мне пришла. Я только похорохориться перед вами хотел. Ну, об этом разговор в городе будет. Шурка-то еще дышит?
— Сейчас шевелился, стонал.
— Стонет, это хорошо. Тело, значит, свое чувствует. Может, отдышится. Ну-ка, гнедой, шевелись! Еще маленечко. Н-но!..
В чистой горнице все на городской фасон. На окнах вверху надвески в три зубца из жесткого кружева. Цветы порасставлены на особых табуретках. Тоже не деревенские — не герань, не столетник, а клен, фикус и уродливые кактусы. У стен венские стулья, диван деревянный, крашеный. Стол перед ним, отступя, посередине горницы, покрыт зеленой клеенкой с желтыми изображеньями Кутузова в середке и других генералов Отечественной войны в коричневых кружочках по углам. Висячая лампа под потолком велика, на керосин жадна, невыгодна. И горка с разнокалиберной посудой за стеклами, и неширокая железная кровать под байковым одеялом, и цветные бумажные обои на стенах — все будто не обжитое, не для себя, а напоказ, по праздничному случаю устроенное. Но за обоями, в пазах и щелях — многочисленное клопиное племя. Всю длинную здешнюю зиму горница не проветривается. Дух в ней стоит исконный, густой. Из неплотной створчатой двери идет смешанный запах овчин, квашеной капусты, кизячной топки и застарелого, въевшегося в одежды человечьего пота. Передний угол с протемневшими иконами и только с одним моложавым образком, беленая кирпичная голландка с открытым прокоптелым жерлом без затворки, за голландкой — дощатая настилка для лежанья, с кошмой и бараньими тулупами в головах. Это настоящее — то, с чем живут.
Савелий Максимович, хозяин, хоть и хмурился, когда нежданные наезжие люди внесли в парадную горницу суматоху сор, раскидали по полу сапоги и тулупы, сидел в ней теперь как-то охотливей, вольготней, чем всегда. Был он прижимист и негостеприимен. Достатком своим, уцелевшим после всех потрясений, без надобности хвастаться не любил. Еще спозаранку, убоявшись бурана, завернули к нему с дороги на базар двое старых его знакомцев. Один из них, Леонтий Кудашев, человек в нынешнее время сильный — председатель Совета здешней волости. Другой тоже очень полезный — прославленный в округе пимокат. Для них Савелий Максимович распорядился согреть самовар, но угощал их все же вместе с собой в жилой, семейной половине.
В ночи нанесло Алибаева с обмороженными. Косоглазый распорядился в дальней горнице их на отдых устроить. Савелий проживал не в алибаевской волости, но знал его силу во всей округе и опасался. Алибаев как-то грозился и в чужих волостях переворошить «амбарушки». Савелий этих угроз опасался, при встречах старался задобрить Григория и теперь подчинялся его распоряженьям. Возились с его спутниками долго. Всей семьей растирали, согревали, отпаивали самогоном и чаем. Шурка и высоколобый лежали на двух перинах на полу. Высоколобый крепко спал, а Шурка затихал лишь временами, ненадолго. Сильные боли в теле нагнетали на него бредовые жуткие виденья. От физической маеты и от страха он стонал и метался. Степаненков, с лоснящимися от гусиного сала лицом и руками, вытянулся на диване у стола. Он часто открывал глаза, но взгляд его был блаженно-туп. Он не слышал ничего, кроме своего сладостно отдыхающего тела. Алибаев уже успел отлежаться. Он взбулгачил не только Савелия Максимовича, а всю его семью. Посылал его сыновей во многие дворы и добился, что снарядили верховых искать в степи заплутавшегося Краузе. Теперь, голый до пояса, сидел на полу, поджав под себя крест-накрест ноги, топил соломой голландку От ярких вспыхиваний неподвижное лицо его казалось позолоченным тусклой позолотой, как у идола.
Буран все не затихал. От налетов ветра гудели порой стены. В замерзшие окна швырком ударялся снег. Час был уже поздний, полночный, а в горнице и в другой половине избы еще не спали взбудораженные люди. Пимокат сидел на припечке, свесив ноги, а Леонтий Кудашев — рядом с Алибаевым на полу перед голландкой. Он, лукаво усмехнувшись, обратился к хозяину:
— Что вздыхаешь, Савелий Максимович? Гостей считаешь? Подвезло тебе сегодня.
Савелий знал, что Алибаев с нестоящим городским народом не станет валандаться. Знакомство в городу ведет только с начальниками. Поэтому ответил сдержанно, но достаточно приветливо:
— Гости на гости — хозяину радости. А кто это с тобой, Григорий Петрович, вместе в беду-то попал? Чем в городу занимаются?
Алибаев усмехнулся:
— На ночь не стоит сказывать. Завтра весь их чин обозначится.
Савелий насторожился.
— О-о? Вона что!
— Да ты сиди спокойно, не ерзай. Тебя это не касаемо.
Кудашев весело засмеялся.
— Этот, на диване-то, знакомец мой. Мы с ним пространно беседовали. Только он в нездоровье сейчас, потому и не признал меня.
— Где же это ты с ним обзнакомился?
— А когда в Чеке шестнадцать суток сидел. Кудашев легко поднялся, пошел за кисетом к столу.
Был он сухощав и легок на ходу, очень моложав для своих тридцати лет. Алибаеву понравилось его чистое, выбритое лицо и светлый взгляд, оттого он живо заинтересовался.
— Я про тебя что-то мало слыхал, а то всю округу знаю. За что же это ты втепался?
Дверь приоткрылась, и в горницу вошла высокая русая девушка. Она сильно покраснела, встретив взгляд отца.
— Я за тулупом, папаня. Одеваться нам.
Алибаев приметил, что необычно для буднего дня она старательно приодета, причесана с гребенками в закрученных волосах и, отвечая отцу, быстро метнула взгляд на Кудашева. Он оглядел их обоих засветившимся взглядом, когда Леонтий торопливо проговорил:
— А вы посидите с нами, Анна Савельевна Все равно скоро верховые приедут, разбудят. Мы вот тут беседуем…
Савелий неласково перебил:
— Спать ей пора. Чего она к нашей мужиковской беседе пристанет. Иди спать, чего болтаешься? Завтра не добудишься.
Девушка покраснела еще сильней, вытащила с припечки из-за спины пимоката тулуп и ушла.
Кудашев поглядел ей вслед, кашлянул, закурил вертушку, стесненно, нарочито небрежно вымолвил:
— Вы, Савелий Максимович, по старинке дочерей ведете. В городах, особенно в нынешнее время, они не только в разговоре — и в делах участвуют, так сказать, во всем рука об руку с мужчинами. Отчего же с нами и не побеседовать бы Анне Савельевне в нашей беседе?
Савелий, отведя глаза в сторону, строго сказал:
— Девка беседовать может только с матерью да с подружками. Замуж отдадим, тогда с мужиком побеседует. Тетерь не дозволяю и на улицу играть, и на свадьбы гулять не пускаю. Шибко озорной народ нынешний.
Кудашев вспомнил, что Савелий, по рассказам, сам смолоду через край озоровал. И в здешние края попал по уголовному делу Срок отбыл, общество его не приняло обратно на родину. Оттого и осел здесь, женился, добро нажил, теперь славится своей степенностью и строгой повадкой. Хотел было Леонтий намеком уколоть, отомстить за свое неприятное ему смущенье, во сдержался. Насупившись, зашагал по горнице. Алибаев с большим душевным интересом следил за ним. Но когда Кудашев оглянулся на него, он отвернулся и равнодушно сказал:
— За что же тебя шестнадцать ден в Чеке держали?
Савелий Максимович отрывисто засмеялся. Точно глухо пролаял. Но проговорил без улыбки, неодобрительно:
— Начальник на начальника наскочил. Ну, вы беседуйте, а я пока пойду посплю. Чать, к свету, не раньше верховые вернутся. Ишь ты, гудет как! Свету, чать, не видать. Разбудишь меня, Григорий Петрович, коль спонадоблюсь.
— Ладно.
— Да вы бы тоже ложились. Чего…
— Керосин жалко? Если из городу вызволюсь, пришлю тебе из своего запасу.
Савелий приостановился.
— А ты как же в город-то?.. Не по своей разве воле? Опять везут?
— Иди, иди, спи, обо мне не печалься.
— Да об тебе чего печалиться! Ты заговоренный. Смерть-то тебя, не знаю, какая забрать может, не то что начальство.
И он, тяжело ступая, вышел. Стены ныли, гудели от ветра. Сухо ударялся швырками снег в стекла. Раза два громко вскрикнул и забормотал Шурка.
Алибаев подбросил в печку новую охапку соломы.
В горнице стало жарко, светло. Оттого что за стеклом бесновалась метель, казались жар и свет троим неспящим особенно дороги. Они расположились рядком. Пимокат лежал на животе, покашливал, почти не вступался в разговор. Большими печальными глазами глядел на огонь. Лицо его, уже сморщенное, с седоватой реденькой бородкой, сделалось наивным и теплым. Обычно он мешал всякой беседе желчными придирками, недобрым смешком, назойливым приставаньем, похожим на немощную злость хилой беззубой собачонки. Кудашев на него взглядывал не раз с ласковым удивленьем. Все трое, случайно столкнувшиеся у одного огня, под защитою одной кровли, надежно укрывшей их от лютого вражьего дыханья стихии, обрели редкую радость душевного большого сближения друг с другом. Каждый ощущал хорошую человечью заинтересованность разговором, мыслями, судьбой другого. Кудашев неторопливо рассказал о своем аресте.
— …Явился, значит, этот хлыщ к нам, зареквизировал во всех дворах тулупы и полушубки. Я гляжу — дело-то плохо, населенье волнуется. Взял да у себя в волости его заарестовал, полушубки назад роздал. Незаконно он действовал, после все выяснилось. Да если бы еще обидел вот Савелия — дело десятое, а то обобрал и правых и виноватых. И для себя лично, главное, много нахрапом приобрел. Ну, а у него мандат, — в волости-то испугались. Значит, его освободили, прямо, можно сказать, отбили, а на меня — донос. На их донесенье из города приказ меня с помощниками моими арестовать. Даже подводы не дали, пехом в город пригнали. Отсидел я, значит, в Чеке в общем номере шестнадцать суток, пока дело разобралось. А потом — как в кадрели — он туда, а я сюда, на свое место.
— Что же, не обиделся ты? Не взбунтовался?
— Обиделся было, да одумался. Дурость и лиходейство, товарищ Алибаев, как дурная трава, меж хорошим из земли прут. Плохо, чего скажешь? Нехорошо. Я, как из Франции из плена бежал, сильно к большевикам стремился. Думал тогда, что у нас все хорошо, все без задоринки, а увидал много плохого. Ну, все-таки не забуду, как я к ним через страсть бежал. Добег — не уйду Я вам так объясню: вроде как через те трудности кровная моя семья стали большевики. В другом месте я чужак, а здесь все свое. Где и засмердит, да ведь своя болячка, не отплюнешься, лечить станешь.
Он подробно рассказал, как бежал, три раза был возвращаем назад на тяжкие штрафные работы, наконец, все же пробрался через Швейцарию в Россию. Перед его глазами вставали картины чужеземной жизни, теснились воспоминания о событиях, разговорах, городах, горах, морях, пережитом отчаянье и ликованье. Полоненный ими, говорил затрудненно, теряя нить, но с огромной сердечной горячностью. Потом пимокат медлительно и печально размышлял вслух:
— Трудящему, если он не пьяница и не ленив, жить всеща можно, даже при нынешней скудости. Одно беда: доктора хорошие почти все с буржуями убежали. Как я захворал, не умеют помочь. Сколько добра в городе пролечил, а все перхотка грудь сушит. Ничего мне не мило. Я и не разбираю, плохи ли, хороши ли нонешние правители, вот ученых у них мало — это плохо, доктора нестоющие… До войны у нас один в Киргизии своей киргизской молитвой хорошо грудной боли помогал… А что, Григорий Петрович, ты ведь киргизского рожденья и теперь водишься с ними. Дознайся, пожалуйста, куда сгинул этот знахарь, хромой Шишингара. Я и за сто верст к нему доеду!
Кудашев перебил:
— Правда, значит, вы из киргиз? Лицо ваше действительно выдает вас.
— Что рожей, что кожей в папаню мать меня выродила. Мое рожденье очень даже занятное.
Алибаев взглянул на Кудашева невидящим, зачарованным далеким виденьем взглядом.
— Нонешнюю зиму часто сны мне на вспоминку снятся. То самого себя мальчонком вижу, то привидятся мать с отцом, коих и не видывал, какие из себя были. Родительницу-то видал, да глаза у меня тогда еще были молочные, незрячие. Всякое, все из дальнего, как у старика, на ум во сне находит. По примете у нестарого человека это к смерти бывает. Во сне душа прощается, печалуется, глядит, где ходил, чего видал, слыхал человек. Эта девчоночка русявая тоже расквелила, кой-чего напомнила. Страдашенька твоя, кажись, Кудашев? Ну, ну, хоть отец буржуй, отца и по шеям можно. У меня вот такая же была… Похожая. Да. Вьюшку-то засунь, Кудашев, прогорело, а то выстынет. Рожденье мое удивительное, с другими несходное.
Уставившись неподвижным взглядом в затухшее успокоенное жерло голландки, он рассказывал неспешно, по-крестьянски строго, постепенно, по годам, от начала, будто раздумчиво проходил по старой меже.
— …Девушка православная, значит, она была, а в голодный год кыргызин ее накормил и всю семью ее вызволил. Она с тем кыргызином и слюбилась. Увез он ее к себе в кочевку Детей народили. Ну, а в Александровке-то в это время главный миссионер проживал, чтоб окрестных кыргыз в правильную веру приводить. Настойчивый, достойный был человек, в своем деле ретивый. Много кыргыз покрестил. Ну, к слову, после голодного году, как скот перевелся, они надолго затощали. Охотой множество в православную веру обращались. Для новокрещенцев начальство новый поселок устроило, избу каждому давали, лошадь, корову и хлеба на первый запас. Сам губернатор с иконками их благословлять один раз наезжал. Плохо ли? Гуртом крестились, семьями, а в избах маханину жрали, по-кыргызски разговаривали и Магомета и Николая-угодника равно почитали.
Чать, и посейчас так живут, не обрусели, коли не разбежались. И тогда, летами, на траву, в кибитки, много убегало. Ну, а поп этот, миссионер старший, видит — много кыргыэья крестится, еще ретивей стал. Как же, мол, так: тут неверные стадом к православному Богу валят, а тут вон какой случай! Мать моя, женщина правильной веры, с кыргызом сошлась, детей народила от него, их не крестит и сама от своего Бога отшиблась. Сейчас, значит, мать под стражей — к попу.
В страду с поля взяли. После голоду кое-кто из кыргыз сеять зачал, русские бок о бок — обучили. И родитель мой, нехристь, тоже. Может, мать его, по крестьянской своей навычке, на хлебопашество натолкнула. Приволокли ее к миссионеру на кухню. По обряде кыргызка, но по-русски чисто говорит. Ребятишки чистокровные кыргызята, прямо неподложные. Девчонка старшенькая еще кой-как слов с пяток русских прохныкала, а мальчишка-пятилеток одно — горлом по-кыргызски булькает. Одежу на их расстегнули, глядят — крестов нет на шее. Все это, что рассказываю, после от людей слыхал. Сам не видал, мной мать на сносях была. И те, старшенькие, сестренка с братишком — люди после сказывали мне — тоже были, как я, в отца, чернущие, кривоногие. Орут, лопочут, трясутся. Мать на полу на коленках елозит, ноги поповы ловит, слезами половик заливает, приподымется, крест на своей шее за гайтан дергает, показывает — не сменила, мол, веры, по-православному молюсь, за грех с иноверцем сама отмолюсь, перед богом буду маяться и каяться, не карайте по людскому закону Через слезы кричит: «Хучь кыргыз, хучь поганый, для православного с собакой вровень, а мне дорогой! Смилуйтесь! Отец моим детям, а мне и без божьего благословенья муж. Не разлучайте! С грехом он меня не неволил, сама согласье показала. От смерти он меня вызволил. В Киев, в Ерусалим пешком на богомолье схожу, не отымайте у его детей, он к детям приверженный».
Поп головой мотает, перстом на икону кажет. «Нельзя! Сама в грехе смердишь и детей от Бога уволокла. Бог не дозволяет, царь не велит».
Закон тогда такой был: из православья дозволялось переходить только в немецкую веру ну они тож Христа признают, а если к Магомету или в жидовскую — нельзя. За это в тюрьму Разъясняет ей поп этот закон, заморился сам, аж губы побелели. Когда у бабы мужика желанного отбирают, ее законом вразумить так же трудно, как волчицу взнуздать. Кланялась, плакала, молила попа, да вдруг подтянула живот и, как кошка, прыжком на него, взвизгнула да в космы ему вцепилась. Народ та кухне толпился. Кинулись пастырю на подмогу. Что ж ты думаешь, как озверела баба! В тягости, а немало повозились с ней, пока скрутили. Заперли ее в поповой бане» во дворе. Вдруг стражник бежит: «Так и так, ваше благословенье, я к этому делу несподручный, что теперь делать? Баба родит, очень мучается».
Поп рукой отмахивается, слушать про женское безобразие не может, а попадья сжалилась. Послала стряпку за старушонкой-повитухой. Та пришла, помолилась перед иконой, посомневалась, но все-таки сдалась. «В грех ли, во спасенье ли выйдет, говорит, а потружусь около поганого брюха. Куда же бабе деваться, коль час пришел? Чать, Бог меня за это не завинит».
Эта бабка, повивалка моя, долго жила. Как я большеньким стал, она часто мне говорила: «Под веселым боговым глазом мать тебя зачала, не доглядел, что от нехрещеного, в сорочке сын родился. Будет, значит, тебе сладость в жизни, терпи, дожидай, обязательно будет. В сорочке на счастье рождаются».
Ну, сорочка-то мне не сильно на подмогу. Мало меду хлебнул. Мать меня хоть и у православных, но чужаком кинула. Над горькими ее родами попадья шибко разжалобилась. Умолила попа, привели к ней в баню братишку с сестренкой моих. А может, базлали через край, допекли всех в дому Только и стражу от бани сняли. Осталась на ночь одна мать с детьми. Бабка тоже не поохотилась в бане ночевать. Ушла домой и меня с собой унесла, чтоб не придавила родильница в метаньях. Она, и разрешившись, не успокоилась. Все стонала, на банном полку с боку на бок перекидывалась. Да середь ночи, видно, опамятовалась и убегла вместе с детьми. После дознались: родитель мой, кыргыз, чисто кулик, потеряв птенцов, без ума по селу на коне кружил. Может, встрелись, вместе убегли — не знаю. Посланные на другой день от кибитки отцовой ничего не нашли, только угли от старого костра. Слух был, что отец в другую степь укочевал, а мать будто тут же после побега вскорости кончилась, — не знаю. Я вырос мирским дитем, молоко грудное и то не от одной женщины принимал. По очереди кормили меня грудью жалостливые бабы, которые кыргызским моим обличьем не требовали. Греха не боялись, в церкви меня по-православному крестили. Даже к благородным в родню из купели попал: становой пристав крестным был, а матерью крестной сама попадья. Эй, други, не задремали? Дальше сказывать? Могу — разохотился.
Дивно самому: чисто со стороны, как другой человек жил, поглядываю. Ну, значит, при крещенье назвали меня Григорьем, по крестному величанье записали Петрович, а чтобы помнил грех рожденья своего, кыргызскую фамилию дали от родителя. Звался тот кыргызин Алибайкой. Я от него по свету гуляю — Григорий Алибаев. В зыбке качался я у бабки-повитухи в избе, на ноги твердо встал, разуметь все вокруг зачал, то есть лет пяти эдак от рожденья, к попу на кухню жить перешел. К гостям в праздники и на именины меня выводили показывать. Миссионер рассказывал, как Господь чудесно меня удержал в православии и не дал матери с собой унести. Купчиха Тимонина слезы платочком вытирала, давала мне конфетку и по головке гладила. Спал я на плите, оттого что кухня была холодная, а плиту топили часто. Поп лапшу с бараниной с варку любил. Жилось мне хорошо, сытно. Но только крестный становой на меня позарился, выпросил у попа себе. Стал я спать у стряпки станового на кровати. Она меня на сон часто ругала поганцем, потом наваливалась на меня, и спалось мне опять тепло, хоть еда давалась паскудной поповой. Становиха была об хозяйстве рачительна, скуповата. И здесь на именины меня гостям казали. Только у попа я «Отче наш» читал, а здесь меня выучили петь «Ах мороз, морозец» и плясать русскую. Один раз, на Святках, сплясал, спел — и мировому судье приглянулся. Он меня у станового в карты выиграл. Раньше, сказывают, крепостных так-то выигрывали, ну я не крепостной был, а еще хуже — ничей. Кто взял, тот и над душой, и над телом хозяин был. Вот и перешел я на десятом году возраста от станового к мировому Шибко плакал, вспоминаю. С теплой стряпкой, чисто с матерью, жалко мне было расставаться. У мирового, если вспомнить по совести, тоже мне неплохо жилось, а сердце щемило. Сажал за еду он меня вместе с собой. Не семейный, скучал. А спал я у него по-барски, на диване. Разговаривал он со мною мало, разглядит когда меня. Глаза у него все мутные такие были, чисто спросонок. Пройдет мимо или даже прямо на меня глядит, а не видит. Дак вот, когда разглядит, засмеется, ткнет двумя пальцами под ребро: «Живешь, Магомет?» «Живу», — отвечаю. И весь разговор. А больше мне и делать у него нечего. Заскучал я. Все-таки я бы жил у него, не убегал, кабы не напугался. С неделю я у него прожил, как он меня зовет к ему в спальную. Вхожу — он в подштанниках, собирается спать укладаться. Говорит со мной, об чем — сейчас и не помню, говорит, а сам перед зеркалом сидит. Я гляжу за его спиною в зеркало и вижу: зубы вынул, в стакан поклал. Потом все волосы с головы правой рукой снял. У меня сердце взвилось, сроду этакого дела не знавал, чтоб зубы вынуть и волосы снять можно было! А он тоже в зеркало-то увидал, что у меня морду от страха-то перекосило, взял да нарочно, чтоб еще больше напугать, схватил себя за обе щеки да голову обеими руками тихонько двигает. Я думал — он и голову отвинтить может. Заорал благим зевом — да из спальни, из дому дирака. Так напугался, что и темень не в страх! За село убежал и не вернулся туда больше. Наутро к нищему странничку пристал. Разговорчивый попался, от испуга меня разговорил. С ним уплелся верст за тридцать. Только скоро ходить и канючить милостыньку надоело. Взял да в селе Скоробогатовском отстал от старика. Ну под крышу к кому-нибудь приютиться надо. Хоть летнее время, а чем же пропитаться мальчишке? Кружил, кружил по селу, дело к вечеру Идет мужик по дороге. Поглядел на меня да засмеялся: «Откуда, говорит, ты, косоглазый?» Я молчу, а сам за ним чисто собачонка присталая плетусь. Шел, шел я за ним да заплакал. Кишки от голоду щемило. Он не отругнулся, пожалел. «Ладно, говорит, иди за мной, накормлю». Я за этим хозяином своей волей пошел и уходить из его дому наутро не схотел. Баба его поленом меня выгоняла. Ушел да опять на двор вернулся, под крыльцом у них переспал. Утром ребятишкам своим велела согнать меня со двора. Побили, поцарапали — убег, а к ночи опять к ним. Ругалась, плевалась баба, била меня, а потом — ничего, привыкла. Заставила воду в баню больничную носить. Этот хозяин-то мой при волостной больнице сторожем служил. Больница не по-городскому, знамо, устроена, попроще. А в баню на задах сторожиха пускала париться мужиков, которы от дурной хвори лечились, по-нынешнему называют — венерических больных. Сторож требовал их парить, а я парил, спину вехоткой смывал, мазями мазал. Они мне за это по пятаку с тела платили. Доход сторожиха получала. Ну, ничего, годов пять, не меньше, я у них прожил, и потом с чего-то тоска меня взяла. Обмываю язвенных, а самому плакать и блевать охота. Закручинился чисто большой. Да уж шестнадцатый год, из отроков в парни одна ступенька, понимать научился. Обижаться на свою долю стал. От обиды поп и становой с мировым издаля родней показались. Задумал я опять назад к ним. Затосковал, закручинился, дальше — больше, невтерпеж. Тянет меня в Александровку. Как-никак — родина! Ну что же, побег на место рожденья. Побирался, тем и кормился дорогой. Народ тогда поротозеистей, помилостивей был. Везде подавали. Ну, пришел — здравствуйте. А с кем здороваться? Мирового паралич разбил, попу повышенье сделали, в большой город перебрался, становой цел, на том же месте, я к нему и объявился. Он ничего — засмеялся, признал. Говорит: «Ты как же без документов, бродяга, шатаешься?» Я оробел, говорю: «Мне документ не надо, я у вас желаю проживать…» Он смеется: «Ишь ты, ласковый какой! На что ты мне нужен?»
Документ мне выправил, а у себя держать долго не схотел. «Дочери, говорит, у меня в возраст входят, а с тобой играют, на россказни на твои уши развешивают, все в кухне трутся. Ты кыргызское отродье, кровь в тебе разум перешибает, и попадет одна из двух какая в беду с тобой». Вроде этого высказал. Умный был, доглядчивый. Распаляться-то на баб я, правда, рано зачал.
Ну Тимонину, Ивану Филипповичу, торговцу, меня скачал в лавку в подручные. Чтоб сласти не таскал, в первый же день хозяин до хвори пряниками меня обкормил. И посейчас я пряники не уважаю — так объелся тогда. Ну, на этом месте долго задержался. Хлопотно, да сытно. Одежей хорошей я тогда завлекся, справить ее порешил. У купца легче ее выслужить, чем у других хозяев. Жалованье мне не полагалось, но за старанье матерьем на одежу к праздникам дарили. Об одеже старался, чтоб баб примануть. Обличье мое было для них неприятное. Думал — оденусь, которая-нибудь и поглядит поласковей. Стряпка с нижней кухни меня ублажала, ну, собой такая, что и я только зубы сожмя с ней грехом занимался. Лет за сорок, рябая, и на лбу шишка кровяная вроде кисты — бородавка, что ль, эдаким красным бугром разрослась. Я хоть и кривоногий, а телом крепкий, настоятельный. Опять же сердцем дурной тогда, ласковый был. Залюбилась мне шибко девушка одна, сестра почтового начальника. Из себя она тогда была крепенькая, белая, русоволосенькая такая. Сразу, как увидал, чисто родня мне сделалась. Вот волос-то у нее такой же был, как у этой Аннушки у твоей, Кудашев. Да. Все об ней пекусь, думаю, что бы для нее хорошее сделать. На почту — надо не надо — бегаю. Как гривенник какой лавочник в хорошем духе кинет мне, я сейчас марку покупать. А куды мне ее? К чему прилеплять? Ну, деньги не часто перепадали — за маркой на неделе два раза не побежишь. Помогло вот что: лавочник «Сельский вестник» — газету и «Родину» — журнал выписывал. Я в это время самоучкой читать мало-помалу научился. Потому загла-вья помню. Ну, бегаю год, бегаю другой, девчонка-то подалась. И косоглазый, и кыргыз, а поглянулся ей, привыкла. У брата-то она заместо стряпки при его жене и нянькой при детях. Занятья не господская, с моим ровная. А брат узнал про наше согласие, обиделся. Все-таки по рожденью ему сестра. Лучше в девках при семье в вековушках засолить, чем за работника отдать. Порешили с женой Фросю к тетке какой-то в другое село на время отослать. Почты начальник моему хозяину пожаловался. А у того после празднику престольного от перепою дурь из головы еще не вышла. «Выкради девку, говорит, заплачу за венчанье, улажу. Я его не люблю, брата Фросиного то есть. Невелик господин, а неуважительный, пусть от обиды покорежится». Ну, так и сделалось, обвенчались тайком. Купец-то после очухался, сердился, чуть нас со двора не согнал, да ничего — обошелся. Сильно я для него в работе жилился. Оставил у себя деньги, на свадьбу затраченные, отрабатывать, подарков всяких лишил. А Фросю в чистую кухню на подмогу для ихней стряпухи поставили. Спали мы с ней в холодной кладовушке на дворе и летом, и зимой. Ничего, молодые, горячие, не застыли. Только через год дите родилось, хозяева велели Фроську с младенцем куда хочу а из дому убрать. Ну, в ту пору как раз мой мед-то я и хлебал — все удавалось. Министерской школы заведующая, старая девка, а добрая, Фроську с дитем в сторожихи приняла. Впервой родня-то у меня на Земле объявилась. Каждый час к им тянуло, а со двора хозяин раз в неделю на одну ночь отпускал. Горячий я, ослушивался, — выгнал он меня. Но через три дня назад воротил. Выгоден для него я был, только за пропитанье работал, а старался во все силы. Воротил и даже жалованья три с полтиной в месяц положил и к праздникам опять подарки.
Это я уж зауросил, плату запросил. Прожили так три года, еще девчонка у нас народилась. В солдаты меня забрили. М-да, солоно показалось! Что ж, угнали. Я убечь думал, Фроська остерегла: «Меня с детьми, говорит, загубишь, протерпи службы срок». Терпел, письма бабе своей такие отписывал, что учительница плевалась. Написала мне, что читать Афросинье письма мои не будет, если нежности всякие не перестану расписывать. Чисто, мол, не жене законной пишешь, а игральщице. Эдак другие солдаты не пишут. А я не с похоти, с тоски ласкался. Опять чужаком в ярме, много ли со своей семьей поутешался? Дальше-то все под гору, годами старше, а житье мое хужей. Войну объявили, домой-то со службы я не попал. В отпуск, как вышло, не пошел. Маленько поздно вышло-то. Письмо-то у меня в кармане уже поистерлось. В нем учительница отписывала, что Фроська от застуды померла. Кашлять она, еще когда у лавочника оба жили, почасту закашливала.
Оттого, дескать, и застуда до смерти вредная ей пришлась, на кашель-то. Чего же? Башку разбить хотел, думал — в мозгах поврежденье произойдет от огорченья. Ничего, отдышался. И об детях сердцем обмирал, а в отпуск не схотел идти. Без Афросиньи и дети только горе растравят, не могу без Афросиньи с ними быть, и они без нее не в радость. Учительница при себе их оставила. Другие старые девки к собакам, к птицам, к кошке за утешеньем, а эта к моим детям еще при Фроське сердцем прилепилась. Пишет — не в забросе они. Да и пособье на них за меня шло. Дернул я себя за космы, стукнул башкой об кулак, отказался от увольнения в отпуск. А после на фронт в действие попал.
Ну, об этом чего рассказывать? В каждой семье от сыновей знают. Меня не убили, обстоятельно даже не ранили, одно пустяковое было поранение. А все-таки я другой стал. После хвори так бывает. Не то повредился, не то через край выправился. Страх потерял. Себя не жалко, и ничего не боюсь. Без страху человеку вредно, невеселое сердце в человеке, когда ничего не боишься. Чего там было бояться? Смерть каждый день обок караулит. Случай намахнет — не открестишься, не отлютуешься. Трясись не трясись, никакого трясенья на года не хватит. Человека обидеть не жалко. Чего его жалеть? Может, он здесь останется, а ты завтра вытянешься без всякого шевеленья. Добро копить неохота, да и не заберешь с собой. Мы там грабили без острастки, а куда оно, награбленное? До дому не сохранишь, да чего домой унесешь? В брошенных усадьбах посуда там всякая, креслы, рояли — их не унесешь. Золотые побрякушки — это чинам повыше доставалось. Одежу? Куда ее наберешь? Узлы с собой в переходы не попрешь. Заразным девкам раздавать, ну их… Поглядишь, пораздумаешь, да там же на месте об пол трахнешь, разобьешь или подожгешь. Ничего не жалко и ничего не страшно. Как свободой нас поманули, я не от страху убежал с фронту а скушно, от тоски сбег. Которые солдаты орут, радуются, а мне скушно. Про ребят вспомнил. Подумал — может, около них, за ихние головы устрашаться чего начну Сон у меня нехороший сделался. Ну, отосплюсь, думаю, в избе домашней, детей разгляжу и, может, тогда для себя чего-нибудь зажелаю. Детишки это… глазенки у них уже со смыслом. Ладно, щипануло за сердце. А все скушно, и сон все нехорош: ни ухо, ни голова не засыпают. Только что глаза заплющишь, а все одно денное все в мыслях явственно. Охота мне растревожиться, на сходки на свои хожу, в город на митинги, ораторов слушаю. Потом зачал я во все партии в политические записываться. Потолкался и в народной свободе, и в есерах, и в меньшевиках, после к большевикам пристал. В программы я не вникал, народ глядел, искал, какой по сердцу больше придется. С большевиками позадержался покрепче. С ними позанятней, пошумней. В Александровку вернулся, первым делом за Тимонину лавку Потрясли мы с товарищами хозяина. Из добра из его я себе довольно нагреб, — а на кой? Дети еще невелики, корысть к добру всякому в них не упорная. Погалдят в новинку да и забудут. На кой вся та прибыль? Гомозился я все-таки с политикой, состоял во многих в председателях. Ну, не с весельем, а так, на время хорохорился. Ладно. И к детям я ни так, ни эдак. Отвыкли, что ль? Не льнут ко мне. За конфетки только ласкаются, пропаду — не заплачут. Эта старая девка-то, учительша, меня, чать, переживет. Еще крепкая. С ней свыклись. Чужая, а им вроде своей, ближе меня, родителя. Ну, чего же? Незачем отец им. Я даже злобиться на них зачал, еще больше отпугнул. Колчак их со мной развязал. Как он воцарился, в Алтайскую губернию я подался. Там с партизанами стакнулся. Ладно, хлебанули всякого. Врага не жалели. На той войне, на царской, я вроде не ярился. Убил если кого, так не видя попал. А тут морда к морде. С прохладцем убивал, с выдумкой… Всякое бывало. Ну, меня там знают. В Иркутской губернии тоже. Ничего, в тое время ровно оживел, тревожился. Когда наша власть верх повсеместно взяла, я, значит, опять в Александровку. А чего делать? Опять нету спроса на бесстрашье на мое. Дом хороший занял. Тимонина, лавочника-то, благодетеля моего. И его же младшую дочку за образованность и за веселый голос в гражданские жены к себе присогласил. А к детям в школу вроде как на свиданье только ходить стал. Не умею с ними обходиться, чего-то у меня неладно все выходит. С другими приятный часом все-таки бываю, а с ними все с натугой. Ну ладно, житье привольное, с частой выпивкой, завидное, сытное. Люди со страхом предо мной, с почетом, значит, ко мне. Клавдия, жена гражданская, горяченькая, сладкая. Я на это дело спорый. Всякую бабу привечаю. И с Клавдей ничего, часом даже по-хорошему, добрый бываю. Только ненадолго. Баба ко мне все вяжется такая, что на часок один мне своя. После супруги моей Афросиньи Николавны, покойницы, ни одна не жена, так — только на срок утешницы. Ну, так чего же выходит? Ни к чему у меня жаркости нет. Со стороны посчитать — много за мной числится, а по-моему — ничего у меня нет. Заскучал я, запивать шибко стал. По месяцу бывает, закручиваю. Ем мало, все пью, пью, Прошлый месяц из глотки печенку кровяную выблевал, перегорело от вина в нутре. Ну пьяный шарашусь, нехорош, шибко бесстыж случаюсь, дан, чтоб дети мои меня в это время не видали, запой отбываю в Каин-Кабаке. Место самое подходящее. Народ тамошний глухой, ничем не удивишь и не разжалобишь. Слышьте, друзья, там на весь хугор только два человека веселых: гулящая солдатка Марья-песенница да дурачок один, сказки умеет сказывать. Ну, Каин-Кабак мне еще и для другого дела сгодился. Ладно. Никак, на дворе тишает? Айдате-ка прогуляемся, поглядим. Все поснули, надо, чать, и нам укладаться.
Степаненков приподнялся с дивана на локтях, озираясь по избе проясневшим взглядом, спросил:
— Алибаев, ты куда?
— Чего, до ветру провожать будешь? Погоди, в городу еще напровожаешься. Вернусь, не бойся.
Метель стихла. Негусто сыпались нестрашные пухлявые последние снежинки. Проглянуло мутнеющее предрассветное небо.
Кудашев, поеживаясь от холода, спросил:
— А сейчас-то вы по какому делу арестованы?
— Погоди, коня погляжу. Иди в избу, вернусь, доскажу, коль дослушивать охотишься.
— Да я с вами пойду… Помогу.
Когда, потушив свет, они трое улеглись на кошме, на полу, Алибаев досказал:
— Как-то вечерком поздненько заходит ко мне церковного старосты сын, приятель по выпивке. Мямлил что-то, тянул тянул, все на меня взглядывал. Потом и говорит: «Гриша, нет ли у тебя бомбы?» — «Есть, отвечаю, а тебе зачем?» — «Надо», — сказывает. Подпоил я его, он выболтал все. Плачет по-бабьи, жалится, открывается мне: в заговоре против советской власти запутался. Теперь охота на попятный, да боится. «Одного, — канючит он мне через слезы, — отравили, как тот помогать отказался. Ветеринар, говорит, у них один в компании, яды достает. Обязательно отравят». А эдакому дураку винтовки и бомбы доставать поручили. Ну, думаю, заговорщики, а все-таки взбодрился. Мое дело такое, в драке вольготней я дышу, втянулся в драку. Дальше — больше, согласился я, стал на потаенные свиданья в разных уездах являться. Крестьянское восстанье они подымать задумали и по Сибири много насбирали в разных уездах согласников. И в Барабинском, в Омском, в Новониколаевском и Петропавловском в уездах. В которых селах по двадцати наших, а в которых пять, четыре и по одному было, всего довольно понасбиралось. Задумали с казаками сибирскими сосвататься. Главарей у нас двое было, оба с небольшим образованьем. Один бывший прапорщик, другой — служащий кооперативный. Так, невеликое место занимал, — с мелкой закупкой по деревням ездил. Оба в разных городах под чужими фамильями проживали. С одним и баба его, девица из высокоблагородных, вместе действовала. Это все уж дознато, я при чекистах и рассказываю. Хоть и храпят уж, а может, который услышит. Ну ладно. Идет дело. Печать своя: посередке череп и кости, а по краям надпись: «Смерть изменникам». И знамя у ветеринара готовое хранилось — желтого цвета, черной бахромой обшитое. Когда к своему в дом мы входили, крестились на икону широким крестом и говорили: «Мир дому сему». А он должен ответить: «Смерть изменникам». Пароль вроде. Ладно. Народу понасбирали. Собрали отдельный особо независимый добровольческий отряд атамана Нехорошева. Надо было программу идеология это называется, придумать. А бес ее выдумает, идеологию-то, — это не наше дело. Думали Сибирь отдельным государством объявить, а чего потом — не знаем. Царя сибирского поставить охотников не высказывалось. Отвыкли уж от царя, кто и думал — сказать поопасался. Какое правленье — ни черта не знаем. Стали искать знающих людей. Нехорошее было есеров искал, ну дельных не нашел. Один подложный с нами позапутлялся. Вроде меня, во всех партиях перебывал. Ну, и чего же — гомозились-гомозились, а дела настоящего не выходит. Одна подготовка, а к чему — не знай. Мне надоело на образа креститься да «мир дому сему» буркать. Это не моя занятья. Отшибло меня, отравы я не боюсь. Перестал являться, куда указывали. На дело, говорю, зовите, голый разговор надоел. Ну, они и сами заторопились. Назначили день — двадцатого июня в прошлом году А мужики-то, согласники из деревень, подвели, на сбор не явились. Я не ездил, раньше вызнал, что дело рассохлось. Коноводы диранули в Ташкент. Чека их все-таки выискала. Один по одному имали, вот и до меня добрались, везут, Я их давно поджидал.
Он услышал около себя ровное сонное дыханье Кудашева. Ласково усмехнулся в темноте. С большим интересом слушал, а уснул, не дождался конца. Молодой, здоровый, тело долит!
Пимокат заворошился, спросил:
— Почему же ты не убег?
— Заарестоваться порешил. Много видал, всякого хлебова хлебнул, а в тюрьме еще не сиживал. Посижу.
— Да, оно, чать, не шибко сладко в тюрьме-то. А то гляди и к стенке припаяют.
— Оно, друг, мне сладкое-то не дается. А в тюрьме-то, может, мне как иному монаху в монастыре и поглянется. В какой-нибудь монастырь прятаться мне надо. Сын подрастает, сердится, жизнь ему моя не кажется. А прикончат — жалеть некому Ну, айда спать.
День встал сероватый и кроткий, будто пристыженный буйством вчерашнего. Пухлые свежие сугробы без солнца лежали мирно и бело. Верховые вернулись только к полудню. Ночевали в башкирской деревне. Они привезли закоченевший труп латыша. У Степаненкова сильно болели лицо и руки, но он встал раньше Алибаева и послал мальчишку хозяйского за волостным милиционером. Тот скоро пришел на зов и остался ждать в Савельевой хате.
Когда привезли тело Краузе, Степаненков позвал милиционера в горницу Потом сухо и коротко, глядя поверх его головы, приказал Алибаеву:
— Собирайся.
Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, усмехнулся и сказал:
— Слушаюсь. Теперь довезешь, не заплутаемся?
Отводя глаза, Степаненков оборвал:
— Не канитель, одевайся скорее!
Савелий во дворе запрягал для них пару своих лошадей. Увидев Алибаева, погрозил ему кулаком:
— Сволочь! Привез. Ладно, когда-нибудь, может, и с тобой посчитаемся.
Алибаев покачал головой. Сказал, ни к кому не обращаясь:
— Вот теперь уже я верю, что заарестован. Все без опаски надо мною начальствуют. А приветить на прощанье никого не находится.
Вдруг с крыльца поспешно сбежал Кудашев.
— Увозят? Ну прощай, Григорий Петрович. Набаламутил ты, а все-таки мне тебя чего-то жалко. Будь здоров. Слушайте-ка, Алибаев, в вашем деле с этим самым контрреволюционным нехорошевским отрядом случайно запутлялся братишка мой — Егор Кудашев. Он по глупости. Вы там напомните, чтоб меня в свидетели вызвали. Он зря попал, не так, как вы. Ну, ладно. Может быть, на свиданье к вам приеду.
Алибаев широко усмехнулся, крепко прихлопнул небольшой своей рукой руку Кудашева и тихонько сказал:
— А насчет Аннушки благословляю. Мне она глянется.
Степаненков сердито крикнул:
— Садись, Алибаев! Время.
Число взятых по делу о нехорошевской контрреволюционной организации все увеличивалось.
Крестьяне тюремное заточенье переносили тяжелей, чем горожане. Вынужденную физическую бездейственность они ничем не могли возместить. Большинство было неграмотно или не имело навыка к чтенью. Для последних смысл преодоленных тягостным чтеньем печатных строк ускользал, тонул в тумане бедных представлений, не связанных непосредственно с делом их рук, со всем насущным для них. Убить время на разговор друг с другом в общих камерах они могли в течение двух, трех дней. Больше не хватало ни слов, ни охоты на беседу На принудительные работы их не водили. Приближенье весны угнетало заботой о весенней пашне, о необходимости выбраться к посеву на волю, чтобы не схирела семья, не рушилось хозяйство. Стремясь вызволиться домой к нужному времени, они старались оправдаться, умолить, упросить власть, купить себе свободу любой ценой униженья и предательства. Каждый из них называл свое сельское общество огромным словом «мир», но мир этот, разбитый на мелкие участки отдельных хозяйских интересов, лишь редко и ненадолго ощущался ими как дыханье одного организма. Каждая клетка в давности приспособилась жить и отмирать отдельно, не нарушая общего теченья жизни. Выступивши скопом против города, крестьяне — только что их разделили при допросе — сразу распались каждый сам по себе, как колосья в развязанном снопе. Доказ, подозренье, ошибочные предположенья, прямая ложь, оговор — все сплелось в запутанную сеть их показаний. Начались новые аресты. Расследование затянулось. Взятые по одному делу узники ожесточались друг против друга все сильней.
Жители Каин-Кабака держались плотней, реже выдавали — оттого что меньше теряли от длительного заточенья. Это были люди, утраченные для мирного труда за годы царской и Гражданской войн. Хозяйство во время их отсутствия развалилось окончательно. Создавать его заново они не принимались. Единственным делом их жизни стало разрушенье. Семьи научились обходиться без них. Если жена сумела сохранить исконную домовитость, она добывала пропитанье и детям, ворочала вместе с ними трудную мужицкую работу, сетовала на мужа в горький бабий час, но беспокойного возвращенья его домой даже не желала. Бабы другого, легкого склада приспособились скитаться за мужьями. С нищим своим скарбом и с детьми ездили они в обозе в большевистскую войну. Перебирались в город, когда мужья попадали в тюрьму, попрошайничали, торговали собой, скупали и перепродавали старье на барахолке, посылали детей «в кусочки» по дворам, ухитрялись сами питаться, мужьям носить ежедневно передачу и покупать у податливых тюремщиков мирволенье мужьям.
Каин-кабакцы кормились неплохо, пользовались многими недозволенными поблажками, изнывали в заключенье не больше, чем на пересадке в ожиданье поезда хладнокровные пассажиры. От возможного смертного приговора их охраняло чернокостное происхожденье и соучастье с войсками красных в бою. Но вдруг, неожиданно для следственной власти, и они на допросах бурно разговорились. Сведенья, доставленные ими, были совершенно новы и для следствия важны. А сообщили их внезапно и дружно каин-кабакцы в отместку атаману Нехорошеву. Все это скопище людей, лишившихся в бессладостной своей судьбе чувств, дорогих человеку, ревниво лелеяло веру в свою боевую доблесть. Сомненье в ней было для них единственной незабываемой обидой. Атаман Нехорошее, разгневанный, что в назначенный день восстания в июне месяце каин-кабакские сообщники на сборный пункт не явились все, во главе с Алибаевым, сказал тогда:
— Алибаевская шпана только на дележку вылезает, а пороху боится. Хлипачи!
Случайно узнав о произнесенных давно, но навсегда оскорбительных словах, каин-кабакцы пробовали учинить самосуд над ним в тюрьме. Произвести его не удалось. Тогда они дружно принялись продавать властям Нехорошева с его близкими, всех вместе и в розницу.
Алибаев, равнодушно отказывавшийся от каких бы то ни было показаний, в последний раз на допросе тоже оживился гневом. Сказал следователю ни с того ни с сего:
— Я этому свистуну, как на суде встретимся, морду изнахрачу.
— Кому? Что такое? В чем дело?
— Атаману самозваному Только и знал, что штабы всякие из своих холуев собирал да по подложным бумажкам получал у ваших ротозеев деньги. Понасажали дерьма кассы хранить, а стараться не надо — сами в руки суют казну.
— Кто по подложным документам деньги получал?
— Кто, кто? Чего после время на стуле прыгать? Задницу зря обижаешь. Ты бы раньше к стулу-то не прилипал, поспел бы, может, на дело. Ленивый у вас только не получал, вот кто! Вот я не получал, — мне своего, с бою взятого, хватало. А этот ублюдок Нехорошее задается, ата-аман! Не знаю, аким местом атаманил, вашего брата только пугал. По привычке чужими руками хотел жарок разгрести, а как своими довелось, дак — ой — обжегся! Без памяти диранул, как заяц, за Ташкент, и след с перепугу не замел. Где в войну был, страдовал ли, это еще неизвестно. Молодец — на овец, а спроть молодца — сам овца.
— Вот что, Алибаев, я тебе предлагаю: перестань кричать. Расскажи толком. В ваших же интересах.
— Ты ко мне с интересом не лезь! Про интерес с Нехорошевым разговор заводи, этого укупай — дешевый. А меня не укупишь! Офицерская затычка, мокреть ихняя, смеет каин-кабакских партизан хлипачами обзывать. А он их в бою видал? А? Нюхнул он эстолько, сколь они? А? Да не вылупляй ты зенки, не трусись, я те не трону! На харчок вы мне нужны все вместе с вашим бобром захваченным, с Нехорошевым. Ты знаешь, Степан Красков на белую разведку напоролся, брюхо ему располосовали, кишки вывалились, а он с лошади не упал, ускакать сумел. Это тебе хлипач, а? К нам доскакал — кишки свисают, обомлел, язык поворотить не может. Я ему кишки в брюхо вправил, снегу в них для охлаждения понабил и кричу: «Говори скорей, сукин сын! Помрешь, не успеешь!» Сказал, место назвал, где встретил и сколько человек, только после этого кончился. Вот! Это мы вас эдак застаивали, дак неуж мы побоялись бы и против вас? А? Коли меж нами несогласье вышло, побоялись, думаешь, эдак же брюхом бы повернуть, а? Ты пошевели мозгой, после всей страсти какая еще нас присграшит? Нехорошее зимы испугался, до лета с восстанием дотянул. А нам зима была ль страшна? Когда за Советы бились, холода какие лютовали, слыхали вы с Нехорошевым, а? Куропать на лету падала. Схватишь ее — комок ледяной! А мы этот холод продышали, сдюжили. Нас и там бы помиловали. Эдакое крепкое мясо и белым на свою защиту получить шибко было желательно. Передохнуть, отогреться, откормиться бы нам дали. А мы об этом и не подумали. С вами в согласье были, вас и застояли до победы.
— Это все мне известно, товарищ Алибаев. И если я допускаю с твоей стороны…
— Не товарищ я тебе теперь! И Степаненкову я больше не товарищ… Ну только и этой паршатине, сволочне этой тоже не товарищ! Сколь я живого у Бога в смерть стравил, все мне простится. Коли за смертью ад объявится, мне простится. За то, что я с партизанами с моими в бой за эту гнусь не вышел, за их человечьей крови не пролил, всякий грех мой не в грех стал.
— Из Каин-Кабака, значит, никто на сбор не явился?
— Из Каин-Кабака! Эх ты, тютик! Не с одного Каин-Кабака, а с любого хутора ни один партизан бывший, да не только партизан — никто из нашинских не явился. В июне разве можно мужика тревожить? А? Нехорошеву абы тепло было, а после целая Сибирь заголодует, — ему все одно! Нам не все одно. Мы против начальства шли, а не против мужика. Нам его страда дорогая» за его мы кровь проливали. Не для таких вот, как ты, не для господ старались!
— Участники этого заговора все больше кулаки, что же вы о них заботились?
— А который в драку не шел, хозяйствовать бы в это время смог, а? Ну тебя, не смыслишь ничего. Мы пораньше тебя разглядели, что не в свой косяк попали, еще до объявки сбора отставать зачали. А ты, что ж, тоже думаешь, как Нехорошее, — бою испугались? Сами вы кишкой жидки, дак и в людях вам тот же мерещится изъян.
Алибаев уже не сердился более. Последние слова выговорил врастяжку сам не слушая их. У него отяжелел, сразу затек затылок, замутились глаза. Он ощутил знакомую дрожь колен, жар, как злоба, распиравший грудь, и жажду, от которой по-особому колюче высохло во рту. Вторую неделю не удавалось добыть водки, и он томился, хворал. Гневное возбужденье ненадолго помогло ему забыть трудную тоску запойного пьяницы. Опять, как навязчивое бредовое виденье, все вокруг покрыло одно представленье стаканчика или хотя бы глотка, одного глотка отмяг-чающего муку питья.
Взбодренный растерянностью его взгляда, странным дрожа-ньем покрасневших век и сразу стишавшим голосом, следователь сел тверже, прямей, спросил громче:
— А до этого, когда вызывали на явку, вы всегда являлись?
— А? Кто? Куда?
— Ну хоть бы ты. О себе расскажи.
— Слушай ты, начальник, добудь мне водки. Пекет в нутре, не могу Чего бормочешь, я не разбираю. Добудь хоть на один глоток, а? Помоги человеку, разок хоть один помоги, а?
Следователь заморгал, взглянул на Алибаева, нерешительно усмехнулся.
— Чудак ты, Алибаев! Разве допустимо с такой просьбой…
— Кабы мы с тобой от Христа не отреклися, я бы тебя ради Христа просил, вот чего допустимо! Жгет. Сдохну я нонче в камере, если хоть глоток не сглотну. Добудь, а? Да не вяжись ты ко мне с расспросами, стукотня в башке, сердце запеклось, понимаешь ты!
Следователь крикнул охрану, Алибаева увели в тюрьму В камере он ничком распластался на кровати, тягуче стонал и скрипел зубами.
Под потолком в запыленном стеклянном колпачке загорелся холодный неподвижный огонь. Алибаев приподнялся. На стене ожила уродливая тень. Он содрогнулся и лег опять лицом вниз. Он боялся. Это не был тот страх, которого он жаждал. Он пугался себя, своих движений, резко внятных в одиночестве. Жизнь его тела вдруг стала всегда, каждый миг слышна ему, и это непрестанное слышанье себя, точно со стороны, среди прикованных к одному месту предметов, в тиши толстых каменных стен — было жутко, как смех в гробу Ему на воле часто казалось, что он не любит людей, что ему опротивела их возня, пачкотня, грызня друг с другом. Но теперь, впервые огражденный от их близкого дыханья, он напрасно старался с прежним отвращеньем вспомнить все зло, учиненное ими над его жизнью, многие от них полученные обиды и скорби. Он не забыл, как он сам и ему подобные, ближние и дальние, каждодневно надругательствовали над добром, как все они, вихляясь и злобствуя, топтали, давили, убивали друг друга, как ненадежна немощная их любовь и как осмотрительна, корыстна их ненависть.
Но теперь, в принудительной от них оторванности, настоятельно вспоминалось, что в несчастливой, болезненной и смертной человечьей жизни трудней было безнаказанно приласкать, чем ударить, и все же каждый тосковал по любви, отдыхал только под ее отсветом. И для самого Алибаева, прожившего больше враждой, чем любовью, нашлись любящие его и просто дружелюбные к нему люди. Их, а не обидчиков он невольно часто вспоминал в тюрьме. Неожиданно сильно пожалел Клару, припомнил ласковость Клавочки, многих из партизанского отряда. За них он взъярился на Нехорошева, но ярость скоро остыла. Он не мог сейчас жить злобой, он встосковал по людям. Алибаев не понимал или бессознательно остерегался понять, что, оставшись с самим собой наедине, он оробел, как безнадежно робеет на свою погибель пловец, захлестнутый волной, как, оробев, падает с большой высоты ловкий акробат, усомнившийся в своей ловкости.
Эта робость — предсмертная боязнь души. За ней — только червивая пасть небытия, не прикрытая никаким спасительным живым обманом и не отвратимая ни хитростью, ни мольбой. Ощутив ее смрадную близость, Алибаев встосковал, что прожил мало и дурно, хотел повернуть назад в жизнь, что-то исправить, переделать, но не мог хотеть. И, проклиная, он не отодвигался, а тянулся в эту пасть.
Каждый вечер, завидев выраставшую на стене свою тень, мертвую, передразнивавшую каждое его движенье, заслышав тайное, уловимое только его мыслью шуршанье тишины, похожее на шум неторопливо ссыпаемой земли, он впадал в такое состояние совершенной тоски, что ему казалось — кровь свертывается в нем в холодеющие сгустки, слепнут глаза, голова тяжелеет непомерно, тянет долу все тело, и дышать уже нельзя. Холодный пот орошал лоб. Алибаев стонал, скрипел зубами, водил по стенам, по всей камере широкими зрачками жутких глаз, искал, чем убить себя, чтобы умерить, укоротить казнь.
За дверью послышался осторожный говор, потом звук повернутого в замке ключа, негромкое отодвигание засова, и дверь открылась. Алибаев вскочил, попятился назад, снова изнеможенно опустился на кровать. Он подумал, что ему померещилось. К нему приближалась Клавочка. Он сразу ее узнал, несмотря на мужичий чапан и шапку, но не мог ни поверить, ни понять, что она живая, настоящая проникла к нему. Клавочка подошла совсем близко, вгляделась в опухшее серое лицо с воспаленными полубезумными глазами, испуганно спросила:
— Ты что? А? Ты… ничего? Ты в памяти?
— Клава!..
— Да я же, господи! Что ты, не узнаешь, что ли? Как страшно смотришь.
— Я думал — мне привиделось. Как ты прошла? Тебя допустили?
— Ой, тише говори. Наверно, там слышно. Тайком, тайком пропустили. Я долго ждала, пока прошла проверка. Ну-ка, здравствуй, что ли. Испугал как ты меня. Да ну, обними, — я, я это, я!
Она внимательно осмотрела его всего, потом камеру, покачала головой, жалобно вздохнула и села рядом с ним на койку. Он не выпускал ее тела из своих рук, дрожащими пальцами гладил ее плечи, лицо.
— Ты что, все не веришь глазам? Ой, какой плохой стал! Напуганный какой-то! И потом уж очень прочернел лицом. Ну, стаешь, мне ведь сейчас же уходить назад надо. Кабы не попасться.
Алибаев не слышал ее слов. Он жадными неверующими глазами смотрел в ее неотметное миловидное лицо, потом вдруг рассмеялся затаенно, не разжимая рта. Клава поежилась, сдвинула тоненькие ровные брови.
— Да ты не молчи. Скорей говори, что тебе надо. А? Ты слышишь? Что тебе передать с воли? Или со мной чего накажешь?
Алибаев передернул плечами, встряхнулся, сказал торопливо и хрипло:
— Водки. Поскорей добудь, с утра завтра доставь. Маюсь, не чаю еще ночь протянуть.
— Да я знаю. Вот принесла, только очень мало, на груди, под кофточкой. Ой, как боялась!
Расстегивая пуговки, она шепотком скороговоркой рассказывала:
— Мужчина ведь взялся в камеру к тебе пропустить. Вдруг облапит, что тогда? Кричать нельзя — поймают, да еще с водкой.
— Ладно. Ты скорей. Глотку у меня захватило. Спирт что ль у тебя или самогон?
— Спирт, только мало. Вот, на… Тут все-таки побольше полстакана будет.
Алибаев выхватил у нее из рук плоский, довольно большой флакон из-под лекарства, прилип к нему губами, жадно глотнул. Клава схватила его за рукав.
— Ты не сразу. Ах ты, надо бы мне и рюмку захватить. Гляди спьянеешь, долго постился. Эй, не задохнись.
Он тряхнул головой, оторвал рот от флакона, шумно продохнул.
— Не учи, сам знаю. Дай-ко вон там в кружке на столе вода. Ну вот выпил и закусил. Еще на глоток осталось.
Раздвинул руки, повел плечами, размялся и повернулся к Клаве. Она чуть подалась назад от его дыханья.
— Ай сама не выпиваешь? Все еще трезвенница? Это хорошо! Кабы только ты не подлюга оказалась. Кто тебя нанял?
— Ты что, от глотка одного спьянел что ли?
— Ты, Клавочка, женщина хитренькая, сама бы поумней удумать могла, а послушалась глупыша какого-то. Я еще не вовсе здесь сдурел, хоть и спячиваю потихоньку. Подослали тебя с водкой… не тряси головой, знаю! Подкупить народ здешний весьма возможно. Но шибко храбрых я не приметил, чтобы к та-кому подследственному, как я, в одиночку бабу с воли доставить взялись. Эдаких удалых здесь нет. Ну, ладно. Спрашивай, чего спросить наказывали.
Клавочка зажала ладонями лицо, заплакала. Часто всхлипывая, она прерывистым шепотом объяснила:
— Я давно ведь в городе кружусь, все свиданья добиваюсь. В гумзу в эту, как к обедне, с утра каждый день, из гумзы в Чеку, опять в гумзу, ноги к вечеру ноют. Какой-никакой, а муж ты мне или нет? Я-то ведь другого не заводила. Путался ты там много на стороне, а мне-то все-таки муж, и не по старому, а по новому закону… а я жена, не любовница. Как же мне не хлопотать за тебя?
— Погоди. Выспрашивать меня будешь?
— Да чего ты, в самом деле, Григорий? Женщина из сил выбилась, как бы повидать, как бы чем помочь, а ты меня встретил, как злодейку! Если я никак больше добраться до тебя не могла! Ты бы все-таки хоть то оценил, что я, такая молоденькая, не бросаю тебя, забочусь, вот приехала. Арестовали тебя, всякого почета лишили, а я ведь не бросаю тебя, другого мужа не ищу Ох, тяжело все-таки, Гриша, с тобой! Около тебя только и плакать я научилась!
Она вздохнула, пригорбилась, вытянула на коленях руки и опустила глаза. Темная длинная тень легла от ресниц на свежие щеки, опустились углы молодых ярких губ. Алибаев искоса поглядел на нее, вспомнил, что за время действительно тягостного с ним сожительства Клава не сказала ему ни одного сердитого слова. Откуда бы он ни возвращался, как бы ни был угрюм или зол, она всегда встречала его ясной улыбкой, оставалась неизменно ровна и приветлива. С простодушной безбоязненностью вверила она свое девичество человеку с невеселой славой доблестного убийцы и сожительствовала с ним как верная супруга, с легким целомудренным холодком, с мыслью о материнстве, но безотказно и ни разу не оскорбила немолодого, некрасивого и даже нелюбящего мужа недовольством или грустью о другом. А ведь она очень молода, едва ли ей за двадцать. И щеки вот у нее еще по-детски округлые и плечи не наливные, а молодо суховатые. Алибаев почувствовал жалость к этой юности, зря захваченной им, большую нежность к несчастливой жене. Он осторожно, одним жестким пальцем коснулся ее руки.
— Ну, чего ты нахохлилась, птаха? Я не обижаюсь. То есть не на тебя обиделся. Скажи-ка ты мне лучше, как живешь?
— Да чего же, как мне жить? Вот постараться надо, чтобы ты вернулся. Я думаю, все-таки не могут не зачесть…
— Разве стосковалась без меня?
— А как же? Чужая я тебе что ли? Наплакалась, очень боялась. Там такие рассказы по деревням ходят!
— А про Клару ничего не слыхала? Не поймали ее?
Клава обидчиво повела губами.
— Нет, убежала. Ты не сердись, Гриша, я, грешница, все-таки пожалела, что ее не добили в ту ночь.
— Да. Худущая, а живучая. Зачем же ты пожалела? Она тебе чем мешает?
— Боюсь, как бы не выкинула еще чего-нибудь, тебя бы не запутала.
— Я, милка, уж так позапутлян, что дале некуда. Умом вроде мешаюсь.
— Ну? Я боюсь… Как?
— Я вот тоже боюсь, только сам не знаю чего. Кабы ты сегодня водки не принесла, я бы как-никак, а покончил с собой. Ну-ко, дай-ко рученьки твои поглажу Спасибо, пташка. Много я виноватый перед тобой. Не серчай, когда помру. Шибко я обрадовался не одной водке… Тебе обрадовался. Ну-к, стой, остаточек сглотну. Ух, хороша снадобья! Сердце мягчит. Степаненкова не видала?
— Нет. Хворает он. Говорили, что с той ночи все никак не выправится… Простудился, видно, сильно.
— И Шурка хворает. Краузе тю-тю! Вот оно, судьба-то как над людями изгиляется. Хороши люди за меня поплатились, а энтот лобастый, тля, насекомая, живет.
— Этот тоже, за тобой который приезжал, Богдановский — его фамилья, — он в отпуск отпущен по болезни сердца.
— Все ты знаешь, доглядчивая бабенка.
— Да как же не знать! Мне бы и не повидать тебя, кабы они здоровы были. Сильно они против тебя настроены. Вот тебе! А ты же их спас. Впрочем, лучше, что не бежал.
Алибаев шумно вздохнул.
— Ну, тебя-то недаром допустили. Ты чего им теперь скажешь?
Клава прижалась грудью к плечу Алибаева, обхватила его рукой за шею.
— Гришенька, миленький, а ты скандала не устраивай. Прошу тебя! Никогда ни о чем не просила, в первый раз прошу тебя, умоляю тебя… Муженек мой, Гриша, родненький! Не говори ничего, что догадался, а? Может, удастся еще увидеться. Я тебя выручить хочу, не мешай мне.
Алибаев, согреваясь ее телом, боялся двинуться, нерешительно поглаживал ее колено жаркой рукой, но ответил неприветливо:
— Я тебе не велю. Ничего больше не вымаливай. К смерти не присудят. Вот только в одиночке…
— Вот то-то и есть. Ты же с ума сойдешь. А мне обещали тебя в общую камеру перевести, если согласишься показанья дать.
— Какие показанья? Товарищей топить? Я убивать умею, а торговать людьми не пробовал. Не буду.
— Да каких товарищей! Нехорошее тебе товарищ? А? Если ты согласишься показанье давать, все равно какое, только обещаешь не отказываться от ответов, мы еще повидаемся. Гриша, ты подумай, много ли ты меня радовал? Гришенька, пожалей меня…
Алибаев тесно обхватил ее обеими руками, жарко поцеловал пересохшим ртом мягкие, влажные губы. Клава запрокинулась. Алибаев, тяжело дыша, наклонился над ней, отпрянул, поглядел налившимися кровью глазами на отверстие в двери, шумно передохнул и отодвинулся.
— Ну что же, ну, Гриша? Так и погубишь меня ни за грош, ни за копеечку? Я все для тебя, а ты…
Алибаев встал, заходил по камере, то и дело кося на нее сумрачным, жадным взглядом. Потом остановился перед ней, постучал ногой в пол и хрипло сказал:
— Ну, иди, Клава. Чать, не на всю ночь допустили. Эх, облапил бы я тебя сейчас! Здорово ты мне сегодня желанная. И не то что только для блуда… Иди, жена, иди, бабонька. Пора.
Клава встала, обняла его за шею обеими руками, прижалась плотнее.
— Мы и на стороне у меня увидимся. Только не порти дела. Я же не уговариваю тебя против своих». В одиночке тебе нельзя. А тогда на работу будут водить, там увидимся. А?
— Ладно, иди, ластынька, иди. Я подумаю. Иди, иди… А то не выпущу.
У самой двери он больно сжал пальцами ее плечо и вплотную в ухо шепнул:
— А ты с начальниками гляди не блуди. Теперь я тебя за блуд не помилую. Помни.
Клавдя зажилась в городе. Закончила давно начатое вязанье крючком, сшила новые оконные занавески с этим кружевом и послала с попутчиком в свое село домоправительнице-тетке письмо:
«Дорогая тетя Маня! Благодаренье Богу, хлопоты мои идут успешно, с пользой для несчастного моего мужа. До суда он теперь сможет находиться в более хороших условиях, часто на воздухе, вообще повеселее. А суд выяснит, что Гриша не так виноват, как показался, — больше из-за своего беспокойного характера. Я на это твердо надеюсь, чувствую себя бодро и хорошо. Хорошо, что Степанида перешла жить к нам. Она старательная в работе и вообще нам подходящая. Главное — дальняя родня, никто не придерется, что мы пользуемся наемным трудом, когда мы содержим нуждающуюся родственницу. Но все-таки вы за ней следите, в амбар одну не посылайте. Ключ от амбара, пожалуйста, не забывайте прятать и вообще нарасхлебень ничего не держите. Человек даже не виноват, если вы его вводите в соблазн своей неаккуратностью. Напишите, пожалуйста, поскорей, доставил ли Семен Козырь супоросую свинью из Каин-Кабака. Тогда, с вещами, мне невозможно было ее взять, а он божился, что скоро доставит. Теперь она уж опоросилась, поросят он, конечно, не всех привезет, обязательно парочку-троечку украдет, но хоть бы свинья не пропала. Кларка-хохлушка в них толк знала, нашла очень хорошую. Так не забудьте, пожалуйста, написать мне. Если не привез, — я его и отсюда достану. Когда Парфен Алексеевич поедет в город — он скоро собирается, я знаю, — пришлите с ним ручную швейную машину 2 пуда баранины, 1 — говядины, 10 фунтов свинины, 3 сотни яиц и пол пуда масла. Приходится Гришеньке носить ежедневную передачу, а здесь провизия дорогая, и за деньги еще мало что продают, вещи разматывать не стоит. С Парфеном за доставку я сделаюсь сама, вы так ему и скажите, а то он вас обжулит. Ну, до свиданья, желаю вам доброго здоровья, крепко вас целую, буду ждать ответа. С сельчанами живите подружней, чтоб склока какая не произошла. От рябой Марфы держитесь подальше. Пусть в спину ругается, вы, очень вас прошу, молчите, не огрызайтесь. Пускай брешет, что я в городе живу для того, чтобы с чекистами путаться, — мне наплевать. Собака лает, ветер носит. Я не такая дура, чтобы по рукам пойти, на месяц регистрироваться, когда у меня муж есть и не собирается со мной разводиться. Вы стерпите, пока суд не кончился. Не надо ни с кем ссориться.
Любящая вас племянница Клавдя.
В начале письма я написала выраженье «благодаренье Богу». Это, конечно, случилось по привычке. Я — жена партизана и все-таки как-никак большевика — не могу верить в Бога, да и не верю. Но вам можно в церковь ходить. Ничего, это нам не повредит, вы — старенькая, вас уже невозможно переделать. Пишите ответ поскорей, но все-таки повнимательнее. Очень много букв пропускаете, я с трудом разбираю слова. Еще раз целую вас крепко и желаю всего лучшего.
К. А"
Клавдя облегченно вздохнула, закончив письмо. Сладко потянулась, прижмурила глаза, но, вспомнив, что пора собирать узелок для передачи, быстро вскочила со стула. Посмотрев на часы-будильник в изголовье кровати, мысленно выбранила себя:
«Дурища, расселась! Уж пять минут второго, еду надо к двум, а шагать-то вон сколько. И волосы не подвила еще. Фу, как время бежит, никак не успеешь все сделать. Ну, пойду побыстрей. Далеконько до вокзала! Ох… Много все-таки с моим Алибайкой хлопот».
Семнадцать человек — бывших офицеров, молодых мужиков из нехорошевских заговорщиков, наиболее здоровых на вид и степенных работящих уголовников — были переданы в распоряженье транспортного отдела политохраны для производства неотложных работ по восстановлению железнодорожного движенья. Перед самой отправкой неожиданно для тюремного начальства высшим распоряжением был причислен к ним Алибаев. В конце города, у вокзала, наскоро подремонтировали обветшалый арестный дом. Вместо поломанных в окна вставили новые железные решетки. У ворот выросла некрашеная, свежо пахнущая деревом караульная будка. Такие же молодые, веселые нависли ворота в прорыве седого, ощеренного меж досок забора. Арестанты, приобщившиеся в прогулке через город к нетемничной людской жизни, ввалились в них со смехом, с прибаутками, весело. Алибаев с усмешкой, широко обнажившей желтые, прокуренные зубы, подмигнул на будку и на ворота, крикнул:
— Правду в газетах пишут, покончали разрушать, строиться зачинаем!
Безбровый круглолицый солдат громко засмеялся в ответ, но быстро вспомнил, что он — охрана, покорился на других сопровождающих, мотнул винтовкой и пригрозил Алибаеву:
— Я те позубоскалю! Пролезай, что в воротах задерживаешь?!
Алибаев дружелюбно взглянул на него, ласково отозвался:
— Не серчай, сынок. Зазевался манеиько.
На шатких, разбитых ступеньках входа он опять призадержался, поглядел на белесое небо, на притоптанный, загаженный людьми снег у крыльца, снова широко усмехнулся, хлопнул ласково по спине идущего перед ним и вошел в душный дом с железными решетками, как домой после томительного странствования.
Дом разделялся только на две половины. В одной стояли два длинных стола и одна тяжелая, во всю стену, скамья. Меж двух окон висел криво прилаженный, замызганный, исцарапанный телефон.
Здесь ранним утром и на ночь вместо ужина пили компанейский чай. Кипяток давался казенный, а заварка своя, собранная из передач. На дворе грели дежурные чурками медный с прозе-леневшими боками самовар. Обедали на работе. Другая половина, совершенно пустая, даже без нар, служила спальней, В изголовье под окнами в ряд вытянулись узелки, мешочки, мешки и сундучки с пожитками. Посредине, во все помещенье, положена была солома — общая постель. В обеих половинах под потолком плохо светили маленькие электрические лампочки, по одной в каждой. Но пустой, без строений двор был сильно освещен. Там и на улице сосредоточивалась охрана. Караульный начальник на ночь устраивался на столе.
С семи утра до темноты, с полуторачасовым перерывом на обед, арестанты заняты были тяжелой физической работой на железной дороге. Грузили, разгружали вагоны по уроку — определенному количеству пудов в назначенное распорядителем время, таскали на носилках по крутым всходам глыбы льда в холодильник, ворочали камни и бревна. Целый день на ветру, на предвесеннем озлившемся холоду, редко — под крышей, в своей, из дому еще взятой, у всех плохонькой одежде. У кого и была хорошая — в тюрьму с собой не взяли. Правда, в натуге холод донимал меньше всего. Но все-таки семеро — четверо из офицеров и трое из нехорошевцев — на пятый день работы сданы были в тюремную больницу в жестокой застуде.
На чрезмерную тяжесть работы не жаловался только Алибаев. Слабосильней многих, давно отвыкший от физического труда, он обливался потом под ношей, шумно, с хрипом дышал, часто сплевывал со слюной кровь. Возвращаясь, чуть двигал разбитыми, ноющими в костях ногами, со сгорбленной, затекшей спиной. По утрам и ночью, вставая на работу и ложась после нее, каждодневно он ощущал радость. Точно выздоравливающий после длительного беспамятства в хвори, заново видел вещи и живое — в их изначальной большой ценности. Под пакостной коростой дурных слов, злобы, скотского поведения он в окружающих, как собака нюхом, слышал теперь человека. По природе своей навсегда обреченный страстям, он и добро кощунственно воспринял как страсть. Как убивал и насиловал, так же стал благодетельствовать. Недоедая сам, раздавал другим грузную Клавдину передачу. Даже большую половину доставляемой изредка водки дрожащей рукой отливал другим. Постоянно отбывал дежурство по казарме за ленивых. Навязывал всем свою помощь. Им стали помыкать. Он без разбора уважал и прохвоста и честного, его уваженье стало вызывать в других гадливость, как пресмыкательство. Начал Григорий часто заговаривать проникновенно о любви к ближнему. От волненья у него отвисала, мокрела нижняя губа, и смотреть на него со стороны было неприятно. Голос всегда ласковый, улыбка в ответ на брань надоели всем арестантам за полтора месяца совместного пребыванья — до отвращенья к нему. Нехорошевцы, в разговоре между собой, дивились, вспоминая прежнего Алибаева. Мефодий Долгов объяснил:
— Чего ж, повихнулся в уме, блаженным стал. Теперь время такое, некуда эдакого пристроить. Раньше, пока монастыри не-разоренные были, он бы деньгу хорошую для обители зашибал. Божий сделался человек, а Бог-то под запретом, — куда же ему деваться? И нам его надо терпеть, чего же!..
Степан Кухарев, сплюнув, заключил разговор:
— Беда! Чего с человеком случается! Кабы не знал сам, и сроду бы не поверил. Какой ведь орел был!
Клавдя на свиданьях подозрительно вглядывалась темненькими острыми глазками в его лицо.
— Ты не хвораешь, Гриша? Я похлопочу в больницу тебя. Что-то очень уж ты ласковый и разваренный какой-то.
— Брось, мне хорошо. Вот только ты очень устаешь. Заморил я тебя, пичуга. Ехала бы ты домой.
— Гришенька, я радуюсь, что ты теперь внимательный ко мне такой. А все-таки думаю… Право, хвораешь ты.
Свиданья здесь не разрешались, но допускались по человечеству самой стражей рано утром до увода на работу и вечером по возвращенье в любой день, если караульный начальник не был чем-нибудь расстроен или обозлен. Происходили и в столовой, и во дворе, и в сенях — как удобнее казалось охране.
Транспортный отдел ГПУ возглавлялся длинным сухощавым неразговорчивым человеком. Некогда он отбывал каторжные работы на царском руднике. В разговорах уклонялся вспоминать это время, но помнил о нем хорошо. Знал, что илоты бунтуют только тогда, когда отдушины тайных поблажек наглухо закупорены. Начальник наложил запрет на свиданья, но сумел сделать так, чтобы нижние доглядчики догадывались его неопасно нарушать. И заключенных радовала уверенность, что им сочувствует непосредственное начальство, относится к ним по-человечески, с доверьем, рискует, допуская запрещенные свиданья с близкими.
И это обстоятельство рождало особое отношение к начальникам, в конце концов выгодное для надзора. По особому тюремному закону нравственности арестанты сами связывали, ограничива-ли себя, оберегая подвергавших из-за них себя риску надсмотрщиков.
Один Алибаев сомневался, что это попустительство без подвоха. Но, предавшись добру, считал эти мысли отрыжкой прежнего зла и сообщил их однажды только Егору Кудашеву.
В первый день пребыванья в этом арестном доме они хорошо встретились друг с другом. Как ввалились гурьбой в помещенье, молодой сероглазый парень с белокурым пушком над большим алым ртом, с черной родинкой на правой щеке повернул за плечо Алибаева лицом к себе. Приветливо сказал:
— Вон какой он есть, Алибаев!
Григорий лукаво подмигнул.
— Слыхал, значит, про меня?
— Как не слыхать! У вас что же, вещей-то никаких при себе, всего и осталось богатства, что этот тулуп?
— Хватит. Нечего хоромину-то загромождать. Ну, будем знакомы. Я и место займу вот тут, с тобой рядом. Ну шабер, как зовешься-величаешься?
— Егор Кудашев. Егор зовут.
— Кудашев! Слышь-ка, а ведь у меня для тебя поклон в котомке давно закладен. Вот, волк меня заешь, как это я забыл. Брат твой, Леонтий Кудашев, тебе кланяется.
— А где же вы его видали?
— Давно виделись, память с того дня отшибло у меня. Велел он постараться разузнать об тебе, помочь обелиться в деле-то в нашем в бандитском, а я как в одиночке рассиделся, так и рыло от хороших людей в сторону. Забыл, понимаешь, совсем запамятовал. Как отшибло!
— Какое же с вашей стороны может быть обо мне старанье, коль рядышком оба в клетку захлопнуты?
— Нет, нет, это я еще мозгой раскину! Постой, с другими сватьями надо обнюхаться. Что за народ? С тобой еще, соседушка, набеседуемся.
Набеседовались они вволю. Алибаев узнал, что Егор Кудашев, действительно, зря запутался, но очень крепко. Доказать его невиновность трудно, так как он сам не захочет до конца все нити распутывать. По сбивчивым и неоткровенным его рассказам Алибаев чутьем докопался до правды. Обстоятельства перепутались необычайно.
Егор Кудашев жил в семье старшего их с Леонтием брата. Тот с партизанской войны до сего дня еще не вернулся домой, но, по верным слухам, был жив, находился где-то за Питером, Ушел он с белыми, потом будто бы попал в плен к красным, с ними в рядах сражался — не разберешь, с кем из них содружествовал по своей охоте. Егор остался в избе с его женой и двумя братниными малолетними детьми. Жена братова, молодая, смелая и здоровая, хорошо управлялась по хозяйству и без мужа. Егором как наймитом помыкала и была в доме главой. Мужа своего она очень любила, сильно тосковала по нем. Но она была уверена, что он за белых, а не за красных. Юный, очень душевный Егор сперва просто подчинялся снохе, потом, по-видимому, привязался к ней чувством более горячим, хотя грешной связи между ними не было. Из-за недосягаемости своей сноха сделалась для него как солнышко на небе. Дороже всего и ясней всего. Он верил каждому ее слову, выполнял все ее желанья. В самую распутицу попросились к ним два проезжих человека переночевать. Потом остались дней на пять, ждали, пока вода долами схлынет. Старшего Егор знал как Алексея Климова, ездившего от своего села в город с каким-то ходатайством в земотдел. Был же на самом деле он атаман Нехорошее. Про заговор Егор Кудашев ничего не слыхал, сам и мыслями и настроеньем почитал советскую власть своей, стоял за красных. Как ни был мягок по молодости, не поддался бы на заговор, хотя бы и сноха упрашивала. А после, как явились чекисты с обыском, нашли запрятанные охранные бумажки на имущество семьи этих Кудашевых с печатью организации Нехорошева и такое же письменное запрещенье мобилизовать принудительно Егора Кудашева в случае наступленья особого отряда атамана Нехорошева. В огороде разрыли бомбу. Сноха перед этим незадолго очень странный разговор вела с Егором. Теперь его он только понял. Она была виновата, но уж на попятный ладила, расчухала, что дело не выйдет. Когда производили обыск, она сильно перепугалась, что ее заберут от детей. Но заподозрили Егора Кудашева, забрали. Выдать сноху с головой он не мог, а иначе оправдаться ему никак было нельзя. Егор в рассказе выдал ее странно настойчивыми завереньями, что она тоже ничего не знала. Алибаев решил сообщить следователю про этот распутанный его личной сметкой узел, но услышал ночью один раз, как во сне Егор окликнул сноху по имени, а потом затосковал, заметался по нарам. Наутро от Кудашева держался в стороне, сердито его обрывал, а при свиданье с Клавдей через нее заявленья начальству, как собирался, не передал. Утешал себя мыслью, что его заступничество едва ли засчиталось бы в пользу Егора.
Один за другим незаметно в месяц выросли дни. Алибаев всем опротивел, но Кудашев от него не отодвинулся. В революционные праздники, когда не водили на работу, Егор читал вслух Алибаеву книжки из тюремной библиотеки. Сначала читал рассказы. Но все попадались новые, недавно напечатанные — про белых и про красных, про житье при советской власти, очень странно, непонятно и скучно написанные. Стали тогда вычитывать из политических брошюрок. Обоим это показалось занятнее. Но Алибаев не все понимал и попросту смотрел в рот Егору, думая о своем. Егору один раз дали свиданье. Приезжала сноха, и он в этот день дышал как в лихорадке, ни с кем в камере не разговаривал, и для Алибаева это был единственный ощутимо тягостный день в его новом настроенье.
Алибаеву казалось, что он теперь всех людей любит просто за то, что они люди. Но он бессознательно хитрил перед собой, не замечая, что Егор действительно полюбился ему всей своей ухваткой. Кудашев хорошо примечал все вокруг, действенно всем интересовался. Не иконоборствуя, как Алибаев, он не боялся жить своим умом, стойко противоречить всему, чего он не хотел принять. Был худощав, легок и вынослив. Поднимая на работе тяжелый груз, всегда устраивал его на спине особенно ловко. У него не было лишних движений, обременительной мужичьей неуклюжести. Никто не учил деревенского парня, как от них отделаться. Он сам, зорко глядя вокруг, заприметил их у других, нашел манеру двигаться, дышать, сберегая силу и время. Сделанные им ошибки не повергали его в унынье, не сбивали с панталыку. Он обращал их в пользу себе, как птица сопротивленье ветра для полета. Только в первом своем чувстве к женщине он оказался тяжело опрометчив и не мог еще из этой беды выкарабкаться. Алибаев, лежа рядом с ним на полу, спросил его как-то ночью:
— А что, Егор, Кудашевы русских кровей?
— Ыгы… А что?
— Глядел я все, сколь ловко ты ложишься, встаешь, и подумал — словно бы ненашинского народу ты человек. Шибко уж деляга. Догадливый, как жид, а спиной крепок, как русский. В человеке крови всегда обозначаются. Вот во мне русская от матери все-таки к старости отцову передолела. Жалостлив я стал, доходчивый до чужой туги. И сердце полегчало, совесть понятлива сделалась.
— Ну и зря. Блажишь ты не от матери, не от отца, а сам от себя. Дурачком сделался по доброй воле.
— А по моему сердцу, я только теперь и заумнел. Вот сейчас усну, когда злобы грех поменьшал во мне. А то спать не мог.
— Может быть, ты просто спился, ослабел. Пройдет еще это с тобой. Настоящие-то блаженные, все-таки правда, тронутые умом бывают. Я про тебя никак все-таки не думаю, что ты глупой.
— А я про тебя не сдогадаюсь хорошенько, умный ты или не вовсе умный, а только правильный. Действительно, правильный. А Леонтий, твой брат, тоже правильным мне показался, да все-таки не так.
— Вот тот правильный. Никакого правила не нарушит, раз оно ему втемяшилось. Сноха была, сказывала, что он в городу, здесь. А не пришел наведать, потому что здесь не по правилу, с обманом свидаются.
— О!.. Это уж и вовсе немец. Я на пленных немцев нагляделся, а то еще у колонистов бывал. Нет, есть к русским кровям у вас подбавка какая-нибудь немецкая. Перемешался теперь народ. Оно и хорошо. Новый приплод, может, получшее выдет. Нашинское племя перед старым хилявое, а эти, может, опять на поправку.
— Спи. Сегодня отпраздновали, завтра на работу. Задышишь опять, как паровик. Отдыхай.
Зима раздрябла, расхлюпалась. Небо нагрузло водой. Снег падал вперемежку с дождем. В сырости работа сделалась еще трудней. Обедать сели под запасным навесом для клади. Издрогшие, измокшие, сбились тесно, пасмурной тучей. Нехорошо смотрел и был вял даже Егор Кудашев. Всю последнюю неделю он на себя непохож.
«Тяжелое в мозгу поворачивает», — думал, наблюдая за ним, Алибаев.
Сегодня он ни за кем, даже за Егором, не мог заботливо следить. Кашель разбил всю грудь. Ныли плечи, то и дело туманилась голова, жаркие искры прыгали, мельтешили перед глазами.
К навесу подошел невысокий худой солдат со шрамом через весь лоб, в грязной шинели до пят. Он был безус и безбород, но немолод. Мелкие морщины пересекали переносицу, бороздили виски. На изуродованном лбу желтая, увядшая кожа. Десять человек, охранявшие арестантов, сбились своей кучкой тоже под навесом. Один из них взглянул на подошедшего, повернулся к нему всем корпусом.
— Ты чего?
Тот хриплым голосом спросил:
— Братцы, товаришы, а що, не знайдется у вас лишней краюшцы хлеба?
— Во, видали! Явился гость! Разве можно солдату побираться?
— Та який же я солдат! Недужный инвалид. Бачишь сам — витром качае. К батькам помырать иду.
— Помирать не надо далеко ходить, везде можно.
— Було б не надо, кабы враз смерть, а то дыха, исты-питы прошу.
Солдаты охраны поглядели друг на друга. Старший как раз жевал. Он отломил от своего куска и протянул пришельцу. Спросил:
— Откудова же ты идешь? Солдат взял хлеб, вяло ответил:
— Сдалека.
И отошел. На ходу оглянулся, посмотрел на арестантов, скрылся за станционной больницей.
Старший передернул озябшими плечами, встал и начал переминаться с ноги на ногу. Солдат, сидевший поближе к арестованным, нехотя выговорил:
— Брешет, что солдат. Побирушка.
Старший равнодушно ответил:
— А пес с ним. Плохой, правда, хворый, видать. Ну, кончать еду надо, до вечеру мало время остается. Ты что какой сизый и трясешься весь? Хвораешь?
Алибаев, глядя мимо его лица, ответил сквозь зубы:
— Лихорадка трясет. Ничего, разомнусь.
— Ну, ладно, двигайся.
Алибаев не мог не узнать Клару. Узнали ее еще двое из арестованных. Оба они переглянулись друг с другом. Посмотрели на Алибаева, но тот отвел глаза. У него все захолодало внутри — не от испуга, а от жалости.
«Вот дурища! Несусветная дура! Чисто сучонка шалая, сама под руку подскакивает. Лучше бы ее тогда прикончили, сразу бы отмаялась».
Когда вернулись в арестный дом, двое, тоже признавшие Клару, по очереди урвали минутку спросить его о ней. Он обоим ответил:
— Ничего не знаю. Расхварываюсь, голова мутна, не разглядел. Чать, то вы в кого другого вклепались. И, как говорит, не расслыхал. Не знаю.
Укладываясь, Алибаев слышал, что его окликнул Кудашев, но не отозвался. Поглядел в темное плачущее окно, подумал о Кларе:
«Где она ночует-то? В эдакую непогодь да не под крышей. Худо! Ах, дура, дура».
Заснул скоро. Потом ему показалось, что он проснулся, поспешно открыл дверь, пошел по длинным, ярко освещенным, но совершенно пустым и незнакомым коридорам на улицу Шумел дождь, хлюпала грязь, но было очень светло на улице, и он бежал быстро. Дождь не мочил его одежды. Как-то сразу очутился в церкви, при ярком свете люстры, восковых свечей. Пел невидимо где очень монотонный, похожий на шум дождя хор. Но Алибаеву пенье казалось радостным. Он стоял рядом с Кларой. Их венчали. Лезло в глаза чернобородое лицо священника, но Алибаев все отворачивался, чтобы это лицо не мешало ему видеть Клару И он повернулся боком к священнику, увидал ее синие глаза, удивительный сияющий взгляд — и весь задрожал от любви, восторга, странно смешанных с такой мучительной тоской, что дыханье остановилось. Чтобы не задохнуться, он хотел крикнуть громкогромко, но голос ему не повиновался, и он застонал. Вовсе это не церковь, а широкая равнина. Не видно ни травы, ни цветов, она вся синяя, и вверху в небе синева эта так ярка, что глаза режет. Он идет по ней один, но знает, что близко где-то Фрося. Опять его пронизал сладчайший трепет любви и боли, стиснул сердце…
С огромным усильем, с натугой закричал и проснулся, услышав свой крик. Он лежал на спине, и прямо в лицо ему светила лампа. Щеки были мокры. Алибаев поднялся, стал скручивать папиросу; руки тряслись, и он долго не мог свернуть ее как надо. Боясь смотреть в окно, но то и дело в него взглядывая, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь, потом завернулся в тулуп с головой и опять лег. Больше уже не заснул до вставанья.
Алибаев был один в спальной половине. Все ушли в другую — обедать. Разговор оттуда доносился более веселый, чем в ближайшие прошлые дни. Сегодня, в день празднования Парижской коммуны, арестантам дан был отдых, на работу не водили. Она в последние дни всем показалась особенно тяжелой. Погода стояла переменная. С утра сверху оседала теплая сырость. От нее хилел снег и чавкал под ногами, промозглый воздух забирался в ноздри и в рот, вызывал маятный кашель. Потом вдруг холодало. Студеный ветер замораживал мокреть. Носили тяжелую кладь по заледеневшим, скользким сходням. Отсыревшая одежда во время передышки в работе быстро отнимала тепло разгоряченного движеньем тела. Троих сдали в больницу, заменив их новыми, никому не известными арестантами, жителями дальнего какого-то места. Они, внове, часто сокрушенно вздыхали, жаловались на свою участь, искали в других жалости, сочувствия. Никто им не посочувствовал. Здесь мало было жалостливых.
Алибаев заново переменился. Он стал очень молчалив и хмур. Больше не кидался помогать другим. Назойливой услужливостью уже не надоедал, хоть и не огрызался, не спорил ни с кем, отвечал несердито, когда ответ от него требовался.
Сегодня, в день отдыха, приезжал из города оратор по путевке из губкома. Он делал доклад о международном положении и значении новой экономической политики. Арестантов его наезд развлек и оживил. Один Алибаев отнесся к нему безучастно. Сидел все утро на полу, поджав под себя ноги, и настойчиво думал о своем. Темные глаза его поблескивали по-ястребиному. Сейчас он, казалось, уснул, завернувшись в тулуп. Но как только хлопнула дверь, тайком посмотрел: кто? Вошел Кудашев.
— Ты что же не обедал?
— Егор, погляди, где Щука?
— Во дворе. Офицеры дрова колют, он им помогает. Я сейчас оттуда.
— А мужики? Другие-то где?
— В той половине, там печка топится, теплей, здесь шибко холодно. А што?
— Чего же делать? А?
Кудашев подошел к двери, прислушался и подошел к Алибаеву.
— А ты что же, на попятный думаешь? Сгубить нас всех хочешь?
— Я за тебя, Егор, пуще всех опасаюсь. Главное, не верю я, чтоб дело вышло. Кларка ведь дело-то ведет, никто другой. Она отчаянная шибко. Вылезет где надо. Как в прошлый раз.
— Так чего же? Она показалась вам, чтобы письму поверили. Ведь опасались, что обманное. И день хорошо выбрала Узнали только те, кому надо было узнать.
— То-то, они ли только. Да и сомневаюсь я…
— В ней?
— Сама-то она в пекло полезет за меня…
— Вот ты это понимай, что и нас вызволяют только из-за тебя, не пяться назад. Я передумывать не согласен. Все равно — один, безо всякой подмоги, а убегу.
— Да ведь ты раньше не думал. Каюсь я, что тебе рассказал. Ты меня и с панталыку-то сбил, я бы не согласился.
— Думал я и раньше, да зацепки не было. А теперь все равно, больше не могу. Силы тратим, надрываемся в работе, а конец для меня плохой ожидается. У меня ведь нет боевой заслуги, я в своем дворе топтался. Ну, а смерти дожидаться сидеть мне неохота. Значит, надо спасаться.
— Ну, а поймают тебя — тогда не спасешься.
— Не поймают. А поймают, так что же? Нельзя же не пробовать от смерти уйти. Жив останусь — и виноватость свою избуду Через годок-другой по-иному и об деле нашем судить будут, а сейчас горячо, а я в первых числюсь… Под горячую-то руку… Ну, как хочешь, разговаривать опасно. Коль передумал, извести остальных.
— У меня насчет тебя, главное…
— Насчет меня не поможет, я теперь от думки своей не откажусь.
— Ну, дак и нечего, ладно. Как надумали, так и сделаем.
Ночью ни Алибаев, ни Кудашев долго не засыпали. Оба обдумывали одно и то же — предстоящий побег. Один из конвойных, сопровождавших арестантов на работу, тайком передал Алибаеву известие от Клары еще до появленья ее на станции.
Она умоляла Алибаева бежать. Суд неизвестно когда, долго еще придется томиться в неволе. А там — если помилуют, не казнят, все равно опять долгое заточенье, а время идет, годы уже немолоденькие, может он и захиреть и кончиться в тюрьме. В Каин-Кабаке нашлись верные друзья. Они помогут побегу не только из тюрьмы, но и во Владивосток. Если он о себе не думает, пусть подумает о других. Она называла еще пятерых мужиков из одной волости с Алибаевым, которым помилованья быть не может. Их вызволят только с Алибаевым вместе, для одних стараться не будут. Все для побега налажено. Нельзя медлить, потому что весна развезет дороги, вскроет овраги и речки. Еще Клара наказывала остерегаться Клавдии, а о себе сообщила уже не на словах, а в нацарапанной ею самой записке. Алибаев разобрать ее не смог. С большим трудом прочитал ему Кудашев:
— «Николы я тебе в очи не встану, не разжалуюсь, не покличу, ты не бойся, от божуся смертельную клятвою, живы у щастьи, в доброму здоровьи. Плачу я не об своей недоли, и не с того волосы у мене стали сивы. Вбьють мене, так на одну пулю якого другого поважнийше сменю. Не хочу, щоб ты вмер».
Алибаев не сразу решил, как быть. Он раздумывал о том, что его попытка стать братом всем людям, помочь им — окончилась неудачей. Не такая должна быть помощь. И не всем и каждому, а то половиком под ногами у людей станешь и самое добро слякотью распластается. Другое дело — помочь делом человеку когда эта помощь насущно нужна. Кудашев ближе всех ему, милей других — ему надо помочь, ему следует сделать добро. И убивая, он жалел молодых, щадил их. А коль спасать захотел, как же не спасти юного Егора. Если он решает, что побег необходим, — надо согласиться. Егор думал о годах заточенья, о подневольной, не в радость себе, работе, о возможной безвременной и постыдной смерти и, содрогнувшись, ухватился за мысль о побеге. Теперь его невозможно было разубедить.
День побега был назначен в субботу, из бани. Водили их по окончанье работ каждую субботу вечером по десять человек. В эту субботу собрались только Алибаев, Кудашев и пятеро мужиков, названных Кларой. Но перед самым уходом к ним неотвязно пристал Щука. Новенький, которому не доверяли. От него удалось скрыть замысел. Присутствие его в бане усложняло дело, но отвязаться от него не удалось. Сопровождали их трое солдат. Один — тот, что передавал первое сообщенье от Клары, их соумышленник. Он остался караулить у двери номера в коридоре. Два других сели в предбаннике, где разделись арестанты. У одного из мужиков, самого смиренного вида, были запрятаны под одеждой веревки. Он замедлил раздеваться. Один из солдат спросил:
— Что же ты? Кого ждешь?
Мужик замотал седой кудлатой головой.
— Что-то в грудях задавило. Отдохну, посижу маленько.
Щука раскрыл рот, прислушиваясь, но Кудашев крепко обхватил его за плечи и потянул в баню.
— Чего встал на дороге? Пойдем, пойдем.
Сзади надвинулись остальные, и все гурьбой ввалились в баню, хлопнув дверью. Караульные сели на диван и стали свертывать папиросы. Отставший от других мужик начал раздеваться.
В бане Щука только что принялся смачивать голову, как сзади на него прыжком налетел Кудашев. Втиснул его голову в шайку и налег всем телом на него. Дверь в предбанник распахнулась. Караульные не успели двинуться, как шестеро здоровых мужиков навалились на них. Рот им заткнули грязным бельем. Четверо держали, двое раздевали. Сняв с них солдатскую одежду, их связали и внесли в баню. Там скрутили и Щуку Он уже перестал извиваться в руках Кудашева. Был в обмороке. Кудашев и еще один мужик быстро оделись в снятую с караульных амуницию. Остальные надели свою одежду. Кудашев огляделся:
— Все готово? Двигай.
И взял винтовку в руки. Тут только увидел, что полуодетый Алибаев, с лицом иссиня-красным, пошатывается на ногах.
— Алибаев, ты что?
Тот ничего не ответил. С трудом поворачивая налитыми кровью глазами, попятился, согнулся и лег на пол. Кудашев наклонился над ним. Он невнятно забормотал что-то несуразное:
— Хорек, хорек…
Кудашев побелел.
— Братцы, что же делать?
Седой кудлатый мужик дрогнувшим голосом ответил:
— Он не в себе. Я за им даве глядел, он нехорош мне показался.
Алибаев перемогался давно. Сегодня ему с утра было особенно худо. Он с трудом передвигал налитыми тяжестью ногами, но большим напряжением воли заставлял себя ходить, понимать, что делает. В бане, когда охватил его со всех сторон жар, он уже плохо видел и покачивался. В предбаннике, пока связывали караульных, на миг опамятовался. Но это напряженье было уже последним. Явь ушла из его глаз и слуха, он впал в беспамятство.
Кудашев раздумывал недолго.
— Ни вывести, ни вынести… Бьется в руках. Ну-ка, скорей рот, рот ему… Он закричит. Что же делать? Э-эх! Ну, нам передумывать поздно. Вяжи и его.
Кудлатый мужик тоскливо шепотом спросил:
— А чего же мы там скажем? Из-за его они больше старались, не из-за нас.
Егор махнул рукой.
— Что есть, то и скажем. Некогда теперь, поздно передумывать.
Он приоткрыл дверь и позвал стоящего у дверей. Из номера вышли пятеро в сопровожденье трех часовых.
Беглецов переловили в одиночку. В условленном месте не нашли они ни подвод, ни обещанных верных людей, и убежать далеко им не удалось. Только позднее стало известно, что в Каин-Кабаке в это время шла своя кутерьма.
Зима трудна выдалась для Каин-Кабака. Нужно было любовное упорство в труде над их неудобной пашней. Каин-кабакцы и в прежнее время не надсаживались над полями. За войну отбились вовсе, разленились. И земля, как опостылая жена, рожала мало и худо. Иного промысла, отхожей работы поблизости не было. Волей-неволей приходилось тужиться по крестьянству. В ближайших соседних землях савеловских и копыловских хуторян озимь этой осенью, как щетка, вышла густа. У них же нехороша почти на всех пашнях. И еще от хозяйского недогляда или уже так — беда не ходит одна — напала хворь на скот. Чуть не каждый день на дворах по очереди бабы выли над подохшей животиной. И окрест над падалью в пустынном осеннем поле во множестве кружились беркута-стервятники, вертлявые сороки и жирное воронье, справляя пир. С холодами по людям пошла болезнь. В закромах заготовлено оказалось мало запасу. Еще до святок не дошло, каин-кабакцы уже доедали хлеб.
Раньше, пока ночная беда не прихлопнула алибаевский двор, жителям Каин-Кабака жилось тревожней, но и веселее. Перепадали с того двора и дары и подмога. Оттого сначала, когда забрали Алибаева, мужики густо загудели в гневе. Но вслед за Алибаевым взяли в тюрьму еще хозяев со многих дворов, самых охотливых на драку мужиков. Бабы подняли вой, сокрушаясь о детях, и робкие отцы семейств притихли. По-прежнему горячо о нем беспокоился, корил хуторян за бездействие только Васька Сокол, одинокий молодой мужик. У него жена и сынишка недавно померли. Он о них меньше сокрушался, чем об Алибаеве. Ему первому о себе весть подала Клара. С ним вдвоем они взбодрили сторонников Алибаева не только в Каин-Кабаке.
Вечером, накануне того дня, когда подбитые Васькой Соколом люди, во главе с ним, должны были явиться в назначенное место, бабы побежали гурьбой в избу Филатенковых. Матвея Филатенкова забрали по нехорошевскому делу одним из последних, недавно. Баба осталась на сносях, с пятью ребятишками на руках. Старшему сынишке всего одиннадцатый год, он и справлялся за хозяина. Евдоха Филатенкова, тяжело поворачивая огромный живот, сегодня собирала сына на мельницу. Мука вся кончилась, у соседей взаймы просить и совестно уж, да все-таки просила: в трех дворах отказали — самим никак не удается смолоть. Пришлось сына справлять на мельницу. Вдвоем с малосильным парнишкой насыпали и стащили на дровни зерно. А через час после этого Евдоха закорчилась в страшных, еще небывалых ни от одного из детей родовых муках. Бабушка Секлетея замаялась с ней. Вытирая трясущейся рукой пот с лица, говорила собравшимся в избе:
— Ну, бабы, ничего больше не могу. Умаялась, чисто сама рожаю. Заговор, видно, сделан на брюхо кем-нибудь со зла.
Серолицая баба с глубоко запавшими глазами ответила ей слабым голосом:
— Эх, баушка, на всех на нас тот заговор, из-за его и мужиков в острог посажали, и бабы родят неблагополучно. Я вот какая удалая допрежь родить-то была, а в нынешни года другого мертвенького скинула.
В ночи избу допоздна освещал с потолка маленький огонь пятил инейки. В кольце налегшей бабьей толпы на скорбном своем ложе лежала мертвая неразродившаяся Евдоха. Огромный живот возвышался над поверженным бездыханным ее телом как напоминанье об ее последней житейской тяжести.
Та же серолицая женщина, увидев его, затряслась и страстно вз гол ос ила:
— Сестрицы, бабоньки! Мужики отстраждалися, отвоевались, ждали бабы радости, работать без надсадушки, детей растить с родителем. А и где же те родители подевали-ся? Ой, тошно мне, тошнехонько, ой, бабоньки…
Она горько зарыдала, оборвав слова, и повалилась на кровать, лицом в ноги мертвой Евдохи.
Бабы, плотней сбившиеся в избе, завсхлипывали в ответ. Взвился и громкий плач. Высокая рябая баба сурово его перебила:
— Будет, бабы. Голошеньем здесь делу не поможешь. Он страждал, воевал, а мы, что ль, не маялись? Он-то наехал, с нами полежал, встал, отряхнулся да опять, дело не дело, в драку в новую. А детей кому подымать? В хозяйстве кто ворочать будет?
В ответ поднялся сполошный бабий шум. Жалобы, восклицанья, плач наполнили избу. Обычно окружала мертвого строгая, уважительная тишина, нарушаемая только установленным причитаньем. Теперь обида и неустройство живых отстранили мысль об умершей. Рябая баба сильным своим голосом опять покрыла общий крик:
— Теперь, если мы сами не вступимся, — пропадать и нам и детям. Чать, не я одна дослышала, что Васька наново подбивает.
— Мама-а!.. Ой, мама, ой-ой-ой!
— Стой, бабы, расступись. Эй, Степанида, это Гришанька твой. Степанида-а!
— Что ж, что мой! Пущай давят! Пущай всех подавят! Отец-то думает об их? А? Кто об нас подумает? Кто об нас постарается?
— То за большевиков ходили — наши, мол, наши. Ну, ладно, мол, наши. Как ни то перемогусь. Своими крылышками прикрою… Выстаивай за своих.
— И я, я тоже не отказалась. А теперь чего же, и это не свои. Да кто же тебе свои? Со всеми и будешь драться весь век.
— Кто с Алибайкой водился, кто от его наживался, тот пусть и вызволяет…
— Да, как раз! Нахлебники-то алибаевски, башкиры, казачишки-то, небось первы смекнули, поукрывались.
— Да что Алибаев? Опять, что ль, кто за Гришку собирается? Да скажите, милые, да не майте меня. Чего опять про Гришку?
— Васька Сокол на выручку…
— Они, соколы-то, взовьются да улетят, а отвечать опять воронам придется.
— Эдакому соколу перья-то повыщипать, башку набок пора.
— Да стойте же вы! Ой, да голубушки, ой, сестрыцыньки! Айдате не сдавайте. Соглашались мы на большевиков, пущай и будут большевики.
— Вон Евдохины-то дети воют на печи. И наши так же будут. Который год одни всю работу ворочаем.
— Работу за их ворочаем и рожаем опять же мы. Кабы они родили, дак узнали бы…
— Стойте, бабы! Угомонись. Ну, стой ты, зевластая! Третий год всего замужем, а всех забивает.
— Да я на третьем-то на годе, может, за двенадцать твоих…
— О-ох, сердечушко! Да и как я в свою избу взойду, да и как я гляну…
— Сто-ой! Кто чего слыхал, ну? Отколь узнали, что мужики затевают?
Рябая баба звонко отозвалась:
— Я подслухала. Не спалось долго с вечеру…
— Эй, потише… Ну-к, стойте. Чего она говорит?
— Да громче ты!
— Рассказывай, Феона, говори…
— Вышла я во двор, гляжу за плетнем по нашему огороду кто-то крадется. Я было кричать хотела, да одумалась. Вижу — мужик, а на дворе-то я одна. Ну, гляжу гляжу: Васька Сокол. А за им еще. Трое эдак друг за дружкой. Тут я и смекнула. Не иначе опять — на драку заваруха. Стой, думаю, догляжу. Они поза амбарами вместе пошли. Я близко-то не могла. Но слыхала: Кларку поминали и Гришку, а потом: завтра, дескать. Я плохо дослышала, но все-таки выходит так… Завтра ночью они с Кларкой встренутся за хутором…
Поднялся снова шум, но скоро опал. Женщины начали совещаться потихоньку. Когда расходились, рябая властно заказала:
— На язык замок. Нетерплячие мы на тайности, а все-таки надо помнить: детям нашим на погибель, коль до время мужики дознаются. Надо Кларку словить, в ней весь вред. Гришка родня нам всем одинаковая, нашему плетню сват. Будет, навоевались с ним. А сколь порухи он нам сделал, еще не считано.
Юркая бабенка сунулась к ее плечу.
— В других местах бабы нову сарпинку понакупали, а у нас при ем ни куплять нельзя, ни торговать нельзя.
— Торговалы с купилой-то еще нет, об чем засохла!
— Ну ладно, бабы, будет. Потишей языками-то…
Прошел день, а в следующую ночь спозаранок поднялись все в хуторе, от мала до велика. Чуть угадывался еще по-зимнему тяжелый на подъем рассвет, когда в сизом его сумраке забегали, зашумели люди. За хутором, там, где высился шест с красным флагом, сгрудился народ. Шум тяжелого бега, разговор, крики, руготня сливались, ширились, перекатывались по всему хутору. Никто друг друга не слышал, каждый метался, кричал во всю силу голоса. Звонко перекликались, плакали, смеялись шныряющие меж взрослыми дети. Гул людского волненья, как буря, далеко отдавался в предрассветной тишине за хутором в горах.
Бабы подкараулили Клару с Васькой Соколом и еще двумя мужиками. На помощь поймавшим из всех изб набежали бабы с ухватами, с кочергами, с палками, с поленьями. В руках у рябой был большой заостренный кол. Она кричала:
— А ну, Васька, бей! Бейте нас, мужики! Кончайте нас, мужики! Ты, Степан, убивай меня! Убей жену свою! Кончай детей наших, все одно!
А сама наступала грудью вперед, широко и сильно размахивая колом. За ней другие. Стоном разливался их вызов:
— Пали из ружья! Поклади на месте!
— Чего же стали? Нам один конец.
Мужики отступили быстро. Бабы повалили Клару на снег. Падая, она крикнула:
— Тут и лежатымо, де завъязала себе свит. Братцы, Григория…
Кончить она не успела. Ожесточенный женский визг еще долго стоял и над мертвой, как кощунственная панихида. Бабы непристойно надругались и над телом ее. Завернув ей на голову одежды, обнажив худые, с выступающими костяшками колен ноги, ее труп привязали к шесту под флагом.
Прибывшие на другой день из города начальники, проходя по избам, везде заставали мужиков опять мирно сидящими на печках. Бабы крутились в обычной своей работе.
В ночь побега арестантов из бани на постоялом дворе в городской слободке ночевало трое приезжих мужиков. Целый день они ходили по городу вернулись они уже по темноте и сразу залегли спать. Но когда хозяин потушил лампу и ушел в свою половину они один за другим проснулись, тихонько, ощупью пробрались во двор посмотреть лошадей. Во дворе было темно от грузного облачного неба. Падал тающий на лету снег. Ноги по щиколку хлюпали в талом, вязком, смешанном с навозом месиве. Высокий жердеобразный мужик натянул чапан на голову, огляделся вокруг и, успокаивая кого-то, примерещившегося ему в плачущей, шепчущей тьме, вслух проговорил:
— Овсеца мерину подбросить придется. Ну, дороженька на завтре — трудно ехать будет.
Чубатый немолодой казак сердито подтолкнул его.
— Иди, иди подальше. Растопырился у крыльца.
Сошлись под сараем у одной колоды и зашептались. Казак, плохо сдерживая басовитый вольный голос, объявил:
— Крыто! Ворочаться домой надо. Ни хрена!
Мужик в чапане зашипел предостерегающе, оглянулся, зашептал чуть слышно:
— Каин-кабакские не явились, стало быть, отступились, а нам как же? Мы и вовсе по разным местам живем. Как сговориться — все вразброд, тот сюда гнет, этот туда.
Третий, низкорослый, но коренастый, спокойно негромко отозвался:
— Рассудили, значит, что ни к чему буча? У вас все вразброд, а мы чего же одни башку ломать пойдем? И в Каин-Кабаке народ теперь тоже не прежний народился. Надоел он нам, говорит, беспокойный все-таки. Будет, навоевались! Хозяйство схилилось.
Казак грубым шепотом перебил его:
— Ну, тоже хозяйство! Как раз в Каин-Кабаке шибко ретивы мужики до хозяйства! Скажи: трус народ там — и все!
Мужик в чапане примирительно сказал:
— Ну, словом, ни у их, ни у нас, ни у вас нет охотников отбивать Григория. Народ, что волна в бурю, грозно гурьбой встает.
Ну дак чо, будет уж бурей-то ходить. Пора кажной волне на свое место ложиться. Перепалки-то уж везде позатихли, а нам как новую затевать? Пущай сам как-нибудь старается. Он — дошлый! Утре, как маленько разведрит, айда по домам!
Алибаев отлежал полтора месяца в тифу Только перед самым судом перевели его из больницы снова в тюрьму Он совсем поседел, постоянно отвисала нижняя губа, и спокойно-туп сделался взгляд косых глаз. Теперь он никогда не отказывался от Клавдиной передачи. Много и жадно ел, почти все время заключенья провел в утробном глухом сне. В последний раз затрепетал перед жизнью во время суда. В первый же раз, когда он увидел, как подходит к красному столу своей отчетливой, верной походкой Егор Кудашев, он точно проснулся. Раза два в перерыве, в комнате, куда их выводили всех, ему пришлось говорить с Куда-шевым. В первый раз он сказал ему:
— Вся вина на мне. Я ведь знаю, как люди помогают. Жалко тебя. Я ума решился, согласился на побег. Да кабы еще довелось с вами, а то… Худо мне, Егор, опять я шибко мучаюсь.
Во второй, приглаживая рукой седую щетину на голове, опять пожаловался:
— Люди сказывали — дикий зверь до старости не доживает. А я лютовал лютей зверя дикого, а смерть меня не берет ни в хвори, ни в казни. Коли меня не засудят на пристрел, куда же я тогда?
Кудашев невесело улыбнулся:
— А я вот знал бы — куда. И не пожалели бы судьи, кабы не засудили, а мне конец.
— Может, на суде обскажешь…
— Теперь поздно. Запутался я с побегом. Ошибся насовсем.
— Живой тем и жив, что ошибается да поправляется.
— В этой стрельбе промашки не бывает, а в могиле чего поправишь? На другой бок и то не перевернешься.
— Погоди, сынок, может, и не насовсем. Живой будешь — и оправишься и обелишься. У живого все концы в руках.
Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.
Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых во главе с атаманом Нехорошевым, На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряде с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке применили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалованы.
В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней несколько часов, утра не дождутся.
Приговор был объявлен в дождливую весеннюю ночь в два часа.
У зданья суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждала осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть их. Выводили сначала под кольцевой охраной смертников и на некотором расстоянье от них — остальных, приговоренных к заточенью, под конвоем менее страшным. Сквозь дождевую завесу тускло мерцали редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельных лиц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорывавшиеся отдельно восклицанья, смех, чей-то надрывный плач — колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади, вдруг произошла заминка. Раздались громкие окрики:
— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!
— Стой! Что такое?
— Товарищ Рудой!
— Наза-ад! Наза-ад!
— Стрел я-ай!
В мокром воздухе один за другим глухо захлопали выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум и шлепающий панический топот бегущих очень сильный, уверенный мужской окрик:
— Все в порядке! Двигай дальше!
К охране, сопровождающей смертников, подскакал всадник.
— Что случилось?
Снизу, из тьмы, кто-то ответил:
— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей, сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Ничего, столпились, потолкались. Все целы: семеро. Сосчитай сам.
Никто не разобрал, что в толкотне Алибаев с огромной силой вышвырнул меж охраны в толпу народа Егора Кудашева и сам вошел на его место. Шагали медленно и ровно семеро, как прежде.
В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь и тяжело стукнул засов, Нехорошее схватил за плечо Алибаева:
— Ты, черт…
— Молчи! Задушу!..
Не прошло и часу, за дверью послышались осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с винтовками. Впереди высоколобый. Алибаев съежился, быстро повернулся спиной, но высоколобый не только сразу его увидел, но и все понял.
— Вместо кого? А? Нехорошее здесь? Кого нет?
Шестерых снова заперли в камере. Алибаева вывели.
Высоколобый не очень смело, глядя мимо Алибаева, спросил:
— Это что еще за фокусы?
Алибаев злобно прикрикнул:
— Не твоего ума дело.
Но потом спокойно и негромко, точно самому себе, вслух пояснил:
— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз на добро было поцыкнулся. Может, еще и удастся, может, вызволится. Парень эдакий белому свету нужен. А меня куда берегете — не знаю.
Клавдя знала. Она усиленно хлопотала, во все ходы проникла, съездила в Москву и там сумела облегченья участи Алибаеву добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал.
Прошло только полтора года, и Клавочка высвободила Алибаева. Старая Клавдина тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохнула всей грудью и сказала:
— Ну вот, все хорошо. Я опять своему мужу жена и нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.
Повернулась к Алибаеву и настоятельно сказала:
— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепенился. Пора тебе честную старость себе добывать.
Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрительным взглядом стол и располневшую румяную Клавдю, сказал Алибаеву:
— Не знай, за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы и капут тебе. Дуром окочурился бы в какой-нибудь передряге. А теперь гляди, в дому добра — на детей и на внуков хватит. Сами оба наливные, не укулупаешь. Седой ты, да седина не в укор, коль детей еще печешь. Покрикивает наследник-то, растет? Только не в тебя, а в мать задался.
Савелий знал, что дитя привозное. В город Клавдя выезжала нередко, да и Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алибаева выхлопатывала, сблизилась с Шуркой. Знал об этом и Алибаев. Но Клавдя ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.
— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще и с сыночком.
Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдю, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:
— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.
Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.
— Вот ведь как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.
Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренно ответил:
— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?
Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взвыванье далекой непогоды.
Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:
— Не бери третий кусок, опять под сердце задавит. Не жалко ведь, ешь на доброе здоровье, да ведь тебе же под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот, утрись, щеки у тебя намаслились. Муж у меня неплохой человек, Савелий Максимович. Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался, — жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить, — и на том спасибо, все помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.
— Будешь опасаться, как зятька такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно — с кем живет, в ту дугу и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету В прежнее-то время я бы ее не так устроил.
— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного — уважаемый партийный, вроде начетчика по разным собраньям выступает. А гляжу один раз — дерет на собранье на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади себе даже не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то есть пасынок-то мой, — ну, да мы с ним дружно живем, все одно я его за родного сына считаю, и он меня больше Григория Петровича уважает, — так вот он тоже неразумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему ведь сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать — нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.
Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:
— А што, праздник ведь сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.
С недавнего времени он очень пристрастился к этой нехитрой карточной игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дождаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя ласково, как всегда, но безотменно наложила запрет на «подкидные дураки» в будни.
Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:
— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть, еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог и удар хватит. Может быть, вот в потребительскую лавку Работа общественная, тоже все-таки неплохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не отняли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там нетихая, беспокойная все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьянствуем потихонечку.
Летним вечером Алибаев сидел на приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длинные, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая на смирное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не привык отвешивать, выдавать товар и получать деньги. Это занятье было ему неприятно. Но что же — спорить с Клав-дей, ругаться, очень уж это беспокойно. Да в лавке сидеть неплохо. Прохладно, и мух мало. Задремлешь — в рот не набьются. А дома чуть приткнешься где — мухи и в рот, и в уши, и в нос. Грузен очень стал. Как уснет, вспотеет, жир пот гонит, мухи и облепят, как жирную падаль.
На дороге показался человек. Алибаев встревоженно приподнял голову: не в лавку ли? Эх, хоть бы мимо. Человек прошел мимо, даже не взглянул. Но Алибаева вдруг что-то пробороздило по сердцу. Он тяжело, с пыхтеньем задышал. В движеньях человека, в его легкой верной походке была большая схожесть с Кудашевым. С холодком в груди и поясневшим взглядом Алибаев подумал:
«Егор… нету его. А хорошо было зародился человек! Только не иначе что была в нем другая кровь».
Из-за угла выбежал шустрый босоногий мальчишка.
— Дяденька, Григорь Петрович…
От распиравшей его жажды действия мальчишка не смог обойти вниманием лежавший на дороге камешек. Подхватил его, лихо размахнулся рукой и пальнул в небо, только потом закончил:
— …Хозяйка твоя чай пить велела домой идти. Да только скорей, самовар уж на столе. А то, она говорит: ты ногами возишь-возишь, никак не довезешь. Айда!